Приоткрой свое окно. Программа восстановления после продолжительного стресса, тревожного расстройства, травмы и ПТСР бесплатное чтение
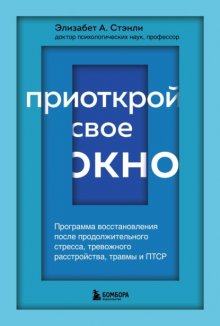

Элизабет А. Стэнли
Приоткрой свое окно: программа восстановления после продолжительного стресса, тревожного расстройства, травмы и ПТСР
Elizabeth A. Stanley
WIDEN THE WINDOW
Copyright © 2019 by Elizabeth A. Stanley
© Евгения Цветкова, перевод на русский язык, 2022
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022
Отзывы
«Доктор Стэнли пишет ясно и с умом, в результате чего мы имеем действительно доступную научную работу, дающую понимание о стрессе, травме и путях к исцелению. Это одна из самых важных книг по медитации с тех пор, как книга Джона Кабат-Зинна “Жизнь, полная катастроф” вывела медитацию в мейнстрим. “Приоткрой свое окно” книга о процессе исцеления и восстановлении. Она о пути, ведущем за пределы самосовершенствования к самопознанию».
Гари Каплан, D.O., автор книги Total Recovery,
основатель Центра интегративной медицины доктора Каплана
«Эта книга содержит шаблон для повышения личной эффективности и производительности: устойчивость внимания, концентрация, быстрое восстановление после шока и стресса. Хотя изначально я был настроен скептически, книга убедила меня, когда я смог ознакомиться, проанализировать и понять науку, лежащую в основе изложенного, в частности – данные, иллюстрирующие происходящие физиологические изменения. Эти результаты представляют ценность для всех сред и условий и могут помочь людям усовершенствовать владение своим телом, чтобы они могли улучшить собственную производительность и жизнь в целом».
Мелвин Г. Спиз, генерал-майор морской пехоты США (в отставке),
бывший командир Управления боевой и общеобразовательной
подготовки морской пехоты США
«В книге “Приоткрой свое окно” Элизабет Стэнли ведет нас в глубины понимания, переживания и исцеления после разрушительного воздействия психологической травмы. На примере личного путешествия она делится опытом трансформации от оцепенения до осознания языка своего тела, понимания той роли, которую автономная нервная система играет в нашем психическом и физическом здоровье. Этот опыт позволил ей разработать инновационную модель лечения, которую она готова предоставить тем мужественным людям, которые пережили травму, и дать им необходимые инструменты для повышения контроля и устойчивости».
Стивен У. Порджес, доктор философии,
автор «поливагальной теории», авторитетный ученый,
директор-основатель Исследовательского консорциума
по травматическому стрессу в Институте Кинси,
Университет Индианы
«Стэнли предлагает смелое и виртуозное путешествие через личный опыт и науку о стрессе и травме. Это суровый взгляд на то, как общество определяет силу и успех и как их достижение на самом высоком уровне подрывает саму их основу. Стэнли дает нам возможность переосмыслить и изменить наш подход к силе и устойчивости. Обязательно читать целеустремленным людям, которые становятся жертвами собственного стремления к успеху».
Сара Боуэн, доктор философии,
автор книги Mindfulness-Based Relapse Prevention for Addictive Behaviors:
A Clinician’s Guide («Профилактика рецидивов на основе осознанности:
руководство для клинициста»), доцент кафедры психологии
Тихоокеанского университета
«Новая книга Элизабет Стэнли “Приоткрой свое окно” – это хорошо проработанное, основательное исследование причин и методов лечения стресса и травм. Эта книга дает надежду тем из нас, кто жил в пределах «узкого окна» своего потенциала, предлагает совокупность проверенных принципов и практик, которые способны освободить нас от пожизненной обусловленности».
Родни Смит, автор книги
«Прикосновение к бесконечному»,
основатель Сиэтлского общества медитативного инсайта
«Книга доктора Стэнли предлагает бесценную информацию о том, как справиться с ежедневными стрессами и серьезными эмоциональными травмами. Ее стратегии должны стать спасательным кругом не только для ветеранов, имеющих дело с мучительными воспоминаниями о войне, но также и для всех нас, пытающихся справиться с психическим напряжением нашей жизни. Но самое главное – эта книга дает надежду. Она показывает путь к улучшению психического здоровья».
Адам Смит, конгрессмен, председатель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей
«Полноценные истории, сочетающиеся с наукой в дружественном, стимулирующем и обнадеживающем изложении, эта новаторская книга предлагает захватывающий новый взгляд на стресс и травму. Объясняя, что мы часто не осознаем и, следовательно, пренебрегаем последствиями таких испытаний, Лиз Стэнли учит читателя, как заменить неадаптивные условные реакции на новые, адаптивные стратегии, повышающие концентрацию и производительность, исцеляющие ум и тело. Благодаря интеграции нисходящих и восходящих исцеляющих подходов, наши «окна толерантности» могут быть расширены как индивидуально, так и коллективно, что позволит выявить лучшее в человечестве».
Пэт Огден, доктор философии,
основатель Института сенсомоторной психотерапии
«В то время, когда наша культура пытается справиться с физическими, умственными и социальными издержками стресса и травмы, Элизабет Стэнли в своей новаторской книге привносит новое и столь необходимое понимание того, насколько эти явления тесно связаны и как мы можем после них восстановиться. Обязательно читать всем, кто связан с профессиональной помощью людям».
Ричард Строцци-Хеклер, доктор философии,
автор книги «В поисках духа воина»
«Опираясь на личный опыт человека, давно практикующего медитацию, а также пережившего психологическую травму, опыт преподавателя и исследователя программ, основанных на осознанности, предназначенных для людей, испытавших стресс или переживших травму, обучая травмоориентированной терапии, доктор Стэнли подарила нам книгу “Приоткрой свое окно”, представляющую собой доступный и ценный вклад в развивающуюся область знаний о травме, базирующихся на сознании».
Уиллоуби Бриттон, доктор философии,
директор лаборатории клинической и аффективной неврологии Медицинской школы Университета Брауна
«В ряду превосходных книг, посвященных травме, особенно выделяется книга доктора Стэнли о жизнестойкости. Она добавляет важное звено в понимание того, как мы управляем стрессом и смягчаем разрушительные последствия травмы. Ее книга предлагает основанное на фактических данных и научных теориях понимание глубокого воздействия связей и привязанностей, которые на самых ранних этапах укрепляют в нас корни нашей устойчивости. Но затем она идет дальше, иллюстрируя, как в любом возрасте и в любой ситуации мы можем научиться эффективным навыкам, которые позволят нам использовать целительную силу устойчивости. Это возможно, если укреплять исконно присущее человеку единство ума, мозга и тела. Обязательно читать терапевтам и тем, кто ищет исцеления и внутренней гармонии».
Питер А. Левин, доктор философии, автор книг
«Молчаливым голосом», «Исцеление от травмы» и «Память»
«В книге “Приоткрой свое окно” Лиз Стэнли предлагает глубокое понимание физиологического и психологического воздействия на нашу жизнеспособность в условиях стресса и травмы. Опираясь на передовые исследования, она предлагает как специалистам, так и обывателям практические методы и стратегии, которые помогают эффективно справляться со сложной и бурной реакцией, возникающей у нас, когда мы чувствуем себя подавленными или перед лицом угрозы. Любые слова похвалы здесь будут недостаточны».
Нэнси Дж. Напьер, магистр искусств, специалист по вопросам семьи
и брака, факультет Института соматических переживаний
и травм и автор книги «Как прожить день: Стратегии для взрослых,
которых обидели в детстве»
«Лиз Стэнли открыла окно в многообещающую перспективу для человеческого исцеления и процветания. Ее убедительная прозорливость меняет представление о том, как общества и организации рассматривают травму (и часто игнорируют, отвергают или отрицают ее). Она предлагает современное понимание того, как формируются травмы и как эффективно восстанавливаться после них. Для людей, чья работа связана с риском для жизни и кто платит за это ужасную цену, – она является лучом надежды».
Джереми Хантер, доктор философии, директор-основатель
и адъюнкт-профессор практики в Институте лидерства,
Высшая школа менеджмента Питера Ф. Друкера и Масатоши Ито
Моей семье,
с благодарностью и любовью.
Тем, кто страдает.
Теперь они могут открыть свои окна.
А также
Воинам всех жизненных поприщ, чьи мудрость и мужество
позволяют сделать шире наши коллективные окна.
Предисловие
Мой друг, известный ученый, как-то сказал мне, что «любое исследование – это наблюдение за собой». Большинство из нас изучают то, что касается непосредственно нашего существования. Я сомневаюсь, что кто-то тратит время на то, чтобы исследовать последствия какого-либо чудовищного жизненного опыта и пытается найти решение для выхода из него, если только он сам не столкнулся лицом к лицу с ужасными событиями, которые затронули непосредственно его самого. За последние тридцать лет вышло немало прекрасных книг, посвященных посттравматическому стрессу. Условно их можно подразделить на две категории: биографии переживших психологическую травму, в которых они рассказывают о своем пути, и академические труды, в которых объясняются механизмы и явления, приводятся научные исследования, даны рекомендации и методики лечения. Книга «Приоткрой свое окно» объединила в себе лучшее из обеих категорий.
Не думаю, что когда-либо раньше читал книгу, которая бы рисовала столь сложную и точную картину того, что означает жить с последствиями травмы, как это сделано здесь, и одновременно предлагался бы современный подход к исцелению, основанный как на личном опыте автора и его пути к выздоровлению, так и на точном научном понимании процессов, лежащих в основе того, каким образом стресс влияет на наши ум, мозг и тело. Этот инновационный и высокоинформативный синтез тем более удивителен, что доктор Стэнли не является специалистом-клиницистом в области травмы, но получила образование в области политических наук и читает лекции о международной безопасности.
Солидную часть данной книги составляет личный опыт доктора Стэнли, включающий в себя переживание межпоколенческой травмы, насилие в детском возрасте, семейный алкоголизм. Ее военный опыт включает в себя как стресс в связи с пребыванием в зоне боевых действий, так и довольно частые случаи, происходящие с женщинами на военной службе, – притеснение со стороны начальства. Среди того, что мне понравилось в данной книге, – точность, с которой доктор Стэнли описывает посттравматическую симптоматику, а также системный подход, применяемый ею для излечения.
Настоятельная необходимость для доктора Стэнли иметь дело со множеством посттравматических последствий – проблемами, в которых каждый когда-либо переживший травму узнает что-то свое, – привела ее к созданию методики Mindfulness-based Mind Fitness Training (MMFT), то есть Фитнес-тренинг ума на основе осознанности (ФТУО). Но эти проблемы не определяют человеческую сущность. Как и многие другие пережившие травму люди, которых я знал, она также блистательна, мужественна, настойчива, компетентна, самодостаточна, сконцентрирована и упорна. Эта книга является продуктом ее восхитительного интеллекта, потрясающих организационных способностей, ее глубокого и мужественного самопознания.
Первый шаг в этом процессе состоял в том, чтобы научиться мужественно встречаться с собой, культивируя любопытство без осуждения, способность, без которой истинное исцеление кажется невозможным. Ей, как и всем пережившим травму, пришлось встретиться и подружиться с теми частями себя, которые она больше всего презирала, избегала и пыталась игнорировать. Это, вероятно, единственный самый важный аспект в восстановлении после травмы: поиск тех способов, которые позволили бы тебе чувствовать то, что ты чувствуешь, и знать то, что ты знаешь.
Такова природа травмы: это не просто что-то очень неприятное, что исчезнет со временем, но нечто чудовищное, слишком ужасное, чтобы смотреть этому в лицо. Память о травматических событиях фрагментирована, разбита на маленькие кусочки: сильные эмоции, странное поведение, невыносимые физические ощущения и образы, разрозненные мысли. Они хранятся вне нашего осознания в телесной симптоматике и саморазрушительных действиях. Эти посттравматические реакции помогают людям, перенесшим стресс, справиться и выжить. Травма меняет наше восприятие мира, в котором мы живем. Само травматическое событие, возможно, было в прошлом, но эти посттравматические реакции лишают нас способности чувствовать себя живыми сейчас. Никто, будучи в сознании, не захотел бы иметь дело со всем этим, если только от этого не зависит их жизнь. И поскольку вы взяли эту книгу, вполне возможно, что ваша жизнь действительно зависит от нее.
На протяжении всего этого периода большинство из нас нуждаются в поддержке: это может быть коуч или психотерапевт, который может помочь нам расширить наше окно терпимости и направить нас в места, которые не заражены ужасом и позором прошлого. Но, помимо такого руководства, нам также нужно посвятить себя практике обучения тому, как заботиться о себе – заботиться о своем теле так, как будто наша жизнь зависит от него, потому что это так и есть.
Эта книга может помочь вам освоить такую практику. Она базируется на современном научном понимании того, как на наши ум, мозг, физиологию и иммунитет влияет травма. Посттравматические реакции – нежелательные чувства, ощущения и поведение – не происходят от мыслящего ума, они происходят из глубин нашего мозга выживания[1] и вегетативной нервной системы, которые функционируют за пределами осознанного знания и по существу всем заправляют, нравится нам это или нет. Лиз Стэнли, будучи мужественным воином, собрала богатую коллекцию личного опыта и научных исследований и синтезировала их в систематический подход к лечению, который она испытала и применила для исцеления тысяч травмированных солдат, ветеранов и людей, побывавших в других стрессовых ситуациях. Это – путь к росту, причем не только индивидуальному, но и коллективному: взять собственный опыт, извлеченный из жизни, перевести его в доступный формат и поделиться им с другими идущими по пути восстановления.
Бессел ван дер Колк, автор книги
«Тело помнит все: какую роль психологическая травма играет в жизни человека и какие техники помогают»
Часть I
Жизнь в беличьем колесе
Глава 1
Физиология каменного века в цифровом мире
Летом 2002 года я постоянно работала над докторской диссертацией, чтобы завершить ее в срок. Мои консультанты с факультета Гарварда уже назначили дату защиты, чтобы я могла носить престижное звание научного сотрудника начиная с сентября. Казалось, все было гладко на пути к успешному началу моей академической карьеры. Все, кроме одной мелочи, которой я забыла поделиться с комитетом: из десяти глав и приложений моей диссертации мне все еще нужно было написать семь.
В середине июня я уволилась с работы, чтобы закончить диссертацию. Ранним августовским утром, после нескольких недель, на протяжении которых я заставляла себя писать по шестнадцать часов в день без выходных, я принесла в свой кабинет кружку кофе и включила компьютер. Открыла свой черновик, перечитала параграф, написанный накануне, и начала писать.
На середине первого предложения меня вдруг вырвало на клавиатуру.
Я сбегала за бумажными полотенцами, чтобы убрать беспорядок, и тут стало очевидно, что моя рвота навсегда застряла под некоторыми клавишами. (Особенно сильно пострадала клавиша пробела.) Никакое количество бумажных полотенец не могло исправить ситуацию.
Я почистила зубы, вымыла свои веснушчатые руки, надела обувь и взяла бумажник. На улице выбросила клавиатуру в мусорный бак и села в машину. Я доехала до торгового центра и припарковалась. Было семь пятьдесят утра. Когда Стэйплс[2] открылся в восемь, я была первой, кто вошел в дверь.
С новой клавиатурой в руках я вернулась к своему компьютеру и закончила свое первое утреннее предложение в восемь тридцать.
Смирись и двигай дальше
Чтобы стало понятно, у меня не было ни внезапного острого пищевого расстройства, ни пищевого отравления. Точнее? Я годами жила с постоянными периодическими приступами тошноты и отсутствием аппетита.
Вот моментальный снимок моей чрезмерно распланированной, чрезвычайно рассортированной и исключительно строго организованной жизни – где-то около 2002 года у меня было компульсивное желание[3] достигать. Я пристрастилась к изматывающим тренировкам для поддержания тела в форме. Я была постоянно бодра на работе, испытывая при этом значительные перепады настроения и приступы плача дома. В уме вихрем проносились мысли о моем бесконечном списке дел и сценарии из разряда «что, если». Мое тело было в постоянном режиме сверхбдительности от необходимости проецирования вовне ауры самоуверенности, а внутри все было напряжено в ожидании того или иного провала. Я очень страдала от клаустрофобии и сверхчувствительности к толпе, трафику, шуму и яркому свету. Я редко хорошо спала, бессонница перемежалась с ночными кошмарами.
Оглядываясь назад, я понимаю, что сообщение, которое мое тело передало мне в то утро, было умным, драматичным и точным. В тот момент меня буквально тошнило от этого проекта, и мне отчаянно нужен был перерыв.
Однако тогда мне некогда было подумать об этом. Мне нужно было закончить диссертацию, и времени на это почти не осталось.
Я проигнорировала этот довольно острый сигнал своего тела и просто продолжила писать.
Сдала готовую рукопись к сроку. Успешно защитила докторскую диссертацию и начала преподавание осенью того года.
Я все так же была подвержена приступам тревоги и одержимой работой развалиной.
Как я дошла до такого, что в итоге меня буквально стошнило на диссертацию на степень доктора философии в Гарварде? Почему мое тело подало мне такой экстремальный сигнал в то утро? И почему мой (в основном бессознательный) ответ по умолчанию был – просто проигнорировать и пересилить этот сигнал и продолжать продавливать свое?
Поиск ответов на эти вопросы во многом мотивировал мою работу, которой я занималась в последние пятнадцать лет. Возможно, и это не удивительно, что, поскольку я политолог, преподающий международную безопасность, тогда, в 2002 году, я сделала вывод, что инцидент с клавиатурой означает лишь, что мое тело ведет повстанческую борьбу против стремления моего ума действовать и добиваться успеха.
Конечно, из этого объяснения следует и рекомендуемое лекарство, а именно – карательно-репрессивные действия. Другими словами, просто оказывайте упорное сопротивление, получайте доступ к глубоким колодцам силы воли и решимости и прорывайтесь. Иначе это просто психическая слабость и лень, верно?
На протяжении многих десятилетий я считала свою способность игнорировать и пересиливать сигналы тела и эмоции ценной способностью – признаком силы, самодисциплины и решимости. И с одной стороны, это так и было. Но, как я объясню далее на страницах данной книги, с другой стороны, эта «стратегия по умолчанию» на самом деле подрывала мою производительность и благополучие.
Оказывайте упорное сопротивление, получайте доступ к глубоким колодцам силы воли и решимости, и прорывайтесь. Иначе это просто психическая слабость и лень.
Разумеется, я не одинока, пребывая в таком состоянии. Это довольно распространенный способ отношения к переживаемому в жизни, который многие называют «смирись и двигай дальше», или «прорвемся». Современная американская культура в целом – и воинская культура в частности – приветствует такой подход к жизни. Мы все слышали и, возможно, даже восхищаемся историями о людях, упорно преодолевающих жизненные невзгоды или просто некие вызовы и неудачи, чтобы добиться успеха. И, как я вскоре объясню, многие удобства в нашем современном мире существуют почти целиком для того, чтобы облегчить нашу приверженность привычке «смирись и двигай дальше». Тем не менее, хотя собственной решимостью прорываться сквозь стрессовые обстоятельства можно восхищаться – а в ситуациях жизни и смерти это абсолютно критично для выживания – подобный подход к жизни в длительной перспективе может иметь некоторые довольно мрачные последствия.
В моей жизни привычная зависимость от «смирись и двигай дальше» позволила мне не только уложиться в срок при написании диссертации. В качестве примера можно привести еще ряд случаев. Например это позволило мне: войти в 5 % лучших на курсе по физической подготовке военных, хотя при этом я все еще восстанавливалась после значительного повреждения ахиллова сухожилия; пробежать марафон чуть более чем за четыре часа (при ледяном дожде, разумеется!) через семь дней после того, как острый крюк случайно на два с половиной сантиметра вошел в мою правую пятку; овладеть базовым уровнем нового иностранного языка, работая по 120 часов в неделю перед развертыванием моего подразделения армии США в Боснии после Дейтонских мирных соглашений 1995 года[4].
И в то же время много лет я вела какую-то странную двойную жизнь: внешне вполне успешная (с точки зрения того, как обычно это определяет наше общество), а внутри ощущение, что я – неудачница, тайно борющаяся со своими комплексами и едва держащая себя в руках. Как бы я ни была упряма и настойчива, в конечном счете потребовались потеря зрения и развод, чтобы понять, что есть более легкий путь. Эта книга о том, как я исцелила в себе это раздвоение – и как вы можете сделать то же самое.
Цель этой книги
В ходе моего стремления осмыслить описанный бунт ума и тела, а также тех разрушительных последствий, которые он оказал на мою жизнь, я погрузилась в параллельный профессиональный поиск, чтобы понять, как жизненные невзгоды, длительное воздействие стресса и травмы влияют на нас, наши решения и действия. На этом пути я создала восстановительную программу для людей, работающих в условиях повышенного стресса, и назвала ее «Фитнес-тренинг ума на основе осознанности» (ФТУО). О ней я расскажу подробнее на страницах данной книги далее. В рамках четырех исследований, финансируемых Министерством обороны США и другими фондами, я также сотрудничала с нейробиологами и исследователями стресса, тестируя действенность ФТУО среди военнослужащих во время их подготовки к развертыванию в зоне боевых действий. В дополнение к обучению и сертификации других для преподавания ФТУО, я работала по программе ФТУО (произносится «M-фит») с сотнями военнослужащих перед развертыванием их боевых подразделений в Ираке и Афганистане, а также со многими военными руководителями, военнослужащими и ветеранами. Я также обучала концепциям и навыкам ФТУО тысячи людей в самых разных условиях с высоким уровнем стресса, включая медицинских работников, агентов разведки, пожарных, сотрудников полиции и других правоохранительных органов, адвокатов, дипломатов, социальных работников, студентов, преподавателей и ученых, заключенных в тюрьме строгого режима, специалистов по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, спортсменов, членов Конгресса, высокопоставленных государственных чиновников и руководителей корпораций. На пути к целостности я испробовала множество различных способов и терапевтических методов, включая различные виды психотерапии, йогу, медитацию, а также шаманские техники и тренинги ума. С конца 2002 года я ежедневно занимаюсь практикой майндфулнесс[5]. Я также прошла несколько длительных, интенсивных курсов практики безмолвия, включая пребывание в монастыре в Бирме в качестве буддийской монахини. Наконец в течение нескольких лет я старалась получить опыт клинической подготовки и супервизирования, кульминацией чего стало получение квалификации практикующего врача в области соматической терапии, так как это, пожалуй, наиболее известная из телесно-ориентированных терапий по исцелению травмы.
Несмотря на весь этот богатый опыт, я часто обнаруживала, что никто так и не может объяснить мне, кратко и складно, как или почему работали (или не работали) конкретные методы – или почему мои результаты от их применения часто значительно отличались от результатов других.
Таким образом, мое первоначальное намерение создать ФТУО – и первая цель этой книги – это поделиться с вами той дорожной картой, которую я обнаружила. Я хочу поделиться некоторыми основными научными и интеллектуальными концепциями, лежащими в основе ФТУО. Но чтобы было предельно ясно, данная книга не является курсом ФТУО, так как в нее включены дополнительные темы, не затрагиваемые непосредственно в программе, и книга не в состоянии охватить все ее практические методы. В книге я буду ссылаться на последние научные исследования для объяснения того, как научить себя быть более устойчивым до, во время и после стрессовых и травмирующих событий. Я надеюсь, что после изучения данной книги вы будете лучше понимать собственную нейробиологию и тем самым будете в состоянии принимать лучшие решения, не испытывая ненужной тревоги, не критикуя собственное несовершенство или свой выбор.
Мое путешествие заняло годы отчасти потому, что нет быстрого способа добиться изменений. Перепрофилирование мозга и организма для улучшения наших действий и повышения устойчивости требует комплексного режима обучения и последовательной практики на протяжении определенного времени. Точно так же, как наращивание мышц или улучшение деятельности сердечно-сосудистой системы требует месяцев последовательных физических упражнений, положительные изменения в результате фитнес-тренинга ума также требуют последовательной практики в течение времени. При последовательной практике какие-то сдвиги мы видим обычно относительно быстро, в то время как другие требуют больше времени для проявления. Однако нельзя просто достичь их в результате чтения этой книги. Таким образом, я не хочу, чтобы вы брали хоть одно из моих слов в этой книге на веру – я хочу, чтобы вы практиковались и наблюдали за динамикой в собственной жизни. Перепрофилирование мозга и тела – это воплощаемый в жизнь эмпирический процесс. Это основные законы природы; здесь нельзя «срезать путь».
Эта книга опирается на множество свидетельств, полученных от профессионалов, связанных с высоким уровнем стресса, таких как военные, пожарные, полиция, медперсонал и другие спасатели. Это связано с тем, что большая часть рецензируемых эмпирических исследований о стрессе, устойчивости, производительности и принятии решений была проведена именно среди этих групп. Местами книга может показаться тяжеловатой в связи с использованием в ней клинических данных людей, переживших насилие или травму. Тем не менее, если вы не работаете в профессии с высоким уровнем стресса или не считаете, что у вас в анамнезе есть травма – то есть если вы не чувствуете, что ваш случай так или иначе относится к одной из этих категорий, – я хочу подчеркнуть: если вы человек, живущий в современном мире, эта книга касается вас. Научные данные о том, как работают наши умы и тела, как мы принимаем решения до, во время и после стресса или травмы, верны для всех.
Однако я не просто хочу, чтобы эта книга помогла вам лучше понять стресс и справиться с ним. Моя вторая цель состоит в том, чтобы привлечь вас к более широкому обсуждению того, как мы, индивидуально и коллективно, подходим к стрессу и травме. Как я уже отмечала, бунт разума, который я пережила в 2002 году, стал следствием моего состояния – и таким образом он воплотил в себе некоторые глубокие семейные, общественные и культурные убеждения, ценности, стратегии преодоления и привычки. В этой книге я надеюсь выявить те базовые структуры, которые усугубляют наш стресс и ощущение травмы, а также подрывают нашу работоспособность и благополучие. Эти базовые структуры не только влияют на стратегии, на которые мы обычно полагаемся или которые отвергаем, когда пытаемся справиться с нашим стрессом. Они влияют на то, как мы взаимодействуем с нашими семьями, как ведем себя в отношениях, как воспитываем наших детей, как обучаем и мотивируем наших сотрудников, как организуем наши компании и общественные институты. Они даже влияют на то, как наша нация взаимодействует с остальным миром.
Согласуются ли эти стратегии с достижением желаемых результатов, способны ли они их дать? Наша культура, кажется, хочет сразу всего: мы хотим лучшей производительности, устойчивости и даже счастья, но мы не хотим более широко изучать те слепые зоны, которые мешают развитию этого. Порой то, что многие из нас хотят одновременно сразу и то и другое, находит свое проявление в ощущении того, что у нас нет выбора, – мы бессильны перед лицом стресса на работе, проблем со здоровьем, быстрых технологических изменений или токсичности новостей. Тем не менее можно изменить то, как мы взаимодействуем с этими вещами, соотноситься с ними с более властной позиции. В конечном счете, чтобы почувствовать, что мы обладаем свободой выбора, необходимы четкие намерения, последовательная практика навыков, которые помогают нам развивать осознанность и саморегулирование, и продуманный выбор того, как мы расставляем приоритеты в различных аспектах нашей жизни.
Я не врач-клиницист и не нейробиолог. По сути, я привожу здесь свой жизненный опыт – стрессовые и травматические события, которые я пережила, мой собственный путь восстановления, а также те наблюдения и мысли, которые родились в результате обучения тысяч других людей. Преподавая ФТУО в различных условиях, мне пришлось работать с мужчинами и женщинами из разных стран, представителями различных слоев общества, пережившими широкий спектр стрессовых и травмирующих событий. Таким образом, помимо своих историй, я буду вплетать в канву этой книги некоторые эпизоды из их прошлого. Я намеренно изменила их имена и некоторые подробности историй в целях защиты их личной жизни.
Хотя данная книга – не мемуары, она, в силу необходимости, основана на моем собственном опыте, связанном со стрессом, травмой и выздоровлением. Здесь важны последствия тех стрессовых и травмирующих событий, а также те глубокие сдвиги, которые произошли, как только я начала полностью восстанавливаться, используя техники, приведенные в этой книге. Здесь не представлено ничего, с чем бы я не имела дела сама и чему бы я не научилась лично, работая со своим сознанием и телом.
Я родилась в 1970 году в семье военных, и была старшей из трех сестер. В армии США со времен Войны за независимость всегда, в каждом поколении, служил кто-то из Стэнли, в том числе и с обеих сторон в американской Гражданской войне. Мой дед воевал в ранге сержанта пехоты в Азии во времена Второй мировой и Корейской войн, а между ними служил в послевоенных оккупационных войсках в Германии. Мой отец 30 лет служил офицером в бронетанковых разведывательных войсках, в том числе почти два года был участником войны во Вьетнаме. Я была первой женщиной из рода Стэнли в армии, вслед за мной на службу поступила и моя сестра. Будучи ребенком кадрового военного времен холодной войны, до своего поступления в колледж я десять раз переезжала, жила много лет за границей и даже посещала школы в Германии. Я выросла в доме, где в ходу были жестокость и неумеренный алкоголь. В раннем детстве я также пережила сексуальное надругательство, психологическое насилие, многочисленные побои и изнасилование как со стороны незнакомых людей, так и со стороны людей из ближайшего окружения моей семьи, причем большинство этих событий произошло до того, как я начала учиться в колледже.
Начав службу, я сначала служила офицером военной разведки армии США за рубежом, в Южной Корее и Германии и на двух дислокациях на Балканах. Возможно, из-за сокращения военного контингента после холодной войны я никогда не занимала то положение в армии, которое соответствовало бы моему фактическому званию. Я всегда занимала должности, предназначенные для кого-то старшего по званию, часто даже двумя званиями выше – разрыв в опыте, который требовал сил и напряжения. Например сразу после повышения до своего первого лейтенантского звания я несколько месяцев служила в капитанской должности. Помимо продолжительного стресса, вызванного интенсивной военной подготовкой и различного рода перебросами военного подразделения, я столкнулась с сексуальными домогательствами при исполнении служебных обязанностей, а также с преследованиями со стороны командования после того, как сообщила об этом. Эти преследования в конечном итоге привели меня к увольнению с действительной военной службы. Во время двухлетнего расследования, начатого после этого, и пока я была в магистратуре, меня в установленном порядке назначили осведомителем Министерства обороны из-за служебного положения вовлеченных в это людей. В конечном счете меня оправдали, признав ложность обвинений, выдвинутых против меня, а те были привлечены к ответственности.
Перепрофилирование мозга и организма для улучшения наших действий и повышения устойчивости требует комплексного режима обучения и последовательной практики на протяжении определенного времени.
Куда делись все эти стрессы и травмы? В основном внутрь моего тела, где я могла раскладывать все по полочкам, игнорировать, отрицать и пересиливать кумулятивные последствия многих физических и психологических оскорблений, нападок и предательств. Вместо этого я с головой окунулась в достижения, например стала президентом студенческого совета и отличницей в своей (четвертой) старшей средней школе; получила диплом Йельского университета, Гарварда и Массачусетского технологического института; заняла штатную преподавательскую должность в Джорджтауне, в одной из самых престижных национальных программ в моей области. Таким образом, с точки зрения того, как это обычно понимает наше общество, я была стойкой – способной терпеть и пробиваться сквозь огромное количество стресса. Однако в разгар этого компульсивного стремления я не смогла достаточно замедлиться для того, чтобы увидеть, что происходит на самом деле: что тот выбор, который я делаю, неумолимо подрывает мою устойчивость. «Смирись и двигай дальше» может приводить к немалым достижениям и успеху… пока наконец это не перестанет срабатывать.
В течение многих лет, пока я подавляла накопившиеся последствия травли и предательств, мое тело несло в себе бремя этого отрицания. (Это тоже распространенный эффект продолжительного воздействия стресса и травмы без восстановления, называемый соматизацией.) С двадцати с чем-то лет и до середины жизни я болела различными хроническими респираторными заболеваниями, синуситом, астмой, кашляла кровью, у меня были бессонница и мигрень. Во время своего пребывания в Боснии мне понадобилась реанимация после того, как я полностью перестала дышать из-за нелеченой пневмонии и воздействия бетонной пыли при расчистке вместе с моими солдатами разбомбленного здания. Расстройство моего физического здоровья достигло своего пика в 2004 году, когда я потеряла зрение после трех случаев неврита зрительного нерва, это было почти три недели полной слепоты. (Оказалось, что у меня была нелеченая болезнь Лайма от укуса клеща, диагностированная в 2012 году и полученная во время военной службы.) Хотя некоторые из этих проблем могут изначально казаться не связанными со стрессом, все они были связаны с двумя первопричинами, связанными с ним: системное воспаление и нарушенное функционирование иммунной системы. Кроме того, чем дольше я подавляла стресс и травмирующие переживания, тем больше расплачивалась за это – в конечном счете это приводило как к посттравматическому стрессовому расстройству (ПТСР), так и к депрессии, еще больше осложняя мое физическое состояние.
Здесь я хочу отдать должное такому типично человеческому качеству, как сравнивающий ум, который сравнивает наш собственный опыт с успехами и проблемами других людей. В действительности общая тематика вопросов, с которыми я сталкиваюсь при обучении фитнесу ума, это то, как часто люди измеряют собственные стрессогенные факторы через стрессогенные факторы других – в процессе этого неизбежно обесценивая или описывая свои, как «все не так уж плохо». В последующих главах я объясню, как эта привычка разума сравнивать может на самом деле помешать вашему восстановлению от стресса. Так что если, читая о моей жизни, вы заметили, что склонны делать такие сравнения, пожалуйста, осознайте эту свою привычку и посмотрите, можете ли вы отложить ее пока в сторону.
Безусловно, хотя в моей жизни были свои уникальные вызовы и у нее есть свои, присущие ей очертания, – что свойственно любой человеческой жизни, – во многих отношениях мое путешествие через ранние жизненные невзгоды, экстремальный стресс во время военной службы и ПТСР после нее являются ярчайшим примером того, что делают все разрегулированные умы и тела: мое окно толерантности к стрессу было адаптивно сформировано моей ранней социальной средой. Его сузили во время воздействия длительных стрессов и травм без адекватного восстановления. Оно сузилось еще больше благодаря привычному подавлению мной сигналов моего тела, чтобы я могла продолжать прорываться вперед. И наконец, как реакция, у меня начала проявляться симптоматика – с глубокими последствиями для моей способности действовать мудрым, слаженным, здоровым или счастливым образом.
На самом деле, хотя я еще не знала этого в 2002 году, когда меня вырвало на клавиатуру, потребуются годы интенсивной восстановительной работы по перенастройке моих ума и тела, чтобы я наконец смогла получить доступ к согласованным взаимоотношениям ум – тело, которые, по сути, и составляют наше человеческое наследие, – и тем не менее для большинства из нас остаются вне доступа. Потребуются годы устойчивого намерения и интенсивных тренировок, чтобы обратиться с неосуждающим любопытством к тем частям себя, которые я патологизировала[6], – моему «слабому» и «дисфункциональному» телу; моим глубоким, неконтролируемым и «иррациональным» эмоциям; моему секретному, постыдному копинг-поведению[7] – и ясно увидеть, понять, исцелить и трансформировать всю себя, без остатка.
В ходе этого процесса я поняла, что многие мои симптомы явились результатом компартментализации[8] и отрицания опыта моего прошлого. Поскольку правда тех переживаний, когда они случились, была слишком непосильной для моего разума, я хранила их за границами осознанности, в своем теле и в бессознательных паттернах своих убеждений, которые помогали мне справиться со всем этим. Только вернув осознанность в свое тело, я смогла восстановиться и вернуться к здоровым базовым ориентирам – в процессе расширения своего окна толерантности, чтобы в будущем, во время еще большего стресса, быть способной отреагировать лучше.
Я наконец смогла заменить разлад ума и тела на альянс ума и тела – и получить доступ к врожденному естественному интеллектуальному сознанию, которое я подавляла столько лет. По мере того, как я училась доверять подсказкам, идущим изнутри меня, я смогла наконец полностью и честно встретиться лицом к лицу со своей жизнью – с той, какой она была на самом деле, а не с той, какой я хотела, чтобы она была, – и таким образом смогла вызвать ответную реакцию на все это.
Подготовим почву для разговора
Прежде чем мы начнем наш путь вместе, я должна познакомить вас с несколькими основными определениями и принципами. Подробнее я объясню их позже, особенно в Части II.
Для начала я хочу ввести, надо признать, достаточно неуклюжий термин система ум – тело, который я буду использовать для краткости, когда буду говорить о нашем человеческом организме в целом, что включает в себя: мозг, нервную систему, нейротрансмиттеры (то есть как мозг и нервная система коммуницируют друг с другом), иммунную систему, эндокринную систему (то есть наши гормоны), а также тело, органы, скелет, мышцы, фасцию, кожу и жидкости.
Наш мозг был создан для того, чтобы функционировать как сплоченное целое, при этом каждая его область обрабатывала информацию и защищала нас определенным образом. Хотя эти области фактически имеют перекрывающиеся нейронные цепи, я буду различать их по соответствующим функциям. Эволюционно самой поздней областью является неокортекс; для этой области я буду использовать термин мыслящий мозг. Мыслящий мозг занимается нисходящей обработкой информации – нашими в основном добровольными и сознательными когнитивными реакциями на опыт. Мыслящий мозг отвечает за наше сознательное принятие решений; этический выбор; а также аргументацию, абстрактное мышление и аналитические возможности. Он дает нам возможность сосредотачиваться; вспоминать, хранить в памяти и обновлять соответствующую информацию, а также принимать решения. Для поддержания этих функций мыслящий мозг имеет эксплицитную систему познания и памяти, размещая информацию в пространстве и времени, и к ней мы можем получить доступ по своему желанию. Мы знаем, что мыслящий мозг задействуется всякий раз, когда мы думаем, сравниваем, судим и прокручиваем что-то в голове. Его стратегия защиты нас заключается в том, чтобы предвидеть, анализировать, планировать, взвешивать и решать.
В противоположность этому, то, что я буду называть мозгом выживания, включает в себя эволюционно более старую лимбическую систему, стволовую часть мозга и мозжечок. Эти области мозга играют ключевую роль в наших эмоциях, отношениях, стрессовом возбуждении, привычках и основных функциях выживания. Мозг выживания осуществляет восходящую обработку информации – это наши бессознательные эмоциональные и физиологические реакции на наш опыт, включая эмоции, физические ощущения, вокализацию и тенденции нашего организма к тем или иным действиям. Одна из важнейших функций мозга выживания – нейроцепция, бессознательный процесс быстрого сканирования внутренней и внешней среды на предмет возможностей / безопасности / удовольствия и угроз / опасности / боли. В свою очередь, план защиты мозга выживания достаточно прост: приблизиться к первому (возможности) и избежать второго (угрозы). Для поддержки нейроцепции мозг выживания имеет имплицитную систему познания и памяти – быструю, автоматическую и бессознательную, минуя мыслящий мозг. Она постоянно приобретает имплицитные воспоминания через любой опыт, без сознательных намерений или усилий. Важно, что мозг выживания не является вербальным, поэтому он не может общаться с нами посредством мышления или нарратива. Вместо этого он активирует нейротрансмиттеры и гормоны, которые вырабатывают физические ощущения и эмоциональные сигналы, каждый из которых связан с регулирующими импульсами, отвечающими за то, чтобы подойти к возможностям и / или избежать угроз. Вот почему это называется восходящей обработкой информации. Однако как только мы узнаем об этих телесных подсказках, мыслящий мозг может использовать эту информацию для принятия сознательных решений. Хотя мы не можем непосредственно знать, что происходит в мозге выживания, мы видим проявление его деятельности в нашем эмоциональном и физиологическом возбуждении. Вместе мыслящий мозг и мозг выживания составляют то, что многие люди называют «умом».
И последнее, что я хочу сказать о мозге: осознанность не принадлежит ни мыслящему мозгу, ни мозгу выживания. Она действует вне когнитивной активности мыслящего мозга и стрессового и эмоционального возбуждения мозга выживания. Осознанность больше всего этого – вот почему мы можем обратить внимание на мысли, эмоции, физические ощущения и одновременно на осанку тела, его температуру и движения. Обучение, основанное на осознанности, помогает нам научиться направлять и поддерживать наше внимание – и тем самым стабилизировать осознание так, чтобы мы могли осознавать, учиться и корректировать различные переживания системы ум – тело.
Со всем остальным телом мозг выживания связывает вегетативная нервная система (ВНС), играющая роль автоматического управления за широким спектром телесных функций, лежащих вне осознанности, включая функционирование органов. Более подробно я расскажу о ВНС в последующих главах. А пока важно знать, что ВНС отвечает за стрессовую активацию и восстановление после нее – она настраивает организм на то, чтобы тот сосредоточился на насущных потребностях выживания или отложил более долгосрочные задачи на период стрессовой активации. ВНС также играет важную роль в наших паттернах участия в тех или иных действиях и взаимодействия с другими.
Стресс – это внутренняя реакция, которую наша система ум – тело формирует всякий раз, когда мы переживаем такой опыт, который мозг выживания воспринимает как угрожающий или сложный. Несмотря на демонизацию и романтизацию стресса в современном обществе, это действительно не что иное, как наша система ум – тело, мобилизующая энергию – я буду называть это стрессовой активацией или стрессовым возбуждением – чтобы прореагировать на угрозу или вызов. Действительно, мы смонтированы так, чтобы производить стрессовую активацию и тем самым временно нарушать свое внутреннее равновесие, чтобы успешно справиться с угрозой или вызовом. Затем, после того как все пройдет, в идеале мы погасим любую оставшуюся активацию, чтобы полностью вернуться к своему исходному базовому состоянию.
Этот процесс нарушения внутреннего равновесия, а затем возвращения к нашему регулируемому базовому состоянию называется аллостазом. Аллостаз позволяет нам мобилизовать необходимое количество энергии и сосредоточиться на решении проблем задолго до, во время и после угрозы или вызова. Однако при хроническом или длительном стрессе наша система ум – тело не завершает полного восстановления после стрессового опыта – вместо этого она остается в активированном состоянии.
«Смирись и двигай дальше» может приводить к немалым достижениям и успеху… пока наконец это не перестанет срабатывать.
Травма также является внутренней реакцией, это реакция на некое происшествие, связанное с непрерывным стрессом. Однако не всякий стресс является травмирующим. Травма может возникнуть, если во время стрессового опыта мы одновременно воспринимаем себя бессильными, беспомощными или не обладающими контролем. С большой вероятностью травма сформируется в том случае, если аспекты текущей угрозы или вызова содержат сигналы или триггеры, напоминающие травмирующие события, произошедшие ранее в нашей жизни.
Без адекватного восстановления после хронического стресса и / или травмы система ум – тело остается активной и не возвращается к своему регулируемому равновесию. Вместо этого со временем внутренние системы, участвующие в аллостазе – мозг, вегетативная нервная система, иммунная и эндокринная, – становятся разрегулированными. Когда это происходит, аллостаз перестает функционировать должным образом и начинает формироваться аллостатическая нагрузка.
И, по мере накопления аллостатической нагрузки, мы испытываем нарушение регуляции, или дисрегуляцию, которая проявляется в виде целого ряда физических, эмоциональных, когнитивных, духовных или поведенческих симптомов. Например к тому времени, когда я достигла своих двадцати с небольшим лет, я пережила уже годы хронического стресса и травмы без адекватного восстановления. Таким образом, у меня накопилась огромная аллостатическая нагрузка и проявились множественные симптомы дисрегуляции – в том числе депрессия, ПТСР, бессонница, хроническая тошнота, беспорядочность мыслей, сверхнастороженность, хронические заболевания, а также целый ряд неадекватных форм копинг-поведения.
Действительно, если мои предыдущие примеры показались вам экстремальными – как достижения, так и страдания – это потому, что во многих отношениях они такие и есть. Экстремальное поведение обычно связано с крайней дисрегулированностью – и это является отличительной чертой кого-то, кто маскирует, подавляет, отрицает что-то в себе, употребляет назначенные себе самому лекарства или же пытается преодолеть собственную крайнюю дисрегулированность наилучшим известным ему способом. Как я уже говорила, «смирись и двигай дальше» – была одна из моих основных стратегий преодоления, но есть много других стратегий, которые могут больше соответствовать вам, такие как та или иная форма зависимости, табакокурение или токсикомания, беспорядочное пищевое поведение, внебрачные связи, адреналиновая зависимость, обсессивно-компульсивное поведение, самоповреждение, домашнее насилие или вспышки гнева, изоляция, разобщение, а также экстремальная прокрастинация или парализованность. Я буду рассматривать их далее, на протяжении всей этой книги.
Таким образом, надеюсь, что вы сможете распознать проявление этого механизма и в собственной жизни. Этот механизм в той или иной степени влияет на всех нас; ему подвержен любой человек, который не может провести повторную калибровку своей системы ум – тело после стрессового или травмирующего события, такого как наводнение, автомобильная авария, потеря работы или любимого человека. Ему также подвержены те, кто обычно перегружает свою систему ум – тело, переживая продолжительный стресс без адекватного восстановления, например разбиваясь в лепешку, чтобы уложиться в срок, или работая по многу часов в течение длительного периода без выходных.
Как следует из приведенных определений, стресс и травма – это континуум. В нашем обществе мы обычно думаем о хроническом стрессе (как например многолетний трудоголизм без достаточного отпуска), как о чем-то отличном от шоковой травмы (теракт, сексуальное насилие или автомобильная авария), и что обе эти категории отличаются от травмы развития и реляционной травмы (например, когда человек рос в жестокой семье, в обстановке оскорблений и насилия). Я не собираюсь объединять эти категории или говорить, что они одинаковы. С точки зрения того, как мы индивидуально и коллективно понимаем и осознаем эти различные виды событий, они абсолютно не одно и то же. Тем не менее, с точки зрения нашей нейробиологии – то есть с точки зрения того, как наш мозг, вегетативная нервная система и тело переживают такого рода события, – они действительно довольно похожи. На самом деле, последствия того, что вы живете жизнь изможденного офисного работника, теснее связаны с последствиями, с которыми сталкивается ветеран боевых действий с ПТСР, чем в это заставляют нас поверить распространенные социальные интерпретации.
Там, где мы обнаруживаем себя в континууме между стрессом и травмой, все зависит от того, как наша система ум – тело (сознательно и бессознательно) воспринимает текущую ситуацию – и особенно от того, чувствуем ли мы, что у нас есть свобода выбора во время этой ситуации. Чем меньше свободы выбора мы ощущаем, тем более травматичным будет данный опыт для нашей системы ум – тело. Этот принцип – фундамент, на котором строится ФТУО.
Цель ФТУО состоит в том, чтобы научить человека находить в себе свободу воли и иметь доступ к ней в любой ситуации, независимо от того, насколько сложной, стрессовой или травмирующей эта ситуация может быть. Опираясь на тысячелетние традиции воинов, имевших те же стремления, ФТУО культивирует мудрость и мужество – два качества, необходимые для достижения свободы воли, которая способна адаптивно действовать во время стресса и во время восстановления после него. В этой книге я научу вас обращаться к своей свободе воли – как на микроуровне, внутри системы ум – тело, так и на макроуровне, в ваших взаимодействиях с другими и с внешней средой.
Жизнь в беличьем колесе
Мы живем в мире, где темп перемен постоянно ускоряется. Технологические инновации, особенно в области генетики, нанотехнологий, нейробиологии, робототехники и искусственного интеллекта набирают обороты наряду с глубокими социальными, этическими и философскими последствиями этого.
Мы также видим растущую политическую раздробленность, «фейковые новости» и недоверие к социальным институтам, в то время как движения Black Lives Matter и # MeToo[9] проливают свет на устоявшиеся социальные модели расизма, сексизма, гомофобии и сексуального насилия. Действительно, в 2017 году 59 % взрослых американцев сказали, что считают, что сейчас, насколько они могут помнить, мы достигли самой низкой точки в нашей национальной истории, – и это самоощущение разделяют американцы всех поколений, включая тех, кто пережил Вторую мировую войну, войну во Вьетнаме и террористические атаки 11 сентября. Помимо этих человеческих конфликтов, напряжение от перенаселенности, изменение климата и масштабней-шее массовое вымирание видов с тех пор, как динозавры покинули землю шестьдесят миллионов лет назад, угрожают биоразнообразию, здоровью и потенциалу нашей планеты. Все это не новость, но когда мы принимаем все это во внимание, неудивительно, что наши системы ум м тело – изначально разработанные двести тысяч лет назад и остающиеся в значительной степени неизменными с тех пор – часто кажутся слишком хрупкими, чтобы со всем этим справиться.
Действительно, по нескольким показателям Соединенные Штаты сегодня – одна из самых жестоких, подверженных стрессу и травмированных стран мира. Показатель смертности в США от огнестрельного оружия – 3,85 смертей на 100 000 человек, большинство из которых – самоубийства – превосходит этот показатель у наших социально-экономических партнеров: это в восемь раз больше, чем в Канаде, и в тридцать два раза больше, чем в Германии. США с декабря 2012 года до октября 2017 года пережили более 1500 массовых убийств – по меньшей мере 1700 убитых и 6100 раненых.
Только Йемен – пограничное недееспособное государство, погрязшее в гражданской войне, – имеет более высокий уровень массовых убийств на душу населения, чем мы. Если взять более широко, в 2016 году в США жертвами насилия стали 5,7 человек – это 21,1 на 1000 человек – включая изнасилования / сексуальное принуждение, грабежи, а также нападения, в том числе с отягчающими обстоятельствами. У нас также самый высокий в мире показатель содержания под стражей: более 2,3 миллиона человек находятся в исправительных учреждениях.
В то же время 89 % взрослых в Соединенных Штатах сообщают, что они пережили по крайней мере одно травмирующее событие в своей жизни, а большинство взрослых сообщают о том, что они пережили многочисленные травмирующие события[10]. Конечно, не у всех, кто испытывает травматическое событие, разовьется травма. У 4–6 % мужчин и 10–13 % женщин в Соединенных Штатах по крайней мере один раз в жизни было зафиксировано развитие ПТСР; показатели пожизненного ПТСР более чем в три раза выше среди мужчин, переживших воздействие боевых действий, и женщин, подвергшихся сексуальному насилию. ПТСР редко встречается в одиночку, чаще всего оно идет рука об руку со злоупотреблением наркотическими и психотропными веществами, глубокой депрессией и тревожными расстройствами. Когда у кого-то есть ПТСР и присутствует одно из этих вышеперечисленных дополнительных условий, такие люди также более склонны к связям с интимными партнерами, расположенными к насилию и суицидальному поведению.
Мыслящий мозг отвечает за наше сознательное принятие решений, этический выбор, а также аргументацию, абстрактное мышление и аналитические возможности.
Другая статистика, казалось бы, не связанная с травмой, говорит о высоком уровне травматизма в Соединенных Штатах. Около четверти взрослых американцев в настоящее время имеют какое-либо психическое недомогание, и почти у половины разовьется как минимум одно психическое заболевание в течение жизни – таким образом, связанные с психикой недуги чаще являются причиной инвалидности, чем любые другие болезни, включая рак и болезни сердца.
Кроме того, с течением времени число диагнозов, связанных с психическим здоровьем, возросло, что, возможно, объясняется усилением отчетности и включением большего числа психических заболеваний в диагностическое руководство. Лонгитюдные исследования, в которых специалисты возвращаются в одни и те же сообщества для многократного сбора данных, в основном свидетельствуют о росте распространенности депрессии и тревоги и большим риском для жизни в каждом последующем поколении. Например, в 2007 году в США молодые люди в шесть-восемь раз чаще страдали клинической депрессией по сравнению со своими сверстниками 1938 года. Сегодня показатели серьезной депрессии в течение жизни от 15 до 20 % – в десять раз больше, чем у американцев, родившихся до 1915 года (а они пережили Великую депрессию и две мировые войны). За последние семь десятилетий уровень тревожности также неуклонно возрастал. Сегодня тревожные расстройства – самое распространенное психическое заболевание в США, затрагивающее почти треть взрослых, – при этом все больше американцев обращаются за медицинской помощью по поводу тревоги, чем из-за болей в спине или мигрени. На самом деле, по сравнению с людьми, у которых нет тревожных расстройств, те, у кого они есть, в два раза чаще обращаются к врачу и в шесть раз чаще их госпитализируют – во многом потому, что они стремятся облегчить симптомы, имитирующие реальные физические заболевания, такие как сердцебиение, головные боли, проблемы со сном или желудочно-кишечным трактом.
Отчасти оттого, что люди стремятся справиться с этими состояниями, также растет потребление наркотиков и психотропных веществ и злоупотребление ими. Треть американцев в какой-то момент своей жизни злоупотребляли алкоголем или зависели от него; с 2000 года количество посещений отделений «Скорой помощи», связанных с неумеренным потреблением алкоголя, увеличилось на 50 %.
В то время как американцы составляют всего 4 % населения мира, мы являемся потребителями 75 % всех выписанных рецептов в мире. В 2014 году более тридцати миллионов взрослых американцев принимали антидепрессанты, по сравнению с тринадцатью миллионами в 2000 году. Кроме того, более семи миллионов американцев регулярно употребляют психотропные препараты – обезболивающие, стимуляторы, седативные средства или транквилизаторы – не по медицинским показаниям.
Неудивительно, что Соединенные Штаты также имеют самый высокий в мире показатель смертности от наркотиков, который с 1990 года вырос более чем на 650 %, что в 2016 и 2017 годах привело к снижению ожидаемой продолжительности жизни в США. Это гораздо ниже, чем у многих наших социально-экономических стран-партнеров. Передозировка наркотиков в настоящее время является основной причиной смерти американцев в возрасте до пятидесяти лет – опиоиды являются причиной двух третей из них. В 2017 году в результате опиоидной эпидемии[11] погибли почти сорок восемь тысяч человек, больше, чем умирали ежегодно от СПИДа во время пика заболеваемости.
Наряду со злоупотреблением опиоидами и алкоголизмом самоубийства привлекают к себе внимание как основная причина роста смертности, особенно среди белых американцев среднего возраста с начальным уровнем образования, а также в сельской местности. Сегодня уровень самоубийств в большинстве сельских районов почти в два раза выше, чем в большинстве городских районов, главным образом из-за более высокой распространенности оружия в сельской местности. В целом число самоубийств в США увеличилось на треть в период с 1999 по 2017 год, при этом смертность в США от алкоголя, наркотиков и самоубийств достигла наивысшего уровня в 2017 году с тех пор, как в 1999 году федеральное правительство начало собирать данные об этом виде смертности. Самоубийство остается одной из десяти ведущих причин смерти американцев.
Разумеется, эти тенденции затрагивают не только взрослых американцев. За последнее десятилетие госпитализация подростков, пытавшихся покончить с собой, выросла вдвое. Согласно опросу Американской ассоциации охраны здоровья студентов, в 2016 году 62 % американских студентов сообщили о том, что в предшествующем году они испытывали «мучительную тревожность», и тревожность в настоящее время является наиболее распространенной причиной, по которой они обращаются за консультацией к психологам. Если взять более широко, в 2017 году 91 % американцев в возрасте от 15 лет до 21 года – так называемое «поколение Z» – сообщили, что им регулярно приходится справляться с физическими или эмоциональными симптомами, вызванными стрессом, такими как депрессия или тревога.
Взрослые американцы также говорят о том, что все больше чувствуют влияние стресса и тревожность. Например в США поиск по слову «тревожность» в Google за период с 2008 по 2016 год вырос более чем вдвое – при этом более высокий показатель поиска у людей с невысоким уровнем образования, более низкими средними доходами и в регионах с преимущественным сельским населением. Аналогичным образом опрос Американской психологической ассоциации показал, что большинство американцев считают, что они живут с умеренным или высоким уровнем стресса – 44 % заявляют о повышении уровня стресса за последние пять лет, особенно на работе. Тем не менее, несмотря на признание нездорового уровня стресса, большинство американцев также сообщили, что они не чувствуют себя в состоянии практиковать здоровое поведение, в качестве основного препятствия выдвигая то, что они слишком заняты.
Рассмотрим следующие показатели образа жизни в США: менее половины взрослых американцев занимаются рекомендуемым количеством физической активности, причем почти 38 % считаются «полностью неактивными». Примерно треть взрослых американцев страдают ожирением, еще треть – лишним весом. Каждый пятый американец сообщает, что переедает или часто ест нездоровую пищу из-за стресса. У трети американцев также проявляется хотя бы один симптом бессонницы, причем 45 % взрослых американцев в 2017 году сообщили о том, что за последний месяц просыпались ночью и лежали без сна.
Чтобы объяснить эти возрастающие показатели тревожности и депрессии, исследователи указывают на растущее бремя хронических физических заболеваний, ожирения, потребления богатой углеводами и сахаром пищи, а также на недостаточную физическую активность – все это возникает из-за эволюционного несоответствия между прошлой окружающей средой человека и современным образом жизни. Они также указывают на неравенство, изоляцию, чувство бессмысленности и одиночество – в сочетании со снижением взаимного доверия и присутствия в обществе, которые стали отличительными признаками современной жизни. Например в ходе кросс-культурного исследования, участниками которого были самые разные люди, от нигериек из сел до городских американских женщин, было установлено, что чем более современными и урбанизированными являются условия, тем выше уровень распространения депрессии. Аналогичным образом принятие американского образа жизни объясняет более высокие показатели депрессии среди мексиканцев, рожденных в США, по сравнению с мексиканскими иммигрантами. В целом городские жители в развитых странах имеют более высокий уровень тревожных расстройств и депрессии, чем сельские жители.
В совокупности эти статистические данные говорят о том, что повседневная жизнь многих американцев субъективно ухудшается, и эти социальные сдвиги связаны с несоответствием между современным миром и нашим палеолитическим нейробиологическим наследием. Мы крепко сбиты, как наши пещерные предки, с нейробиологией, которая была создана для обнаружения непосредственных смертельных угроз (таких, как хищники) и выживания. Важно, что эта система ум – тело, которую мы делим с нашими предками, была оптимизирована под короткие всплески немедленной необходимости выживания, за которыми следовали периоды восстановления, позволяющие выполнять долгосрочные задачи, такие как исцеление, размножение и развитие.
Это наше устройство не изменилось, но, конечно, мир, в котором мы живем, изменился радикально, как и тот выбор решений, с которым мы сталкиваемся сегодня. Мы редко находимся в смертельной опасности, но наши системы ум – тело по-прежнему полагаются на структуру нашего устройства, чтобы реагировать на «символические угрозы» – например на тревожные мысли о приближающемся сроке сдачи работы или о том, где и когда может произойти следующая стрельба в школе. Однако в отличие от наших предков, наша система остается включенной на протяжении несколько дней, недель, месяцев или даже лет, откладывая более долгосрочные задачи, которые, естественно, лишаются своего приоритета, когда в результате стрессового воздействия включается стрессовая активация.
Парадокс заключается в том, что удобства современного мира только усугубляют эти проблемы. Мы сталкиваемся с постоянными требованиями, сроками, давлением времени и технологиями, которые позволяют нам преодолеть ограничения природы. Очевидно, что доступ к электронным устройствам 24/7 подпитывает миф о «многозадачности», затрудняя для нас отключение от подпитки социальных сетей или от электронных поводков, тянущихся к нам из нашего офиса. Тем не менее этот постоянный электромагнитный шквал – как правило, вне нашего осознанного понимания – также поддерживает наши системы ум – тело включенными. От быстро движущихся автомобилей, поездов и самолетов до быстро меняющихся изображений и звуков вездесущих телевизоров и радиостанций в общественных местах, до компьютеров и карманных устройств, к которым обращаемся в моменты скуки, мы постоянно получаем электронную стимуляцию. Даже нечто такое «старомодное», как электричество, позволяет нам подавить наши естественные биоритмы, предназначенные для сна, возвращения целостности и восстановления. И плюс к тому мы дополняем технологическое подавление наших систем различными веществами – рецептурными лекарственными препаратами, рекреационными препаратами, антацидами, слабительными веществами и средствами для улучшения сна. Кофеин, никотин и сахар помогают нам искусственно мобилизовать энергию и в краткосрочной перспективе сконцентрировать наше внимание, в то время как алкоголь помогает нам расслабиться в конце дня. Другими словами, эти удобства обеспечивают нам все более творческие способы подавления нашей внутренней системы, и в итоге мы все более и более отдаляемся от нашей врожденной способности к самонастройке и саморегуляции.
Наконец, современный мир гораздо сложнее, чем мир наших пещерных предков. Неопределенность, сложность, неустойчивость и двусмысленность – это «символические угрозы», то есть они редко требуют немедленных решений, связанных со смертельной опасностью для нашего физического благополучия. Тем не менее они все равно включают нашу палеолитическую внутреннюю проводку «бей-или-беги», при этом не имея прямого выхода, где можно было бы использовать все активированное напряжение, которое мы мобилизуем, и не имея очевидной конечной точки, когда мы можем дать себе «отбой». Стрессогенные факторы, на которые мы настроены, как на наиболее нам угрожающие – и на которые, следовательно, мы должны мобилизовать больше всего энергии, – это те, которые мы воспринимаем как новые, непредсказуемые и неконтролируемые, и эти три прилагательных как раз довольно хорошо описывают современную жизнь. Разве удивительно тогда, что мы все коллективно испытываем хроническую боль, бессонницу, запор, сексуальную дисфункцию или физические заболевания, вызванные нарушением деятельности иммунной системы? Что мы теряем способность смотреть на лес, чтобы увидеть деревья, неосознанно делая приоритетным мимолетное, а не то, что важнее для нашего счастья, успеха и благополучия в долгосрочной перспективе? Что мы чувствуем себя одинокими, оторванными и неудовлетворенными в наших отношениях? Что мы боремся с апатией, выгоранием, тревогой, депрессией, бесчувственностью и бессмысленностью? Мы выдыхаемся, утомляя наши системы ум – тело, управляя ими теми способами, под которые они не были заточены.
Хотя эта рассогласованность влияет на всех нас, она особенно остро влияет на людей, работающих в условиях повышенного стресса. От необходимости за долю секунды сделать тактический выбор, как реагировать во время кризисной ситуации, до решений с высокими ставками, часто имеющими серьезные последствия для бизнеса, стратегии или политики, а иногда и влияющими на жизнь или смерть людей – умение сохранять спокойствие, беспристрастность, сострадание и решимость в ситуациях с высоким уровнем стресса имеет решающее значение. Тем не менее чем больше мы перегружаем свою внутреннюю систему и исчерпываем себя, тем дальше за рамки досягаемости мы отодвигаем способность эффективно принимать решения. Неудивительно, что во многих подобных ситуациях растет озабоченность по поводу принятия импульсивных решений, основанных на неверных суждениях, а также относительно неэтичного или насильственного поведения и морального вреда.
У 4–6 % мужчин и 10–13 % женщин в Соединенных Штатах по крайней мере один раз в жизни было зафиксировано развитие ПТСР; показатели пожизненного ПТСР более чем в три раза выше среди мужчин, переживших воздействие боевых действий, и женщин, подвергшихся сексуальному насилию.
Как ответ на эти тенденции пошла некая волна, когда сбор информации, принятие решений и даже максимально возможное количество задач для выполнения стали передавать различным техническим средствам, роботам, беспилотникам и компьютерам. Это ненасытное стремление к технологическому решению проблем частично основано на неверном ожидании, что мы сможем преодолеть глубокое несоответствие между нашей биологией и современным миром за счет большего количества технологий. Это также подразумевает, что мы неспособны принимать грамотные решения, учитывая сложность информации в современном мире и ее шквальное количество. Мы тайно пытаемся наконец-то вырваться из беличьего колеса. Почти неосознанное предположение здесь состоит в том, что, возможно, нам было бы лучше, если бы мы смогли обойти нашу эмоциональную, импульсивную и вконец измученную человеческую природу.
Расширяем «окно»
Итак, как же мы можем противостоять таким вызовам, которые наши предки даже представить себе не могли, и принимать действенные решения о том, как справиться с ними, используя данную нам систему ум – тело, рассчитанную на угрозы двухсоттысячелетней давности? Как мы можем благополучно справляться с этими вызовами со стойкостью, находчивостью и мудростью, не принимая близко к сердцу ограничивающее нас убеждение, что наши машины могут справляться с ними лучше, чем это можем сделать мы? Это были вопросы, с которыми я столкнулась несколько лет назад, когда мое тело буквально отключилось из-за того, что я не отреагировала на его основные потребности.
Ответ на эти вопросы и основа подхода ФТУО – научиться использовать нашу биологию по-новому. Систематически тренируя свое внимание, мы можем расширить «окно», в котором наш мыслящий мозг и мозг выживания работают совместно. На самом деле, размер нашего окна толерантности к стрессовому возбуждению настолько важен для идей, изложенных в этой книге, что я даже поместила эти слова в название книги. Чем шире наше «окно», тем легче найти правильный выбор, эффективно действовать во время стресса и восстанавливаться после него. Правда, та нейробиология, которую мы унаследовали от наших пещерных предков, не соответствует современному миру. Определенным образом направляя наше внимание, мы, однако, можем научиться регулировать всю эту внутреннюю систему осознанно. Когда мы используем осознание для того, чтобы таким образом регулировать нашу биологию, мы можем получить доступ к нашим лучшим, уникальным человеческим качествам: состраданию, мужеству, любознательности, творчеству и родству с другими. Мы можем натренировать себя принимать мудрые решения и делать выбор – даже во времена невероятного стресса, неопределенности и перемен.
Внутри своего «окна» мы можем регулировать уровни стресса по восходящей и по нисходящей, чтобы со временем оставаться в пределах оптимальной для нас зоны результативной деятельности. Мы также можем сознательно регулировать участие как мыслящего мозга, так и мозга выживания – при этом ни один из них не будет отменять действия другого и не будет подавлять наш выбор. В пределах нашего «окна» мыслящий мозг и мозг выживания будут связывать союзнические отношения, позволяющие нам получить доступ к нашей внутренней мудрости, то, что некоторые люди называют «интуицией». По этим причинам ширина нашего «окна» в значительной степени определяет нашу способность принимать гибкие и адаптивные решения в любой ситуации – от решений, которые во время экстремального стресса или кризиса необходимо принять в доли секунды и от которых зависит жизнь или смерть, до обыденных решений о том, как провести время, как вести себя в отношениях и как заботиться о наших телах и умах.
Внутренние связи, которые мы обычно делили между нашим мыслящим мозгом и мозгом выживания – а также между нашим мозгом, вегетативной нервной системой и телом – оказывают огромное влияние на ширину окна. Наше «окно» изначально зависит от взаимодействия между нашими генами и нашей ранней социальной средой, оно формируется еще в утробе матери и продолжает свое развитие в подростковом возрасте.
Большинство наших стратегий для преодоления стресса и взаимодействия с другими, которые существуют в нас по умолчанию, сложились в ответ на нашу раннюю социальную среду, и это явным образом повлияло на ширину «окна». Наше «окно» с течением времени может становиться уже или шире, в зависимости от нашего повторного опыта. Я буду рассматривать эту динамику в частях II и III.
Люди с широкими «окнами» обладают большей способностью точно оценивать безопасность и опасность, этот бессознательный процесс, свойственный мозгу выживания, называется нейроцепцией. Такие люди скорее всего прореагируют быстро и правильно как в безопасных ситуациях, так и в ситуациях угрозы. Они лучше приспособлены для встречи со сложными ситуациями, их мыслящий мозг всегда в режиме онлайн, и он способен полностью и эффективно восстанавливаться после этого. Они лучше приспособлены перерабатывать всю информацию, поступающую из текущей операционной среды, их внимание не бывает полностью захвачено внезапной главной угрозой. Во время сложных событий они лучше умеют «плыть по течению» и оставаться во взаимодействии с другими людьми.
Однако – и это очень важно – даже люди с изначально широким «окном» говорят, что со временем оно сужается из-за хронического стресса или травмы, после которых они не восстановились. Когда наша система всегда «включена» и мы действуем, никогда ее не выключая, даже самые устойчивые люди обнаруживают, что их способность выдерживать напряжение постепенно подрывается. Важно, что из-за несоответствия между нашей биологией и современным миром этот подрыв произойдет даже тогда, когда мы просто решим предоставить все нашей палеолитической «проводке» и ее бессознательным механизмам. Иными словами, без каких-то сознательных, намеренных усилий по регулированию нашей биологии каждый в конце концов сужает свое «окно».
По мере сужения «окна» мы все чаще обнаруживаем себя за его пределами. Вне нашего «окна» мыслящий мозг и мозг выживания вступают в противоборствующие, антагонистические отношения – каждый из них пытается подавить и заставить замолчать другого. Например, может произойти подавление со стороны мыслящего мозга, и мы начнем компартментализировать[12] и подавлять наши эмоции, физические ощущения, потребности организма и насильно расширять пределы его функционирования. Или мы можем столкнуться с тем, что верх возьмет мозг выживания, и тогда нашими решениями будут двигать эмоции и боль, приводя нас к тому или иному импульсивному, реактивному выбору. Мы также с большой вероятностью сами начнем себя лечить или маскировать свою беду едой, кофеином, табаком, различными другим веществами, скрываться за той или иной зависимостью, или же за жестоким, вредящим себе или адреналино-зависимым поведением. Наконец, за пределами нашего «окна» мы скорее всего испытаем травму.
Если вы похожи на тех людей, которых я тренировала в ФТУО в течение последнего десятилетия, или вы похожи на меня в тот момент, когда я писала свою диссертацию – прямо сейчас ваша стратегия управления стрессом по умолчанию скорее всего – запечатать его в себе или пытаться выяснить, как «справиться» со сложными ситуациями. Тем не менее, как я показываю это в данной книге, многие стратегии, в которые вы в настоящее время, возможно, верите (и наша культура этому способствует), и верите, что они эффективны в борьбе с жизненными неурядицами – а именно, что нужно компартментализировать, подавлять, игнорировать, отвлекаться от них, перефразировать происшедшее в позитивном ключе или даже убеждать себя, что «все это на самом деле не так уж и плохо» или «надо сквозь это пройти» – все они на самом деле могут только усугубить ваш стресс. В этой книге вы узнаете, как эти распространенные привычки могут дистабилизировать вас, подорвать ваше здоровье, исказить ваше восприятие событий, привести вас к тому, что вы упустите важные сигналы о том, что вы на неправильном пути и должны изменить курс, оторвать вас от себя и от того, что может вам действительно помочь.
В следующей главе говорится о том, как и почему мы склонны культивировать противоборство между мыслящим мозгом и мозгом выживания – в процессе игнорируя континуум между стрессом и травмой. Часть II посвящена научным данным, стоящим за концепцией «окна» – как формируется система «окна» и как сужается со временем. Вторая часть поможет вам лучше понять, что такое мыслящий мозг, мозг выживания, вегетативная нервная система и тело, а также различные их сигналы и функции. Наконец, в Части III я научу вас, где, когда и как направлять ваше внимание, чтобы расширить ваше «окно». Я помогу вам научиться видеть в подсказках вашего тела информационный ресурс, а затем использовать свой мыслящий мозг, чтобы сделать самый мудрый выбор на основе этой информации. Пожалуйста, не перепрыгивайте сразу к Части III; вам необходима информация из Части II для понимания техник и методов Части III.
Согласно опросу Американской ассоциации охраны здоровья студентов, в 2016 году 62 % американских студентов сообщили о том, что в предшествующем году они испытывали «мучительную тревожность», и тревожность в настоящее время является наиболее распространенной причиной, по которой они обращаются за консультацией к психологам.
Наша нейробиология была создана для того, чтобы функционировать как сплоченное целое, где каждая часть нашей системы ум – тело привносит свои уникальные навыки, способности и информацию. Мы можем раскрыть этот синергетический потенциал только тогда, когда мыслящий мозг и мозг выживания работают в качестве союзников. Когда мы решаем культивировать союзнические отношения между мыслящим мозгом и мозгом выживания, мы не только действуем в пределах нашего «окна», но и можем излечиться и восстановиться после предыдущего воздействия хронического стресса и травмы и тем самым расширить это «окно».
Глава 2
Как мы игнорируем континуум стресс – травма
Грег был успешным бизнесменом, много лет посвятившим приобретению, реструктуризации и продаже компаний – это позволило ему стать довольно состоятельным. У него была широкая сеть профессиональных связей и два великолепных дома в престижных местах. Он был счастливо женат на своей четвертой жене.
Первоначально Грег заинтересовался ФТУО не для себя. Он обсуждал со мной вопрос о том, сделать ли солидное пожертвование некоммерческому Институту фитнеса ума, который я основала, чтобы можно было познакомить с ФТУО других на более широкой основе. Он был свидетелем масштабных боевых действий во время Вьетнамской войны. Теперь он хотел использовать свое богатство и успех, «чтобы вернуть долг» – помочь новому поколению ветеранов боевых действий, возвращающихся домой из Ирака и Афганистана. Я сказала ему, что лучший способ узнать, поддерживать ли нашу работу, – это самому испытать методику ФТУО.
По завершении курса ФТУО и постоянного выполнения упражнений в течение нескольких последующих месяцев Грег честно поделился со мной, что с тех пор, как он вернулся из Вьетнама, все шло не так уж гладко. Получив новое понимание своей нейробиологии, он признал, что его система ум – тело десятилетиями жила «на пределе» – гипервозбуждение от стресса, сверхнастороженность, повышенная пугливость, бессонница и высокое кровяное давление. На самом деле, по его признанию, основная причина, по которой он достиг столь многого за свою карьеру, была в том, что он очень мало спал. Ему нравилась его работа, особенно то интенсивное ощущение «кайфа», которое он чувствовал, закрывая крупную сделку. Впервые подобное чувство он испытал во Вьетнаме. Грег также утверждал, что причина, по которой теперь он был женат в четвертый раз, заключалась в том, что он с маниакальной частотой изменял своим трем предыдущим женам. По его словам, в то время он чувствовал, что «ничего не может с собой поделать». Те интрижки – и ложь, которая все это сопровождала, – тоже приносили ему ощущение «кайфа», которое он так любил.
«Таня», тридцати с небольшим лет, была талантливым аналитиком в одном из американских разведывательных агентств. Она была глубоко предана миссии своей организации и старалась не допустить очередной теракт на территории США. Когда мы встретились, ее недавно обошли с повышением, которое вместо нее получил коллега-мужчина моложе ее. С тех пор она часто просыпалась ночами, и чехарда в мыслях не давала ей уснуть. Она также стала еще больше работать – практически не оставляя времени для жизни вне работы – пытаясь продемонстрировать свою преданность начальству и тем самым заслужить продвижение по служебной лестнице.
Таня поступила в колледж на спортивную стипендию, где она впряглась в интенсивные курсовые занятия – она взяла две специализации: по экономике и по арабскому языку, и при этом должна была интенсивно тренироваться для участия в соревнованиях вместе с национальной сборной. Разумеется, то, что она выиграла эту спортивную стипендию, означало, что она и до этого могла мастерски жонглировать своей занятостью в течение многих лет и до колледжа.
Наша нейробиология была создана для того, чтобы функционировать как сплоченное целое, где каждая часть нашей системы ум – тело привносит свои уникальные навыки, способности и информацию.
Участвуя в программе ФТУО, Таня поняла, что то, что ее обошли с повышением, оставило в ней чувство, что «от нее ничего не зависит», которое она испытывала и раньше. Во времена средней и старшей школы она справлялась с этим чувством, сильно ограничивая свой рацион четырьмя сотнями калорий в день. Таня сказала мне, что она «успешно лечилась» от анорексии в средней школе и перед колледжем вернулась к нормальным показателям веса для своего роста. С тех пор, как только случалось что-то, с чем ей было трудно справиться, она устраивала себе жесткие тренировки, чтобы чувствовать, «что у нее все под контролем». И вот в последнее время она заметила, что опять считает калории и ограничивает свой рацион. Это удивило ее, потому что она была уверена, что после школы уже «переросла это».
«Тодд» был девятнадцатилетним пехотинцем. Он уже поучаствовал в одной из боевых командировок в Ирак, и его подразделение готовилось к переброске в Афганистан. Тодду абсолютно не нравился его командир отряда, потому что сержант всегда отрывался на нем за то, что Тодд что-то забывал. Например, он мог появиться на построении не в той форме. В другое время он забывал, что должен был делать, а затем «портил всё» для всего отряда. Тодда глубоко беспокоило его «неподобающее поведение».
За месяц до того, как я начала заниматься с Тоддом по методике ФТУО, он наконец обратился за помощью, но не ради себя самого, а потому, что это имело негативные последствия для его отряда. И с того момента он каждую неделю встречался с врачом в клинике по месту своего расположения. Тот врач диагностировал у него ПТСР и выписал ему три рецепта: один – на лекарство от бессонницы, второй – на лекарство от ПТСР, и третий – на лекарство от хронических болей в колене и спине, которые Тодд заработал в результате ношения своего тяжелого обмундирования и оружия. Теперь, работая с врачом, Тодд снова испытывал это чувство – частые воспоминания как об Ираке, так и о своем детстве.
На самом деле у Тодда было тяжелое прошлое. Его биологический отец был в тюрьме, и они не говорили много лет. Когда стал постарше, Тодд жил со своей мамой-алкоголичкой и крайне строгим отчимом. Когда Тодд совершал какие-то проступки, его отчим часто «хватался за ремень». В одиннадцать лет Тодд был на волосок от смерти.
Тодд владел вещью, которая для него обладала исключительной ценностью: это был его «Харли-Дэвидсон». Он просто обожал свой мотоцикл. Он приобрел его после своей первой командировки в зону боевых действий. Он любил ездить по побережью, где мог освежить голову и наблюдать за волнами. После какого-нибудь особенно плохого дня, когда он опять «напортачил», а сержант наорал на него, Тодд чувствовал, что ему просто необходимо выпустить пар. В такие дни он садился на свой байк и мчался – что, по его признанию, означало по крайней мере 240 км/ч – при этом опасно подрезая и виляя среди машин на шоссе. На самом деле он сказал мне так: «Чем ближе была смертельная опасность, тем лучше я себя чувствовал». После этого он отправлялся в свой любимый бар, где, «надравшись», обычно нарывался на драку.
На первый взгляд, эти три человека могут показаться непохожими: у них различное социально-экономическое положение и разный уровень образования. Они пережили абсолютно разные типы стрессовых и травматических событий. Они справляются со своим стрессом разными способами.
Действительно, если бы я обрисовала эти портреты Грега, Тани и Тодда им самим непосредственно перед тем, как они прошли программу ФТУО, а затем спросила бы их, считают ли они, что то, что они пережили, каким-то образом похоже на опыт двух других, я сомневаюсь, что они увидели бы большое сходство, кроме, возможно, что «мы все находились под воздействием стресса». Однако несмотря на очевидные различия, Грег, Таня и Тодд имеют одинаковый опыт.
Как и у меня, у всех троих сложились отношения конфронтации между их мыслящим мозгом и мозгом выживания, и накопилась аллостатическая нагрузка. В ответ все трое делали выбор, чтобы справиться со своей эмоциональной дисрегуляцией и внутренними противоречиями, находя лучшее для себя решение.
Страдание приходит во многих обличиях, но оно все равно остается страданием.
Классифицируем свой стресс
Когда вы читали эти истории, вероятно, вы, осознанно или неосознанно, оценивали, заслуживают ли Грег, Таня и Тодд того, чтобы рассматривать их в качестве тех, кто «пребывает в стрессовом состоянии».
Прежде чем вы продолжите читать, обратите внимание, судили ли вы, сравнивали ли, оценивали или ранжировали ли их истории (а также и мои из предыдущей главы) каким-то образом – например с точки зрения того, «стоят» ли они страданий, или с точки зрения силы стрессового и травматического опыта, пережитого ими, или последствий их переживаний для окружающего мира.
Пожалуйста, знайте, что это не проблема, если вы делали такие сравнения: просто ваш мыслящий мозг поступает так, как поступает любой мыслящий мозг. Как пояснялось в главе 1, наш мыслящий мозг по необходимости выработал в себе некоторые очень глубокие основы для сравнения, оценки и суждения – он сравнивает опыт других людей между собой, а также сравнивает их опыт с нашим собственным. Это просто то, как наш мыслящий мозг создан.
На самом деле наши глубоко обусловленные привычки мыслящего мозга к сравнению и суждению во многом влияют на наше коллективное игнорирование непрерывности процесса между стрессом и травмой. В этой главе я хочу рассмотреть некоторые из процессов, которые приводят нас к игнорированию этого континуума, а также оказывают мощное влияние на наше индивидуальное и коллективное поведение. Я не хочу здесь судить об этих процессах; я просто хочу разобраться в них и пролить на них некоторый свет.
В нашей культуре у нас есть некоторые коллективные представления и ожидания, которые хранятся в мыслящем мозге каждого человека, о том, как выглядит человек «в стрессе» или какими бывают «травмированные» люди. Например коллективно мы скорее всего обозначим историю Тодда как историю «про травмированного человека», хотя Тодд не видит себя подобным образом. И наоборот, коллективно мы с наименьшей вероятностью назовем историю Тани «историей травмы» – несмотря на то, что не получившая повышения по службе Таня на самом деле испытывала травматический стресс.
Моя история с клавиатурой из главы 1 тоже была выражением травмы, хотя я тогда этого не знала. Вместо этого я воспринимала свою историю как пример «стрессоустойчивости» или «упорства» – того, что наша культура очень превозносит.
Психолог Ангела Дакворт и ее коллеги ввели понятие «жесткость»[13], чтобы запечатлеть качества целеустремленности, трудолюбия и упорства. Ее исследование, проведенное среди студентов, кадетов Уэст-Пойнта[14], менеджеров по продажам в крупных корпорациях и супружеских пар показывает, что быть «жестким» – то есть упорно работать, быть мотивированным, упорно добиваться своего вопреки трудностям, прорываться свозь все препятствия – является хорошим прогностическим фактором для возможного внешнего успеха, и это гораздо лучше, чем семейный доход и уровень IQ. Исследования Дакворт получили глубокий резонанс в нашей культуре; ее книга стала бестселлером, и она даже получила «грант для гениев» Макартура[15].
Это, конечно, правда, что быть «жестким» означает, что мы выработали некоторую способность терпеть и проталкиваться сквозь дискомфорт, чтобы достичь важной цели. Также правда и то, что жесткие люди лучше способны видеть в провале возможность обучения, а не просто приходить в уныние от него. Они лучше справляются с трудностями и удваивают свои усилия по достижению успеха. Такими качествами можно восхищаться.
Интересно, однако, что эмпирические исследования о «жесткости» умалчивают о цене за нее – и это тоже особенность наших культурных реалий.
Универсальной особенностью травмы является диссоциация – состояние, при котором мы отрезаем себя от нашей боли, а также стыда по поводу этой боли. Такая диссоциация может проявляться различными способами, включая физические заболевания, бытовое насилие, издевательства и притеснение других, различного рода зависимости, внебрачные связи, самоповреждение, агрессивное поведение или адреналиновая зависимость. В рассказах Грега, Тани и Тодда мы видим множество различных проявлений травмы.
Я выбрала для себя форму диссоциации – экстремальное торжество разума над материей – которая привела к огромным достижениям. Таким образом, хотя у меня, возможно, был относительно тяжелый груз травмы по сравнению с людьми, равными мне по социально-экономическому положению и уровню образования, мое поведение не подпадало под обычное понимание «травмированного человека». Мое поведение было принято обществом и вознаграждено.
Если сформулировать это несколько иначе: нет никаких сомнений в том, что Грег, Таня, Тодд и я, каждый по-своему были «жесткими». И в то же время я была компульсивным «пахарем», потерявшим зрение, Таня – анорексичкой и трудоголиком, Грег – ищущим адреналина донжуаном, а Тодд – агрессивным водителем и неистовым пьяницей.
Игнорирование неразрывности между стрессом и травмой
Как мы (индивидуально и коллективно) понимаем, сравниваем и оцениваем «стрессовые» или «травматические» события – это задача, которую выполняет наш мыслящий мозг. То есть значение, которое он придает такому опыту, глубоко зависит от наших семейных, организационных и общественных норм, убеждений и ценностей.
Коллективно мы склонны рассматривать «стресс» и «травму» как отдельные понятия. Действительно, наш мыслящий мозг классифицирует «хронический стресс» (например, хронический трудоголизм) как отличный от «шоковой травмы» (скажем, цунами, автомобильная авария или теракт), в свою очередь они оба отличны от «травмы развития» (если человек растет в атмосфере насилия или небрежения) и «реляционной травмы» (как, например, харассмент, дискриминация или отношения, основанные на формах жестокого обращения или зависимости).
Кроме того, исследователи и врачи – специалисты, обладающие опытом в этих вопросах, – как правило, изучают и лечат «стресс» и «травму» по отдельности.
Например, исследователи, изучающие стресс, склонны проводить исследования на животных, уделяя особое внимание специальным биологическим механизмам, лежащим в основе стрессовой реакции и связанных со стрессом заболеваний. В качестве альтернативы они могут специализироваться на «элитных» исследованиях – то есть на проведении исследований с участием элитных спортсменов и сил специального назначения, включая SEAL, Рейнджерс и «зеленые береты». Эта вторая группа исследователей хочет понять, как улучшить способность системы ум – тело функционировать в условиях экстремального стресса, когда к человеку предъявляются повышенные требования.
На другом конце спектра – травма развития и реляционная травма. Это сфера деятельности семейных терапевтов, социальных работников, детских психологов и психологов-травматологов. Эти профессионалы стараются помочь людям справиться с травмирующими событиями, произошедшими в их прошлом (или настоящем), почувствовать себя лучше и нормально функционировать в своей повседневной жизни. Также эти специалисты могут изучать механизмы, через которые травма продолжает проявлять себя в течение многих лет и, возможно, даже повторяться – явление, называемое ретравматизация. Некоторые специалисты на этом конце спектра могут также специализироваться на бытовом насилии, криминальном рецидивизме, аддикциях, расстройствах пищевого поведения или суицидальном поведении.
Поскольку эти различающиеся по своим сферам деятельности исследователи и врачи проходят обучение по разным дисциплинам, публикуются в разных рецензируемых журналах, посещают разные конференции и фокусируются на разных аспектах континуума стресс – травма, не стоит удивляться, что коллективно мы рассматриваем стресс и травму по отдельности – и требуем для них совершенно разных, отличных друг от друга стратегий и / или терапевтических методов. Если мы изначально разделяем в нашем коллективном сознании понимание коренных причин, конечно, мы будем думать, что имеем дело с разными вещами.
Как бы то ни было, концептуализация стресса и травмы как отдельных понятий скрывает тот факт, что они имеют общую нейробиологическую основу. Стресс и травма не присущи событию априори – это внутренние реакции ума и тела на континуум стресс – травма. То, как именно человек попадет в этот континуум во время угрожающего жизни или затруднительного события, зависит от того, как его мозг выживания подсознательно оценит это событие с помощью нейроцепции, а не от того, как это событие сознательно рассудит, оценит или классифицирует его мыслящий мозг.
Таким образом, всякий раз, когда мы сталкиваемся с угрожающим или неблагоприятным событием, испытаем ли мы стресс или травму, определяется в основном текущей шириной нашего «окна» толерантности к стрессу.
Вот почему, например, когда пехотный отряд из тринадцати человек сталкивается с засадой, мы можем быть уверены, что будет тринадцать различных реакций со стороны системы ум – тело, потому что будет тринадцать различных «окон» различной ширины, которые встретят эту засаду. Также мы будем иметь тринадцать различных условных реакций, как справиться со стрессом или травмой после этой засады.
Вместе с тем, независимо от того, испытали ли мы стресс или травму, если у нас не будет полного восстановления после этого, у нас будет расти аллостатическая нагрузка. Со временем без адекватного восстановления у нас возникнет эмоциональная дисре-гуляция – то есть те физические, эмоциональные, когнитивные, духовные и поведенческие симптомы, которые появляются, когда система ум – тело перестает функционировать в рамках своего регулируемого равновесия.
Поэтому, хотя наш мыслящий мозг имеет тенденцию полагать, что хронический стресс, шоковая травма, травма развития и реляционная травма – это разные вещи, все они производят одинаковый эффект на систему ум – тело.
Если они так похожи по своим эффектам, то почему наша культура обычно относится к ним так по-разному? Краткий ответ заключается в том, что многим могущественным и амбициозным людям трудно признать уязвимость своей системы ум – тело.
У влиятельных, успешных, добивающихся высоких результатов людей – и у высокостатусных учреждений, в которых они работают, – нет проблем с признанием «стресса». В самом деле, мы склонны считать «стресс» неким почетным знаком – доказательством того, что мы успешны и состоятельны. В нашем коллективном понимании «быть в стрессе» означает, что мы перегружены работой, загружены сверх меры, чрезвычайно заняты и крайне важны. Это просто неотъемлемый побочный продукт бытия Хозяином Вселенной.
Почему еще многие из нас любят похвастаться тем, что прошлой ночью спали всего несколько часов? Или сколько дней прошло с тех пор, как нам удалось успеть вернуться с работы до того, как наши дети легли спать? Или сколько разных дел или поручений мы можем делать одновременно? Или сколько лет прошло с тех пор, как мы брали полноценный отпуск или даже целые выходные? В нашей культуре мы романтизируем стресс, несмотря на то, что мы одновременно стонем от него вместе с подобными безропотными хвастунами.
Кроме того, мы участвуем в коллективном лицемерии: проповедуя, что здоровье, отношения, семья, община и «баланс между работой и жизнью» важны, мы одновременно превозносим и восхищаемся людьми с несбалансированным поведением.
Мы лишь усиливаем этот дисбаланс на своих рабочих местах, устанавливая нереальные сроки для себя и своих подчиненных. Или вознаграждая дисрегулированного трудоголика или руководителя, который находится в постоянном состоянии тревоги и дотошно вникает в каждую мелочь. Или продвигая руководителя, который не может не распускать руки и держать ширинку застегнутой, или же властного лидера, создающего вокруг себя токсичное рабочее пространство.
Мы также учим этим двойным стандартам своих детей, когда разрешаем их учителям задавать им больше домашних заданий, чем физически возможно выполнить в оставшиеся до ночи часы – особенно если им еще нужно посещать внеклассные занятия и успеть подвигаться, свободно поиграть и выспаться.
Загнанным в беличье колесо родителям рекомендуется привлекать своих детей к участию в структурно-организованных программах и уроках даже прежде, чем они начнут посещать детский сад. В свою очередь, многие организации рекламируют свои программы на время до и после школьных уроков, и многие родители рассматривают их как экономически выгодную альтернативу дневному уходу за детьми.
На самом деле наши глубоко обусловленные привычки мыслящего мозга к сравнению и суждению во многом влияют на наше коллективное игнорирование непрерывности процесса между стрессом и травмой.
Полностью сконцентрированное на ребенке, трудоемкое и дорогостоящее воспитание детей в настоящее время является доминирующей культурной моделью воспитания детей; действительно, матери, работающие вне дома, тратят на своих детей столько же времени, сколько мамы-домохозяйки в 1970-х годах.
Большинство родителей, которых я знаю, говорят, что им не нравится темп жизни своих детей. Они не любят эти «подбрасывания детей до школы или занятия по договоренности» между родителями, практически ежедневные, а также по вечерам и на протяжении всех выходных. Они не могут дождаться, когда их дети получат водительские права, и вся эта ужасная круговерть наконец прекратится. И родители, и дети находятся в постоянной спешке, измученные и постоянно уставшие.
Мы говорим, что хотим, чтобы все было по-другому – но мы также переживаем, что, если мы не будем в полной мере участвовать в Гонке в Беличьем Колесе, нас ждут ужасные последствия: подрыв шансов наших детей попасть в самые престижные учреждения (от дошкольных до аспирантуры). Что мы преградим дорогу своим возможностям получить ту или иную работу, или продвижение по службе, или профессиональное поощрение, которые мы желаем. Что мы повредим своим личным и профессиональным связям, если мы не скажем «да» каждому приглашению, конференции, разговору, коктейлю, барбекю по соседству и празднованию дня рождения одноклассников наших детей. Мы даже создали для этого аббревиатуру – FOMO, «боязнь выпасть из обоймы» [англ. «fear of missing out»].
Однако приравнивая «быть в стрессе» к «быть сильным, успешным, востребованным и значимым», мы также непреднамеренно отделяем стресс от его возможных последствий.
Коллективно мы склонны игнорировать то, как наш выбор – и наши двойные стандарты в масштабах всего общества – приводят к созданию аллостатической нагрузки, развитию связанных со стрессом физических и психологических заболеваний и появлению других симптомов дисрегуляции. Отделяя выбор образа жизни, определяемый как «быть в стрессе», от его последствий – для наших систем ум – тело, наших отношений, наших сообществ и нашей планеты, – мы с меньшей вероятностью будем брать на себя ответственность за свое участие в тех возможных результатах, которых мы не хотим.
Нигде подобное отделение не способно проявиться так сильно, как в травме.
Как было указано в главе 1, травматический стресс возникает, когда мозг выживания неосознанно воспринимает нас как бессильных, беспомощных или не имеющих контроля во время стрессовой ситуации. Несмотря на то, что травмирование само по себе неподконтрольно, наш мыслящий мозг не хочет этого признавать.
В нашей культуре мы прекрасно справляемся со «стрессом», потому что в коллективном понимании это означает, что мы успешны, настойчивы, упорны, сильны и значимы. А что означает тогда «быть травмированным»? Ну, это равносильно тому, чтобы быть бессильным, сломленным, пассивным, трусливым, уязвимым и притворяться больным – а никто таким быть не хочет.
В итоге коллективно мы склонны признавать только самые крайние формы шоковой травмы – такие как ураганы, землетрясения, политический плен, пытки, теракты, массовые расстрелы, боевые действия, изнасилования или похищения людей. Если травма должна существовать в мире, тогда коллективно мы готовы признавать эти события как «травмирующие». Однако в то же время мы коллективно неохотно признаем нищету, дискриминацию, жестокое обращение и харассмент в их неявных формах как «травму».
У большинства людей в нашем обществе мыслящий мозг, вероятно, примет диагноз ПТСР, возникший после боя или изнасилования – но не после сексуальных домогательств или постоянной дискриминации на рабочем месте. И уж точно не после детства, в котором тебя не замечали, эмоционально унижали и не любили. Наш мыслящий мозг выносит все эти оценки и суждения о чужом опыте, а также о нашем собственном.
Другими словами, наше традиционное понимание «травмы» обычно включает в себя только травмы с большой буквы «Т», то есть шоковые травмы – а не все те хронические, накапливающиеся «маленькие т», травмы повседневной жизни, где наш мозг выживания чувствует себя беспомощным, бессильным, загнанным в ловушку или не имеет контроля: как в случае, когда у любимого человека диагностировали неизлечимую болезнь. Или тонкая, едва уловимая, но постоянная социальная изоляция, или дискриминация на рабочем месте. Или опасность «вождения в черном»[16]. Или издевательское поведение, когда наши дети сталкиваются с травлей в школе. Эти хронические, накапливающиеся травмы «с маленькой буквы т» почти всегда проявляются в личных, профессиональных или общественных отношениях – значит, они обычно являются травмой развития или реляционной травмой.
Они также чрезмерно напрягают наши системы ум – тело, потому что наш мыслящий мозг обычно недооценивает и сбрасывает со счетов их реальное воздействие – при этом мыслящий мозг других людей делает то же самое.
В качестве примера я хотела бы обратить внимание на последствия нищеты, сексизма и расизма – стигматизацию[17], предубеждение и дискриминацию, возникающие в связи с тем, что кто-то является частью маргинализированной группы, – они очень часто приводят как к хроническому стрессу, так и к реляционным травмам. (Я рассмотрю последствия травмы развития в последующих главах.) Важно отметить, что человек может принадлежать к нескольким маргинализованным группам одновременно.
И хотя открытое насилие возможно – и мы недавно фактически видели рост такого насилия – в последнее время более распространенными проявлениями стигматизации и дискриминации являются непримиримость взглядов, уничижительные высказывания и другие виды скрытой агрессии.
Бедные американцы – с семейным доходом на уровне или ниже черты бедности – примерно в 5 раз чаще сообщают о «среднем» или «плохом» состоянии здоровья, чем взрослые американцы с доходом на семью свыше $140 000. Они в три раза чаще имеют физические ограничения из-за хронических заболеваний или хронических болей. У них также более высокие показатели ожирения, сердечных заболеваний, диабета, инсульта и других хронических заболеваний, чем у более богатых американцев. Четверть из них – курильщики, что втрое больше, чем среди взрослых американцев с семейным доходом свыше 100 тысяч долларов. Они в четыре раза чаще сообщают о том, что нервничают, и в пять раз чаще говорят о том, что «большую часть времени или постоянно» чувствуют печаль, безнадежность и / или собственную бесполезность. Сходным образом показатели смертности среди белых американцев, не имеющих высшего образования, растут с начала века – так называемая «смерть от отчаяния» – увеличиваясь в основном за счет роста числа самоубийств, передозировки наркотиков и заболеваний печени, связанных с алкоголизмом.
Сексизм включает в себя акты неуважения, дискриминации и несправедливости по признаку пола. Многие женщины сами обесценивают последствия повседневного сексизма, считая их менее или вовсе не вредоносными по сравнению с явными сексуальными домогательствами или изнасилованием. Тем не менее эмпирически была прослежена связь между переживаемым сексизмом и депрессией, психологическими расстройствами, высоким кровяным давлением, усилением предменструальных симптомов, других физических симптомов, такими как тошнота и головные боли. Была выявлена связь с женским пьянством, курением, а также самоуничижением в близких отношениях.
Например были проведены эксперименты, в которых исследовали женские гормоны стресса во время ситуаций, в которых присутствовали различные виды сексизма. В одной из них мужчина сказал женщине, что ее кандидатуру на должность отвергли; во втором случае женщин попросили выполнить задание для мужчины, который, как им сказали, должен оценить их на предмет возможного трудоустройства. Все эти эксперименты представляли четыре вида различных условий – в условиях двух экспериментов содержались явные подсказки возможного наличия сексизма, в условиях другого – подсказки были неоднозначны, и в условиях еще одного эксперимента сексизм был невозможен. Единственный раз, когда у женщин не повышался уровень гормонов стресса, был тогда, когда сексизм был невозможен по причине того, что должность занимала более квалифицированная женщина.
Универсальной особенностью травмы является диссоциация – состояние, при котором мы отрезаем себя от нашей боли, а также стыда по поводу этой боли. Такая диссоциация может проявляться различными способами, включая физические заболевания, бытовое насилие, издевательства и притеснение других, различного рода зависимости, внебрачные связи, самоповреждение, агрессивное поведение или адреналиновая зависимость.
Гетеросексизм – то есть виктимизация гомофобии, дискриминации, само-стигматизации и сокрытие сексуальной идентичности, с которыми сталкиваются геи, лесбиянки, бисексуалы и транссексуалы, – способствует возникновению психологических расстройств, тревожных расстройств, депрессии, ПТСР, социальной изоляции и расстройства пищевого поведения. Среди сексуальных меньшинств шире распространены проблемы психического здоровья, чем среди гетеросексуалов. Кроме того, сексуальные меньшинства, сталкивающиеся с гетеросексизмом у себя на работе, испытывают больше психологического стресса и связанных с ним проблем со здоровьем, у них снижается интерес к работе и увеличивается число прогулов.
Расизм в значительной степени связан с ухудшением здоровья. Это подтверждается данными проведенного недавно мета-анализа[18], включающими 333 авторитетных эмпирических исследования, опубликованных в период с 1983 по 2013 год. Расизм особенно связан с ухудшением психического здоровья, включая депрессию, беспокойство, суицидальное поведение, ПТСР и психологические расстройства. Он также напрямую сопряжен с хроническими заболеваниями, связанными с проблемой веса, – диабетом, ожирением и чрезмерной полнотой. Расизм также лежит в основе экономической несправедливости, причем разрыв в доходах – по каждому из показателей доходов – между чернокожими и белыми американцами, а также между латиноамериканцами и белыми американцами, согласно данным о доходах домохозяйств Бюро переписи населения США, остается постоянным на протяжении уже пятидесяти лет.
Важно, что дискриминация, предубеждения, харассмент и подобное не обязательно должны быть испытаны нами непосредственно, для того чтобы они оказали токсичное влияние на наши системы ум – тело. Мы можем испытать стрессовую активацию во время чтения или просмотра новостей о событиях, где притесняют или ограничивают в правах кого-то из нашей группы самоидентификации. Мы также можем пережить подобную активацию, вспоминая или ожидая события, когда нас притесняли или ограничивали в правах или возможно сделают это в будущем.
Один эксперимент демонстрирует эту динамику очень явно: исследователи изучали стрессовую активацию среди латиноамериканцев, когда они ожидали – а затем и участвовали – в аттестации, которую проводила белая женщина. У латиноамериканцев, которым сказали, что белая женщина имеет предубеждение в отношении этнических меньшинств, перед аттестацией показатели артериального давления и стрессовая активация были выше, а во время аттестации было больше связанных с угрозой эмоций и мыслей – чем у латиноамериканцев, которые были уверены, что белая женщина не имеет никаких предубеждений. Это исследование убедительно показывает, что хроническая бдительность и ожидание дискриминации могут быть такими же стрессовыми, как и ее непосредственное переживание.
В совокупности этот растущий массив эмпирических исследований говорит о том, что повседневная реляционная травма, получаемая от бедности, сексизма, гетеросексизма и расизма, и которую большинство наших мыслящих мозгов списывают на «все не так уж и плохо» или «ничего особенного» – на самом деле имеет значение. Мы можем и не осознавать стрессовую активацию, но эти вещи все равно могут включать наши системы и не выключать их никогда.
Неприятие травмы
Прежде чем продолжить чтение, запишите пять прилагательных, которые описывают, каким вы видите себя, по одному прилагательному на каждой строке. Например вы можете видеть себя «сильным, успешным, оптимистичным, самостоятельным и усердным». Или, возможно, вы видите себя «честным, остроумным, дружелюбным, заботливым и сострадательным».
Теперь напротив этих пяти прилагательных напишите их противоположности. Например напротив «сильный» вы напишете «слабый», напротив «честный» – «нечестный». Второй список прилагательных содержит краткое описание теневой стороны вашей личности.
Отождествление с качествами, которые соответствуют нашему образу себя, означает, что мы также естественным образом будем бороться с нашей тенью, отвергать ее и бояться тех качеств, которые составляют нашу тень. В самом деле, чем сильнее мы (индивидуально и коллективно) отождествляем себя с любой половиной этих списков, тем больше мы будем скрывать, отрицать и подавлять противоположную половину.
Это означает, что всякий раз, когда возникают качества, которые мы отказываемся в себе признавать, – а как цельное человеческое существо мы неизбежно будем испытывать обе крайности из любой пары – тем больше будет внутреннее напряжение, которое мы испытаем. И тем больше мы будем бороться с реальностью. Если мы видим себя «честными», то скорее всего действуя «нечестно», будем это отрицать. Если мы «заботливые», мы проигнорируем момент, когда будем «эгоистичны». Если мы считаем себя оптимистичными и счастливыми, мы, естественно, будем отталкивать печаль, депрессию или другие негативные настроения, полагая при этом, что «со мной, наверное, что-то не так».
И, разумеется, если мы видим себя эффективными, самодостаточными, жесткими, стойкими и сильными, нам будем трудно принять переживания, возникающие тогда, когда наш мозг выживания воспринимает нас как бессильных, беспомощных и не имеющих контроля над происходящим.
Тем не менее, когда мы сильно отождествляем себя с одной из сторон любой пары, не признаваемая нами другая сторона скорее всего будет контролировать нас, и часто неосознанно. Как говорится, чем упорнее сопротивляешься, тем упорнее это существует.
Испытываем ли мы стресс или травму во время сложных или угрожающих жизни событий, на самом деле не зависит от нашего мыслящего мозга. Потому что нейроцепция – это компетенция мозга выживания. Таким образом, стресс и травма никогда не имеют прямого отношения к оценкам и суждениям нашего мыслящего мозга о том, являются ли события «стрессовыми» или «травматическими» или же нет.
Однако стресс и травма, которые мы переживаем, почти всегда косвенно связаны с оценками и суждениями нашего мыслящего мозга. Почему? Потому что, когда суждения мыслящего мозга не согласуются с нейроцепцией мозга выживания, тем самым создается почва для конфронтации между ними. Это внутреннее разделение всегда усугубляет стресс и травму в нашей системе ум – тело.
Всякий раз, когда наш мыслящий мозг допускает и принимает только некоторые угрожающие жизни или трудные события, или некоторые эмоции – обычно те, которые согласуются с нашим образом себя, – отрицая при этом остальные угрожающие жизни или трудные события, которые мы фактически пережили, и остальные эмоции из всего человеческого репертуара, мы тем самым создаем внутреннее разделение.
То, что наш мыслящий мозг не хочет сознательно признавать внутри себя «слабые», «тонкие» или «иррациональные» эмоции, не означает, что у нас их не будет. Наш мозг выживания, безусловно, по-прежнему будет генерировать эти эмоции. На самом деле все эмоции в тот или иной момент будут возникать внутри нашей системы ум – тело, потому что весь спектр человеческих эмоций – это врожденная часть нашего человеческого устройства. Однако всякий раз, когда наш мыслящий мозг отказывается признать эмоции, которых он не хочет, мы тем самым закрепляем отношения конфронтации. В процессе этого мы сами выходим за пределы нашего «окна» и создаем аллостатическую нагрузку. И чем дольше это будет продолжаться, тем больше симптомов дисрегуляции мы будем испытывать.
Так как же фактически проявляется противоборство между мыслящим мозгом и мозгом выживания – когда одно качество признается, в то время как противоположное отвергается?
Чаще всего мы пытаемся отвлечься, отрицать, подавить, компартментализировать, игнорировать, избегать, самостоятельно лечить или замаскировать то качество, которое мы отказываемся признавать – и ту боль, которая приходит вместе с ним. Наш мыслящий мозг не хочет сосредотачиваться на боли. Вместо этого он старается фокусироваться на будущем – жизненных целях, которых мы когда-либо добьемся, богатстве и славе, которые мы заработаем, добре, которое мы накопим, прекрасном теле, которое мы вылепим, следующем высоком положении в карьере, отношениях, которые мы создадим, или на списке того, что надо обязательно сделать, прежде чем умрешь.
Проблема в том, что наш мозг выживания, нервная система и тело не склонны сотрудничать с этой стратегией мыслящего мозга по игнорированию нашей более ранней боли, надругательств, стресса или травмы.
Возможно, вы заметили определенную тенденцию в рассказах Грега, Тани, Тодда и моих историях. Мы с Таней, как правило, справлялись с нашими стрессом и травмой, интернализируя[19] их: я бросилась в компульсивное переутомление, а Таня пыталась перебить свою боль экстремальным ограничением калорий и чрезмерными физическими упражнениями. У нас обеих также развились интернализирующие психологические расстройства – в моем случае, ПТСР и депрессия; у Тани – анорексия.
В противоположность нам, Грег и Тодд, как правило, справлялись со своими стрессом и травмой, экстернализируя[20] их: Грег получал вброс адреналина благодаря сделкам с высокими ставками и интрижкам, пройдя на этом пути через череду неудачных браков, а Тодд получал свой адреналин через агрессивное вождение, злоупотребление алкоголем и насилие.
Тем не менее мы все четверо делали одно и то же – открещивались, подавляли, компартментализировали, принимали само-назначенные лекарства и подавляли наш стресс и травмы, следуя копинг-стратегиям, в которых наш мыслящий мозг мог более или менее чувствовать, что он что-то контролирует. Каждый из нас по-своему полагался на социально приемлемые выходы из ситуаций и стратегии преодоления, которые не угрожали бы нашей самоидентификации.
Этот паттерн – когда женщины интернализируют, а мужчины экстернализируют – довольно распространен в нашей культуре.
В нашей культуре (как и во многих других) девушек и женщин учат «не гнать волну», так как гнев не является подходящей эмоцией для женщины. Хотя женщины испытывают гнев так же часто, как и мужчины, исследования показывают, что после этого женщины испытывают больше стыда и смущения. Подчеркивая, насколько это социально неприемлемо, женский гнев чаще называют «стервозным», «враждебным», «агрессивным» и «скандальным». Когда женщины злятся, они также чаще плачут и испытывают беспокойство, потому что считается, что грусть и страх – это наиболее подходящая для них эмоциональная территория. Неудивительно поэтому, что мы вынуждены прятать свою боль внутри, подавляя ее во имя «мира любой ценой», делая то, что фактически вредит нам, и проявляя обусловленные интернализацией расстройства, которые женщины несоразмерно испытывают в нашем обществе, включая депрессию, беспокойство, синдром самозванца[21], расстройства пищевого поведения и аутоиммунные заболевания.
И наоборот, мальчиков и мужчин учат быть амбициозными и агрессивными, а также что страх и грусть являются неуместными эмоциями. Нас всех учат, что тестостерон программирует мужские тела на агрессию – и что травля на детской площадке, сексуальные домогательства, издевательства, а также домашнее насилие – все это можно аккуратно списать с обоснованием, что «мальчики всегда остаются мальчиками». «Сильные» мужчины не бывают уязвимы или подавлены и не боятся, особенно когда они могут экстернализировать эту боль, перенося ее на других, ловко сманеврировав в позицию собственной грандиозности, превосходства или агрессивности.
Однако за всем этим лежит непризнаваемая боль, стыд, страх, грусть или неадекватность. Неудивительно, что мужчины вынуждены переносить свою непризнаваемую ими боль на других – таким образом внося свой несоразмерный вклад в насилие в нашем обществе, занимаясь тем, что дает им адреналин и чувство риска, и проявляя обусловленные экстернализацией расстройства, которые мужчины в основном испытывают в нашем обществе, – интермиттирующее эксплозивное расстройство (ИЭР; т. е. приступы ярости), синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), алкоголизм и токсикомания.
Независимо от пола, люди, которые считают себя успешными, способными, жесткими, сильными и стойкими, как правило, не признают свою травму. Почему? Потому что травма – это тень этих самоидентифицированных качеств. Это их противоположность – беспомощность, уязвимость, слабость, бессилие и отсутствие контроля – как раз то, что характеризирует травму. Эта динамика наиболее ярко проявляется у мужчин, потому что в нашей культуре для человека, признавшего, что он утерял силу воли, это обычно означает и то, что он потерял и мужественность.
Кроме того, мы участвуем в коллективном лицемерии: проповедуя, что здоровье, отношения, семья, община и «баланс между работой и жизнью» важны, мы одновременно превозносим и восхищаемся людьми с несбалансированным поведением.
Тем не менее все мы, как мужчины, так и женщины, воспитаны культурой и обществом так, чтобы отдавать предпочтение, ценить и отождествляться с «мужскими» чертами в ущерб «женственных». Эта полярность проявляется в нескольких измерениях: сильный по сравнению со слабым, рациональный по сравнению с эмоциональным, могущественный по сравнению с бессильным, преступник по сравнению с жертвой, самообеспеченность по сравнению с нуждой, контролирующий по сравнению с контролируемым. Мы также наблюдаем эту полярность в своем коллективном противопоставлении разума с телом, «испытывать стресс» против «пережить травму».
Психотерапевт Терри Рил называет это «великим разделением», где первая половина каждой из этих пар характеризуется как «мужская», а вторая половина – как «женская». Однако в культурном смысле отношения между этими двумя половинами не равны. Скорее «мужская» относится к «женской» пренебрежительно, как к второсортной.
Поскольку все мы боремся с такой полярностью, оба пола склонны отрицать свою боль и выражать ее вместо этого через повышенную физическую симптоматику; этот процесс называется соматизацией. Большой массив эмпирических исследований, особенно среди ветеранов боевых действий и переживших детскую и / или сексуальную травму, связывает соматизацию с подавлением эмоций, стресса и травм. Эта подавленная боль окольными путями проявляется через различные физические заболевания, хронические боли, болезни желудочно-кишечного тракта, проблемы со спиной, со сном и через ряд других физических симптомов. Есть данные, что соматизация также связана с суицидальным поведением. Мы видим свидетельства соматизации у Грега, Тани, Тодда и в моей истории.
Люди, работающие в условиях высокого стресса или занимающие высокие ответственные посты особенно склонны к выражению своего горя или истощения посредством соматизации, поскольку считают, что получат меньше насмешек и социального осуждения за то, что обратились за помощью по поводу физических проблем, чем если обратятся за помощью со своими психологическими или эмоциональными проблемами. Возможно, самым показательным исследованием подобной социальной тенденции для условий повышенного стресса было исследование 2003 года с участием солдат 82-й воздушно-десантной дивизии за две недели до их вторжения в Ирак. Несмотря на сходные показатели ПТСР, солдаты с боевым опытом и без него выражали свой стресс по-разному. По сравнению с солдатами-новичками, ветераны справлялись с напряжением в связи с предстоящей переброской, в основном блокируя эмоциональные проявления – такие как беспокойство, раздражительность, депрессия и суицидальные мысли – и одновременно они сообщали о большем количестве физических признаков, таких как хроническая боль, головокружение, обмороки, головные боли, боли в груди, проблемы с пищеварением, бессонница и трудности сексуального характера.
Рынки, супергерои и современная наука
До сих пор мы видели, что обычная «подходящая» реакция на стресс и травму – это «смирись и двигай дальше», то есть отрицать, игнорировать, маскировать, отвлекаться, подавлять, самозалечивать как стрессовые, так и травматические события, а также возникающую в результате этого дисрегуляцию.
Мы склонны приравнивать отрицание к упорству, настойчивости и жесткости. Особенно в преимущественно мужской среде превалируют стоицизм и плотно сжатые губы. Мы уважаем «ходячих раненых» и спортсменов, которые «играют с травмой». Людей, которые «воюют дальше» вместо того, чтобы дать своей боли, травме или беде «доконать их».
Эти бессознательные нормы и привычки очень сильны в нашем обществе. На самом деле группы склонны тиражировать индивидуальную динамику. Как отдельные люди склонны не принимать собственную травму, так же ее не принимают и группы.
Когда группа игнорирует травму, это, к сожалению, создает условия для того, чтобы еще больше людей были травмированы, а также закрепляет культурное давление на них, заставляя их продолжать отрицать собственные травмы.
В нашей культуре мы коллективно склонны оценивать себя – и других людей – как сумму наших достижений, осязаемых творений, изобретений и «добавленной стоимости» на наше рабочее место или сообщество. Соединенные Штаты процветают как свободная рыночная экономика, и поскольку рынок придает большое значение производительности, эффективности, скорости, настойчивости, жесткости, богатству и достижениям – мы тоже так делаем. Капитализм также подпитывает в обществе двойные стандарты: он, как правило, ценит и стимулирует производительность и достижения, при этом отрицая, игнорируя и стараясь не замечать многие издержки и последствия этих достижений.
Все мы, как мужчины, так и женщины, воспитаны культурой и обществом так, чтобы отдавать предпочтение, ценить и отождествляться с «мужскими» чертами в ущерб «женственных».
Мы видим работу этой динамики в том, как большинство акционеров и Уолл-стрит стимулируют динамику рынка – например тем, как они вознаграждают корпоративных лидеров исключительно «по итогам», игнорируя при этом «факторы внешнего порядка», сопровождающие эти результаты, а именно низкий моральный дух, неэтичное поведение, заболевания среди сотрудников, связанные со стрессом, небезопасные условия труда, культивирование домогательств и дискриминации, пагубные последствия для окружающей среды. (В экономике «факторы внешнего порядка» – это издержки, затрагивающие людей или планету, воздействие которых те не выбирали по своей воле.) Например недавние исследования показывают, что токсичные, неэтичные работники дольше остаются в компании и более продуктивны, по крайней мере с количественной точки зрения объемов их труда, что, вероятно, объясняет, почему их выбирают и они остаются в организациях так надолго.
Фактически концептуализация сексуальных домогательств, загрязнения окружающей среды или токсичных условий труда как «факторов внешнего порядка» сама по себе является симптомом той же самой динамики. Она выстраивает свою линию таким образом, что ценит, принимает и ставит себе в заслугу один предпочтительный аспект реальности, одновременно отрицая, игнорируя и списывая со счетов другие аспекты реальности, которые естественным образом возникают одновременно с этим.
Харви Вайнштейн возглавил успешную киностудию, которая вывела на экран сотни блокбастеров и одновременно был обвинен в более чем восьмидесяти изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Эрик Шнейдерман – бывший прокурор, которого превозносили как борца с мошенничеством в корпорациях и коррупцией, и одновременно – человек, который ушел в отставку после обвинений в алкоголизме и сексуальном насилии. Дэвид Петреус, который однажды сказал журналистам, что «редко испытывает стресс вообще», – это бывший директор ЦРУ и отставной генерал, широко известный за разработку американской стратегии «всплеска» в Ираке и Афганистане, а также человек, который сознательно сливал секретную информацию своей любовнице.
Со времен движения #MeToo многие обозреватели выступали за разграничение между «художником» и «искусством» – стараясь сконцентрировать наше внимание исключительно на конечном продукте человека, который тот производит, тем самым оставляя вне нашей коллективной оценки его проступки и грехи. Проблема такого разделения состоит в том, что мы на самом деле цельные, а не раздробленные существа, и способны соединять в себе как творческого гения или мужественного руководителя, так и выбирать оскорбительное, жестокое, извращенное, подверженное пагубным зависимостям, неэтичное поведение.
Наша мифологизация индивидуализма также способствует усилению норм разделения и отрицания. Безусловно, индивидуализм глубоко встроен в фундаментальные структуры американской системы управления и соответствующее уважение ими индивидуальных прав. Особенно после Вьетнамской войны и движения за гражданские права мы также наблюдаем рост меритократических[22] принципов в нашей системе образования и на рабочих местах.
Постепенно мы пришли к концепции жизни как пути, на котором мы культивируем индивидуальные навыки и таланты, собираем достижения и совершенствуем наши резюме. Этот миф об индивидуалистической меритократии создает преувеличенный акцент на IQ, оторванный от остальных качеств. Мы подчеркиваем нашу автономию, самодостаточность и независимость, ослепляя себя этим, чтобы не видеть, что мы на самом деле включены в сообщества. При нашем искаженном внимании к индивидуальным правам граждан мы забываем, что они также связаны и с ответственностью.
Этот миф об индивидуализме проявляется также и в наших культурных артефактах. Со времен «Одиссеи» Гомера западная цивилизация изобилует историями о героическом человеке – самодостаточном герое, обычно человеке, чьи акты служения, жертвенности и успеха проистекают из его изоляции (или отчуждения) от основного общества. Вспомните Кларка Кента, Брюса Уэйна и Питера Паркера[23], супергероев, которые спасли свои сообщества, изолировав себя от них. Или архитектор Говард Роарк из «Источника», либертарианский образец Айн Рэнд. Или Джеймс Бонд – одинокий рейнджер. Классический американский ковбой. Это волевые, жесткие, рациональные, основательные, мужественные мужчины.
В нашей культуре мы коллективно склонны оценивать себя – и других людей – как сумму наших достижений, осязаемых творений, изобретений и «добавленной стоимости» на наше рабочее место или сообщество.
Наконец, эти нормы компартментализации также появились и в современном научном методе. Рене Декарт, Исаак Ньютон и другие ученые и философы показали, что математика является не только воплощением чистого разума, но и наиболее заслуживающим доверия знанием. Нам известно знаменитое восклицание Декарта: «Я мыслю, следовательно, я существую». Иными словами, Декарт предполагал, что мышление является главной отличительной чертой существования – и что человек может познать все путем размышления и логики.
Эти мужчины приравняли «объективную» реальность к концептуальному пространству, в котором можно получить измеримые результаты. Подобный приоритет выраженной в количественной форме информации подразумевал, что явления, которые не поддаются измерению – например инстинкт, интуиция, эмоции, мечты, контекст – не могут содержать в себе надежной информации. В основе данного мировоззрения лежит вера в то, что мир постижим, что есть объективная реальность, которую мы можем постичь, имея достаточное количество данных, измерений и / или анализа.
Эти культурные убеждения образовали дуальность между разумом и телом, субъектом и объектом, осознанием того, что «здесь» в противоположность вещам «там». Эта дуальность проявляется в нашем культурном предпочтении знания, полученного в результате «рационального» мышления и «объективной» информации – а не инстинктивно, из эмоций, воображения, сопереживания и других «субъективных» источников. На самом деле, хотя я буду полагаться на эмпирические данные и научные исследования и делиться ими с вами в данной книге, я прямо увязываю эту «объективную» информацию со своим «субъективным» пережитым опытом, потому что сами по себе наука и эмпирические исследования никогда не дают полного понимания.
Мы по-прежнему видим, как сегодня работает картезианская парадигма[24]. Она является культурной основой нашего относительного пренебрежения к эмоциональным или физиологическим аспектам знания – а также к нашему телу, ощущениям и эмоциям. Даже сегодня мы видим это в нашем коллективном предпочтении того, что «знает» наш мыслящий мозг, а не того, что «знает» наш мозг выживания.
Все эти культурные устои, вместе с нашей привычкой отрицать нашу тень, усиливают противоборство между нашим мыслящим мозгом и мозгом выживания.
Сами по себе
Нас научили видеть себя личностями, абсолютно самостоятельными, независимыми от воспитания, наших сообществ и друг друга.
Нас научили отождествлять понимание с нашим мыслящим мозгом – и в процессе, соответственно, обесценивать входные данные от нашего мозга выживания. Нас научили не отождествлять себя с результатами нашего выбора и с его влиянием как на нашу собственную систему ум – тело, так и на окружающих людей. Нас научили, что стресс, травма, беспокойство, депрессия, несчастье и боль – это просто «побочные эффекты делания бизнеса». Нас научили, что успех или неудачи есть результат исключительно наших собственных усилий.
Этот неравный диалог между мыслящим мозгом и мозгом выживания широко распространен в нашем обществе. Мы вынуждены слушать и верить только тем данным, которые получили от мыслящего мозга – как нашего собственного, так и других людей – и принимать решения на их основе. Мы поглощаем сюжеты и истории от мыслящих мозгов членов нашей семьи, друзей, учителей, тренеров, боссов, знаменитостей, СМИ, рекламы и новостей.
Мы также в значительной степени полагаемся на техники и методы лечения и терапии, основанные на доминировании функций мыслящего мозга. Эти методы направлены на то, чтобы помочь мыслящему мозгу чувствовать себя более контролируемым. Однако они также пытаются обесценивать, игнорировать, или же «управлять» и «исправлять» данные, поступающие из мозга выживания, включая наши эмоции, физическую боль и стрессовую активацию. В нашем обществе мы часто сопровождаем техники доминирования мыслящего мозга приемом рецептурных лекарств – или самолечением через употребление определенных видов пищи или других веществ – которые маскируют и минимизируют симптомы дисрегуляции.
Некоторые популярные методы и способы лечения, основанные на доминировании мыслящего мозга, включают в себя традиционную «разговорную» терапию и групповую терапию; когнитивно-поведенческую терапию (КПТ) и когнитивно-процессуальную терапию, кузину КПТ, лидирующую в клиниках, где лечатся ветераны США; а также спортивную психологию и различные методы позитивной психологии, включая постановку целей, «расширение и создание» положительных эмоций и позитивную психологию «на основе сильных сторон». Все эти методы опираются на стратегии, в которых доминирующая роль принадлежит мыслящему мозгу: использование мыслей для пересмотра и переосмысления ситуации. Нахождение позитива в ситуации. Сосредоточение внимания на благодарности, внутренних сильных сторонах и других положительных качествах. Сознательная культивация положительных эмоций. Мысленная подготовка к будущим ситуациям с визуализацией и репетициями. Сосредоточение внимания на будущих целях и разработка планов их достижения.
Адаптивные программы, широко применяемые в американской армии и других организациях с высоким уровнем стресса, в значительной степени основаны на этих методах с доминированием мыслящего мозга. Однако неудивительно, что на сегодняшний день ни одна из них не показала своей эмпирической эффективности по снижению дисрегуляции или негативных эмоций. В более поздних главах я объясню почему. Тем не менее, если человек не в состоянии эффективно отрегулировать свой стресс и негативные эмоции с помощью подобных методов, существует вероятность, что он интернализирует такую неэффективность как проблему, что «с ним что-то не так». В этом случае он, вероятно, удвоит социально приемлемые стратегии решения проблем, которые лишь увеличат аллостатическую нагрузку и усилят противоборство между мыслящим мозгом и мозгом выживания.
Тем временем наш мозг выживания все еще там, на задворках – подпитывает наши зависимости, разрушает наши отношения неверностью и трудоголизмом, вносит хаос в питание, подсаживает на чрезмерное потребление тех или иных веществ, причиняет ущерб телу слишком большими физическими нагрузками или их недостаточностью, заставляет участвовать в том, что даст нам достаточный выброс адреналина или причинит вред, экстернализируя нашу бессознательную боль на окружающих людей посредством нашего жестокого, оскорбительного, неэтичного или агрессивного поведения.
И после того, как наш мозг выживания берет верх и вздергивает поведение таким образом, мы обычно чувствуем стыд и вину, погружаясь в самокритику и самоосуждение.
Но разве это не другая сторона все той же монеты? Если мы настаиваем на том, чтобы единолично присвоить себе всю заслугу за какие-либо наши достижения, успехи, творческую работу или триумф, не требуется ли нам точно так же взять на себя всю вину за наши трудности, несовершенства, зависимости, физические и психологические заболевания, ожирение, проблемы отношений и неудачные решения? Если мы рассматриваем себя как существующих сами по себе – считая, что наши мысли, эмоции, боль, поведение и выбор полностью зависят от нас – разумеется, наш мыслящий мозг будет чувствовать себя плохо всякий раз, когда мы неизбежно проявляем свои человеческие несовершенства.
Основная причина, по которой мы обесцениваем, отрицаем, пытаемся отвлечься, компартментализируем или «разумно» объясняем, маскируем или экстернализируем ту часть нас, которая не встраивается в наш образ себя – в том числе и то, что мы «травмированы» или «испытываем стресс», – состоит в том, что мы верим, что эти вещи как-то плохо отразятся на нас. Мы не хотим иметь травмы, негативные эмоции, зависимости, физические или психологические заболевания, а также неадекватное поведение. Мы полагаем, что «я не должен так себя чувствовать» или что «со мной, наверное, что-то не так». Лично я именно так и полагала.
К счастью, эти убеждения мыслящего мозга не соответствуют действительности. Самое интересное в этом неравном диалоге между мыслящим мозгом и мозгом выживания в отношении стресса и травмы состоит в том, что, хотя мы склонны больше слушать свой мыслящий мозг, наш мозг выживания на самом деле гораздо лучше осведомлен относительно этой конкретной темы. Помните, что нейроцепция – это действие мозга выживания. Мозг выживания всегда лучше знает о том, находимся ли мы в стрессе, травмированы ли мы или дисрегулированы. Еще важнее то, что, как вы увидите из последующих глав, мозг выживания контролирует, восстанавливаемся ли мы после стресса и травмы. Таким образом, методы, основанные на доминировании мыслящего мозга, всегда будут недостаточными.
Адаптивные программы, широко применяемые в американской армии и других организациях с высоким уровнем стресса, в значительной степени основаны на методах с доминированием мыслящего мозга.
Именно поэтому понимание того, как устроена и взаимодействует наша система ум – тело, может быть чрезвычайно полезно. Наши системы ум – тело созданы для связи с другими. Мы интегрированы в отношения в наших семьях, районах, школах и на рабочих местах – так же, как нация встроена в отношения с другими нациями, в глобальную экономику и международные институты. Эти взаимозависимые сети поддерживаются планетой и ее ресурсами. В свою очередь, наши решения и выбор влияют на всю эту взаимосвязанную систему.
Важно, что мы не создавали всю эту структуру взаимосвязей – все это, конечно, не появилось в результате наших собственных усилий. Наша система ум – тело формировалась через неоднократные взаимодействия со средой, особенно с людьми, близкими к нам в детстве. С помощью этих связей мы разработали наши привычные стратегии общения с другими, переживая невзгоды и справляясь со стрессом, травмой и негативными эмоциями. Например, различные копинг-стратегии, которые применяли Грег, Таня, Тодд и я, были результатом наших соответствующих условий жизни – и стратегий, которые по определению были адаптивными, потому что они позволили нам выжить.
Поэтому сегодня, когда кто-то из нас испытывает стресс, травму, негативные эмоции, пристрастия, «иррациональные» побуждения или импульс сделать выбор, влекущий за собой насилие или вред, это в действительности не что иное, как воспроизведение наших прошлых условий существования. Это ничего не говорит о том, какие мы на самом деле.
В Части II рассказывается о научных данных, лежащих в основе концепции «окна» – как наше «окно» толерантности к стрессовым воздействиям формируется изначально и как оно сужается со временем. Я хочу помочь вашему мыслящему мозгу лучше понять и проявить эмпатию по отношению к вашему мозгу выживания – тому, что он делает и почему – чтобы вы могли лучше интерпретировать его подсказки. Понимая, каким образом стресс и травма образуют континуум, мы сможем увидеть, как мы можем обесценивать вещи, которые являются чрезвычайно стрессогенными для мозга выживания, в то время как для мыслящего мозга «все не так уж плохо». Как мы можем не ставить в приоритет восстановление, поскольку мы изначально обесценили источник стресса или травмы. И как мы можем упустить точки приложения влияния, в которых у нас есть реальная свобода выбора пойти по пути восстановления и оздоровления.
Вместо самосовершенствования самый прямой путь к лучшему самочувствию, благоденствию в период стресса или травмы, а также к возможности принимать эффективные решения – это, на самом деле, самоосознание.
Часть II
Наука в основе «окна»
Глава 3
Большой Каньон системы ум – тело – нейропластичность и эпигенетика
Около 115 лет назад американские вооруженные силы стали первой организацией в стране, которая признала необходимость организованной физической подготовки (ФП). Задолго до того, как ученые осознали и задокументировали подобную необходимость, военные интуитивно поняли, что физически подготовленные войска будут иметь определенные преимущества – сила, выносливость, подвижность повысят отдачу как отдельных людей, так и боевых подразделений во время военных действий.
Первые официальные программы физподготовки в США – внедренные в военных и военно-морских академиях США – были разработаны в 1880-х годах. Программа физподготовки Уэст-Пойнт быстро набрала обороты и была внедрена во всей армии к началу 1900-х годов; в 1906 году армия повсеместно ввела требования в отношении программ физподготовки как для гарнизонных, так и для негарнизонных войск, и ввела также ежегодный трехдневный тест на выносливость для оценки соответствия. Хотя армейское командование в целом выступало против подобного нововведения, начальник штаба армии обратился за поддержкой к президенту Теодору Рузвельту. Будучи сильным сторонником физической подготовки, Рузвельт издал указ, в соответствии с которым все офицеры армии должны проходить ежегодное испытание на выносливость, а затем сам подал пример, превысив стандартные нормативы испытания.
После того, как американские военные официально утвердили программы физподготовки, в ходе организации маневров перед обеими мировыми войнами они поняли, что большинство призывников не дотягивают до стандартных нормативов ФП. Таким образом, военная подготовка во время обеих мировых войн в значительной степени была сосредоточена на развитии физической выносливости среди призывников. Одновременно федеральное правительство приняло законодательство, направленное на повышение уровня ФП в государственных школах, и в экспериментальном порядке внедрило общеобразовательную учебную программу по физподготовке в младших и старших классах средней школы. Кульминацией этой широкой общественной кампании по внедрению фитнеса в широкие массы стало создание президентского Совета по физической культуре во времена администрации Кеннеди. Кроме того, ряд организаций, таких как Американская медицинская ассоциация и Американский колледж спортивной медицины, поставили перед собой задачу распространять научные исследования и информировать общественность о последствиях низкого уровня физподготовки для здоровья. Иными словами, раннее внедрение физподготовки в армии помогло стимулировать физическое воспитание в государственных школах, а также подстегнуло научные исследования в области физической активности.
В результате в настоящее время в обществе существует широкое понимание того, в чем состоит преимущество физической активности и фитнеса и как ими заниматься. Мы знаем, что определенные упражнения при регулярном повторении могут производить определенные, обусловленные тренировкой мышечные, дыхательные и сердечно-сосудистые изменения в организме. Мы также знаем, что если хотим получить определенные изменения в теле, мы не можем всего лишь поговорить с тренером или прочитать книгу об этом. Мы должны реально делать физические упражнения, неоднократно и последовательно, неделями или месяцами. Никто не может сделать это за нас – мы должны быть достаточно целеустремленными, чтобы заниматься этим самостоятельно. И если мы сходим с дистанции регулярных упражнений, то обычно понимаем, что скорее всего столкнемся в дальнейшем с мышечной и сердечно-сосудистой деградацией.
Однако даже когда мы делаем определенные упражнения регулярно, конечная цель заключается не просто в том, чтобы начать умело их выполнять. Цель состоит в том, чтобы обрести те черты, которые мы можем использовать в нашей жизни: силу, выносливость, подвижность и хорошую реакцию. Тело, натренированное, например, силовыми упражнениями с поднятием веса, больше способно нести тяжелый рюкзак на значительные расстояния, поднять упавшую верхушку дерева, чтобы высвободить из-под нее кого-то, или вытолкнуть транспортное средство, застрявшее в грязи, обратно на тротуар. Аналогичным образом физическая подготовленность обладает и защитной функцией. Она помогает нам быстрее восстановиться после физических нагрузок или травм.
Та же динамика существует и для тренировки выносливости мозга. Точно так же, как ФП полагается на повторение упражнений для создания особых изменений в организме, фитнес-тренировки для мозга также представляют собой специальные регулярные занятия для создания изменений в мозге и нервной системе. Таким образом, при постоянных тренировках, упражнения на выносливость разума приводят к важным изменениям, одновременно преобразуя вредные последствия от предыдущих продолжительных стрессов и травм, прошедших без адекватного восстановления. Этот процесс «перезаписи» основан на подкрепленных множеством доказательств теориях нейропластичности и эпигенетики – основной темы этой главы, – которые показывают, как повторяющиеся переживания изменяют экспрессию мозга, тела и генов.
Тело, натренированное, например, силовыми упражнениями с поднятием веса, больше способно нести тяжелый рюкзак на значительные расстояния, поднять упавшую верхушку дерева, чтобы высвободить из-под нее кого-то, или вытолкнуть транспортное средство, застрявшее в грязи, обратно на тротуар.
Но точно так же, как и с фитнесом физическим, мы не можем просто читать или думать о фитнесе умственном; мы должны отрабатывать упражнения. Как и в случае с физподготовкой, цель фитнес-тренинга ума состоит не в том, чтобы стать асом в их выполнении, а в том, чтобы развить такие способности, которые мы можем использовать каждый день – внимание, умственную гибкость, ситуативную осведомленность, саморегуляцию, оптимизацию мышления и эмоциональный интеллект. Фитнес ума также обладает защитной функцией: натренированный разум скорее не даст сузиться «окну» в сложных ситуациях и поможет полному восстановлению после них, при этом уменьшая вероятность психологической травмы, а также расширяя «окно» для вероятного будущего стресса.
Нейропластичность: культивируем «большой каньон» в нашей системе ум – тело
До конца 1990-х годов нейробиология занимала относительно пессимистичную позицию по отношению к человеческому мозгу взрослого человека. Преобладала догма, согласно которой к тому времени, когда мы достигаем совершеннолетия, мы в значительной степени уже окончательно имеем тот мозг, который развили к тому моменту. Считалось, что взрослый мозг уже не способен вырастить новые клетки мозга (называемые нейронами) или создать новые сети между этими нейронами (так называемые нейронные сети) после серьезной травмы или дегенеративного заболевания. Другими словами, считалось, что взрослый мозг обладал уже строго фиксированной структурой и функциями.
Как выясняется, данное понимание было ошибочным.
Нейробиологи теперь знают, что мозг изменяется на протяжении всей нашей жизни. Мозг постоянно образует новые нейронные связи: в ответ на наши повторяющиеся переживания с каждой сенсорной информацией от органов чувств, с каждым движением тела, сигналом подкрепления, мыслью, эмоциями, стрессовой активацией, связкой стимул – реакция. Эта концепция называется нейро-пластичностью. Так же, как и молодой мозг, взрослый мозг может восстанавливать поврежденные области, менять целевое назначение какой-то своей области, выполнявшей определенную задачу, поручив ей выполнять новую задачу, отращивать новые нейроны (это называется нейрогенез) и создавать новые нейронные сети.
Например в одном часто цитируемом исследовании о нейро-пластичности изучалась память и структуры мозга лондонских таксистов. Чтобы стать лондонским таксистом, необходимо знать наизусть «Книгу Знаний», то есть расположение каждой улицы в радиусе шести миль от центра города. После нескольких лет обучения будущие таксисты должны заработать свою лицензию, демонстрируя свою способность ездить по заказам, не обращаясь к карте. Это довольно-таки трудная тренировка пространственной памяти! Вы можете себе представить, что чем дольше кто-то водит такси в Лондоне, тем более объемной становится «Книга Знаний». На самом деле исследования в области нейровизуализации, кажется, подтверждают это: у лондонских таксистов гиппокамп – т. е. та область мозга, которая отвечает за эксплицитную память, – больше, чем у других людей того же возраста и пола. Более того, чем дольше таксисты водят такси в Лондоне, тем больше меняется их гиппокамп.
Как показывает этот пример, мозг, как и остальные части тела, развивает те «мышцы», которыми он пользуется больше всего, иногда за счет других способностей. Совершая определенные ментальные процессы и повторяя их – осознанно и неосознанно – мозг становится более продуктивным в них. Со временем те области мозга, которые поддерживают определенный умственный навык, перестраивают структурные связи между нейронами, чтобы создать более эффективные паттерны нейронной активности. Как выразился канадский психолог Дональд Хебб в 1949 году: «Нейроны, которые возбуждаются вместе, вместе и связываются».
В результате участки мозга могут сокращаться или расширяться – становиться более или менее функциональными на основании любого повторного опыта. Мозг сохраняет эту способность на протяжении всей нашей жизни. Как красиво говорит об этом научный писатель Шэрон Бегли: «Сама структура нашего мозга – относительный размер разных областей мозга, сила связей между одной областью и другой – отражает ту жизнь, которую мы вели. Как и песок на пляже, мозг несет на себе следы принятых нами решений, обретенных нами навыков, предпринятых нами действий».
Интересно, что мозг можно изменить и создать новые нейронные связи даже без какого-либо вклада со стороны внешнего мира. На самом деле мозг меняется просто от повторяющихся паттернов мышления и / или хронической стрессовой активации.
Каждый раз, когда мы, например, беспокоимся о негативном событии в будущем, происходит активация миндалевидной железы – области мозга выживания, отвечающей за нейроцепцию, – бессознательный процесс сканирования угроз. Со временем, по мере того как беспокойство становится привычкой, миндалевидная железа может реально сгущаться. В свою очередь, более плотные миндалевидные железы затем становятся гиперчувствительными к беспокойству, порождая еще большее беспокойство, тем самым образуя порочный круг.
Когда я объясняю нейропластичность, я часто использую сравнение с Большим Каньоном. Надо признать, что с точки зрения геологии данная метафора не корректна, но тем не менее она ясна и убедительна. Представьте себе, что еще до образования Большого Каньона в пустыне северной Аризоны было плоскогорье. Когда шел дождь, из-за того, что поверхность была ровной и плоской, невозможно было предсказать то место, где вода будет стекать. Однако давайте представим, что в какой-то момент где-то на поверхности появляется углубление, создающее неровность, где грунт немного ниже остальной поверхности. В следующий раз, когда пойдет дождь, куда будет стекать вода? В эту впадину, конечно. По мере того, как вода стекает подобным образом, щель становится все глубже. С течением времени, из-за дождей, простое углубление становится ручейком – а затем пересохшим руслом. По мере того, как эрозия делает свое дело, пересохшее русло становится оврагом, затем ущельем. В конце концов, после множества дождей мы имеем Большой Каньон. И сегодня, когда идет дождь, вода практически не может течь куда-либо еще, кроме как в Большой Каньон. «Канавка» просто слишком глубокая. И чтобы направить поток воды куда-то еще, потребовались бы инженерный подвиг и колоссальные усилия.
Человеческий мозг состоит из многих таких каньонов – наших привычных способов восприятия, мышления, чувств, реакций и действий. Наши каньоны могут быть довольно тонкой настройки – например каждый раз заходя в комнату, мы замечаем все, что не так с ситуацией. Или они могут быть более банальными – каждый раз, чувствуя себя грустными и одинокими, мы едим печенье. Вне зависимости от конкретного сценария, каждый раз, когда мы выполняем программирование какого-то из каньонов нашего мозга, мы тем самым усиливаем его – что делает затруднительным не повторять снова этого в будущем.
Нейропластичность сводится к следующему: повторение любого опыта облегчает нам делание этого в будущем – и затрудняет неделание этого. Вот почему может быть так сложно выработать в себе новую привычку и почему требуется несколько недель целенаправленной практики, прежде чем мы увидим, что новая привычка начинает приживаться. И поэтому так трудно победить старую привычку, особенно если эту привычку запускает стресс или дисрегуляция.
Так как мозг податлив к любым повторяющимся переживаниям, нейропластичность имеет мощные последствия – как пагубные, так и благотворные. При пагубном направлении мы имеем затяжные стрессы, травмы, депрессию, тревогу и ПТСР – все это связано со снижением нашей когнитивной способности, в частности со снижением нашей способности к изучению новой информации или навыков, запоминанию и концентрации внимания.
Действительно, основным когнитивным симптомом дисрегуляции является снижение памяти, например, когда вы забываете о том, зачем зашли в комнату, или часто не можете вспомнить, куда положили ключи. Это не просто «провалы в памяти»; это могут быть признаки того, что у вас дисрегуляция. Мы видели этот эффект в главе 2 в истории с Тоддом, который часто появлялся одетым в неправильную форму и забывал выполнить задания, подрывая тем самым работу своего отряда.
Как показывает опыт Тодда, дисрегуляция может привести к структурным изменениям в гиппокампе – области мозга, связанной с эксплицитным обучением и памятью. На самом деле, визуализирующие исследования мозга показывают, что у людей с диагнозом ПТСР – включая ветеранов войны во Вьетнаме и в Персидском заливе, гражданскую полицию и выживших жертв сексуального или физического насилия – гиппокамп был заметно меньше, чем у людей того же возраста и пола, но без подобного травматического опыта.
Неоднократный опыт хронического стресса и травмы также может привести к нейропластической адаптации к стрессовым обстоятельствам. Как я уже отмечала, мозг будет развивать те «мышцы», которыми он пользуется больше всего, – иногда за счет других способностей. Например, одно крупное исследование солдат армии США показало, что те, кто служил в Ираке, демонстрировали лучшую скорость реакции в ходе компьютерных когнитивных тестов, чем солдаты, там не служившие. Однако солдаты, дислоцированные в Ираке, также показали явное ухудшение показателей пространственной памяти, речевых способностей и внимания – снижение когнитивных функций, которое сохранялось в течение более двух месяцев после их возвращения домой. Иными словами, в результате дислокации в зоне боевых действий их мозг выстроил потенциал для быстрого реагирования – функцию, наиболее необходимую для выживания в Ираке, – за счет других умственных навыков.
Нейропластичность может развиваться и в благоприятном направлении. Например военные подразделения, участвовавшие в программе ФТУО до своего боевого развертывания, заметили улучшения в устойчивости внимания и в диапазоне кратковременной памяти, даже в период напряженных учений перед переброской в место дислокации. Они также показали функциональные изменения в областях мозга, связанных с регуляцией эмоций, контролем реакций и интерцепцией (осознанием ощущений организма), которые играют важную роль в регуляции и восстановлении после стрессовой активации.
Чтобы стать лондонским таксистом, необходимо знать наизусть «Книгу Знаний», то есть расположение каждой улицы в радиусе шести миль от центра города. После нескольких лет обучения будущие таксисты должны заработать свою лицензию, демонстрируя свою способность ездить по заказам, не обращаясь к карте.
Аналогичным образом, сорок лет эмпирических научных исследований задокументировали широчайший диапазон благотворного влияния тренингов осознанности – от восьминедельных курсов тренировки осознанности до нескольких лет прохождения разносторонних практик – на нейропластичность, в том числе: улучшение внимания; снижение блуждания мыслей; бóльшая активность левой стороны префронтальной коры головного мозга – части мыслящего мозга, ответственной за позитивные эмоции; уменьшение размеров миндалевидной железы, области мозга выживания, отвечающей за нейроцепцию и чувство тревоги. Все эти исследования показывают, что неоднократный повторный опыт направления внимания определенными способами может привести к благотворным изменениям мозга.
Интересно, что в последнее время изучалась связь между полезной нейропластичностью и упражнениями для сердечно-сосудистой системы. Исследования на грызунах показывают, что добровольные занятия способствуют отрастанию новых нейронов в гиппокампе и помогают им образовать связи с уже существующими нейронными сетями.
Люди тоже испытывают подобные нейропластические благотворные ощущения от добровольных физических упражнений. Исследования среди пожилых людей показывают, что повышение физической активности и кардиореспираторной нагрузки улучшает оксигенацию мозга, вырабатывает более здоровые паттерны мозговой активности, приводит к увеличению объема серого вещества в префронтальной коре головного мозга и гиппокампе – областях мозга, участвующих в исполнительном функционировании и эксплицитной памяти.
Например, когда пожилые люди были случайным образом распределены для участия в годовых программах ходьбы и стретчинга[25], у людей, занимавшихся ходьбой, был отмечен рост гиппокампа, в то время как у людей, занимавшихся стретчингом, – нет. Занимавшиеся ходьбой также лучше выполняли когнитивные тесты и имели более высокий уровень нейротрофического фактора головного мозга (BDNF), который способствует повышению нейрогенеза и укрепляет связи между нейронами. Аналогичное исследование с детьми показывает бесспорную связь между физическими упражнениями и улучшениями когнитивных способностей, включая перцептивные навыки, IQ, словесно-логические тесты, математические тесты, тесты на память и успехи в учебе.
Нейропластические последствия большого каньона
Нейропластические последствия будут возникать при любом повторяющемся опыте – это закон природы. Во многом выбор, к каким последствиям, вредным или благоприятным, обратиться, зависит от нас. Поскольку большинство из нас проводят большую часть своей жизни на автопилоте, мы тем самым фактически выбираем, чтобы наши подсознательные привычки и паттерны руководили нашими повторяющимися переживаниями.
Важно, что все повторяющиеся паттерны наших привычек – включая такие привычки мыслящего мозга, как беспокойство, компульсивное планирование, фантазии, сравнение себя с другими – оказывают существенное влияние на функцию и структуру нашего мозга.
Есть несколько общих «больших каньонов», о которых мы можем сказать, что «они не настолько плохи», но которые на самом деле имеют очевидные пагубные последствия для союзнических отношений между нашим мыслящим мозгом и мозгом выживания. Первый «каньон» – это блуждание мыслей. Неудивительно, что значительное количество эмпирических исследований демонстрирует, что блуждание мыслей влечет за собой ошибки внимания и снижение производительности. Особенно в профессиях с высоким уровнем стресса – где человеку может потребоваться пробираться через толпу, чтобы определить местонахождение возможного террориста, или необходимо заметить тончайшую перемену ветра, могущую свидетельствовать о том, что картина лесного пожара вот-вот изменится – ошибки внимания могут быть даже смертельно опасны. Ошибки внимания также могут повлиять на нашу способность получать доступ к информации, поступающей в реальном времени, и делать выводы на основе нее, тем самым подрывая нашу способность корректировать свое поведение или своевременно принимать корректирующие меры.
Военные иногда говорят мне: «Да ладно, я могу отвлекаться и так и сяк, пока я еду на работу или пока я в расположении части, но если начнется «попадалово», когда я буду в патруле за бугром, я буду весь внимание». Однако нейропластичность говорит нам, что произойдет нечто совсем другое. Да, возможно, во время своего первого дежурства они будут сверхбдительны, поскольку адреналин будет помогать им держать фокус. Но после того как в обычной жизни они раз за разом усиливали автопилотный режим по умолчанию, высока вероятность, что после нескольких дней патрулирования одной и той же деревни их ум расслабится и вновь перейдет в режим автопилота. Чем больше мы подкрепляем режим автопилота, тем скорее будет возникать «блуждание мыслей» – даже в ситуациях, когда концентрация внимания исключительно важна.
Более того, даже если от концентрации нашего внимания в повседневной жизни не зависят чьи-то жизнь или смерть, привычное блуждание в мыслях имеет свои довольно плачевные последствия для нашего мозга выживания. Нейробиологи Мэттью Киллингсворт и Даниэль Гилберт создали приложение, которое в произвольные моменты времени связывалось с участниками эксперимента посредством неожиданно всплывающих на их смартфонах контрольных проверочных вопросов; необходимо было ответить, что они в данный момент делают, какое у них настроение, блуждают ли они сейчас в своих мыслях. Их исследование 2250 взрослых американцев, каждый из которых получил по пятьдесят внезапно всплывающих контрольных вопросов, показало, что блуждание мыслей – довольно распространенное явление, вне зависимости от того, чем занимается человек. Во время эксперимента 47 % заявили, что не думают о том, чем в данный момент занимаются. Удивительно, но род деятельности человека никак не влиял на то, блуждает он в мыслях или нет – в любой деятельности (за исключением занятия любовью) по меньшей мере 30 % заявили, что не думают о том, чем в данный момент занимаются. И вот что действительно интересно: люди говорили, что чувствуют себя менее счастливыми, когда их ум блуждает где-то, чем когда их ум был полностью сконцентрирован на деле, даже если оно было неприятным.
Удивительно то, что это оставалось правдой вне зависимости от того, в какую сторону блуждал разум! Конечно, легко понять, если кто-то, чей разум блуждал в чем-то неприятном – например в беспокойстве – чувствовал себя более несчастливым, чем тот, чей разум концентрировался на деле. Но по сравнению с теми, чей ум был сконцентрирован на своем деле, люди по-прежнему сообщали о том, что они были несчастнее, если их разум блуждал в чем-то приятном, например в фантазиях или счастливых воспоминаниях.
В целом, то, о чем люди думали в момент всплывающих вопросов, было лучшим показателем их настроения, чем то, что они делали. Предыдущие исследования показывали, что негативные настроения вызывают блуждание ума, но это исследование говорит о том, что блуждание ума также вызывает негативные настроения. Как вам такой порочный круг?
Вторая распространенная привычка мыслящего мозга, которая работает против союзнических отношений между мыслящим мозгом и мозгом выживания, – это «многозадачность». Я заключила это в кавычки, потому что наш мозг может по-настоящему многозадачно работать только при высокоавтоматизированных моделях поведения, таких как – вы уже наверняка догадались – ходьба и одновременное жевание жвачки. Для деятельности, требующей внимания мыслящего мозга, на самом деле не существует такой вещи, как многозадачность – вместо этого мы на самом деле переключаем и разделяем наше внимание. Таким образом, хотя субъективно может показаться, что мы делаем две вещи одновременно, на самом деле мы только быстро переключаемся туда-сюда, выполняя оба дела со значительно меньшим мастерством и точностью, чем если бы мы просто сосредоточились на одном деле, а затем на другом. Например, студентам колледжа, использующим мессенджер во время чтения учебника, потребовалось на 25 % больше времени, чтобы прочитать абзац, – не включая время обмена сообщениями – по сравнению со студентами, которые просто читали. Аналогичным образом, в ходе эксперимента в течение двух недель отслеживались рабочие паттерны двадцати семи сотрудников Microsoft. Исследователи обнаружили, что когда работник прерывал свою основную деятельность, чтобы ответить на электронное письмо, он отвлекался в среднем на десять минут – не просто отвечая на это письмо, но и просматривая ряд других приложений, прежде чем вернуться к своей основной задаче. Иногда такое отвлечение внимания длилось часами. Другие исследования показывают, что люди, прерывающие свой рабочий процесс, чтобы ответить на электронную почту, как правило, работают быстрее, но также испытывают больше стресса, больше досады и больше временного прессинга.
Аналогичным образом у водителей, использующих сотовые телефоны во время движения, более медленная реакция, у них больше вероятность проехать на красный свет, им труднее удержаться на своей полосе и поддерживать соответствующую дистанцию движения. Одно из обсервационных исследований с участием пятидесяти шести тысяч водителей показало, что водители, разговаривающие по мобильному телефону, более чем в два раза чаще не останавливаются на перекрестках. Эти исследователи пришли к выводу, что «человек, который ведет машину, разговаривая при этом по сотовому телефону… является худшим водителем, чем физическое лицо, находящееся под действием допустимой законом дозы алкогольного опьянения».
Одновременное восприятие разных медиаисточников является основной рабочей привычкой для многих людей, особенно в цифровую эпоху. Стимуляция, возникающая в результате частых проверок наших социальных сетей, сообщений или цепочек электронной почты, дает нам небольшой всплеск дофамина – одного из нейромедиаторов, участвующего в системе позитивного подкрепления нашего мозга, – который может вызвать привыкание. (Большинство людей проверяют свои смартфоны в среднем 150 раз в день, что в среднем составляет один раз в шесть минут.) Вброс дофамина не только позволяет нам чувствовать себя хорошо, но и повышает нашу уверенность в том, что мы – эффективные многозадачники, закрепляя эту привычку еще больше. Прилив дофамина может также сделать нас чрезмерно оптимистичными, и мы становимся менее осторожными в выполнении своей текущей задачи и скорее предрасположены к ошибкам.
Но как только мы приучили наш мозг к каньону многозадачности, а также к тревожным звукам нашего телефона, сигнализирующим о новом сообщении или электронном письме, мы обнаруживаем, что, когда мы пытаемся сосредоточиться только на одной основной задаче, нам скучно или беспокойно. Как результат, многозадачники обычно более импульсивны и ищут острых ощущений. Другими словами, многозадачность вносит свой вклад в это несоответствие между нашей палеолитической нейробиологией и современным миром, как мы говорили в главе 1.
Хотя многие люди говорят, что многозадачность делает их более продуктивными, эмпирические исследования показывают обратное. В одном исследовании оценивалось, сколько задач выполняет человек одновременно, а затем на трех когнитивных тестах проверялась его работоспособность. Исследователи измеряли способность фокусировать внимание и игнорировать не относящуюся к делу информацию, быстроту и точность переключения между различными задачами различных категорий и запоминание последовательности букв, которые они видели раньше – это проверяло кратковременную память. Во всех трех заданиях когнитивного теста многозадачники с широким полем медиаисточников сработали хуже, чем те из них, кто имел дело с меньшим количеством отвлекающих ресурсов. У первых была более медленная скорость переключения между задачами, чем у вторых!
В одном из подобных исследований триста участников попросили оценить частоту их многозадачности, а также свое восприятие способности делать это, после чего пройти тест. Оказалось, что те, кто высоко оценил свои способности, имели меньший объем кратковременной памяти, были более импульсивны и отличались стремлением к острым ощущениям. Они также были склонны оценивать свои собственные способности к многозадачности выше средних, то есть их воображаемые и фактические способности были обратно пропорциональны.
Основным когнитивным симптомом дисрегуляции является снижение памяти, например когда вы забываете о том, зачем вы зашли в комнату, или часто не можете вспомнить, куда положили ключи.
Заядлые многозадачники также склонны искать новую информацию, а не использовать уже имеющуюся, которая может быть более точной и, следовательно, более ценной и подходящей для их текущего занятия. Другими словами, их мозг выживания – особенно миндалевидная железа – по-видимому, обладает гиперчувствительной нейроцепцией: они более активно исследуют внешнюю среду, что может способствовать большей стрессовой активации. Таким образом, многозадачность может работать против союзнических отношений между мыслящим мозгом и мозгом выживания.
Данная гипотеза была подтверждена недавним исследованием на основе нейровизуализации головного мозга, которое показало, что заядлые многозадачники имеют менее плотное серое вещество в передней поясной коре (ППК), области мозга, участвующей в контроле над побуждениями и в регуляции эмоций. По мнению исследователей, эта меньшая плотность ППК может объяснить, почему у многозадачников с широким полем медиаисточников более низкая эффективность когнитивного контроля, больше трудностей с регулированием эмоций и бóльшая импульсивность.
Главный вывод: каждый повторенный опыт имеет значение. Поэтому какие бы переживания мы ни решили повторить – сознательно или бессознательно – они меняют нашу систему ум – тело. Вооружившись этим пониманием, мы можем выбрать подходящий нам режим физической подготовки и тренировки ума, чтобы намеренно перестроить наш мозг и всю систему ум – тело в благоприятном для нас направлении.
Эпигенетика: как большой каньон влияет на наши гены
Благодаря нашему повторяющемуся опыту нейропластичность изменяет структуру мозга. Существует параллельный процесс, назывемый эпигенетикой, – это то, как наш повторяющийся опыт влияет на то, «включаются» ли наши гены или «выключаются».
Во время своего преподавания я часто встречаю людей, которые говорят мне, что они «ничего не могут поделать» с тем, что у них тревожное расстройство – или депрессия, диабет, сердечная недостаточность, зависимость или какое-то другое физическое или психологическое заболевание – потому что «это все гены», «это все наследственное» и с этим бесполезно бороться, а потому программа умственного фитнеса не сработает.
Разумеется, когда чей-то мыслящий мозг имеет такие убеждения, они просто программируют свое будущее. Полагая, что их гены неизменны и болезнь или зависимость неизбежны, гораздо менее вероятно, что они будут постоянно работать над выработкой в себе полезных привычек, которые могли бы противостоять их генетическим предрасположенностям.
Однако недавние исследования развенчали старую идею о том, что «наличие» определенного гена непременно будет способствовать определенному поведению или заболеванию. В самом деле, множество генов работают вместе, чтобы произвести результат, так что эффект от любого одного гена обычно очень мал. Но что еще более важно, широкий спектр экспериментальных и эмпирических исследований убедительно показывает, что происходит экспрессия генов или нет – «включаются» они или «выключаются» – все это зависит от наших повторяющихся переживаний.
Другими словами, хотя мы можем иметь генетическую склонность к определенному признаку, то проявится ли в реальности эта склонность через экспрессию генов, сильно зависит от нашего окружения и наших привычек. Проще говоря, внешние факторы и привычки могут привести к изменениям в нашей ДНК или окружающих белках, создавая то, что называется эпигенетическими изменениями. Эти эпигенетические изменения могут включать или выключать экспрессию генов, приводя к стойким эффектам в нашей системе ум – тело. На протяжении всей нашей жизни мы можем накапливать эпигенетические изменения в обоих направлениях – включать гены, которые ранее были выключены, и наоборот. Например исследования показывают, что хроническое недосыпание и работа сменами могут негативно влиять на гены, регулирующие суточные биоритмы, а также на иммунитет.
Подобно тому, как мозг податлив к любым повторяющимся переживаниям – как вредным, так и полезным, – эпигенетические изменения также могут происходить как во вредном, так и в полезном направлении. Все сводится к тому, какой повторяющийся опыт имеет наша система ум – тело.
Неудивительно, что пагубные эпигенетические изменения были связаны со стрессовыми или травматическими переживаниями без адекватного восстановления, особенно в детстве.
Например при аутопсии людей, умерших в результате самоубийства и подвергшихся насилию в детстве, выявились отчетливые эпигенетические изменения в их мозге по сравнению с людьми, которые умерли в результате самоубийства и не пережили жестокого обращения в детстве и по сравнению с людьми, которые умерли не в результате самоубийства. Еще одно исследование изучало людей, переживших травму в детстве, и тех, кто пережил ее, будучи взрослым. Люди, перенесшие травму, имеющие активное ПТСР, показали значительный пагубный эпигенетический эффект, в то время как пережившие травму без ПТСР – нет. Более того, группа людей с активным ПТСР, переживших детскую травму, показала в двенадцать раз больше эпигенетических изменений по сравнению с группой с активным ПТСР, не переживших травму в детстве. Оба исследования – плюс еще несколько других – подчеркивают, насколько рано жизненные невзгоды могут оставлять стойкие нейропластические и эпигенетические изменения в нашей системе ум – тело.
Одно из наиболее распространенных эпигенетических изменений в результате хронического стресса или травмы без адекватного восстановления проявляет себя в функционировании иммунной системы. Хроническая стрессовая активация влияет на программирование важных клеток иммунной системы, называемых макрофагами. (В зависимости от того, где они функционируют в организме, макрофаги также могут иметь специализированные названия. Например макрофаги в головном и спинном мозге называются микроглиями.)
Макрофаги, включая микроглии, ответственны за распознавание и уничтожение «плохих парней» в нашей системе ум – тело, включая инфекции, накопленные повреждения и мертвые клетки. По этой причине они также играют важную роль в старении. Макрофаги выполняют свою работу, производя цитокины – белки, которые играют роль в сигнальной системе клетки. Для оптимального функционирования иммунной системы нам нужен баланс воспалительных и противовоспалительных цитокинов. Однако хроническая стрессовая активация, особенно в детском возрасте, программирует макрофаги нерегулярным образом. Они становятся чрезвычайно эффективными в производстве воспалительных цитокинов – запуская воспаления – и менее эффективными в производстве противовоспалительных цитокинов – выключающих воспаления. Более того, эти гиперреактивные макрофаги продолжают высвобождать воспалительные цитокины еще долго после того, как инфекция, воздействие токсинов, травма или физическая травма, которые вызвали их, исчезли. Почему это так важно? Как объясняет Гэри Каплан, врач, который клинически лечит и пишет об этих процессах: «как только [макрофаги и микроглии] поддержали гиперактивированное состояние, они запоминают его. Они быстрее воспаляются, но труднее успокаиваются».
Другими словами, хронический стресс приводит к эпигенетическим изменениям в иммунной системе, которые провоцируют хроническое воспаление в системе разум – тело.
В свою очередь, хроническое воспаление может проявляться многими различными способами, включая хроническую боль, фибромиалгию, синдром хронической усталости, хронические головные боли и мигрени, артрит, боли в спине, экзему, псориаз, сердечно-сосудистые заболевания, астму, аллергию, синдром раздраженного кишечника и инсулинорезистентность, предшествующую диабету 2 типа. Хроническая активация микроглии также ответственна за нейродегенеративные заболевания, такие как депрессия, тревожные расстройства, ПТСР, рассеянный склероз и другие аутоиммунные заболевания, болезнь Альцгеймера и шизофрению.
Например мы с Тоддом оба испытали этот эпигенетический эффект после наших соответствующих столкновений с детскими невзгодами. Мое хроническое воспаление в конечном итоге проявилось в виде астмы, аллергии, мигрени и воспаления зрительных нервов, а у Тодда – в виде хронической боли в коленях и спине.
Пагубные эпигенетические изменения могут также передаваться потомству. Большая часть исследований на эту тему была проведена на грызунах, чья более короткая продолжительность жизни облегчает исследователям возможность пронаблюдать трансгене-рационные эффекты.
Некоторые эксперименты показывают, что крысята с заботливыми матерями – то есть у мам, которые нянчили, облизывали и ухаживали за ними, – росли более выносливыми. Став взрослыми, отпрыски заботливых крысиных мам во время стрессовых ситуаций демонстрировали меньше страха и более низкий уровень гормонов стресса. Они показали также хороший уровень обучаемости и замедленное старение в гиппокампе.
Эти изменения были эпигенетическими, что означало, что ранний жизненный опыт многократного облизывания заботливой мамой-крысой изменил переключатель включения/выключения для генов, регулирующих стрессовую реакцию крысят. Более того, крысята-самки, когда выросли, сами стали заботливыми мамами, тем самым эпигенетически передавая своему потомству стрессоустойчивость и навыки материнской заботы.
И наоборот, самки крысят, отделенные от своих матерей в младенчестве, росли менее стрессоустойчивыми. Став взрослыми, эти крысы демонстрировали проблемы с вниманием, более высокую реактивность на стресс и экспрессию генов ниже нормы в областях мозга, связанных с материнским поведением. Неудивительно, что, когда у них рождались дети, крысы-самки становились менее заботливыми матерями – меньше облизывая своих крысят и ухаживая за ними, чем другие крысиные мамы. Пагубные эпигенетические изменения передаются не только через материнское поведение. Например в ходе одного исследования самцов мышей в раннем возрасте поместили в травмирующие условия, а затем сравнили их с нетравматизированными самцами. Впоследствии травмированные мыши демонстрировали депрессивное поведение и утратили естественную антипатию к открытым пространствам; их дефектная нейроцепция снизила их самозащиту. Их метаболизм также нарушился, уровень инсулина и глюкозы в крови были ниже, чем у нетравматизированных мышей. Эти эпигенетические изменения передались и потомству – через сперму, разумеется. Невероятно, но полученное в раннем возрасте первым поколением дисрегулирующее воздействие травмы, – как на метаболизм, так и на поведение, – сохранялось и в третьем поколении.
Внешние факторы и привычки могут привести к изменениям в нашей ДНК или окружающих белках, создавая то, что называется эпигенетическими изменениями.
Однако как и в случае с нейропластичностью, эпигенетические изменения также могут происходить и в благоприятном направлении. И привычки к «расширению окна», которым я вас научу, используют этот научный принцип. Я рассмотрю это более подробно в Части III; а здесь я хочу предварительно рассмотреть несколько примеров.
Я уже упоминала о благотворных нейропластических последствиях упражнений для сердечно-сосудистой системы. Однако постоянная физическая активность также приводит к эпигенетическим изменениям в том, как мозг реагирует на стресс. Например эксперименты с мышами помогают нам понять, почему регулярные физические упражнения снижают тревожность. В этих экспериментах одна группа мышей получала неограниченный доступ к беговому колесу, а другая – нет. Шесть недель спустя обе группы подверглись стрессовому опыту – воздействию холодной воды. Мозг малоподвижных мышей, как только они соприкоснулись с холодной водой, сразу же перешел в реактивное, возбужденное состояние, быстро включив гены, заставляющие нейроны активизироваться. В отличие от них, мозг активно бегавших мышей не проявлял активность этих генов, и это помогало им контролировать свою реакцию на холодную воду. В то же время активно бегавшие мыши высвободили больше ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты) – нейромедиатора, который подавляет нервное возбуждение. Исследователи полагают, что эти два эпигенетических изменения, выработанных в результате физических упражнений, способствуют снижению тревожности. Другими словами, постоянные физические упражнения реорганизуют мозг посредством эпигенетических изменений, позволяя стать более устойчивым к стрессу.
Второй пример полезных эпигенетических изменений – это медитация осознанности. Например теломеры – защитные концевые участки хромосом – необходимы для деления клеток, укорачивающиеся со временем по мере нашего старения.
По этой причине длина теломер используется в качестве косвенного показателя биологического старения. В эмпирических исследованиях люди, сообщавшие о низком уровне блуждания мыслей и большей осознанности настоящего момента, имели более длинные теломеры на своих иммунных клетках, чем те, что говорили о высоком уровне блуждания ума, даже после того, как удалось справиться со стрессом. И наоборот, более короткие теломеры были в значительной мере связаны с депрессией и хроническим стрессом. Эти исследования показывают, что хронический стресс и блуждание ума ускоряют процесс старения клеток, в то время как осознанность может замедлить его.
Другие исследования показали, что медитация осознанности имеет значительный амортизирующий эффект против воспаления. Например одно исследование использовало лабораторно-индуцированное воспаление для создания волдырей на коже. В этом исследовании люди, прошедшие восьминедельный курс снижения стресса на основе осознанности (MBSR), имели значительно меньшие волдыри, чем те, кто прошел аналогичную программу улучшения здоровья без практики осознанности. Другое исследование показало, что по сравнению с контрольной группой у пожилых людей, участвовавших в MBSR, наблюдалось снижение экспрессии генов, связанных с воспалением; исследователи делали замеры путем взятия крови для получения образцов иммунных клеток. После MBSR пожилые участники также сообщили о снижении чувства одиночества, которое, согласно другому исследованию, было связано с хроническим воспалением.
Третий путь к пагубным или полезным эпигенетическим изменениям проистекает из наших привычек сна и питания. В главе 9 будут рассмотрены пагубные эпигенетические эффекты хронического недосыпания. Кроме того, наша диета радикально влияет на здоровье нашего микробиома – микроорганизмов, живущих в нашем кишечнике и кишечном тракте. Я исследую эпигенетические возможности этой кишечной флоры в главе 17.
Структура против свободы воли на микроуровне
Почему я посвятила целую главу нейропластичности и эпигенетике? По двум причинам. Во-первых, мы должны понять, насколько сильно эта динамика влияет на наши нейробиологические структуры. Нейропластичность и эпигенетика могут иметь колоссальные последствия для нашего мозга, нервной системы и тела – вплоть до клеточного уровня, особенно когда мы не осознаем их воздействия. Даже те привычки, которые мы коллективно считаем «не такими уж плохими» – дела на автопилоте, беспокойство, многозадачность – могут со временем оказать пагубное воздействие на нашу систему ум – тело.
Многие факторы, влияющие на ширину нашего «окна», такие как наше генетическое наследие, раннее социальное окружение, а также стрессовый или травматический опыт, который мы пережили, зависели не от нас. Действительно, как показывает исследование, приводимое в данной главе, некоторые из этих структурирующих механизмов передаются из поколения в поколение. То, как наши системы ум – тело сформировались в ответ на эти переживания, было уникально адаптивным, потому что это позволило нам выживать. Однако в то же время нейропластические и эпигенетические изменения, вызванные хроническим стрессом или травмой, в долгосрочной перспективе создают почву для узких «окон».
Во-вторых, хотя наследие хронического стресса и травм, особенно в детстве, имеет устойчивые глубокие последствия для ширины нашего «окна», это не окончательно. Узким «окнам» не предопределено оставаться узкими, как и широким «окнам» не предопределено оставаться широкими. На протяжении всей нашей жизни мы имеем возможность менять ширину нашего «окна» путем любых повторяющихся переживаний, пагубных или благотворных. На самом деле, единственное, что действительно находится в наших руках, – это то, куда, когда и как мы постоянно направляем наше внимание – и направляем ли мы его осознанно.
Какова бы ни была текущая структура нашей системы ум – тело – и какие бы симптомы нарушения регуляции мы ни испытывали сегодня в результате, – у нас всегда есть свобода воли изменить эту структуру посредством своего повторяющегося выбора. Эти нейробиологические структуры не неизменны, они просто стабилизированы на данный момент. На самом деле, чем меньше мы знаем о них – и о привычках, которые их укрепляют, – тем большую власть они имеют над нашей жизнью.
Тем не менее научные исследования нейропластичности и эпигенетики показывают нам, что эти структуры ума и тела податливы. Каждым своим выбором, который мы сознательно или бессознательно делаем, мы либо усиливаем, либо изменяем эти структуры, которые затем формируют наш будущий выбор. Мы можем позволить нашим более ранним нейробиологическим структурам действовать по своей программе. Или мы можем прервать действие этой программы, когда она больше уже не служит нам, и вместо этого намеренно перестроить эти структуры и расширить наше «окно». Каким бы трудным ни было наше прошлое, выбор сегодняшнего дня полностью за нами.
Чтобы научиться использовать свою биологию по-новому, нужно взять на себя ответственность за свой выбор. Все, что мы делаем постоянно, оказывает большое влияние на нашу систему ум – тело. Здоровые ум и тело не только обладают большей способностью к благополучному выживанию во время стресса, травмы, неопределенности и перемен сегодня – они также создают структурные основания для благополучного выживания во время стресса, травмы, неопределенности и перемен завтра. Другими словами, нейро-пластичность и эпигенетика помогают нам понять, как мы можем влиять на структуры ума и тела, которые будут формировать нашу жизнь в будущем. Вооружившись этим пониманием, мы откроем возможность для глубоких перемен – и для более широких «окон».
Глава 4
Тело во время стресса и травмы
В следующих двух главах мы рассмотрим, как наша система ум – тело переживает нагрузку, хронический стресс и травму. В этой главе описываются реакции организма, а в следующей – реакции мозга.
Прежде чем продолжить чтение, вам понадобится блокнот или дневник для упражнений по рефлексивному письму, которые вы будете делать на протяжении всей остальной части данной книги. Упражнения второй части книги помогут вам оценить текущую ширину вашего «окна» – и понять, как так получилось. Ваши размышления из упражнений Части II будут иметь решающее значение для того, чтобы точно определить, как вы будете расширять свое «окно» в Части III. То, что вы вложите в эти упражнения, критичным образом повлияет на то, что вы получите от этой книги. Никто не должен видеть ваших размышлений, кроме вас самих.
После того как вы достанете свой блокнот, я призываю вас детально исследовать стрессовую активацию в вашей собственной системе ум – тело. Для этого прямо сейчас составьте список нескольких источников стресса в вашей жизни.
Записав источники стресса, оцените каждый пункт с точки зрения интенсивности стресса – 1 для вещей, которые вас лишь слегка напрягают, 10 для вещей, которые кажутся вам практически невыносимыми. Теперь выберите один из пунктов, который вы оценили приблизительно на 5. Если в вашем списке нет ничего, кроме 10-балльных пунктов, выберите тот пункт, который вызывает наименьшее напряжение. Это могут быть финансовые проблемы, сложные отношения, властный босс – неважно, что это такое, главное, чтобы это был источник умеренного стресса. (Для всех «отличников» и максималистов я прошу выбрать 5, а не 10!)
Как только у вас появился один такой пункт в уме, выполните это короткое упражнение. Сначала прочтите целиком инструкцию, как его выполнять. Поставьте ноги ровно на пол и, если вам так комфортно, закройте глаза. Представьте себе некий сценарий, связанный с выбранным вами источником стресса, одновременно проявляя непредвзятое любопытство, исследуя, что происходит внутри вашей системы ум – тело. Это эксперимент в вашей лаборатории ум – тело, и пришло время собрать некоторые данные.
Вначале просканируйте внимательно свое тело. В частности, обратите внимание на то, что происходит в вашей груди, в животе, мышцах ног и рук, кистях рук, шее, челюсти, глазах и во рту. Обратите внимание, есть ли какие-либо изменения в сердечном ритме или частоте дыхания. Также обратите внимание на температуру тела и на то, меняется ли ваша поза.
Затем обратите внимание на то, что происходит в вашем уме. Спокоен ум или он на страже и бдителен? Или вы замечаете большую когнитивную активность, например ваши мысли скачут? Если вы заметили, что ум думает, посмотрите, можете ли вы различить какой-либо паттерн своих мыслей, например, что вы что-то планируете или о чем-то беспокоитесь. Или же ваш ум затуманен и рассеян? Наконец обратите внимание, присутствуют ли какие-либо эмоции, например тревога или печаль. Когда вы представляете себе свой стрессовый сценарий, вы можете ничего не замечать в теле и уме, и это тоже нормально.
Хронический стресс и блуждание ума ускоряют процесс старения клеток, в то время как осознанность может замедлить его.
После того, как вы отметили и систематизировали все физические ощущения, мысли и эмоции, откройте глаза и почувствуйте стул под собой. Вы можете направить свое внимание на место контакта между вашей спиной и спинкой стула. Делая это, обратите внимание, меняется ли что-то в вашем теле и уме.
Затем запишите все, что вы заметили, – физические ощущения, мысли, эмоции. Я обещаю, что вы получите гораздо больше от дальнейших глав, если вы выполните все это.
(Не) видеть – значит верить
Впервые я выполнила это упражнение по осознанной визуализации – как это только что сделали вы – случайно. Я бессознательно занималась этим всю свою жизнь, в ходе реакции на свою глубоко укоренившуюся привычку под названием «беспокойство». Однако мой первый сознательный опыт данного упражнения по визуализации произошел в конце 2004 года во время трехмесячного ретрита[26] по безмолвной медитации.
На тот момент я находилась в Джорджтауне, в отпуске по состоянию здоровья из-за проблем со зрением. Ранее в том же году у меня было два случая неврита зрительного нерва – воспаление и атрофия зрительных нервов, которые проявлялись в виде перемежающихся мигреней и месяцев расплывчатого, двоящегося зрения. Кроме того, за несколько недель до начала моего молчаливого уединения мы с мужем расстались.
Примерно через месяц после начала ретрита у меня случился еще один приступ неврита. Возможно, из-за того, что я решила отказаться от лечения в больнице и работать с местным иглотерапевтом, этот случай был намного хуже. Вскоре я видела только темные и светлые пятна и немногочисленные расплывчатые фигуры. В конце концов я пережила три недели почти полной темноты. Поскольку мое зрение ухудшилось, я оставалась в своей комнате. Я была одна в темноте, в прямом и переносном смысле.
Однажды, лежа на кровати, я ощутила пульсацию и жжение – глубоко в глазницах и у основания черепа – которые перемежались с болями, как будто меня кололи раскаленными ножами для колки льда. Всякий раз, когда я уставала от наблюдения за этими ощущениями, я делала перерыв и обращала свое внимание на звуки снаружи, на птиц и ветер.
Затем, из ниоткуда, пришла следующая мысль: «А что, если на этот раз мое зрение не вернется? Что, если я ослепну на всю оставшуюся жизнь?» (Обратите внимание, что все эти вопросы начинались с «А что, если …?».)
При этой мысли мою систему ум – тело начало трясти. Колотилось сердце. Боль в груди была такой сильной, что у меня наверняка случился сердечный приступ. Учащенное, поверхностное дыхание. Бабочки в животе. Липкие руки. Сухость во рту. В то же время мой мыслящий мозг был переполнен скачущими мыслями: «Как я буду зарабатывать на жизнь, будучи разведенной, одинокой и слепой? Нужно ли мне будет найти соседа по комнате? Бросить свое профессорство? Нужно ли мне учить шрифт Брайля?» Эти скачущие мысли множились по мере того, как мое тело становилось все более беспокойным. Только когда меня чуть не стошнило, я наконец очнулась и заметила: «О, я чувствую беспокойство прямо сейчас. Тревога – она вот такая».
Осознав это, я решила направить свое внимание в лабораторию ум – тело для спонтанного эксперимента. Так что же происходит, когда я подпитываю эту тревогу, представляя остальную часть своей жизни без возможности снова видеть? Будучи в то время трудоголиком и перфекционистом с комплексом отличницы, я точно не выбрала 5-балльный пункт, первый раз делая это упражнение. И тут же все усилилось – ножи для колки льда и боль в глазах, голове, шее и плечах, скачущие мысли и паническое планирование.
А что произойдет, когда я отрешусь от мыслей и просто сосредоточусь на ножах для колки льда? Боль тут же усилилась. Однако скачущие мысли замедлились, и мое сердцебиение и дыхание замедлились. Интересно. Хотя боль усилилась, в целом стало спокойнее. Мысли явно ухудшают ситуацию.
А теперь что произойдет, если я вместо этого сосредоточусь на задней части моего тела, которая касается кровати? В течение следующих нескольких минут мое сердцебиение и дыхание пришли в норму. Мои руки и лицо потеплели. Тошнота прошла. Я начала зевать. Боль уменьшилась. Мои глазницы все еще пульсировали, но стали горячими и чесались. Мой разум успокоился. Вскоре я могла легко переключить свое внимание на то, чтобы услышать птиц и ветер.
Как показывает моя история, существует сильная взаимосвязь между тем, как наш мозг выживания подсознательно оценивает нашу ситуацию, и тем, как наше тело в ответ испытывает стрессовую активацию или восстановление. Вот куда мы направляемся в этой главе.
Что такое стресс?
Стресс стал всеобъемлющим термином для всего, что мы не хотим испытывать – стояние в пробке, проблемы в отношениях, проблемы со здоровьем, депрессия или тревога. Для многих из нас стресс означает нечто вредное – его нужно избегать, уменьшать или контролировать.
Одним из недостатков этого традиционного понимания, однако, является то, что оно может увековечить неприязненные отношения со стрессом, а также бессознательную веру в то, что мы относительно бессильны влиять на стресс и его последствия. В свою очередь, эта вера заставляет многих из нас пытаться справиться со стрессом и травмой через отрицание, избегание, самолечение или переключение внимания.
Я хочу призвать вас развить более доверительные отношения со стрессом – верить, что мы в состоянии влиять на него, выбирая то, куда нам направлять наше внимание. Понимание уравнения стресса (см. Рис. 4.1) дает нам возможность активно влиять на уровень стрессовой активации и нашу способность справиться со стрессом и травмой.
Первый компонент этого уравнения – стрессогенный фактор, или стрессор, то есть внутреннее или внешнее событие, которое наш мозг выживания воспринимает как вызов или угрозу. Внешним стрессогенным фактором может быть все, что вызывает изменения в нашей жизни и нашем социальном статусе. Пробки. Законопроекты. Ссора с любимым человеком. Предстоящий медосмотр или операция. Харассмент или дискриминация.

Рисунок 4.1. Уравнение стресса
Уравнение стресса объясняет, как система ум – тело производит стрессовую активацию/стрессовое возбуждение. Всякий раз, когда мы сталкиваемся со стрессогенным фактором (1), то есть внутренним или внешним событием, которое мозг выживания (2) воспринимает как угрозу или вызов, наша система ум – тело включает (3) стрессовую активацию, которая является физиологической активацией в теле и уме.
Внешние стрессогенные факторы могут также включать в себя события, которые мы обычно трактуем как «позитивные», такие как покупка нового дома, получение повышения по службе или рождение ребенка. Внутренние стрессогенные факторы включают в себя болезни, физические травмы, голод, жажду, лишение сна, хроническую боль, сильные эмоции, воспоминания, кошмары и навязчивые мысли.
Стрессогенные факторы бывают также острыми и хроническими, физическими и психологическими. Острые стрессогенные факторы – это сильные стрессогенные факторы, которые происходят в течение короткого времени, например хирургическая операция, стихийное бедствие, массовая стрельба или смерть близкого человека. Напротив, хронические стрессогенные факторы влияют на нас в течение длительного периода, это могут быть финансовые проблемы, требования на работе, проблемы в отношениях или хронические заболевания.
Физические стрессогенные факторы, такие как инфекция, физическое насилие со стороны другого человека или напряжение во время спортивных соревнований, влияют на всю систему ум – тело в целом. Напротив, психологические или символические стрессогенные факторы возникают в нашем мыслящем мозге, не создавая непосредственной физической опасности для организма. Упражнение на визуализацию было символическим стрессогенным фактором.
Одним из наиболее распространенных символических стрессогенных факторов является ожидание – чувство стресса или тревоги по поводу событий, которые могут произойти в будущем. По сравнению с нашими животными собратьями, способность воображать и готовиться к будущим непредвиденным обстоятельствам является одним из уникальных талантов человечества – или его проклятием. Как следует из моей истории, мы знаем о наличии стресса ожидания, когда видим, что наш мыслящий мозг использует эти два маленьких слова: что, если…?
Второй элемент уравнения стресса – оценка стрессогенного фактора через процесс нейроцепции мозга выживания. Мозг выживания постоянно сканирует внутреннюю и внешнюю среду – каждый запах, картинку, звук, прикосновение, вкус, физическое ощущение, ментальный образ, мысль или эмоцию – и проверяет, являются ли данные стимулы угрожающими или представляющими вызов.
Существует сильная взаимосвязь между тем, как наш мозг выживания подсознательно оценивает нашу ситуацию, и тем, как наше тело в ответ испытывает стрессовую активацию или восстановление.
Этот процесс внутренней оценки для каждого из нас уникален, он основан на бессознательном обучении и адаптации нашего мозга выживания в результате более раннего опыта. Вот почему два человека, столкнувшиеся с одним и тем же стрессогенным фактором, могут резко отличаться по своей нейроцепции, а затем испытывать разный уровень ответной стрессовой активации. Исследования показывают, что при столкновении с идентичными стрессогенными факторами люди с типом личности А – то есть люди мотивированные, ориентированные на достижение, испытывающие постоянное внутреннее напряжение из-за постоянной нехватки времени – будут проявлять большую стрессовую активацию, чем люди с типом личности В[27].
Наш мозг выживания будет воспринимать угрозу как значительную – и таким образом генерировать бóльшую стрессовую активацию – если он воспринимает стрессогенные факторы как новые, непредсказуемые, неконтролируемые и представляющие угрозу нашему эго, нашему чувству идентичности или выживанию нашей системы ум – тело. Аналогично, если какие-то стороны текущего стрессогенного фактора содержат сигналы или триггеры, связанные с прошлыми травматическими событиями, мозг выживания также, вероятно, будет воспринимать угрозу как значительную.
Если раньше мы уже много раз сталкивались со стрессогенным фактором, мы знаем, как он будет чувствоваться и что потребуется для успешного прохождения через него. Точно так же, когда стрессогенный фактор предсказуем, мы обычно знаем, когда он произойдет, как долго он будет длиться и – что очень важно – что он не обрушится на нас без предупреждения. Знание и предсказуемость помогают нам узнать, какая внутренняя копинг-стратегия с большей вероятностью сработает для данного стрессогенного фактора. В результате наш мозг выживания скорее всего будет испытывать чувство свободы выбора и самоэффективности, а это снижает стрессовую активацию.
К примеру, во время нацистских бомбардировок Британии в период Второй мировой войны Лондон бомбили каждую ночь, тогда как пригородные районы подвергались атакам с неба лишь иногда. И в Лондоне, и в пригородах первоначально в больницах наблюдалось увеличение числа больных с язвой желудка, обусловленной стрессом. И все же в пригородах наблюдалось увеличение заболеваемости. Непредсказуемость атак делала их еще более стрессовыми. Однако в течение трех месяцев уровень заболеваемости язвой желудка и в Лондоне, и в пригородах вернулся к норме, что говорит о том, что жители пригородов приспособились, это стало для них более привычным, хотя график бомбардировок все еще был непредсказуем.
Вера в то, что мы обладаем некоторым контролем – над ситуацией, окружающей средой или даже над собой, – также может привести мозг выживания к оценке стрессогенных факторов как менее угрожающих. Однако последствия ощущения контроля зависят от контекста. При слабых или умеренных стрессогенных факторах чувство контроля может снизить уровень нашей стрессовой активации.
Однако при катастрофических или травматических стрессогенных факторах – таких как получение смертельного медицинского диагноза или потеря любимого человека – чувство контроля может быть контрпродуктивным. Думающий мозг может предположить, что «это все моя вина, я должен был предотвратить это», даже в ситуациях, которые на самом деле находятся вне нашего контроля. Люди, которые верят, что события и их последствия являются результатом их собственных усилий, наиболее подвержены подобному восприятию. Известная как «сильный внутренний локус контроля», данная динамика довольно распространена в американской культуре. Тем не менее, сталкиваясь с чем-то, что на самом деле не поддается контролю, люди с сильным внутренним локусом контроля испытывают бóльшую стрессовую активацию, чем люди с внешним локусом контроля, которые верят, что события и результаты контролируются судьбой или случайностью.
Третий элемент уравнения стресса – это стрессовая активация, – физиологическое, когнитивное и эмоциональное возбуждение в нашей системе ум – тело. Этот элемент – закон природы: когда первые две составляющие уравнения активируются одновременно, стрессовая активация становится неизбежной. Такого просто не может быть. Я выделила это курсивом, чтобы ваш мыслящий мозг по-настоящему воспринял это!
Одна из самых распространенных контрпродуктивных привычек мозга – критиковать или осуждать себя, когда мы испытываем стресс, или же обесценивать источник нашего стресса. Обесценивающие мысли могут быть очень коварными, потому что наш мыслящий мозг обычно пытается интерпретировать ситуацию позитивно, думая, например: «Это всего лишь спущенная шина, в конце концов. По крайней мере, это не автомобильная авария!» Помните, однако, что нейроцепция – работа мозга выживания! Несмотря на лучшие намерения, думающий мозг не может предлагать такие мысли и ожидать, что стрессовая активация от этого волшебным образом исчезнет. Мыслящий мозг пытается помочь, но на самом деле это может лишь усугубить стрессовую активацию.
Вернитесь к своим записям упражнения визуализации. Хотя некоторые симптомы стрессовой активации являются общими для всех, каждый из нас выработал свой собственный уникальный букет проявления стресса в своей системе ум – тело.
В теле, например, вы могли заметить учащенное сердцебиение. Ускоренное или поверхностное дыхание, или задержка дыхания. Стеснение в груди.
Мышечное напряжение в руках, ногах, ягодицах, плечах, шее или спине. Тело сгорбилось или обмякло, или наклонилось вперед. Плечи приподнялись к ушам. Бабочки в животе. Сухость во рту или сжатые челюсти. Сверкающие, прищуренные глаза. Липкие или вспотевшие руки.
В уме вы, возможно, заметили скачущие мысли. Или мысли, связанные с планированием, беспокойством или попытками решить, как исправить ситуацию. Мысли-сравнения, такие как: «Мне уже нужно преодолеть это; моя ситуация не так плоха, как у X». Обесценивающие мысли, такие как «несмотря на то, что это стрессовое событие происходит, у меня все еще есть моя семья [автомобиль, работа, здоровье]». Критические мысли, такие как «это просто глупое письмо! Я не должен/не должна напрягаться из-за этого!» или «если бы я только сделал/сделала X или Y, я мог/могла бы предотвратить это». Эскапистские мысли[28], такие как фантазии о том, что вы будете делать в эти выходные.
Что касается вашего эмоционального состояния, вы могли заметить, что чувствуете себя рассеянным, измотанным, напряженным, встревоженным, испуганным, нетерпеливым, беспокойным, униженным, злым, усталым, подавленным, пристыженным, виноватым или перегоревшим. Кроме того, вы могли заметить сонливость, головокружение или онемение. Или вы могли чувствовать оторванность от реальности и неспособность замечать что-либо в своей системе ум – тело.
Как работает стрессовая активация
Стрессовая активация, включающая в себя множество различных симптомов в системе ум – тело, – это то, как мы мобилизуем энергию, чтобы ответить на угрозу или вызов. Стрессовая активация, по сути, это переключение энергии от долгосрочных потребностей к сиюминутным.
Стрессовая активация обеспечивала оптимальные условия для преодоления угроз окружающей среды, с которыми сталкивались наши пещерные предки. Я назову это шаблоном угрозы саблезубого тигра. В состязании с саблезубым тигром первые десять минут имеют решающее значение – таким образом, реакция на стресс была оптимизирована для выживания в течение этого короткого времени. В мире пещерного человека он либо выживет в эти несколько минут, либо нет, а если все-таки спасется, то у него будет достаточно времени, чтобы спрятаться в своей пещере, отдохнуть и прийти в себя, прежде чем решиться выйти навстречу следующему вызову.
Стрессовая активация была задумана как немедленная реакция на изменение или кризис, за которой следует восстановление, а затем возвращение к исходному равновесию без каких-либо негативных последствий после случившегося. Как было сказано в главе 1, этот процесс называется аллостаз. Аллостаз позволяет нам варьировать внутренние условия, включая частоту сердечных сокращений и дыхания, температуру тела и уровень сахара в крови таким образом, чтобы мы могли мобилизовать соответствующее количество энергии и сосредоточиться на преодолении изменения или кризиса задолго до его наступления, во время него и после него. Для достижения этой цели аллостаз опирается на взаимодействие между (1) мозгом; (2) гормональной (эндокринной) системой, особенно системой, которая контролирует гормоны стресса, которая называется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой осью (ГГН-ось); (3) иммунной системой и (4) вегетативной нервной системой.
Поэтому даже сегодня в момент восприятия угрозы наша система ум – тело выстроена так, чтобы сосредоточиться на опасности и мобилизовать энергию для быстрого реагирования. Конечно, получать электронные письма, которые заставляют нас расстраиваться, или застрять в пробке – это совсем не то же самое, что убегать от саблезубого тигра! Тем не менее мы все еще мобилизуем ту же самую реакцию, которую пещерные люди использовали, чтобы выжить в шаблоне угрозы саблезубого тигра.
Когда мозг выживания воспринял угрозу, он посылает сигналы эндокринной системе, чтобы высвободить гормоны, необходимые для немедленного выживания – и подавить гормоны, используемые для долгосрочных потребностей организма. Эти гормональные изменения, контролируемые ГГН-осью, происходят двумя волнами.
Сначала, как только мозг выживания воспринимает угрозу, он отдает приказ эндокринной системе на выброс адреналина. В течение нескольких секунд адреналин увеличивает частоту сердечных сокращений, чтобы быстро перекачать кровь к органам и крупным мышцам наших конечностей, чтобы мы могли двигаться быстро. В легких адреналин расширяет наши бронхи, увеличивая частоту дыхания, чтобы мы могли вдыхать больше кислорода. Адреналин также мобилизует организм на высвобождение глюкозы, чтобы у нас был готовый источник энергии.
В то же самое время кровоток смещается от пищеварительной системы, и мы можем испытывать тошноту или чувствовать «бабочек» в желудке. В конце концов, если мы не выживем в следующие десять минут, переваривание нашего последнего обеда не так уж и важно. Адреналин также сужает кровеносные сосуды, снабжающие нашу кожу, уменьшая вероятность того, что мы истечем кровью, если тигр поцарапает нас. Вот почему, когда мы испытываем стресс, наша кожа может быть холодной и липкой, наши ладони могут потеть, а волосы могут встать дыбом. Адреналин также запускает фибриноген, который ускоряет свертывание крови, как дополнительную защиту от ее потери.
Все, что связано со стрессовой активацией, изначально нацелено на транспортировку кислорода и глюкозы, поскольку нам немедленно нужна энергия и концентрация мозга.
После этой первой волны мозг выживания и ГГН-ось, контролирующая гормоны стресса, работают вместе для регулирования нашего уровня стресса таким образом, чтобы он соответствовал конкретному стрессогенному фактору, с которым мы столкнулись. Теперь ГГН-ось будет обеспечивать тонкую настройку второй волны активации напряжения.
На этой стадии мозг выживания проводит вторичную оценку, сфокусировавшись на вопросе «Есть ли у меня ресурсы, чтобы справиться с этим стрессогенным фактором?». Если мозг выживания распознает, что у нас есть внутренние или внешние ресурсы, ГГН-ось может «отмотать назад» уровни стрессовой активации. Однако если мозг выживания чувствует себя бессильным, беспомощным или лишенным контроля – то, что обычно происходит при травматическом стрессе – ГГН-ось, вероятнее всего, усилит стрессовую активацию. Таким образом, решающую роль в нашей второй волне стрессовой активации играет то, воспринимаем ли мы себя как имеющих в данной ситуации свободу воли.
Одна из самых распространенных контрпродуктивных привычек мозга – критиковать или осуждать себя, когда мы испытываем стресс, или же обесценивать источник нашего стресса.
Например в моей истории, когда я сосредоточилась на содержании тревожного ожидания моего мыслящего мозга, мой мозг выживания почувствовал себя бессильным, и это усилило мою вторую волну. И напротив, когда я сосредоточила свое внимание исключительно на физических ощущениях боли, мой мозг выживания чувствовал себя контролирующим ситуацию, что ослабило вторую волну. А когда я направила свое внимание на контакт моего тела с кроватью, мой мозг выживания зарегистрировал поддержку кровати как ресурс, еще больше уменьшая вторую волну – в конечном счете позволяя моей системе ум – тело почувствовать некоторое восстановление.
Во время второй волны ГГН-ось активирует гормоны, которые мобилизуют энергию и фокусируют нас на текущей чрезвычайной ситуации, при этом ингибируя гормоны, предназначенные для более долгосрочных задач. Позже, после того, как стресс прошел, она активирует гормоны, облегчающие восстановление. Как во время второй волны, так и во время восстановления, ГГН-ось работает с иммунной системой и вегетативной нервной системой.
Как часть второй волны, ГГН-ось активирует гормоны для мобилизации энергии путем увеличения глюкозы, циркулирующей в нашей системе ум – тело. Глюкоза обеспечивает питание для мышц и повышает концентрацию мыслящего мозга и кратковременную память. Наиболее важным из этих гормонов, мобилизующих нашу энергию, является кортизол.
Во время второй волны кортизол выполняет две функции. Во-первых, он восполняет запасы энергии, которые истощились во время первой волны выброса адреналина. Во-вторых, кортизол повышает резистентность. Он отправляет лейкоциты на «боевые посты» в уязвимые места организма, такие как кожа и лимфатические узлы, где они скорее всего понадобятся в случае травмы или инфекции – упреждающая защита от царапины или укуса тигра! По этой причине стрессовая активация в краткосрочной перспективе повышает иммунитет. Однако спустя час длительной стрессовой активации резистентность начнет падать на 40–70 % ниже нашего базового уровня. Вот почему мы более подвержены простудным заболеваниям, когда испытываем хронический стресс.
ГГН-ось также активирует другие гормоны, которые определяют приоритетность сиюминутных потребностей. Например, она высвобождает эндорфины, внутренние опиоиды, которые притупляют наше восприятие боли. Она также высвобождает вазопрессин – гормон, регулирующий работу сердечно-сосудистой системы во время стресса и настраивающий вегетативную нервную систему на защитный режим.
И наоборот, ГГН-ось подавляет гормоны, связанные с долгосрочными потребностями, включая гормон роста и половые гормоны эстроген, прогестерон и тестостерон. Она также подавляет выработку инсулина, который заставляет организм накапливать энергию для последующего использования. В конце концов, кому нужны долгосрочные «проекты» вроде пищеварения, размножения, восстановления тканей, накопления энергии или роста, если мы не доживем до конца дня?
Иерархия защитных функций человека: нервная система делает свой вклад
У нас есть три иерархических уровня «глубокой защиты», причем каждая стратегия защиты поддерживается отдельной нейронной цепью между мозгом и вегетативной нервной системой (ВНС).
Допустим, вы идете по пустой улице один после наступления темноты. Кто-то выскакивает из тени, требуя ваш бумажник. Сначала вы, вероятно, будете вести переговоры с нападавшим и успокаивать его, возможно, даже предложите ему свой кошелек, пока вы оцениваете угрозу. Скорее всего вы проверите, вооружен ли он или, может, психически болен, пьян, выше или физически больше и сильнее – все это может затруднить ваш побег. Вы также, вероятно, посмотрите вокруг, чтобы найти пути отхода или помощь.
Все же представьте, что быстро становится ясно, что он вооружен ножом, физически сильнее и заинтересован в нападении на вас. Когда ваша стрессовая активация возрастает, страх или гнев берут верх. В этот момент вы скорее всего закричите, надеясь, что кто-то придет вам на помощь или хотя бы вызовет полицию. Скорее всего вы почувствуете инстинктивное желание бежать от этой опасной ситуации. Однако в зависимости от вашей собственной физической формы, а также от того, вооружены ли вы и владеете ли какими-либо боевыми искусствами, вы вместо этого можете почувствовать инстинктивное желание стоять на своем и сражаться.
Когда вы пытаетесь убежать, он хватает вас за руку, и ваша стрессовая активация еще больше возрастает. Вскоре мужчина хватает вас сзади и прижимает лицом и передней частью тела к ближайшей стене. Вы поняли, что он явно хочет изнасиловать вас. Когда вы продолжаете кричать и извиваться, пытаясь вырваться, он приставляет нож к вашей шее. Он говорит вам, что, если вы не прекратите кричать и не будете вести себя хорошо, он убьет вас. Пока он рвет на вас одежду, вы начинаете чувствовать оцепенение. Ваше тело перестает бороться. Вы чувствуете странную отрешенность от того, что происходит дальше. «Сдавшись», вы фактически увеличили вероятность того, что выживете в этом происшествии.
Каким образом наша система ум – тело автоматически знает, как предпринять эту последовательность действий, чтобы сохранить нас в безопасности? Это происходит в результате взаимодействия между мозгом выживания и ВНС. Хотя ВНС обычно получает меньше внимания, чем мозг и гормоны стресса, она играет центральную роль в программе ФТУО. На самом деле ФТУО в своей основе имеет две линии терапии – тренинг осознанности и телесно-ориентированную терапию травмы с практиками регулирования ВНС после хронического стресса и травмы. Таким образом, понимание того, как работает ВНС, является важной частью расширения «окна».
ВНС служит мостом между стволом головного мозга – самой примитивной частью нашего мозга выживания, которая контролирует стрессовую активацию и восстановление – и остальным телом. Таким образом, она обеспечивает автоматическую систему управления для многих телесных функций, происходящих вне сознательного вмешательства. Однако ВНС не полностью находится вне сознательного контроля. Мыслящий мозг может сознательно изменять некоторые автоматические функции, например подавлять зевоту.
ВНС обладает широкими полномочиями, оказывая воздействие на глаза; слюнные железы; голову, шею и лицевые мышцы; гортань и глотку; сердце; легкие; желудок, кишечник, печень, поджелудочную железу и почки; прямую кишку и мочевой пузырь, а также гениталии. Поэтому неудивительно, что ВНС играет важную роль в стрессовой активации и в восстановлении после стресса.
ВНС имеет две ветви, которые посылают сигналы от мозга выживания к органам, приказывая телу сосредоточиться на немедленных потребностях выживания во время стрессовой активации или сосредоточиться на восстановлении после того, как угроза миновала. Симпатическая ветвь включает систему управления стрессом, в то время как парасимпатическая ветвь выключает систему управления стрессом и подготавливает организм к пищеварению, росту, размножению, восстановлению и отдыху.
Кроме того, ВНС также имеет контур обратной связи от органов к мозгу выживания – так что она может получать информацию о физических ощущениях и обучаться на ее основе. Этот контур обратной связи, называемый висцеральной афферентной системой, играет важную роль в обнаружении мозгом выживания внутренних стрессогенных факторов. Это объясняет, почему желудочно-кишечные расстройства – такие как кислотный рефлюкс, тошнота или запор – могут создавать порочный круг. Через эту систему мозг выживания «слышит», что происходит в кишечнике, воспринимает угрозу и направляет систему ум – тело на мобилизацию повышенной стрессовой активации. И, разумеется, при повышенной стрессовой активации мы снижаем приоритет «долгосрочных проектов» – пищеварения и опорожнения кишечника, тем самым еще больше усугубляя наши желудочно-кишечные страдания.
Помимо своей роли в стрессовой активации и восстановлении ВНС также играет важную роль в наших паттернах взаимодействия с другими людьми. Стивен Порджес, исследователь, который ввел термин нейроцепция, разработал поливагальную теорию, чтобы объяснить, как нервная система бессознательно опосредует нашу способность к доверию и близости. Нервная система млекопитающих развивалась не только для того, чтобы обеспечить выживание во время опасных для жизни чрезвычайных ситуаций. Она также развивалась для поощрения социальных взаимодействий и социальных связей в безопасных условиях.
Вегетативная нервная система служит мостом между стволом головного мозга – самой примитивной частью нашего мозга выживания, которая контролирует стрессовую активацию и восстановление – и остальным телом.
Три стадии нашей иерархической защиты развивались постепенно, причем каждая новая оборонительная стратегия строилась на эволюционно более старых. В идеале это означает, что мы будем полагаться в первую очередь на самую последнюю выработанную защиту – нашу систему социального взаимодействия. В примере с физическим нападением вы сначала пытались договориться с преступником, затем оглядывались вокруг, чтобы найти безопасность и поддержку, крича о помощи, – в целом, вы полагались на стратегию социального взаимодействия.
Если эта стратегия не обеспечила безопасность, то мозг выживания и нервная система «отступают» к двум эволюционно более старым защитным стратегиям. Вторая из них – это «бей-или-беги», которая в этой истории проявляется как попытка уйти от нападавшего.
В конце концов, если мозг выживания осознает, что тактика «бей-или-беги» не сработала, он и нервная система возвращаются к третьей линии защиты – замри. В этой истории это произошло, когда вы перестали бороться с нападавшим и почувствовали оцепенение.
Я хочу отметить, что в то время как «бей-или-беги» и «замри» активно действовали еще до нашего рождения, система социального взаимодействия у нас продолжает развиваться вплоть до конца нашего подросткового возраста. В результате она очень чувствительна к нашей ранней социальной среде, которая очень сильно влияет на изначальное формирование нашего «окна».
Процесс нейроцепции мозга выживания автоматически определяет, какая из этих трех защит активируется в каждый конкретный момент времени. Всякий раз, когда мозг выживания воспринимает, что среда безопасна, мы находимся в пределах нашего «окна» толерантности. Внутри «окна» мы можем получить доступ ко всем отделам нервной системы в «режиме благополучия». Однако когда мозг выживания воспринял угрозу или вызов, это переводит нервную систему в «защитный режим». То, находится ли наша нервная система в «режиме благополучия» или в «защитном режиме», во многом зависит от того, какие гормоны мы включили.
«Социализирующий» гормон, называемый окситоцином, поддерживает нервную систему в «режиме благополучия». Окситоцин высвобождается только тогда, когда мы находимся в пределах своего «окна». В режиме благополучия мы можем мобилизовать энергию для удовольствия и игры, не прибегая к защитному поведению. Мы также можем заниматься «долгосрочными проектами», такими как пищеварение, выделение, отдых, восстановление, секс, рост и восстановление тканей. И мы можем общаться с другими и поддерживать их.
По контрасту, когда наш мозг выживания воспринимает угрозу или вызов, он включает стрессовую активацию и отдает приказ ГГН-оси на высвобождение гормонов стресса – включая вазопрессин, который переводит нервную систему из режима благополучия в режим защиты. Я уже упоминала вазопрессин – это гормон, который подавляет пищеварение, выделение и размножение.
Как только мы перешли в защитный режим, то чем шире наше «окно», тем более вероятно, что мы сможем успешно защищаться с помощью первой или второй стратегии защиты – социального взаимодействия и / или «бей-или-беги» – без необходимости «отступать» в оцепенении. Первая линия защиты, социальное взаимодействие, доступна только тогда, когда мы находимся в пределах своего «окна». Чем большую стрессовую активацию мы испытываем во время второй линии защиты, «бей-или-беги», тем больше вероятность, что мы окажемся за пределами нашего «окна». И, наконец, оцепенение наступает только после того, как мы выходим за пределы «окна».
Таблица 4.1 демонстрирует различные ветви ВНС и их функции при режимах благополучия и защиты. Вы заметите, что парасимпатическая нервная система (ПСНС) делится на две ветви, потому что она использует два ответвления блуждающего нерва. Вентральная ветвь ПСНС расположена по передней стороне тела, в то время как дорсальная ПСНС расположена по задней стороне тела.
ТАБЛИЦА 4.1
ВЕТВИ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ИХ ФУНКЦИИ ВО ВРЕМЯ НЕЙРОЦЕПЦИИ В РЕЖИМАХ БЛАГОПОЛУЧИЯ И УГРОЗЫ

Вентральная ПСНС контролирует три функции. Первая, вагусное торможение сердечно-сосудистой системы, позволяет нам быстро, тонко, адаптивно регулировать частоту сердечных сокращений и дыхания. Когда оно работает должным образом, вентральная ПСНС позволяет нам регулировать нашу сердечно-сосудистую систему и справляться с незначительными стрессогенными факторами, просто запустив или отключив вагусное торможение, без необходимости запускать все гормоны стресса.
Чтобы проверить, насколько у нас гибкое и эффективное вагусное торможение, исследователи используют показатель, называемый вариабельностью сердечного ритма (ВСР). Когда мы вдыхаем, мы стимулируем СНС, которая усиливает наш сердечный ритм, а когда мы выдыхаем, мы стимулируем ПСНС, которая снижает наш сердечный ритм; по этой причине интервал между любыми двумя ударами сердца никогда не бывает точно таким же. ВСР используется для проверки гибкости данной системы. Высокая ВСР – также называемая «высокий вагусный тонус» – означает, что ваше вагусное торможение работает эффективно. Низкая ВСР (низкий вагусный тонус) означает, что мы отключили вагусное торможение, чтобы увеличить частоту сердечных сокращений и запустить стрессовую активацию. Однако хронически низкая ВСР означает, что вагусное торможение всегда отключено и больше не функционирует должным образом. В сущности, в этом состоянии мы запускаем стресс, никогда не выключая его. Без рабочего вагусного торможения сердечно-сосудистая система постоянно испытывает аллостатическую нагрузку. Со временем у людей в таком состоянии скорее всего проявятся сердечно-сосудистые заболевания, повышенное кровяное давление и повышенный риск развития атеросклероза и сердечных приступов.
Вторая функция вентральной ПСНС – восстановление после стрессового возбуждения. После того, как угроза или вызов миновали, вентральная ПСНС запускает высвобождение ацетилхолина для повторного включения вагусного торможения. В свою очередь, это замедляет частоту сердечных сокращений и дыхания, расслабляет мышцы и способствует пищеварению. Вентральная ПСНС гасит гормоны стресса и модулирует нашу иммунную деятельность, так что мы можем полностью восстановиться, успокоиться, переварить и вывести нашу пищу, исцелиться, вырастить новые ткани и отдохнуть.
Третья функция вентральной ПСНС – контроль организма для системы социального взаимодействия. К ним относятся наши голова, шея и глазные мышцы, которые позволяют нам смотреть вокруг, ориентироваться во внешней среде и устанавливать зрительный контакт. Наши лицевые мышцы, которые позволяют нам улыбаться, хмуриться и использовать другие выражения лица для общения с другими людьми. Наша гортань и глотка, которые позволяют нам модулировать наш голос. Мышцы, которые помогают нам жевать, сосать и глотать. Мышцы среднего уха, которые играют определенную роль в нашей способности слышать. Вентральная ПСНС также играет определенную роль в высвобождении окситоцина – «гормона социализации». В результате, когда задействована вентральная ПСНС, мы чувствуем себя спокойными, сконцентрированными, во взаимодействии с другими людьми. Можем сигнализировать о своем внутреннем состоянии другим людям через выражение лица и позы тела и в то же время подстраиваться под тонкие эмоциональные сдвиги в окружающих нас людях.
Эти три вентральные функции ПСНС доступны нам, когда мы находимся в пределах нашего «окна». Внутри «окна» мы можем эффективно общаться, развивать отношения и обращаться к другим за поддержкой в сложных ситуациях. Кто-то с широким «окном» может даже получить доступ к системе социального взаимодействия в режиме защиты во время ситуаций угрозы для жизни, например когда человек пытается сначала договориться с нападающим или «успокоить» его, или позвать на помощь. С точки зрения эволюции, система социального взаимодействия развилась затем, чтобы наши пещерные предки могли кооперироваться, воспитывать своих отпрысков, охотиться вместе и жить безопасно в кочевых племенах. Как вы можете себе представить, эта первая линия защиты включает в себя много социальной коммуникации и, таким образом, требует значительного взаимодействия мыслящего мозга и мозга выживания, которое доступно только тогда, когда мы находимся в пределах нашего «окна».
Поскольку вентральная ПСНС тесно связана как с социальной активностью, так и с восстановительными функциями, один из важных выводов заключается в том, что если мы испытываем трудности с регулированием нашей стрессовой активации, мы также, вероятно, столкнемся с трудностями в создании и поддержании действенных, комфортных и удовлетворяющих нас отношений как в личной, так и в профессиональной сфере.
Во многих ситуациях реакции борьбы и бегства активизируются одновременно, что может означать, что мозг выживания и нервная система считают, что в данных обстоятельствах ни одна из стратегий не будет успешной.
Теперь, зная все это, вы можете видеть, как вентральная ПСНС играет первую линию защиты, когда наша безопасность и социальные связи оказываются под угрозой: мы увеличиваем частоту сердечных сокращений и дыхания. Поворачиваем голову и шею, двигаем глазами, чтобы сориентироваться в окружающей обстановке. Мы обращаемся за поддержкой или помощью к другим людям и сигнализируем о своем бедственном положении через изменения в выражении лица и тоне голоса. Часто этих изменений достаточно, чтобы успешно справиться с ситуацией вызова, и в этом случае вагусное торможение снова включается и удерживает нас в пределах нашего «окна».
Однако если мы окажемся в непосредственной опасности или обнаружим, что никто не приходит нам на помощь, то угроза возрастет. В этот момент мозг выживания воспринимает опасность, давая старт нашей второй линии обороны.
Когда мы «отступаем» к нашей второй линии обороны, верх берет защитный режим СНС. Он работает с ГНГ-осью для мобилизации энергии и гормонов стресса. Возбуждение СНС не зря называют реакцией «бей-или-беги»: оно повышает метаболическую активность и усиливает сердечную деятельность, способствуя активной, мобилизованной защите – либо для того, чтобы отбиться от нападающего («бей»), либо для того, чтобы убежать в безопасное место («беги»). Помните, что мы также можем включить СНС и в режиме благополучия, например когда мы занимаемся спортом, играем или танцуем.
Возбуждение СНС мобилизует много энергии и гормонов стресса. Однако многие защитные формы поведения СНС не будут расходовать всю эту мобилизованную энергию. Например в режиме «бей» мы можем уйти в глухую оборону, требовать внимания, оправдывать свое поведение или накричать на кого-нибудь. А в режиме «беги» мы можем просто уйти в себя и испытывать постоянное чувство беспокойства или будем пытаться угождать другим людям. Хотя эти типы поведения связаны со стрессовой активацией, сами по себе они не израсходуют всю энергию активации. Со временем это может способствовать включению стресса без предыдущего его выключения.
Хотя и борьба, и бегство контролируются СНС, это разные оборонительные стратегии. Каждая из них имеет свои собственные, связанные с ней эмоции, физические ощущения и двигательные импульсы. Реакция «бей» – связанная с гневом или ощущением собственной энергии, силы или контроля – заключает в себе движение в сторону стрессора. Она также связана с повышением выработки слюны и сужением фокуса внимания, то есть туннельным зрением; представьте себе гепарда, преследующего свою цель, полностью сфокусировавшись на ней. Мы активируем режим «бей», когда участвуем в спортивных соревнованиях или соревнованиях, связанных с социальным доминированием, когда мы чувствуем себя сильнее нападающего или когда ожидается ответный бой, например во время драки в баре или в составе уличной банды.
В противоположность этому реакция «беги» – связанная со страхом, тревогой, ужасом или чувством бессилия или беспомощности – заключает в себе движение прочь от стрессогенного фактора. Это может означать бегство от опасности или к безопасности, например обращение за помощью к кому-то более сильному или мудрому. В отличие от туннельного зрения реакции «бей» при реакции «беги» внимание обычно разбросано широко, расфокусировано и отвлеченно, поскольку мы сканируем пространство, чтобы найти жизнеспособный путь к отступлению – представьте себе кролика, отчаянно ищущего нору, чтобы уйти от хищника.
Во многих ситуациях реакции борьбы и бегства активизируются одновременно, что может означать, что мозг выживания и нервная система считают, что в данных обстоятельствах ни одна из стратегий не будет успешной. Эта динамика может возникнуть в тех условиях, когда нас ставят в ситуацию, где мы одновременно и хищник и жертва. Судебный адвокат может испытывать беспокойство, прежде чем изложить свое дело в зале суда. Пожарный должен войти в горящий дом, чтобы спасти кого-то, подвергая себя опасности. Кульминацией подобной динамики может служить участие в военных действиях.
Если эти защитные меры СНС не срабатывают – например если мы в ловушке и никто не может нам помочь, – тогда мы «отступаем» к нашей последней линии обороны. На этом этапе СНС продолжает оставаться активированной, но мы также включаем защитный режим дорсальной ПСНС.
Защитный режим дорсальной ПСНС часто срабатывает во время ситуаций, опасных для жизни – например когда мы физически ограничены или придавлены нападающим, обездвижены выстрелом или во время автомобильной аварии, и у нас нет иного выбора, кроме как смириться со случившимся. Дети могут также активировать защитный режим дорсальной ПСНС, когда их мозг выживания не видит спасения от жестокого родителя или опекуна. Когда борьба или бегство больше невозможны или ухудшают ситуацию, не двигаться становится лучшей стратегией. Защитный режим дорсальной ПСНС соотносим с травмой, потому что мозг выживания воспринимает нас как бессильных, беспомощных и не контролирующих себя.
Первая дорсальная функция ПСНС в защитном режиме – это реакция оцепенения, которая и включилась в нашем примере с нападением, когда вы подчиняетесь нападающему и чувствуете, что вы ошеломлены и находитесь как бы вне происходящего. В отличие от активной защиты СННС, дорсальная защита ПСНС связана с обездвиженностью – оцепенение, подчинение или «прикинуться трупом».
Вторая функция – это масштабное сохранение кислорода и энергии за счет резкого замедления работы сердечно-сосудистой системы (известное как брадикардия) и других внутренних органов. Дорсальная ПСНС также радикально снижает метаболическую активность и останавливает нашу пищеварительную систему – вплоть до того, что мы можем потерять контроль над мочевым пузырем и кишечником.
В режиме благополучия дорсальная ПСНС играет важную роль в пищеварении, системе выделения, сне и репродуктивных функциях, поскольку она контролирует большинство нервных путей, ведущих к нашим внутренним органам. Однако режим благополучия доступен только тогда, когда мозг выживания воспринимает ситуацию как безопасную, и тогда тело выпускает окситоцин, «гормон социализации». Один важный вывод из этого: мы не можем одновременно включать и социальное взаимодействие и оцепенение.
Таким образом, если защитный режим дорсальной ПСНС был включен, то вентральная ПСНС выключается – и мы теряем доступ к функциям вентральной ПСНС, включая способность эффективно взаимодействовать с другими людьми и с нашей внешней средой здесь и сейчас. Как только защитный режим дорсальной ПСНС берет верх, наше тело готовится к отключению – в самом крайнем случае, чтобы защитить нас от мучительной смерти. И следовательно, осознанное восприятие и другие мыслительные функции мозга затухают и могут полностью отключиться. Мы можем больше не ощущать страх или физическую боль. Мы можем прекратить предпринимать какие-либо действия самозащиты. Вместо этого мы «сдаемся», падаем в обморок или чувствуем, что вот-вот упадем в обморок.
При оцепенении мы теряем способность устанавливать зрительный контакт и двигать головой, шеей и глазами, чтобы сориентироваться в своем окружении. Оцепенение может проявиться экстремальным туннельным зрением, при котором мы теряем часть своего поля зрения. Мы можем видеть последовательные стоп-кадровые изображения или потерять способность различать цвета. Мы больше не можем модулировать свой голос, говоря вместо этого монотонно. Мы теряем контроль над своими лицевыми мышцами, наше лицо выглядит помертвевшим, бледным, вялым или смущенным. Наш слух становится менее восприимчивым к человеческим голосам и более чувствительным к угрожающим звукам. Мы можем даже испытать полную потерю слуха.
Мы также можем чувствовать, что все происходит как при замедленной съемке, или что мы вошли в какое-то измененное состояние реальности. С другой стороны, мы можем потерять счет времени; и впоследствии не вспомнить целые отрезки из произошедшего. Мы можем чувствовать себя сбитыми с толку и диссоциированными, как будто наблюдаем за событиями сквозь туман. Мы также можем субъективно ощущать себя вне своего тела, словно смотрим на себя с потолка или из другого конца комнаты. Каждое из этих описаний оцепенения я привожу, основываясь на собственном опыте и опыте людей, которых я обучала в течение последнего десятилетия.
Таким образом, хотя оцепенение может и не демонстрировать явных внешних визуальных сигналов стрессовой активации, внутренне это высокоактивное состояние, причем как СНС, так и дорсальная ПСНС включены в защитном режиме. На самом деле оцепенение имеет самый высокий уровень стрессовой активации, по определению это уровни за пределами нашего «окна», что понятно, поскольку оно обычно связано с травматическим стрессом.
Какую линию защиты выберет наш мозг выживания?
Позвольте мне сделать некоторые важные выводы из всей этой науки. Когда аллостаз работает должным образом, наш мозг выживания и нервная система сотрудничают, чтобы ежемоментно оценивать наш уровень риска – работая с нашей гормональной системой, чтобы отрегулировать наш уровень стресса и мобилизацию энергии, а также с иммунной системой, чтобы упреждающе защитить нас.
Таким образом, если мозг выживания оценивает ситуацию как безопасную – или что уровень риска находится в пределах нашего окна толерантности – наша нервная система будет в основном оставаться в режиме благополучия. Мы сможем общаться и сотрудничать с другими и оставаться ориентированными на наше окружение. Если же мозг выживания распознает угрозу, то нервная система перейдет в свой защитный режим, используя иерархию защитных механизмов. Чем большую опасность нейроцептирует наш мозг выживания, тем большую стрессовую активацию он мобилизует – и тем дальше мы будем «отступать» по иерархии вниз, от социального взаимодействия к «бей-или-беги» и, в конечном итоге, к оцепенению.
Независимо от того, насколько сильную стрессовую активацию мы мобилизовали, чтобы справиться с ситуацией – даже если нам пришлось полностью «откатиться назад» к оцепенению, – когда аллостаз функционирует должным образом, после того, как угроза миновала, мозг выживания снова включит вентральную ПСНС, чтобы мы могли полностью восстановиться. Этот процесс происходит инстинктивно, обычно без какого-либо участия со стороны мыслящего мозга, хотя мыслящий мозг может повлиять на это, к добру или к худу.
Однако если аллостаз не работает должным образом, нам может быть недоступен этот полный спектр адаптивных реакций, которые являются нашим врожденным репертуаром. В общем, чем у́же наше «окно», тем меньше диапазон реакций, которые мы сможем использовать.
Например если у кого-то вагусное торможение не функционирует должным образом, – что означает, что вентральная ПСНС не полностью доступна, – они не будут начинать с регулируемой базовой линии. Таким образом, когда нейроны их мозга выживания воспринимают какую-либо угрозу или вызов, даже незначительные, они немедленно мобилизуют стрессовую активацию, даже если стрессовая активация не является самым эффективным выбором для данной ситуации. Они могут проявлять признаки реакции «бей» – чрезмерно реагировать на малейшую провокацию, взрываться или набрасываться с гневом. Или же они могут по умолчанию впасть в реакцию «беги» – самоустраниться или полностью погрузиться в тревожные мысли. Или они могут по умолчанию прямо впасть в оцепенение – диссоциироваться от происходящего, впасть в коллапс, их может парализовать крайняя степень прокрастинации, они могут чувствовать себя оцепеневшими, онемевшими и подавленными.
В этих состояниях они не только будут испытывать трудности в нисходящей регуляции своей стрессовой активации, но и будут менее способны задействовать функции мыслящего мозга, такие как творческое решение проблемы, понятие перспективы, ситуационное осознание и контроль побуждений. Они не будут готовы улавливать позитивные социальные сигналы и эффективно взаимодействовать с другими людьми. Когда они действуют из такого активированного состояния, их отношения больше не могут быть источником безопасности, доверия, связи и поддержки. Вместо этого они будут чувствовать себя непонятыми или изолированными.
Нейропластичность играет определенную роль в той стратегии нашего мозга выживания, которую он изберет. Поскольку любой повторяющийся опыт изменяет мозг и нервную систему, понятно, что наша система ум – тело вырабатывает привычные защитные и реляционные стратегии, на которые затем регулярно опирается. По мере того как одна и та же стратегия применяется снова и снова, она становится глубоко закодированной в имплицитной памяти мозга выживания. Каждый раз, когда мы неосознанно выбираем стратегию, становится легче снова использовать ее по умолчанию и труднее получить доступ к любым другим стратегиям. Со временем мы заставляем себя по умолчанию использовать лишь несколько стратегий, теряя в этом процессе способность получать доступ ко всему спектру возможностей, присущих нашей системе ум – тело, и использовать его.
Некоторые из этих процессов, происходящих в нас по умолчанию, берут свое начало в нашем раннем социальном окружении. Некоторые происходят от повторяющегося опыта переживаний угроз и безопасности, которые уже имели место в жизни. А некоторые – от социализации в наших школах, на рабочих местах и в сообществах.
Таким образом, не случайно, что многие мужчины обычно используют стратегии в спектре «бей». Их учили, что «мальчики не плачут» – они должны быть жесткими, стоять на своем и «принимать это как мужчина». Профессии с высоким уровнем стресса, как правило, пропагандируют и формируют культ стратегии по умолчанию «бей», причем для обоих полов. Действительно, большинство тренингов в условиях высокого стресса явно предназначены для социализации и выработки этой конкретной реакции по умолчанию. У кого-то с такой внутренней обусловленностью любая маленькая провокация может вызвать реакцию «бей».
Если мозг выживания оценивает ситуацию как безопасную – или что уровень риска находится в пределах нашего окна толерантности, – наша нервная система будет в основном оставаться в режиме благополучия.
Чтобы привести другой пример, предположим, что кто-то в детстве неоднократно полагался на реакцию оцепенения. Впоследствии в жизни они все еще могут, как обычно, уходить в замешательство или молчаливое согласие во время угрожающих ситуаций – даже когда стоять на своем или убираться к черту оттуда было бы более эффективно. Такая реакция часто встречается среди людей, которые в детстве подвергались физическому, эмоциональному или сексуальному насилию. С точки зрения мозга выживания и нервной системы, эта реакция по умолчанию имеет смысл: учитывая, насколько молодыми и бессильными они были, когда над ними надругались, реакция оцепенения была адаптивной – она позволила им выжить. Очевидно, однако, что такое отношение, вероятно, уже не подходит для ежедневных ситуаций.
По сути, мозг выживания и нервная система могут застрять в нескольких запрограммированных контурах, при восприятии опасности начиная упрямо применять конкретные заложенные защитные и реляционные стратегии – независимо от того, подходят они для текущей ситуации или нет. Когда мы подключаем стандартные стратегии, основанные на «бей-или-беги» или оцепенении, эти нейронные связи становятся высокопроводимыми, высокочувствительными, сверхскоростными путями, которые легко стимулируются. На все эти связи влияют нейропластичность и эпигенетика, а также то, как мозг выживания учится и запоминает, что я и собираюсь рассмотреть в следующей главе.
Фактически до тех пор, пока мозгу выживания не будет позволено завершить свою восходящую обработку информации и полностью восстановиться, его стандартные стратегии будут бессознательно запускаться снова и снова. Нам нужна сознательная интенциональность, чтобы поддерживать процесс восстановления мозга выживания и развивать новые нейронные пути для доступа ко всей иерархии человеческих защитных стратегий. Отчасти именно поэтому методы терапии, основанные на доминировании мыслящего мозга, всегда остаются неполными.
Глава 5
Мозг во время стресса и травмы
Капрал морской пехоты, назовем его Хулио, готовился к своему первому бою. В то время я проводила в его взводе тренинги ФТУО. Меня сразу же поразили его добросовестность и любознательность.
В отряде Хулио были командиры, которые сопротивлялись занятиям ФТУО – отношение, которое разделили и несколько бойцов из взвода Хулио. В результате я обучала сорок морских пехотинцев, которые во время упражнений на движение принимали глупые позы или устраивали соревнования по рыганию и порче воздуха вместе со своими приятелями. Одни отказывались смотреть мне в глаза и разговаривать со мной. Другие общались со мной в чрезмерно вежливой манере, а затем высмеивали ФТУО, когда думали, что я их не слышу. Иначе говоря, в течение первых нескольких недель я регулярно сталкивалась с поведением напыщенных павлинов, отказами выполнять команды, обструкцией и попыткой доминировать – поведением, которое часто проявляется среди эмоционально незрелых групп, когда их просят сделать что-то, чего они не хотят делать.
В отличие от остальных, Хулио, командир отряда, старательно следил за тем, чтобы его морские пехотинцы проявляли уважение и активно участвовали в занятиях. Он слушал, задавал отличные вопросы и быстро улавливал связь между различными блоками материала. Имея за плечами многолетний опыт боевых единоборств, он с легкостью выполнял упражнения ФТУО. После каждого урока он подходил ко мне, чтобы наедине обсудить результаты того, что он изучил.
Во время четвертой сессии участники ФТУО узнают о реакции оцепенения и о ее месте в иерархии защитных стратегий человека. Я показываю видеоклипы о животных и людях, испытывающих оцепенение, чтобы участники могли видеть, как оно проявляется.
Во время этой дискуссии участники также часто говорят о своем собственном опыте оцепенения – о каком-либо травматическом событии (событиях), которое привело к оцепенению, и что они помнят, при этом отслеживая, что в это время происходит в их собственной системе ум – тело.
Понятно, что эта дискуссия сама по себе может вызвать стрессовую активацию среди ее участников – и во многих группах некоторые люди демонстрируют реакцию оцепенения во время обсуждения. По этой причине это сложный модуль для обучения. Инструктор должен помочь всем участникам группы снизить их уровень стрессовой активации, а также дать дополнительную поддержку тем, кто выдал реакцию оцепенения, причем так, чтобы не привлекать к ним особого внимания, так как это может привести к насмешкам в их адрес и чувству стыда.
На занятиях этого взвода обсуждение оцепенения было особенно активным. Многие пехотинцы делились яркими личными историями. Морпехи, которые никогда не разговаривали на занятиях раньше, охотно вступали в разговор. Это был первый случай, когда вся группа активно участвовала в дискуссии без какого-либо сопротивления.
Тем не менее многие морские пехотинцы испытывали высокий уровень стрессовой активации во время обсуждения, а три человека, включая Хулио, выдали реакцию оцепенения как реакцию по умолчанию. Я видела, как их глаза стали стеклянными и пустыми, они смотрели вдаль, ничего не видя. Их плечи подались вперед. Их тела стали неподвижными. Морские пехотинцы в оцепенении молчали.
При наличии такой большой стрессовой активации одновременно мне пришлось импровизировать. С помощью различных методов я смогла помочь большинству из них снизить уровень их стрессовой активации до пределов их «окна». Во время дополнительных перерывов я тайком работала с Хулио и двумя другими морскими пехотинцами, которые оцепенели; в итоге они тоже стабилизировались в пределах своих «окон».
Тем не менее я могла сказать, что оцепенение Хулио было серьезным – он был первым, кто впал в оцепенение и дольше всех после этого стабилизировался. Немного ранее я уже запланировала индивидуальные встречи с каждым морским пехотинцем в течение следующих нескольких дней, чтобы обсудить их сегодняшний опыт с ФТУО. Теперь я могла легко изменить графики интервью, чтобы встретиться с Хулио в тот же день, не выделяя это как-то особенно.
Оставшись один, Хулио рассказал мне, что во время просмотра видео про оцепенение он неожиданно обнаружил, что мысленно возвращается к событию из детства – чему-то, о чем он не думал уже очень долгое время. В течение более чем сорока пяти минут мы с Хулио терпеливо прорабатывали то, что произошло, давая ему возможность вновь пережить то же самое воспоминание, находясь в пределах своего «окна», а затем разрядить стрессовую активацию. Я со стороны направляла его внимание, и совместными усилиями мы помогли его мозгу выживания завершить некоторую необходимую восходящую обработку информации, а затем провести восстановление. В этой главе, однако, я хочу исследовать то, что происходило в мыслящем мозге Хулио и в его мозге выживания во время того, как он провалился в воспоминания.
Стрессовая активация влияет на мозг, особенно на обучение и память.
Хулио девять лет. Он играет в мяч на улице с друзьями и несколькими старшими родственниками, которые являются членами банды. Внезапно из-за угла выворачивает грузовик и мчится по улице. Когда люди в грузовике начинают стрелять, группа Хулио понимает, что стреляющие принадлежат к конкурирующей банде. Он чувствует, как старший кузен хватает его за руку и бежит в поисках укрытия. Он видит, как подросток падает вперед, все еще держа за руку Хулио. Хулио тоже чувствует, что падает, что его тащит вниз кузен.
Внезапно все становится совершенно безмолвным. Все кажется черно-белым. Хулио оглядывается и видит, что его все еще держит рука кузена. Как бы он хотел вырвать назад свою руку. Он медленно падает вперед, и кажется, что падение будет продолжаться вечно.
В какой-то момент он чувствует, что его поднимают на ноги. У него острая боль в плече. Следующее, что замечает Хулио, – это то, что он смотрит на мертвое тело своего кузена, который лежит в крови и кишках. В этот момент звук обратно врывается в уши – и его оглушает. Хулио слышит вой сирен, крики и плач людей. Он понимает, что кто-то настойчиво кричит на него, но не может понять, что ему говорят. Он чувствует головокружение, как будто вот-вот упадет в обморок.
Мозг выживания во время стресса
Точно так же, как стрессовая активация затрагивает нашу нервную систему и тело, она также влияет на мозг, особенно на обучение и память. С эволюционной точки зрения это имеет смысл: способность помнить и учиться на стрессовых событиях важна для выживания. Мыслящий мозг и мозг выживания имеют свои собственные формы обучения и памяти, которые позволяют им выполнять свои соответствующие функции.
Тем не менее стресс и травма по-разному влияют на мыслящий мозг и мозг выживания, что приводит к неоднозначным последствиям для соответствующих каждому из них процессов обучения и памяти. В этой главе мы рассмотрим эти различия.
Стресс и травма возникают в мозге выживания с помощью нейроцепции, этого бессознательного процесса определения внутренних и внешних стимулов как угроз/опасности или возможностей/безопасности. Эта часть мозга, отвечающая за нейроцепцию, называется миндалевидной железой, которая, как вы помните из главы 3, является областью мозга, утолщающейся при повторяющемся беспокойстве. Нейроцепция запускает в основном бессознательный спектр условных реакций, тенденция которых – приближаться к возможностям и избегать угроз. Поскольку нейроцепция вызывает условные рефлексы, мозг выживания участвует в «восходящей обработке сенсорной информации» – наших в основном бессознательных эмоциональных и физиологических реакциях на события. Экономист Дэниел Канеман[29] описывает это как мышление Системы 1 – «быстрое мышление» – потому что оно работает автоматически, без усилий или чувства волевого контроля.
Поскольку мозг выживания не вербален, он не сообщает нам об этом процессе посредством мыслей или рассказов. Скорее он порождает эмоции и физические ощущения, чтобы активировать условленные защитные и реляционные стратегии. Поскольку мозг выживания находится вне сознания, мы не можем непосредственно видеть или знать, что там происходит. Мы можем лишь видеть проявления его действия в симптоматике стрессовой активации в нашей системе ум – тело.
Чтобы поддерживать нейроцепцию, мозг выживания нуждается в быстрой системе обучения и памяти. Таким образом, его система обучения является рефлексивной, бессознательной и непроизвольной – полностью минуя мыслящий мозг.
Система обучения мозга выживания называется имплицитным обучением, или Системой обучения 1. Имплицитное обучение происходит преимущественно в миндалевидной железе, и оно является обобщением из всех предыдущих опытов нейроцепции. Большая часть этого обусловленного обучения обрабатывается и хранится в мозге выживания.
Имплицитное обучение поддерживается имплицитной (или не-декларативной) памятью. Каждый опыт, который мы получаем, постоянно формирует имплицитную память. Когда имплицитная память связана с приобретением двигательных навыков или телесных реакций, она называется процедурной памятью. Например процедурная память включает в себя обучение игре на инструменте, езде на велосипеде, ходьбе или бегу и стрельбе из оружия.
Стресс и травма по-разному влияют на мыслящий мозг и мозг выживания, что приводит к неоднозначным последствиям для соответствующих каждому из них процессов обучения и памяти.
В то время как мыслящий мозг деградирует из-за длительного или экстремального уровня стресса, процессы обучения и памяти мозга выживания происходят бессознательно при любом уровне стрессовой активации. Более того, чем сильнее стрессовая активация, тем больше мозг выживания учится и запоминает.
При умеренном уровне стресса миндалевидная железа взаимодействует с гиппокампом, создавая эксплицитную память, а миндалевидное тело обеспечивает эмоциональный компонент памяти.
Однако при высоком уровне стресса миндалевидная железа все еще обеспечивает эмоциональный компонент памяти, даже с большей интенсивностью, но функция гиппокампа нарушается. Таким образом, при высоких уровнях возбуждения мы можем не консолидировать сознательные воспоминания, даже если мозг выживания помнит очень много. Поскольку гиппокамп при высоком уровне стресса может даже отключиться, сознательные воспоминания о чрезвычайно стрессовых или травматических переживаниях часто бывают неполными, противоречивыми или фрагментированными. История Хулио показывает пример такой динамики – некоторые детали в его повествовании особенно ярки, в то время как другие фрагменты отсутствуют. Тем не менее миндалевидная железа усваивает и обобщает значительную часть из происходящего в чрезвычайно стрессовых и травмирующих ситуациях.
Большинство вещей, которые вызывают у нас беспокойство, обусловлены имплицитным обучением – то есть это происходит либо потому, что наша миндалевидная железа подсознательно связывает происходящее с чем-то, ранее воспринимавшимся как угроза, либо потому, что миндалевидная железа на основе сходства обобщила это с чем-то, что ранее воспринималось как угроза. На самом деле, когда имплицитная и процедурная память кодируются в условиях угрозы жизни, эти бессознательные воспоминания становятся более перманентными и устойчивыми к распаду, они также чаще используются для обобщения с другими ситуациями.
Имплицитная память – это не просто факты или информация. Она включает в себя реакции нервной системы, физические ощущения, мышечное и миофасциальное напряжение, позы тела, эмоции и паттерны движений, используемых в акте защиты. Эти сенсорные и моторные реакции становятся частью репертуара мозга выживания при нашем столкновении с подобными угрозами в будущем. Эти условные реакции могут активироваться даже без нашего осознания, как это было в случае с морскими пехотинцами, которые испытали оцепенение на занятиях.
В случае Хулио, когда он смотрел видео с животным, прижатым хищником, его мозг выживания, вероятно, обобщил информацию и вызвал в памяти опыт его падения с кузеном. Хотя Хулио не был фактически «прижат» во время этого падения, ощущение того, что он попал в ловушку, беспомощен и не может вырваться из хватки своего кузена, очень напоминало это состояние. Это похожее ощущение в теле Хулио, проделав путь к его мозгу выживания через висцеральную афферентную систему ВНС, вероятно, побудило его мозг выживания начать реакцию оцепенения.
Приведу еще один пример: однажды я работала с «Сэмом», морским пехотинцем, который ранее служил в Афганистане. Много лет спустя, перед очередной военной операцией, Сэм проснулся рано утром с колотящимся сердцем, прерывисто дыша, его тело сжалось в позе эмбриона, он испытывал жгучее желание вскочить с постели. Он не мог понять, почему у него такая реакция.
Я объяснила Сэму, что даже если его мыслящий мозг не может этого понять, мы должны верить, что его мозг выживания имеет важную причину для такого поведения. В следующий раз, когда это случилось, я попросила его отрешиться от чувства отчаяния его мыслящего мозга и встать с постели, чтобы сделать упражнение на снижение уровня стресса. (Я научу вас этому упражнению в Части III.)
Спустя неделю, выполняя это упражнение каждое утро, мыслящий мозг Сэма наконец понял: во время его предыдущего военного базирования он просыпался почти каждое утро до рассвета, поскольку его передовую оперативную базу постоянно обстреливали. Вполне понятно, что его мозг выживания развил сильные имплицитные и процедурные воспоминания о необходимости по пробуждении бежать в укрытие от падающих снарядов. И вот теперь, в преддверии следующего боевого развертывания, мозг выживания Сэма обобщил то, что он неоднократно просыпался под огнем в Афганистане, чтобы воссоздать свои предрассветные приступы тревоги дома.
Мыслящий мозг во время стресса
Точно так же, как мозг выживания использует нейроцепцию и имплицитное обучение, чтобы помочь нам оставаться в безопасности, у мыслящего мозга есть свои функции, способствующие нашему выживанию. Стратегия защиты мыслящего мозга состоит в том, чтобы анализировать, планировать, обдумывать и принимать решения. Он участвует в «нисходящей обработке сенсорной информации» – наших в основном произвольных и сознательных когнитивных реакциях на наши переживания. Дэниел Канеман описывает это как Систему мышления 2 – «медленное мышление». Система 2 действительно медлительна и требует усилий, характеризуется концентрацией, сознательным обдумыванием и чувством свободы воли.
Параллельно с нейроцепцией мозга выживания мыслящий мозг отвечает за исполнительное функционирование, которое происходит преимущественно в префронтальной коре. Исполнительное функционирование позволяет нам сосредоточиться, обращать внимание и вспоминать информацию, относящуюся к задаче, держа отвлекающие факторы в стороне. Исполнительное функционирование также поддерживает сознательное принятие решений. Также мы используем его для «нисходящей» регуляции стрессовой активации, импульсивного поведения, влечений и эмоций. Таким образом, как вы можете понять, оно также играет большую роль в том, чтобы «держать волю в кулаке».
Исполнительное функционирование может быть нарушено несколькими способами. Как уже объяснялось в главе 3, мы можем истощить исполнительные функции головного мозга многозадачностью. Мы также можем ухудшить их с помощью алкоголя и наркотиков, именно поэтому мы гораздо меньше сдерживаемся, когда находимся под их влиянием. Исполнительные функции также ослабляются под влиянием стресса.
Исполнительные функции – как кредитный банк: мы можем опустошить его запасы, интенсивно используя их двумя способами. С одной стороны, мы можем истощить их с помощью так называемых «холодных» когнитивных задач – умственных задач, требующих детального внимания и концентрации, таких как чтение плотного текста, написание отчета или выполнение подробных вычислений. С другой стороны, мы можем истощить их с помощью «горячих» регуляторных задач – сознательных, нисходящих усилий обуздать какую-то тягу, переформулировать или разобрать по полочкам негативные эмоции, управляя или подавляя стрессовое возбуждение.
Всякий раз, истощая исполнительные функции с помощью «холодных» или «горячих» задач, в банке остается все меньше средств для оплаты расходов и на те, и на другие. Вот почему, например, когда мы весь день просматриваем подробные финансовые документы, то есть выполняем «холодную» задачу, а затем кто-то подрезает нас в пробке по дороге домой, мы с большей вероятностью поддадимся своей досаде и покажем им палец, или же, вернувшись домой, мы с большой вероятностью нарушим нашу диету. Для «горячего» регулирования ничего не остается.
И наоборот, когда мы испытываем хроническое напряжение в значимых для нас личных отношениях или постоянную дискриминацию на работе – обе ситуации требуют постоянного «горячего» регулирования – нам, возможно, придется прочитать один и тот же абзац семь раз, пока до нас наконец начнет доходить то, что там написано, потому что ничего не остается для «холодного» осмысления.
Независимо от того, насколько нарушаются или истощаются исполнительные функции, в этом состоянии нашими решениями скорее всего будут управлять стресс и эмоции. И то, как наш мыслящий мозг воспринимает ситуацию, будет больше обусловлено стрессом и эмоциями. Мы также будем более склонны к привычному, импульсивному, реактивному, насильственному или неэтичному поведению.
Для поддержания исполнительного функционирования мыслящему мозгу необходима система обучения и памяти, которая придает повышенное значение контексту – ситуационной информации в пространстве и времени. Система обучения мыслящего мозга – это сознательное обучение, или Система обучения 2. Сознательное обучение происходит преимущественно в гиппокампе.
Сознательное обучение поддерживается эксплицитной (или декларативной) памятью – то есть, например, памятью о событиях, фактах, лицах, словах или информации. В отличие от имплицитной памяти, мы обращаемся к эксплицитной памяти намеренно, например когда вспоминаем историю своей жизни или пытаемся вложить новую информацию в наш «банк знаний». И поскольку нервные волокна в гиппокампе не образуют жировую оболочку, позволяющую им проводить электричество, до достижения нами двухлетнего возраста – этот процесс называется миелинизацией, – мы редко имеем четкие воспоминания наших самых ранних лет.
Эксплицитная память зависит от нашего интеллекта и других индивидуальных особенностей, но она также, как показывает история Хулио, сильно зависит от уровня нашей стрессовой активации.
Слабая или умеренная стрессовая активация усиливает эксплицитную память и сознательное обучение в краткосрочной перспективе. При легком или умеренном стрессе повышенный уровень кортизола и сахара в крови означает, что гиппокамп имеет доступ к готовой энергии, которая фо