Воронье озеро бесплатное чтение
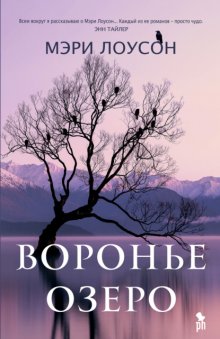
© Марина Извекова, перевод, 2021
© «Фантом Пресс», оформление, издание, 2022
Посвящается Элинор, Нику и Натаниэлю, а в первую очередь Ричарду
Предисловие автора
«Воронье озеро» – художественное произведение. Озер на севере провинции Онтарио не счесть, и пять-шесть из них, если не больше, носят «вороньи» названия, и все же ни одно не стало прообразом Вороньего озера в романе. Точно так же вымышлены и все герои, есть лишь два исключения. Во-первых, моя прабабушка, что и в самом деле приладила к прялке подставку для книги. Детей у нее, правда, было всего четверо, а не четырнадцать, но ей, фермерше с полуострова Гаспе, время на чтение выкроить было нелегко. Во-вторых, моя младшая сестра Элинор, послужившая прототипом малышки Бо. Спасибо ей за разрешение воссоздать ее детство, а также за неустанную поддержку, воодушевление и помощь в работе над книгой.
Благодарю моих братьев Джорджа и Билла не только за их юмор, веру и за то, что всегда были мне опорой, но и за сведения о природе Вороньего озера. Оба знают север в тысячу раз лучше, чем я, и их любовь к нашему краю тоже вдохновила меня на создание книги.
Есть и другие, кому я многим обязана. Спасибо:
– Аманде Милнер-Браун, Норе Адамс и Хилари Кларк за участие, зоркость и честность там, где было бы проще и вежливее солгать.
– Стивену Смиту, поэту и учителю, за вдохновение.
– Пенни Баттс за то, что много лет назад помогла мне взяться за дело и никогда не сомневалась, что я доведу его до конца.
– Деборе Макленнан и Элен Сюр, профессорам кафедры зоологии Торонтского университета, за то, что помогли мне заглянуть в мир научных исследований. (Наверняка я все равно в чем-то ошиблась, но это целиком на моей совести.)
– Фелисити Рубинштейн, Саре Лютьен и Сюзанне Годмен, а также семьям Лютьен и Рубинштейн за их знания, такт, энергию и увлеченность.
– Элисон Сэмюэль из издательства Chatto & Windus в Лондоне, Сьюзен Кэмил из издательства Dial Press в Нью-Йорке и Луизе Деннис из издательства Knopf Canada в Торонто за восприимчивость, чутье и профессионализм при подготовке рукописи к печати.
Также хочу отметить книгу Марджори Гатри «Обитатели поверхностной пленки» (издательство Richmond Publishing Company Ltd., Слау), бесценный источник справочной информации.
И наконец, самое главное, благодарю моего мужа Ричарда и сыновей Ника и Натаниэля за неизменную веру, утешение и поддержку длиною в жизнь.
Часть первая
Пролог
Моя прабабушка Моррисон приладила к прялке подставку для книги, чтобы читать за работой, – так гласит семейное предание. А однажды субботним вечером она настолько увлеклась, что оторвала взгляд от книги лишь в полпервого ночи – оказалось, она целых полчаса пряла в воскресный день, по тем временам страшный грех.
Нашу семейную легенду я пересказываю не просто так. С недавних пор я пришла к выводу, что прабабушка и ее подставка для книги очень многое объясняют. События, что разрушили нашу семью и положили конец нашим мечтам, случились спустя не один десяток лет после ее смерти, но это не значит, что прабабушка не повлияла на исход. То, что произошло между Мэттом и мной, не объяснишь, не упомянув прабабушку. И часть вины, безусловно, лежит на ней.
Когда я была маленькая, в комнате родителей висела прабабушкина фотография. Я, совсем еще кроха, подолгу простаивала перед нею, набираясь храбрости заглянуть прабабушке в глаза. Была она небольшого роста, прямая, тонкогубая, вся в черном, с белоснежным кружевным воротничком (который наверняка по вечерам тщательно стирала, а каждое утро гладила). С виду строгая, даже недовольная, без тени веселья. Вот что значит за тринадцать лет родить четырнадцать детей и возделывать обширный участок на полуострове Гаспе – пять тысяч акров бесплодной земли. Как она выкраивала время на рукоделие, тем более на чтение, ума не приложу.
Из детей в нашей семье, а нас было четверо – Люк, Мэтт, Бо и я, – один только Мэтт хоть отчасти на нее походил. Он вовсе не был угрюм, но от прабабушки ему достались волевой рот и пронзительные серые глаза. Если я вертелась в церкви и встречала недовольный мамин взгляд, то косилась на Мэтта – заметил ли? И он каждый раз замечал и делал строгие глаза, но в последнюю секунду, когда я уже готова была приуныть, подмигивал.
Мэтт был старше меня на десять лет, высокий, серьезный, умный. Его страстью были пруды, в миле-двух от нашего дома, по ту сторону от железнодорожных путей. Это были старые гравийные карьеры, заброшенные много лет назад, после строительства дороги, – и какой только удивительной живности там не водилось! Когда Мэтт стал меня брать с собой на эти водоемы, я была совсем маленькой и он носил меня на плечах – через лес, где буйствовал ядовитый плющ, вдоль железнодорожных путей, мимо пыльных вагонеток, ждавших груза сахарной свеклы, вниз по крутому песчаному косогору к воде. Там мы, растянувшись на животе под палящим солнцем, глядели в темную глубину и ждали, кто оттуда покажется.
Вот самая яркая картинка из детства: паренек лет пятнадцати-шестнадцати, худощавый, русый; рядом белобрысая девчонка – две косички за спиной, тонкие ноги загорели дочерна. Оба лежат не шелохнувшись, уронив головы на руки. Мальчик что-то показывает девочке – точнее, живность сама показывается из темных закоулков меж камней, а мальчик рассказывает.
– Пошевели пальцем, Кейт. Поводи туда-сюда. И он подплывет, не сможет удержаться…
Девочка с опаской шевелит пальцем, и точно так же с опаской подплывает детеныш каймановой черепахи, посмотреть, в чем дело.
– Вот видишь? Они очень любопытные, черепашата эти. А как вырастут, станут злобные, подозрительные.
– Почему?
Как-то раз мы поймали на суше взрослую каймановую черепаху, сонную с виду, а вовсе не злобную – голова в складочку, будто резиновая, так и хочется погладить. Мэтт протянул ветку в палец толщиной, и черепаха перекусила ее пополам.
– Защищены они хуже других черепах – панцири им маловаты. Вот они и боятся.
Девочка кивает, косички шлепают по воде, и от них расходятся круги. Она впитывает каждое слово.
За эти годы мы провели так, наверное, сотни часов. Я научилась различать головастиков: леопардовых лягушек, лягушки-быка – толстых серых, жабьих – крохотных черных, подвижных. Я узнавала черепах и сомов, водомерок и тритонов, вертячек, выписывавших на воде лихие кренделя. Проходили сотни часов, сменялись времена года, жизнь в прудах замирала и возрождалась, а я подросла, и Мэтту стало тяжело таскать меня на плечах, теперь я пробиралась за ним сквозь чащу. Этих перемен я, конечно же, не осознавала, они были постепенны, а у детей очень смутное представление о времени. Для них завтра – это еще не скоро, а годы летят незаметно.
1
Когда наступил конец, он грянул как гром среди ясного неба, и лишь спустя годы я поняла, что вела к нему целая цепочка событий. Некоторые из этих событий вовсе не касались нас, Моррисонов, – это были семейные дела Паев, ближайших наших соседей, с фермы в миле от нас. Паи и всегда-то, с незапамятных времен, слыли неблагополучной семьей, но в тот год в их большом старом фермерском доме, стоявшем на отшибе, разворачивался настоящий кошмар. И мы не ведали, что кошмару Паев суждено переплестись с мечтой Моррисонов. Предвидеть такое было невозможно.
Конечно, если ищешь истоки каких-то событий, то рискуешь влезть в немыслимые дебри, чуть ли не до Адама докопаться. Но в нашей семье в то лето грянула катастрофа, после которой могло начаться все что угодно. Случилась она в июле, душным субботним днем, когда мне было семь лет, и нормальная семейная жизнь на этом закончилась; даже сейчас, спустя почти двадцать лет, я не в силах смотреть на это трезво.
Только одно можно сказать в утешение: хотя бы закончилось все на мажорной ноте, ведь за день до того – в последний день, когда мы были вместе всей семьей, – родители мои узнали, что Люк, еще один мой брат, сдал выпускные экзамены и его приняли в педагогический колледж. Такого успеха от Люка никто не ожидал, ведь ему, мягко говоря, науки давались с трудом. Помню, где-то я вычитала теорию, что в семье у каждого есть роль – «умница», «красавчик», «эгоист». Стоит хоть немного вжиться в роль, и она к тебе прилипнет намертво – что бы ты ни делал, люди видят не тебя, а свои ожидания, – но в самом начале, когда только примеряешь роль на себя, у тебя есть выбор. Если так, то Люк с детства облюбовал себе роль «оторви да брось». Не знаю, что определило его выбор, но, может статься, ему все уши прожужжали историей о прабабушке и ее знаменитой подставке для книг. Эта история стала несчастьем всей его жизни. Причем не единственным: еще одно – такой брат, как Мэтт. Мэтт столь явно умом удался в прабабушку, что Люку даже не стоило за ним гнаться. Проще было нащупать свой истинный дар – а лучше всего у него получалось мотать нервы родителям – и практиковаться без устали.
Но так или иначе, вопреки себе самому, в девятнадцать лет он сдал экзамены. Сбылась мечта трех поколений: первый из Моррисонов получит наконец высшее образование.
Да и не только из Моррисонов, а, сдается мне, первый на Вороньем озере, в небольшой фермерской общине на севере Онтарио, где все мы четверо родились и выросли. В те дни Воронье озеро с внешним миром связывали лишь пыльная грунтовка да железная дорога. Поезда не останавливались, если им не помашешь, а грунтовка вела только на юг, ибо кому охота пробираться дальше на север? Десяток ферм, лавка, несколько неприметных домиков на берегу, школа да церковь – больше ничего на Вороньем озере не было. Повторюсь, за всю историю из наших мест не вышло ни одного ученого, и успех Люка достоин был первой полосы воскресной церковной газеты, не разразись в нашей семье катастрофа.
Люк, видимо, получил из колледжа письмо-подтверждение в пятницу утром и сказал маме, а та позвонила отцу на работу, в банк в Струане, за двадцать миль от нас. Неслыханное дело, чтобы жена отвлекала мужа от работы, если это работа в офисе. И все-таки мама ему позвонила, и они решили объявить нам новость за ужином.
Ту трапезу я прокручивала в голове множество раз, но вовсе не из-за потрясающей новости Люка, а потому что это был наш последний семейный ужин. Да, память играет с нами шутки, хранит ложные воспоминания наряду с подлинными, но этот ужин я помню во всех подробностях. И спустя годы горше всего для меня то, до чего он был будничным, обыденным. Сдержанность в нашем доме считалась за правило. Чувства, даже радость, полагалось обуздывать. Такова была Одиннадцатая заповедь, начертанная на отдельной скрижали и выданная пресвитерианам: Не давай воли чувствам.
Итак, ужин в тот вечер был самый обычный – довольно строгий и чопорный, и развлекала нас время от времени только Бо. Сохранилось несколько ее фотографий в том возрасте. Кругленькая, как колобок, светлый пушок на голове торчком, будто ее ударило молнией. Вид у нее кроткий и безмятежный – судите сами, насколько может врать фотоаппарат.
Все мы сидели на своих обычных местах: на одном конце стола Люк и Мэтт, девятнадцати и семнадцати лет, на другом – семилетняя я и полуторагодовалая Бо. Помню, как отец начал читать молитву, но тут Бо его перебила, попросила соку, а мама сказала: «Подожди минутку, Бо. Закрой глаза». Отец начал заново, Бо опять перебила, и мама пригрозила: «Еще раз перебьешь – отправишься в кровать», и Бо, сунув в рот большой палец, принялась его сосать, ритмично почмокивая, будто тикает бомба с часовым механизмом.
– Попробуем еще раз, Господи, – сказал отец. – Благодарим Тебя за пищу, что Ты дал нам сегодня, а главное – за сегодняшнюю новость. Помоги нам никогда не забывать, насколько мы счастливы. Помоги нам с умом распоряжаться нашими возможностями и использовать наши малые дары во славу Твою. Аминь.
Люк, Мэтт и я потянулись, мама налила Бо сок.
– А что за новость? – спросил Мэтт. Сидел он прямо напротив меня – если соскользнуть на краешек стула и вытянуть ноги, то можно дотронуться большим пальцем ноги до его колена.
– Ваш брат, – отец кивком указал на Люка, – поступил в педагогический колледж. Сегодня пришло письмо-подтверждение.
– Серьезно? – Мэтт покосился на Люка.
Посмотрела на него и я. Вряд ли до того дня я хоть раз внимательно вглядывалась в Люка, всерьез его замечала. Почему-то совместных дел у нас с ним почти не было. Он старше Мэтта, но, думаю, разница в возрасте тут ни при чем. Просто общего между нами было немного.
Но в тот раз я впервые разглядела его по-настоящему – за столом рядом с Мэттом, там же, где он сидел последние семнадцать лет. Во многом они были похожи – сразу видно, братья. Почти одного роста, светло-русые, сероглазые, с длинными моррисоновскими носами. Отличались они в основном сложением: Люк – плечистый, тяжелее Мэтта фунтов на тридцать, неторопливый и сильный, а Мэтт – ловкий, проворный.
– Серьезно? – притворно удивился Мэтт. Люк искоса глянул на него. Мэтт широко улыбнулся и, уже не прикидываясь удивленным, сказал: – Вот здорово! Поздравляю!
Люк пожал плечами.
Я спросила:
– Ты будешь учителем? – Это не укладывалось в голове. Учитель – человек очень важный, а Люк – всего-навсего Люк.
– Да.
Он сидел развалясь, но на сей раз отец не сделал ему замечания. Мэтт тоже сидел развалясь, но не так эффектно, он не распластывался, как Люк, а потому в сравнении с ним всегда казался более-менее собранным.
– Повезло парню, – заметила мама. Она так старалась спрятать неподобающую радость и гордость, что в голосе прорывались сердитые нотки. Она раздавала еду: свинину от Тэдвортов, картошку, морковь и фасоль с фермы Кэлвина Пая, пюре из яблок миссис Джени – яблони у той в саду были старые, корявые. – Не всем выпадает такое счастье, далеко не всем. Вот, Бо, твой ужин. И ешь как следует, с едой не играй.
– Когда ты едешь? – спросил Мэтт. – И куда, в Торонто?
– Да, в конце сентября.
Бо взяла пригоршню стручковой фасоли, прижала к груди и замурлыкала.
– Надо тебе, наверное, костюм купить, – сказала мама Люку. И посмотрела на отца: – Нужен ему костюм?
– Не знаю, – отвечал отец.
– Давайте купим, – вставил Мэтт. – Красавчик он будет в костюме!
Люк в ответ только фыркнул. При всем их несходстве и притом что Люк вечно нарывался на неприятности, а Мэтт – никогда, уживались они мирно. Оба были, скажем так, незлобивы, да и по большей части обитали в разных мирах, а потому редко сталкивались. Совсем без драк у них все же не обходилось, и когда доходило до кулаков, все чувства, которые положено сдерживать, разом прорывались наружу, и прощай, Одиннадцатая заповедь! Почему-то родители ничего против драк не имели – как видно, считали, что мальчишки есть мальчишки, на то и дал им Бог кулаки. Впрочем, однажды Люк сгоряча нацелился Мэтту в голову, но промахнулся, саданул по дверному косяку да как заорет: «Ублюдок чертов!» – за что был на неделю изгнан из столовой и ужинал на кухне, стоя.
Если кого и расстраивали их потасовки, так это меня. Мэтт был проворней, но Люк куда сильнее, и я боялась, что когда-нибудь один из его мощных ударов достигнет цели, и тогда прощай, Мэтт! Я пыталась остановить их криком и так злила родителей, что наказывали зачастую меня – отправляли в комнату.
– Что ему нужно, – сказал отец, весь в мыслях о костюме и прочем, – так это чемодан.
– Ох, – вздохнула мама. Черпак завис над чугунком картошки. – Чемодан, – повторила она. – Это да.
Лицо ее на миг омрачилось. Я, отложив в сторону нож, впилась в нее беспокойным взглядом. Думаю, до той минуты она не вполне сознавала, что Люк уедет.
Бо тихонько баюкала стручки фасоли, прижимая их к плечу, напевала им песенку.
– Баю-бай, баю-бай, – мурлыкала она, – баю-баю-бай…
– Положи, Бо, – рассеянно сказала мама, по-прежнему держа на весу черпак. – Это еда. Положи, а я их тебе порежу.
На лице Бо отразился ужас. Она взвизгнула, прижала стручки к себе покрепче.
– Ох, ради бога! – воскликнула мама. – Прекрати. Сил моих нет.
И лицо ее вновь смягчилось, и опять все стало как обычно.
– Надо бы в город съездить, – сказала она отцу. – В универмаг, там есть чемоданы. Да хоть завтра поедем.
И в субботу они вдвоем отправились в Струан. Обоим ехать было вовсе необязательно, любой из них мог бы выбрать чемодан сам. Да и спешить было некуда, занятия у Люка начинались только через шесть недель. Им не терпелось, вот и все. Они бурно радовались, пусть это и не вяжется с такими спокойными, земными людьми. Еще бы, их сын! Будет у Моррисонов в роду учитель!
Меня и Бо родители брать с собой не хотели, но и оставлять нас одних тоже, слишком мы были малы, и они дождались, пока Люк и Мэтт вернутся с фермы Кэлвина Пая. Оба подрабатывали на ферме по выходным и на каникулах. Детей у Паев было трое, но из них две девочки, а сыну, Лори, всего четырнадцать, не окреп еще для тяжелой работы, и без батраков мистеру Паю было не обойтись.
Мэтт и Люк возвратились часа в четыре. Родители предложили Люку поехать с ними за чемоданом, но Люк сказал нет – он, мол, от жары умирает, хочет окунуться.
Кажется, помахала им на прощанье только я одна. Может быть, я и сама это придумала, не в силах вынести, что не попрощалась, – но нет, я помню все как было. Остальные трое так и не вышли проститься: Бо обиделась, что родители ее не берут, а Мэтт и Люк, глядя на нее исподлобья, гадали, кому с ней возиться до вечера.
Машина вывернула на грунтовку и скрылась из глаз. Бо плюхнулась на усыпанную гравием подъездную дорожку и заревела.
– Ну, я иду купаться, – объявил во весь голос Люк, пытаясь перекричать Бо. – Жарища. Весь день вкалывал как проклятый.
– Я тоже, – отозвался Мэтт.
– Я тоже, – подхватила я.
Мэтт подтолкнул Бо под попку:
– А ты, Бо? Тоже вкалывала весь день как проклятая?
Бо взвыла громче.
Люк спросил:
– Почему она все время так мерзко орет?
– Знает, как тебя порадовать, – сказал Мэтт. Он наклонился к Бо, разжал ей кулачок и вставил в рот большой палец. – Поплаваем, Бо? Хочешь поплавать?
Бо кивнула, мыча с пальцем во рту.
Наверное, в тот день мы впервые в жизни пошли купаться все вместе, вчетвером. От дома до озера двадцать ярдов, хочешь – иди и купайся, только не припомню, чтобы мы хоть раз все хором захотели. Зато мама всегда брала с собой Бо. А мы в тот раз перебрасывались ею, словно мячиком, – весело было! Это я помню хорошо.
Помню еще, что едва мы вылезли из воды, подошла Салли Маклин. Мистер и миссис Маклин были хозяева единственной на Вороньем озере лавки, а Салли – их дочка. С некоторых пор она к нам зачастила и всякий раз делала вид, будто зашла на минутку, по пути куда-то. Странное дело, ведь идти от нас некуда. Дом наш на отшибе, самый дальний на Вороньем озере, дальше – три тысячи миль безлюдья, а еще дальше – Северный полюс.
Люк и Мэтт кидали в воду камушки, но, завидев Салли, Мэтт отвлекся, подсел ко мне и стал смотреть, как я закапываю Бо в песок. Бо была в восторге, ее еще никогда не закапывали. Я вырыла ей в нагретом песке ямку, и она села туда, голенькая, кругленькая, загорелая, и смотрела во все глаза, сияя от счастья, как я делаю вокруг нее песчаный холмик.
Салли Маклин остановилась в нескольких футах от Люка и, подбоченясь, стала чертить на песке носком туфли. Они с Люком переговаривались вполголоса, не глядя друг на друга. Я к ней не присматривалась. Закопав Бо до подмышек, я принялась выкладывать на песчаном холмике узоры из гальки, а Бо вынимала камешки и вставляла куда попало.
– Не надо, Бо, – попросила я. – Не порти узоры.
– Горох, – сказала Бо.
– Нет, не горох. Это галька, ее не едят.
Бо потянула в рот камушек.
– Нельзя! – крикнула я. – Выплюнь!
– Вот глупая. – Мэтт наклонился, сжал Бо щеки пальцами, рот у нее сам собой раскрылся, и Мэтт выудил камешек. Бо хихикнула, сунула в рот большой палец, вынула, оглядела – слюнявый, весь в песке.
– Фасоль, – сказала Бо и опять зачмокала.
– Теперь у нее полон рот песку, – всполошилась я.
– Ничего ей не сделается.
Мэтт смотрел на Люка и Салли. Люк по-прежнему кидал камешки, но уже осторожнее, тщательно отбирая самые плоские. Салли без конца поправляла волосы. Были они длинные, густые, медно-рыжие, и ветерок с озера играл прядками. Смотреть на них с Люком мне было скучно, но Мэтт за ними наблюдал с тем же вдумчивым интересом, что и за прудовой живностью.
Его интерес передался и мне. Я спросила:
– Что ей тут надо? Куда она идет?
С минуту Мэтт молчал, потом ответил:
– Ну, кажется, это связано с Люком.
– Что? Что связано с Люком?
Мэтт посмотрел на меня, сощурился.
– На самом деле не знаю. Хочешь, попробую угадать?
– Давай.
– Ладно. Это только догадка, но где Люк, там и Салли. Не иначе как влюбилась.
– Влюбилась в Люка?
– Не верится, да? Но женщины – странные существа, Кэти.
– А Люк в нее тоже влюбился?
– Не знаю. Почему бы и нет?
Салли вскоре ушла, и Люк зашагал прочь от берега, хмуро глядя в землю, а Мэтт многозначительно шевельнул бровями – мол, насчет Салли Маклин лучше помалкивать.
Мы выкопали Бо из песка, отряхнули и понесли в дом, одевать. Я вышла развесить на веревке купальник и первой увидела на подъездной дорожке полицейскую машину.
Полицейская машина у нас на Вороньем озере – редкость, и меня разобрало любопытство. Я выбежала на дорожку посмотреть, а из машины выбрался полицейский и вместе с ним – странное дело – преподобный Митчел и доктор Кристоферсон. Преподобный Митчел был здешний священник, а его дочка Дженни – моя лучшая подруга. Доктор Кристоферсон жил в Струане, но он был наш врач – единственный на сто миль вокруг. Оба мне нравились. У доктора Кристоферсона была собака Молли, ирландский сеттер, – она умела собирать зубами чернику, и доктор брал ее с собой на вызовы. Я подбежала к ним и сказала:
– Мама с папой уехали, по магазинам. Покупать Люку чемодан, потому что он будет учителем.
Полицейский, стоя возле машины, впился взглядом в крохотную царапинку на крыле. Преподобный Митчел посмотрел на доктора Кристоферсона, потом на меня и спросил:
– Кэтрин, а Люк здесь? Или Мэтт?
– Оба здесь, – ответила я. – Переодеваются. Мы купаться ходили.
– Нам бы с ними поговорить. Скажешь им, что мы здесь?
– Да, – отозвалась я. И тут же спохватилась, ведь я хозяйка: – Хотите зайти? Мама с папой вернутся где-то в полседьмого. – Меня осенило: – Угостить вас чаем?
– Спасибо, – отозвался преподобный Митчел. – Зайти-то зайдем, но только… чаю – нет, спасибо. Не сейчас.
Я проводила их в дом, извинилась за грохот – это Бо, вытащив из нижнего ящика буфета все кастрюли и сковородки, колотила ими по кухонному полу. Ничего страшного, сказали гости, и я оставила их в комнате, а сама пошла за Люком и Мэттом. Привела обоих, и они с любопытством глянули на двух гостей – полицейский остался в машине – и поздоровались. И на моих глазах Мэтт изменился в лице. Он смотрел на преподобного Митчела, и вдруг вежливого любопытства как не бывало. Его сменил страх.
Мэтт спросил:
– Что случилось?
Доктор Кристоферсон сказал:
– Кейт, ты не присмотришь за Бо? Может, ты бы… ммм…
Я вышла на кухню. Бо ничего не натворила, но я взяла ее на руки и вынесла во двор. Она уже стала тяжелая, но я все еще могла ее поднять. Я понесла ее обратно на пляж. Налетели комары, но я не спешила уходить, даже когда Бо закапризничала, – меня испугала перемена в лице Мэтта, и я не хотела знать, с чем это связано.
Прошло полчаса, не меньше, когда к озеру спустились Мэтт и Люк. Я не смела поднять на них взгляд. Люк, взяв на руки Бо, зашагал вдоль кромки воды. Мэтт сел со мной рядом и, когда Люк с Бо были уже далеко, сказал мне, что наши родители погибли – их машина столкнулась с груженым лесовозом, у которого отказали тормоза на склоне горы Хонистер.
Помню, как я боялась, что Мэтт заплачет. Голос у него дрожал, он сдерживался из последних сил, и помню, как я оцепенела от страха – боялась вдохнуть, посмотреть на него. Как будто это было бы страшнее всего – страшнее, чем то немыслимое, о чем он мне рассказывал. Как будто если Мэтт заплачет, то мир перевернется.
2
Воспоминания. Не люблю их, прямо скажу. Есть, конечно, и хорошие, но в целом, будь моя воля, спрятала бы их подальше в шкаф и закрыла поплотней. И, честно говоря, долгое время мне это удавалось, ведь жить-то надо. У меня есть работа, есть Дэниэл, а воспоминания отнимают время и силы. Правда, в последнее время ни с работой, ни с Дэниэлом у меня не ладилось, но мне и в голову не приходило связать это с «прошлым». Я искренне считала, вплоть до последних месяцев, что с прошлым я уже разобралась. Казалось, у меня все хорошо.
А потом, в феврале, я вернулась однажды в пятницу вечером с работы, а дома меня поджидало письмо от Мэтта. Едва я увидела почерк, перед глазами предстал и Мэтт – всем известно, как почерк способен вызвать в памяти образ человека. И тут же вернулась давно знакомая боль – где-то под сердцем, свинцовая, тупая, сродни тоске по ушедшим. За все эти годы она так никуда и не делась.
Я распечатала конверт, взбираясь по лестнице с сумкой лабораторных работ под мышкой. Это оказалось даже не письмо, а открытка от Саймона, сына Мэтта, приглашение на день рождения, в конце апреля ему исполнялось восемнадцать. А внизу приписка от Мэтта: Приезжай обязательно, Кейт!! Не отвертишься!!! Целых пять восклицательных знаков. И вежливый постскриптум: Если хочешь, приезжай не одна.
В конверт была вложена фотография. Саймон, но мне сразу подумалось: Мэтт. Мэтт в восемнадцать. Сходство между ними поразительное. И разумеется, тут же хлынули лавиной воспоминания о том кошмарном годе с его медленной цепью событий. А там и прабабушка Моррисон вспомнилась, и ее подставка для книг. Бедная старушка! Ее портрет висит теперь у меня в спальне, я взяла его с собой, когда уезжала из дома. Никто его не хватился.
Я поставила сумку на стол в гостиной, что служила заодно и столовой, села за стол, перечитала приглашение. Поеду, куда я денусь. Саймон чудесный парень и, как ни крути, мой племянник. Приедут Люк и Бо, семейный праздник – это святое. Как тут не поехать? На эти дни назначена конференция в Монреале, и заявку я уже подала, но собираюсь я туда без доклада, значит, можно и отменить. И занятия у меня по пятницам только в первой половине дня, выехать можно сразу после обеда. По трассе номер четыреста, прямиком на север. До дома отсюда четыреста миль – путь неблизкий, хоть асфальт теперь почти везде проложили. Только в часе до места, когда сворачиваешь с главной дороги на запад, асфальт кончается, с двух сторон наступает лес, и кажется, будто попал в прошлое.
Насчет того, чтобы «приехать не одной», – исключено. Дэниэл поехал бы с радостью, ему интересно все, что связано с моей семьей, он был бы на седьмом небе, еще мне не хватало его восторгов. Нет, Дэниэла я с собой не возьму.
Я посмотрела на фото, представила Саймона, Мэтта, зная наперед, как все будет. Хорошо, разумеется. Все будет хорошо. Праздник будет веселым и шумным, кормежка – отменной, будем смеяться, подшучивать друг над другом. Мы с Люком, Мэттом и Бо будем вспоминать прежние времена, но в определенном ключе. Кое о чем и кое о ком умолчим. О Кэлвине Пае, к примеру. Его имя не всплывет ни разу. И о Лори Пае, если на то пошло.
Саймону я привезу подарок, очень дорогой, в знак любви – а я его и правда люблю – и неизменной преданности семье.
В воскресенье, когда настанет пора уезжать, Мэтт проводит меня до машины. Скажет: «Так мы с тобой толком и не поговорили», а я отвечу: «Да уж. По-дурацки вышло, да?»
И посмотрю на него, а он посмотрит в ответ внимательными серыми прабабушкиными глазами, и я не сумею выдержать его взгляда. А на полпути до дома я вдруг пойму, что плачу, и еще месяц буду ломать голову почему.
И здесь без прабабушки Моррисон не обошлось.
Мне ничего не стоит вообразить ее и Мэтта за долгой серьезной беседой. Прабабушка, прямая и горделивая, сидит в кресле с высокой спинкой, Мэтт – напротив. Он внимательно слушает, то кивая, то терпеливо ожидая своей очереди высказаться. Он почтителен, но не робеет перед нею, она это чувствует, и ей это нравится, видно по глазам.
Странно, правда? Ведь Мэтт ее не застал. Жизнь она прожила долгую, но когда родился Мэтт, ее давно уже не было на свете. К нам она ни разу не приезжала – никогда не покидала берегов полуострова Гаспе, – и все-таки в детстве мне казалось, будто она с нами, неким таинственным образом. Видит бог, все мы на нее оглядывались; можно было подумать, она рядом, в соседней комнате. А что до нее и Мэтта – пожалуй, я с самого начала чувствовала, что между ними есть какая-то связь, хоть и не понимала ее природы.
Отец много о ней рассказывал – гораздо больше, чем о своей матери, – и почти в каждой истории заключалась мораль. Талантом рассказчика он, увы, не обладал, и истории выходили, скорее, поучительными, чем увлекательными. Одна была, к примеру, о протестантах и католиках, которые жили бок о бок, но не ладили, а мальчишки дрались стенка на стенку. Но силы были неравны – протестантов ведь больше, чем католиков, – и прабабушка велела сыновьям драться на стороне противника, справедливости ради. Играть надо честно, вот какой урок нам полагалось отсюда извлечь. Ни красочных описаний сражений, ни боевой славы, просто урок: играть следует по правилам.
А главное, знаменитое прабабушкино преклонение перед образованием – если заходила об этом речь, Люк закатывал глаза. Все ее четырнадцать детей окончили начальную школу, по тем временам дело почти неслыханное. Уроки считались превыше работы на ферме, притом что земля была скудная и урожаи доставались с боем. Образование было ее заветной мечтой, страстью почти болезненной, и «болезнь» эта передалась не только ее детям, но и целым поколениям будущих Моррисонов.
В рассказах отца прабабушка представала образцом совершенства: добрая, справедливая, мудрая как Соломон – для меня это не вязалось с фотографией. С портрета смотрела воительница. С первого взгляда было ясно, почему нет историй о том, как ее дети озорничали.
А муж ее, наш прадедушка, где был все это время, почему его нет на фото? В поле, наверное. Кто-то же должен был работать в поле.
Но все мы понимали, даже из скучных рассказов отца, что была она личностью незаурядной. Помню, Мэтт спросил однажды, что за книги водружала она на подставку. Может быть, романы – Чарльза Диккенса, Джейн Остин? Но отец ответил: нет. Ей было не до романов, пусть даже великих. Она стремилась не убежать от мира, а познать его. У нее были книги по геологии, ботанике, астрономии; одна, «Следы естественной истории творения»[1], была о происхождении вселенной, – отец говорил, прабабушка над ней ворчала, качала головой. Книга эта предшествовала учению Дарвина и тоже кое в чем шла вразрез с Библией. Вот пример того, как преклонялась она перед знанием, говорил отец: хоть она и была недовольна, но все равно разрешала детям и внукам ее читать.
В книгах для нее было много непонятного, ведь за всю жизнь она ни единого дня не проучилась в школе, и все равно она читала, старалась вникнуть. Еще в детстве меня это впечатляло, а теперь еще и трогает. Такая жажда знаний, такая решимость перед лицом невероятных трудностей – у меня это вызывает восхищение пополам с грустью. Прабабушка была прирожденным ученым, но родилась не в то время и не в том месте.
Но кое-чего ей удалось добиться. В нашем отце она наверняка души не чаяла, ведь это он воплотил ее мечту – первым из ее потомков покончил с земледелием и получил образование. Он был младшим сыном ее младшего сына, старшие братья взяли на себя его часть работы на ферме, чтобы он мог окончить школу – первым из Моррисонов. Отпраздновав это событие (по всем предметам он был первым учеником; могу вообразить, как прабабушка восседает во главе стола, за внешней суровостью пряча гордость), ему собрали рюкзак – сменные носки, носовой платок, кусок мыла и школьный аттестат – и отправили в большой мир, совершенствоваться.
Он двинулся на юго-восток, не теряя из виду широкий синий простор реки Св. Лаврентия, – скитался по городам, брался за любую работу. В Торонто он задержался, но ненадолго. Может быть, город, шумный и людный, внушал ему страх – но на моей памяти он был не из пугливых. Скорее, он находил городскую жизнь суетной и бездумной. В это больше верится, насколько я его знаю.
Вскоре он снова двинулся в путь, в этот раз на северо-запад – как говорится, подальше от цивилизации, – и к двадцати трем годам осел на Вороньем озере, в такой же общине, как та, что оставил за тысячу миль.
Когда я подросла и начала задаваться подобными вопросами, то сочла, что решение отца разочаровало его родных: они пошли на такие жертвы, чтобы вывести его в люди, а он обосновался в подобном месте. Лишь спустя время я поняла, что они бы одобрили его выбор. Для них было очевидно: где бы он ни жил, его новая жизнь разительно отличалась от прежней. Работал он в банке в Струане, на работу ходил в костюме, купил машину, построил дом у озера, в прохладной тени деревьев, где нет ни пыли, ни мух, не то что на фермах. В гостиной у него стоял книжный шкаф и ломился от книг, а что совсем уж редкость, он находил время на чтение. А среди фермеров поселился он потому, что они были близки ему по духу. Главное, у него был выбор, чего и добивались родные.
Прожив на Вороньем озере целый год, отец получил двухнедельный отпуск – первым в роду! – и за эти две недели успел съездить на Гаспе и сделать предложение своей первой любви. Девушка была с соседней фермы, из почтенной семьи с шотландскими корнями, как и отец. И, судя по всему, с авантюрной жилкой, потому что ответила «да» и на Воронье озеро приехала уже невестой. Сохранилась их свадебная фотография. Они стоят у входа в церквушку на побережье Гаспе, оба высокие, крепкие, светловолосые, серьезные – не поймешь, то ли муж с женой, то ли брат с сестрой. Серьезность сквозит в их улыбках – честных, открытых, без тени легкомыслия. Легкой жизни они не ждут – совсем не так их воспитывали, – но оба готовы к трудностям. Они будут стараться как могут.
Вдвоем они вернулись на Воронье озеро, обустроились и в положенный срок произвели на свет четверых детей: двух мальчиков, Люка и Мэтта, а потом, с разницей в десять лет и, видимо, после долгих раздумий, – двух девочек, меня (Кэтрин, а попросту Кейт) и Элизабет, или Бо.
Любили они нас? Конечно. Говорили нам о своей любви? Конечно, нет. То есть не совсем правда – мама сказала однажды, что любит меня. Я что-то сделала не так – одно время я все делала не так, – а она рассердилась и долго со мной не разговаривала, несколько часов, а мне казалось, вечность. И я не выдержала, спросила: «Мамочка, ты меня любишь?» А мама бросила на меня удивленный взгляд и ответила просто: «До безумия». Я не совсем представляла, что значит «до безумия», но в глубине души все поняла и успокоилась. Мне и сейчас спокойно.
Однажды – видимо, вскоре после свадьбы – отец вбил в стену супружеской спальни гвоздь и повесил фотографию прабабушки Моррисон, и все мы росли под ее взглядом, зная о ее чаяниях. Мне это давалось нелегко. Я жила с чувством, будто она нами недовольна, за одним исключением. По глазам ее было видно, что она о нас думает: Люк лоботряс, я витаю в облаках, а Бо такая ершистая, что от нее всю жизнь будут одни неприятности. Лишь когда в комнату входил Мэтт, ее суровый взгляд будто смягчался. Лицо светлело, а в глазах можно было прочесть: вот он, мой любимец.
Дни после аварии мне припоминаются с трудом. В памяти уцелели лишь образы из прошлого, вроде фотографий. К примеру, гостиная – помню, какой там царил хаос. В первую ночь мы спали там, все вчетвером; то ли Бо не спалось, то ли мне, и в конце концов Люк с Мэттом перетащили в гостиную кроватку Бо и три матраса.
Помню, как лежала без сна, уставившись в темноту. Пыталась уснуть, но сон не шел, а время топталось на месте. Я знала, что Люк и Мэтт тоже не спят, но почему-то боялась с ними заговорить, и ночь никак не кончалась.
Вспоминается и другое, но, оглядываясь назад, я не уверена, так ли все было на самом деле. До сих пор помню, как Люк стоит на пороге и одной рукой придерживает Бо, а другой берет у кого-то блюдо, накрытое полотенцем. Было такое, я ничего не выдумала, но по моим воспоминаниям первые дни он провел в этой позе. И пожалуй, это близко к истине: все женщины в общине – жены, матери, незамужние тетушки, – узнав, что случилось, засучили рукава и принялись стряпать. То и дело нам приносили картофельный салат. И запеченную свинину. И всевозможные сытные рагу, хоть в такую жару и не тянет их есть. Выйдешь на крыльцо – и обязательно споткнешься о большую корзину гороха или о жбан варенья из ревеня.
А еще Люк с Бо на руках. Неужели он и правда в те первые дни всюду таскал ее с собой? Насколько я помню, да. Видно, она чувствовала настроение в доме, скучала по маме и плакала, стоило Люку поставить ее на землю.
А я льнула к Мэтту. Хватала его за руку, за рукав, за карман джинсов – за все, что подвернется. Мне было уже семь, взрослая девочка, а вела себя как маленькая, да что тут поделаешь? Помню, как он бережно расплетал мои пальцы, если ему нужно было в уборную: «Подожди немножко, Кэти, я на минуточку». А я, стоя возле запертой двери, спрашивала дрожащим голосом: «Ты скоро?»
Даже представить не берусь, как тяжело пришлось в те дни Люку и Мэтту, – приготовления к похоронам, звонки, визиты соседей, искренние предложения помочь, забота обо мне и Бо. Смятение и тревога, не говоря уж о горе. Горе, разумеется, держали в себе. В этом мы были похожи на родителей.
Посыпались звонки – с полуострова Гаспе, с Лабрадора, от тамошней нашей родни. Те, у кого телефона не было, звонили из автомата в соседнем городке, и в трубке слышен был звон монет и тяжелое дыхание: собеседники наши, непривычные к телефонам, тем более к звонкам по печальному поводу, долго собирались с мыслями.
– Это дядя Джеми. – Порыв ветра с просторов Лабрадора.
– А-а, да, здравствуйте. – Это Люк.
– Я звоню насчет твоих мамы с папой. – Глотка у дяди Джеми была луженая, Люку приходилось держать трубку подальше от уха, а нам с Мэттом в другом конце комнаты все было слышно.
– Да. Спасибо.
Тяжелая звенящая тишина.
– Это ведь Люк, старший?
– Да, Люк.
И опять тишина.
В голосе Люка больше усталости, чем смущения.
– Спасибо за звонок, дядя Джеми.
– Да-да. Горе-то какое, сынок. Горе-то какое.
Главное, в чем нас стремились уверить, – что за будущее мы можем быть спокойны. Родственники улаживают дела и обо всем позаботятся, тревожиться нам не о чем. Тетя Энни, одна из трех сестер отца, скоро будет здесь, хоть на похороны может не успеть. Ничего, если мы несколько дней побудем одни?
Я, к счастью, была еще мала и не понимала, что стоит за этими звонками. Чувствовала лишь, что Люка и Мэтта они беспокоят; тот из них, кто брал трубку, надолго застывал потом у телефона. У Люка была привычка проводить рукой по волосам, когда ему тревожно, и в те дни макушка была у него в бороздах, как свежевспаханное поле.
Помню, как смотрела на него однажды, когда он рылся в шкафу в детской, ища, во что переодеть Бо, и внезапно поняла, до чего он изменился. Всего лишь несколько дней назад он был совсем другой – то дерзкий, то застенчивый паренек, с грехом пополам пробившийся в колледж, – а теперь я уже не понимала, кто передо мной. Я не знала тогда, что люди меняются. Но если на то пошло, я не знала, что люди умирают. Во всяком случае, люди любимые, нужные. Про смерть я знала лишь в теории, на самом же деле нет. Не представляла, что такое может случиться.
Панихида была на кладбище при церкви. Из воскресной школы принесли стулья, расставили ровными рядами на иссушенной земле возле двух незарытых могил. Мы, все четверо, сидели в ближнем ряду на шатких стульях. Точнее, мы втроем сидели в ряд, а Бо – у Люка на коленях, с пальцем во рту.
Помнится, я чувствовала себя очень неуютно. Жара стояла адская, а Люк с Мэттом изо всех сил старались соблюсти приличия, и мы были в самой темной одежде, что у нас нашлась: я – в теплой юбке и свитере, Бо – в прошлогоднем фланелевом платьице, ставшем для нее совсем уже куцым, братья – в темных рубашках и брюках. Служба еще не началась, а с нас уже градом лил пот.
Помню, что всю службу напролет позади меня кто-то всхлипывал, а кто – не поймешь, вертеться-то нельзя. Думаю, от всех ужасов меня ограждало неверие. Не верилось, что мама с папой в этих ящиках у края могил, а если даже они и там, то уж подавно не верилось, что их опустят в ямы и засыплют землей и им будет оттуда не выбраться. Я тихонько сидела рядом с Мэттом и Люком, а когда гробы опускали в землю, стояла, держа Мэтта за руку. Мэтт сжимал мою ладонь крепко-крепко, это я помню отчетливо.
А потом все кончилось, да не совсем – настал черед жителей поселка выразить нам соболезнования. Большинство молча проходили мимо вереницей, на ходу кивали нам или гладили по голове Бо, и все равно получилось долго. Я стояла рядом с Мэттом. Несколько раз он смотрел на меня и улыбался, точнее, лишь растягивал губы. Бо была тише воды ниже травы, хоть от жары и покраснела как свекла. Люк держал ее на руках, а она, прильнув головой к его плечу, смотрела на всех и посасывала палец.
Салли Маклин подошла одной из первых. По глазам было видно, что она плакала. Не взглянув ни на меня, ни на Мэтта, она обратила к Люку опухшее от слез лицо и сказала надтреснутым шепотом:
– Соболезную, Люк.
Люк отозвался:
– Спасибо.
Салли смотрела на него, губы кривились от жалости, но тут подоспели ее родители, не дав ей больше ничего сказать. Супруги Маклин оба были небольшого роста, тихие, застенчивые, ничего общего с дочерью. Мистер Маклин откашлялся, но ни слова не сказал. Миссис Маклин горько улыбнулась нам всем. Мистер Маклин снова откашлялся и обратился к Салли:
– Нам пора. – Но та лишь глянула на него с укором, и ни с места.
Следом подошел Кэлвин Пай, пропустив вперед жену и детей. У хмурого, сумрачного Кэлвина Пая подрабатывали летом на ферме Люк и Мэтт. Его жену Элис, испуганную, забитую, мама всегда жалела, я не совсем понимала за что. Она просто то и дело повторяла: «Вот бедняжка».
Детей Паев она тоже жалела. Старшая, Мэри, училась с Мэттом в одном классе, но в прошлом году бросила школу, чтобы помогать на ферме, а младшая, семилетняя Рози, училась со мной. Сыну, Лори, было четырнадцать, ему полагалось ходить в школу, но он так часто пропускал уроки из-за работы на ферме, что никак не мог закончить восьмой класс. Обе девочки были бледные, запуганные, как мать, а Лори – вылитый отец: то же худое скуластое лицо, те же темные недобрые глаза.
Мистер Пай произнес: «Соболезнуем вашему горю», а миссис Пай прибавила: «Да». Рози и я переглянулись. Рози была зареванная – впрочем, как всегда. Лори уставился в землю. Мэри как будто хотела что-то сказать Мэтту, но мистер Пай поспешил их всех увести.
К нам подошла мисс Каррингтон, моя учительница. Раньше она учила и Люка с Мэттом. Классная комната в начальной школе была всего одна, и учительница одна на всех, а потом дети переходили в городскую школу старшей ступени или бросали учебу, чтобы помогать родителям на ферме. Мисс Каррингтон была молодая, симпатичная, но очень строгая, и я ее побаивалась. Она обратилась к нам: «Ну, Люк, Мэтт, Кейт…» Голос у нее дрожал, и она не стала продолжать, лишь робко улыбнулась и погладила Бо.
За нею подошли доктор Кристоферсон с женой, следом четверо незнакомых – оказалось, сослуживцы отца из банка, а за ними, поодиночке, по двое и целыми семьями те, кого я знала всю жизнь, все с грустными лицами и с одними и теми же словами: «Чем сможем, поможем…»
Салли Маклин пристроилась поближе к Люку. Пока все выражали соболезнования, она стояла потупившись, а иногда подбиралась к Люку вплотную и что-то ему нашептывала. Один раз я расслышала: «Хочешь, сестричку твою подержу?» – а Люк ответил: «Нет» – и прижал Бо к себе покрепче. И чуть погодя добавил: «Спасибо, ей и так неплохо».
Одной из последних подошла миссис Станович, и я помню слово в слово, что она сказала. Она тоже плакала, безутешно. Эта крупная, рыхлая дама, будто совсем без костей, как студень, беседовала с Богом – не только во время молитв, как все мы, а дни напролет. Мэтт однажды обмолвился, что она с придурью, как все евангелики, за что был изгнан из столовой на целый месяц. Если бы он просто сказал, что она с придурью, все бы обошлось. Наказан он был за то, что оскорбил ее веру. Веротерпимость у нас в семье считалась за правило, которое нарушать опасно.
Итак, она подошла, обвела нас взглядом, а по щекам катились слезы. Мы не смели поднять на нее глаза. Мистер Станович, молчаливый, но в насмешку прозванный Балаболом, кивнул Люку с Мэттом и заторопился к своему грузовичку. А миссис Станович, к моему ужасу, вдруг прижала меня к своей необъятной груди и возопила:
– Кэтрин, детка, на небесах сегодня ликуют! Твои родители, земля им пухом, теперь с Богом, и Отец наш небесный радуется встрече. Тебе сейчас тяжело, солнышко мое, но подумай, как счастлив наш спаситель!
Она улыбнулась сквозь слезы и снова стиснула меня в объятиях. Пахло от нее тальком и потом, этого я никогда не забуду – тальк, пот и слова, будто на небесах рады, что мои родители умерли.
Бедная Лили Станович! Знаю, она тяжело скорбела о моих родителях. Но она – самое отчетливое мое воспоминание о дне похорон, и, признаюсь, до сих пор не могу ей простить, даже спустя столько лет. Лучше бы у меня осталось другое воспоминание, не такое ужасное. Мне бы живую, четкую картину: мы стоим вчетвером тесным кружком, держимся друг за друга. Но стоит мне вызвать в памяти этот образ, как с воем вплывает Лили Станович, выпятив грудь, и топит всю картину в слезах.
3
Я долго не рассказывала Дэниэлу о своей семье. Когда у нас только завязался роман, мы, как водится, обменялись сведениями о родных, но лишь в двух словах. Кажется, я ему рассказала, что осиротела еще в детстве, но на севере у меня есть родственники и я их навещаю иногда. Вот, пожалуй, и все.
О семье Дэниэла я знала немало, потому что вся его родословная, так сказать, на виду, в университете. Сам Дэниэл – профессор Крейн с кафедры зоологии, отец его – профессор Крейн с исторического факультета, мать – профессор Крейн с факультета изящных искусств. Настоящая династия Крейнов. Точнее, как я узнала позже, скромная ветвь большой династии. Предки Дэниэла, прежде чем перебраться в Канаду, осваивали культурные сокровища Европы. Были среди них врачи, астрономы, историки, музыканты – каждый, несомненно, светило в своей области. Рядом с их достижениями прабабушкина самодельная подставка для книг выглядела немного жалко, и я предпочла о ней умолчать.
Но Дэниэл – человек любознательный. В точности как и Мэтт – только не думайте, что в Дэниэле я ищу Мэтту замену, это единственное, что их роднит, жадное любопытство ко всему на свете. Однажды вечером, спустя две недели встреч, Дэниэл попросил: «Итак, поведай мне историю твоей жизни, Кейт Моррисон».
Повторюсь, мы тогда только начали встречаться. Я еще не предполагала, что эта маленькая просьба станет началом большого разлада – по моей версии, из-за того, что Дэниэл требует от меня слишком многого, а по версии Дэниэла, потому что я не пускаю его в свою жизнь.
В нашей семье не принято жаловаться на трудности в отношениях. Если тебя огорчили, словом ли, делом, молчи. Может быть, и это корнями уходит в пресвитерианство; если Одиннадцатая заповедь гласит: Не давай воли чувствам, то Двенадцатая: Не выдавай обиды, а когда всему миру видно, что ты обиделся: Не объясняй почему. Нет, обиду надо проглотить, загнать поглубже внутрь, пока не взорвешься, непоправимо и к полному недоумению того, кто тебя огорчил. У Дэниэла в семье куда чаще кричат, обвиняют, хлопают дверьми, зато недоумения намного меньше, потому что все высказывают вслух.
Итак, в первые месяцы я не жаловалась Дэниэлу, лишь внутренне возмущалась, что он готов положить меня и всю мою жизнь на одно из своих тоненьких лабораторных стеклышек и изучать меня под микроскопом, словно какого-нибудь несчастного микроба, препарировать мою душу. Зато он мне говорил, тихо, но очень серьезно, что я от него закрываюсь. Что внутри у меня преграда, непонятная, но ощутимая, и это его всерьез огорчает.
В тот вечер, однако, до этого было еще далеко, наши чувства только зарождались, все казалось новым и волнующим. Мы сидели в кафе. Лампы дневного света, желтые пластмассовые столики на хлипких стальных ножках, звон посуды на кухне. Горячие бутерброды с мясом и сыром, капустный салат, отличный кофе – и эта просьба: расскажи мне свою историю.
Я сразу насторожилась – и сама не поняла почему. Отчасти, думаю, дело в том, что я не привыкла выворачивать душу наизнанку. В школьные годы я была не из тех, кто шепчется с подружками, сидя на кровати, хихикает в ладошку, выбалтывает секреты. Да и непорядочно это – выкладывать подноготную своей семьи чужому человеку, жертвовать близкими в угоду ритуалу знакомства. А теперь я свое сопротивление объясняю еще и тем, что моя история тесно переплетена с историей Мэтта, и не стану я это обсуждать за чашкой кофе с кем бы то ни было, тем более с баловнем судьбы вроде Дэниэла Крейна.
И я отвечала уклончиво:
– По-моему, я тебе почти все уже рассказывала.
– Ты мне почти ничего не рассказывала. Я знаю, что зовут тебя Кэтрин и родом ты откуда-то с севера. И больше, кажется, ничего.
– Что еще ты хотел бы узнать?
– Все, – оживился Дэниэл. – Выкладывай все.
– Все сразу?
– Начни с самого начала. Нет, до начала. Начни с места, откуда ты родом.
– С Вороньего озера?
– Да. Расскажи мне про свое детство на Вороньем озере.
– Детство как детство, – ответила я. – Самое обычное.
Дэниэл чуть выждал. И спустя минуту сказал:
– Ты прирожденная рассказчица, Кейт. Ей-богу.
– Ну я же не знаю, что именно тебе интересно.
– Все. Большой у вас поселок? Сколько там жителей? Что есть в центре? Есть там библиотека? А кафе-мороженое? А прачечная-автомат?
– Да что ты, – сказала я, – ничего подобного. Есть магазин. Центра как такового нет, только магазин да церковь. И школа. А еще фермы. В основном фермы.
Дэниэл склонился над чашкой кофе, мысленно рисуя картину. Он долговязый и немного сутулится – всю жизнь провел над микроскопом. Фамилия при его внешности говорящая, чего доброго, студенты станут дразнить Подъемным Краном, но ничего подобного. У него репутация лучшего лектора на кафедре. Я подумывала пробраться к нему на лекцию, посмотреть, как у него это получается, но пока что так и не набралась храбрости. Сама я не очень хороший лектор – манера у меня, пожалуй, суховатая.
– Прошлый век! – подивился Дэниэл.
– И вовсе не прошлый, – возразила я. – Там и сейчас мало что изменилось. Во многих местах до сих пор так живут. Связь с внешним миром там наладилась – и дороги стали лучше, и машины. До Струана всего двадцать миль, по тем временам далеко, а теперь рукой подать. Только зимой тяжело.
Дэниэл кивал, силясь все это вообразить. Я спросила:
– Ты что, на севере ни разу не бывал?
Дэниэл призадумался.
– Барри. Я был в Барри.
– Барри! Боже ты мой, Дэниэл! Барри – тоже мне север!
Я была поражена, не скрою. Дэниэл – светлая голова, полмира объездил. Все детство он провел на чемоданах – то отца, то мать приглашали куда-то читать лекции. Год он прожил в Бостоне, год в Риме, год в Лондоне, год в Вашингтоне, год в Эдинбурге. И надо же, такой пробел в знаниях о родной стране. Будь он египтологом и ползай всю жизнь по гробницам, это еще куда ни шло, а он микробиолог, изучает природу! Биолог, чья нога не ступала дальше садика за домом.
Видимо, удивление развязало мне язык – я пустилась ему рассказывать о Вороньем озере, о том, что там было безлюдье, глухие дебри, пока туда не добрались лесопромышленники, не проложили дорогу к голубому озерцу, которое окрестили Вороньим, и вскоре этой дорогой пришли туда трое парней. Трое парней без гроша в кармане, они устали батрачить по чужим фермам и мечтали о своих собственных. На троих у них было три лошади, вол, пила да еще кой-какой инструмент, и стали они вместе расчищать участок. Земля была государственная, парни попросили каждый по пятьдесят акров, и поскольку этот медвежий угол надо было заселять, землю они получили бесплатно. Для начала расчистили каждый себе по акру, срубили по бревенчатой хижине. А потом съездили по очереди той же дорогой на юг, в Нью-Лискерд, и там нашли себе жен. И привезли их каждый к себе в хижину.
– Четыре стены да крыша, – рассказывала я Дэниэлу, – пол земляной. Воду таскали ведрами из речки Вороньей. Вот уж точно прошлый век.
– А продукты у них откуда брались? До первых урожаев.
– Привозили на телеге. Точно так же привезли и дровяные печи, рукомойники, кровати и остальное. Понемногу, в несколько приемов. И землю так же расчищали, понемногу. На это ушли годы, труд целых поколений. Ее и сейчас расчищают.
– И все трое своего добились? Удалось им развернуться?
– Конечно! Почва там неплохая. Не самая лучшая, но достаточно плодородная. Только вот лето короткое.
– И давно это было? – спросил Дэниэл.
Я задумалась.
– При наших прадедах и прапрадедах. – Лишь теперь я осознала, что эти трое и наша прабабушка – люди одного поколения.
– А потомки их там и живут?
– Кое-кто остался, – ответила я. – Фрэнк Джени, один из той троицы, семью завел большую, занялся молочным хозяйством, они и сейчас на подъеме. Второй – Стэнли Вернон. Ферму его в конце концов кто-то перекупил, но дочь его до сих пор в наших краях живет. Старая мисс Вернон. Ей уже лет сто, не меньше.
– Они так и живут в бревенчатых хижинах?
Я посмотрела на Дэниэла – шутит он или говорит всерьез? С Дэниэлом не угадаешь.
– Да нет же, Дэниэл, какие там хижины! Живут они в домах, как все люди.
– Вот ведь жалость! А с хижинами что стало?
– Их превратили, наверное, в сараи и амбары, как только достроили дома. А потом они стали гнить и разрушаться. Так всегда бывает с необработанной древесиной – сам знаешь, ты же биолог. Только хижину Фрэнка Джени купили и увезли на грузовике в Нью-Лискерд, в этнодеревню.
– В этнодеревню, – повторил Дэниэл. Подумал еще, покачал головой. – Откуда у тебя такие познания? Это же просто невероятно! Подумать только, так глубоко знать историю родных мест!
– Ничего сложного тут нет, – возразила я. – Впитываешь ее в себя из воздуха, только и всего. Посредством осмоса, так сказать.
– А третий? Его семья и сейчас там?
– Джексон Пай, – ответила я. Едва имя сорвалось с языка, я тут же представила ферму. Просторный серый дом, большой ветхий амбар, тут и там сельскохозяйственная техника, желтеют на солнце плоские поля. В неподвижной глади прудов отражается знойное синее небо.
Дэниэл напряженно ждал. Я сказала:
– Третьего звали Джексон Пай. Паи, вообще-то, ближайшие наши соседи. Но судьба у них незавидная.
После нашего разговора я все время думала о старой мисс Вернон. Вспоминался ее рассказ, который лучше бы забыть. Мисс Вернон, с лошадиными зубами и щетинистым подбородком, – дочь одного из первопоселенцев. В старших классах я ей помогала на огороде. Даже тогда ей на вид было лет сто. Из-за артрита она почти ничего не могла делать, только сидеть на стуле, который я по ее просьбе выносила из кухни, и за мной приглядывать. Это с ее слов, а на самом деле ей просто нужен был собеседник. Я полола, а она рассказывала. Вопреки тому, что я сказала Дэниэлу, далеко не все можно впитать из воздуха, и мисс Вернон я обязана почти всем, что знаю о Вороньем озере.
В тот день она мне рассказывала о детстве, об играх и шалостях. Однажды в начале зимы она с братом и двое Паев-младших – сыновья Джексона Пая – играли на берегу озера. Озеро едва замерзло, и выходить на лед им строго-настрого запретили, но Норман Пай, самый старший, предложил поползать по льду на животе – мол, ничего не будет. И они так и сделали.
– Ох и весело было, – рассказывала мисс Вернон. – Лед под нами трещит, но не ломается, а мы ползаем, как тюлени, на брюхе. До чего же весело! Лед прозрачный, как стекло, аж дно видно. А на дне камушки – яркие, цветные; когда сквозь воду смотришь, совсем не то. Даже рыб и тех видно. И вдруг лед треснул да и сломался под нами, и очутились мы в воде. Холод был адский, но до берега рукой подать, мы сразу и выбрались. Да только Норман домой не пошел. Говорил, так только хуже будет.
Она умолкла, заскрежетала зубами – дескать, конец рассказа, такая была у нее привычка. Минуту спустя я спросила:
– То есть не пошел домой, пока не высох?
Я представила его: весь синий, зубы стучат, коченеет в мокрой одежде, боится отцовской взбучки. Он же старший, с него и спрос.
Мисс Вернон сказала:
– Нет-нет. Он и вовсе домой не пошел.
– То есть совсем?
– Решил пойти вдоль дороги, поймать лесовоз. Больше мы его не видели.
С тех пор эта история меня преследовала не один год. Всю юность я ее вспоминала. Представляла, как бредет по дороге мальчишка – обмахивается руками, спотыкается на льду, ноги немеют от холода. Темнеет. Валит снег.
И страшнее всего было для меня то, что даже в дедовские времена в семье Паев нашелся сын, готовый замерзнуть насмерть, лишь бы не иметь дела с отцом.
4
Тетя Энни приехала два дня спустя после похорон. Без рассказа о тете Энни тут не обойтись – в том, что случилось, она сыграла большую роль. Старшая сестра отца, достойная наследница прабабушки Моррисон, во всем ей под стать. Впервые в жизни она покинула Гаспе, при этом Люк и Мэтт были уже с ней знакомы, родители однажды возили их «домой», а Бо и я видели ее в первый раз.
Она была намного старше отца, низенькая, плотная (притом что отец был высокий и худой) и с огромной пятой точкой (рада, что я ее не унаследовала), но мне сразу почудилось в ней что-то родное, общее с отцом. Замужем она никогда не была. Моя бабушка по отцовской линии умерла несколько лет назад, немногим позже прабабушки Моррисон, и тетя Энни с тех пор вела хозяйство у своего отца и братьев. Думаю, родственники послали к нам ее лишь потому, что дело это им представлялось женским, а детей-то у нее нет, вырваться ей проще, но на самом деле могли быть и другие причины. Вести, с которыми она к нам ехала, – о том, как родные решили распорядиться нашей судьбой, – были невеселые, наверняка мало нашлось охотников такое сообщать.
– Простите, что так задержалась, – сказала она, когда преподобный Митчел нам ее представил (после аварии машины у нас не стало, и он подвез тетю Энни с железнодорожного переезда), – уж больно страна наша велика. Есть в этом доме уборная? Как же без нее! Кейт, ты вылитая мама, повезло же тебе! А это, я так понимаю, Бо. Здравствуй, Бо.
Бо, сидя у Люка на руках, сурово смотрела на нее. А тете Энни хоть бы что. Она сняла шляпку – маленькую, круглую, коричневую, которая была ей вовсе не к лицу – и стала искать, куда бы ее пристроить. Кругом был кавардак, но она будто не замечала. Шляпу она бросила на буфет, где лежал на блюде тусклым полумесяцем одинокий ломтик ветчины. И пригладила волосы.
– Как я выгляжу, чучелом? Наверняка чучелом. Ну да ладно. Покажите мне, где у вас уборная, и можно к делу приступать. Хлопот наверняка невпроворот.
Говорила она бодро, по-деловому, словно просто приехала погостить, а родители в соседней комнате. И правильно, вполне уместно. Наши родители в схожих обстоятельствах вели бы себя так же. Мне она сразу понравилась. Я не понимала, почему у Люка с Мэттом такой встревоженный вид.
– Ну вот, – сказала она через несколько минут, когда вышла из ванной. – Начнем. Который час? Четыре. Отлично. Надо бы нам познакомиться поближе, но это успеется. А пока на очереди неотложное – стряпня, уборка, стирка и так далее. Преподобный Митчел говорит, вы управлялись отлично, но наверняка найдется что-нибудь…
Тетя Энни умолкла. Видно, что-то ее насторожило во взглядах Люка и Мэтта, потому что фразу она так и не закончила. А потом заговорила чуть тише, мягче:
– Знаю, надо нам кое-что обсудить, но, пожалуй, денек-другой это потерпит, да? Сначала разберем папины бумаги, свяжемся с его адвокатом и с банком. И тогда кое-что прояснится, а до этого смысла нет ничего обсуждать. Согласны?
Люк и Мэтт закивали, и оба сразу расслабились, как будто надолго задержали дыхание, а теперь выдохнули.
Итак, нам выпало несколько дней вольного житья, за это время тетя Энни восстановила порядок, дав Люку и Мэтту передышку. Хуже всего дела обстояли со стиркой, с нее и начала тетя Энни, а потом навела чистоту, потихоньку унесла одежду родителей, разобрала неотвеченные письма, оплатила счета. Все она делала умело и с тактом и не пыталась завоевать нашу любовь. Не сомневаюсь, при ином раскладе мы бы ее полюбили.
В четверг, спустя почти две недели после аварии, тетя Энни вместе с Люком отправилась в город – к папиному адвокату и в банк. Преподобный Митчел их подвез, а Мэтт остался со мной и Бо.
Проводив их, мы спустились к озеру. Я ждала, что Мэтт предложит окунуться, а он постоял, посмотрел, как Бо шлепает по мелководью, и вдруг сказал:
– Может, сходим на пруды?
– А как же Бо? – спросила я.
– И Бо с нами. Пора ее просвещать.
– Она же свалится, – испугалась я. Берега у прудов были обрывистые, не то что у озера. Теперь мне за каждым углом чудилась опасность, я все время боялась. Страх не оставлял меня ни перед сном, ни по утрам.
Но Мэтт отвечал:
– Свалится, куда ж она денется, – правда, Бо? На то и пруды.
Он нес Бо по лесу на плечах, как когда-то меня. Шли мы молча. Во время наших вылазок говорили мы всегда мало, но в этот раз молчание было иным. Прежде мы молчали, потому что понимали друг друга без слов, а сейчас – потому что в нас теснились мысли, которые словами не выразишь.
На пруды мы пришли впервые после смерти родителей, и едва я снова там очутилась, едва мы сбежали вниз по крутому берегу ближнего пруда, ко мне вернулась радость, несмотря ни на что. Первый из прудов мы называли «нашим» – он ближе всех; по одной стороне тянется отмель четыре-пять футов в ширину, глубиной меньше трех футов. Вода там теплая, прозрачная, прудовая живность так и кишит, и видно до самого дна.
Бо, сидя у Мэтта на плечах, оглянулась кругом.
– Там! – крикнула она и указала на воду.
– Сейчас увидишь, кто там водится, Бо, – сказала я. – А мы расскажем, кто как называется.
Я по старой привычке растянулась на животе и уставилась в воду. Головастики, что теснились у кромки воды, прыснули в стороны, едва их накрыла моя тень, но вскоре мало-помалу вернулись. Головастики были уже почти взрослые – с отросшими задними лапками и толстыми куцыми хвостиками. Все лето мы с Мэттом, как и в прошлые годы, наблюдали, как они растут, – с первого дня, едва они зашевелились в прозрачных бусинках-икринках.
Тут и там бесцельно сновали колюшки. Брачный сезон уже миновал, и самок было не отличить от самцов. А в брачный сезон самцы щеголяли нарядом – брюшко красное, спинка серебрится на солнце, глаза отливают бирюзой. Мэтт мне говорил – весной, всего несколько месяцев назад, а кажется, будто в другой жизни, – что у колюшки всю работу берет на себя самец. И гнездо вьет, и за самкой ухаживает, и проветривает гнездо, чтобы икринкам хватало кислорода. Когда вылупляются мальки, охраняет их тоже самец. Если малек отобьется от стаи, самец берет его в рот и возвращает обратно.
– А самка что делает? – спрашивала я у Мэтта.
– Да так, прохлаждается. В гости ходит, болтает с подружками. Самки есть самки.
– Нет, серьезно, Мэтт. Что она делает?
– Не знаю. Отъедается, наверное. Столько икры выметала, нужно силы восстановить.
В тот раз он лежал со мной рядом, подперев руками подбородок, и глядел в воду, и занимало нас обоих одно – крохотный мирок, что был перед нами как на ладони.
А в этот раз я оглянулась на Мэтта. Он застыл в нескольких шагах от воды и смотрел вдаль невидящим взглядом. Бо, сидя у него на плечах, вытянула шею.
– Туда! – сказала она.
Я спросила у Мэтта:
– Что ж ты не подойдешь посмотреть?
– Подойду.
Он поставил на землю Бо, и та заковыляла к воде. Мэтт сказал:
– Ложись, Бо. Ложись, как Кейт, и смотри на рыбок.
Бо взглянула на меня и уселась на корточки со мной рядом. На ней было легкое голубое платьице, а из-под юбки свисал подгузник, и когда она садилась, он доставал до земли, и казалось, будто у нее огромная задница.
– Не умеет Люк подгузники надевать, – сказала я. Тетя Энни вызвалась сама переодевать Бо, но Бо ей не далась, и Люк с Мэттом по-прежнему переодевали ее по очереди.
Мэтт ответил:
– Спасибо на добром слове, подгузник ей надевал я и этим горжусь.
Он улыбнулся, но когда я посмотрела ему в лицо, глаза его не смеялись. Я вдруг поняла, что больше не вижу в нем счастья. Настоящее счастье куда-то ушло, осталась лишь видимость, ради меня. Я поспешно от него отвернулась, уставилась в воду. Тревога и ужас, дремавшие в сердце, проснулись, хлынули наружу потоком. Я, глядя на пруд, постаралась их запереть внутри.
Вскоре Мэтт прилег рядом с Бо, так что она оказалась между нами. И сказал:
– Смотри, какие рыбки, Бо. – Указал на воду, и Бо уставилась на его палец. – Нет, не туда, ты в воду гляди. Видишь, там рыбки?
Бо закричала:
– У-у-у-ух! – Встала и запрыгала, вереща от восторга, и рыбы попрятались, будто их и не было. Бо, перестав скакать, посмотрела в воду, потом, с удивлением, на Мэтта.
– Всех рыбок распугала, – сказал Мэтт.
– Нету рыбок! – крикнула Бо. Она не поверила, расстроилась, личико сморщилось, из глаз покатились слезы.
– Хватит, Бо. Просто не шевелись, и они вернутся.
Бо недоверчиво покосилась на Мэтта, сунула в рот большой палец, но все-таки присела на корточки. Мэтт занимал ее разговором, чтобы она не шумела, и наконец минуту спустя подплыла небольшая колюшка.
– Вот она, – шепнул Мэтт.
И Бо обрадовалась, вскочила, наступила на свисавший до земли подгузник и плюхнулась в воду.
По дороге домой на железнодорожных путях мы встретили Мэри Пай с полными сумками продуктов. Ферма Паев была сразу за прудами – вообще-то и земля, где находились пруды, принадлежала им, – а по путям до лавки Маклинов идти было ближе, чем по дороге. Мэтт, завидев Мэри, замедлил шаг, и Мэри тоже, а потом и вовсе остановилась, дожидаясь, когда мы подойдем.
– Привет, Мэри, – сказал Мэтт, усадив Бо на плечах поудобнее.
– Привет, – робко отозвалась Мэри. И посмотрела вдаль, в сторону фермы, как будто вот-вот примчится разъяренный отец и задаст ей взбучку. Мама однажды обмолвилась, что из всей этой разнесчастной семейки одна Мэри нормальная, но мне она казалась такой же дерганой, как и все Паи. Была она коренастая, крепкая с виду, хоть и бледная, с ореолом тонких льняных волос и большими испуганными глазами. Мэтт знал ее довольно хорошо – или, во всяком случае, давно. Мэри была на год старше, но Мэтт перепрыгнул через класс, и учились они вместе. И часто видели друг друга, хоть и издали, когда Мэтт работал у ее отца.
В тот день встретились они впервые после похорон и не знали, что друг другу сказать. Я и вовсе не понимала, зачем им вообще разговаривать. Я устала, хотелось домой.
– Бо на рыбалку сходила, – сказал Мэтт, откинув назад голову и ткнувшись макушкой в живот Бо.
Мэри посмотрела на Бо, мокрую до нитки, всю в ряске, и неуверенно улыбнулась. Перевела взгляд на Мэтта, вспыхнула и зачастила:
– Мне… мне так жаль твоих родителей…
– Да, – отозвался Мэтт. – Спасибо.
– Ты… знаешь, что вам теперь делать? Что будет дальше?
– Пока нет. Надо разобраться… – Он замолчал, и даже не глядя на него, я почувствовала, что он кивнул в мою сторону.
– А-а, – вздохнула Мэри. – В общем, мне очень жаль.
Мы постояли еще минутку, Мэри посмотрела на меня, на Бо и рассеянно улыбнулась.
– Ну пока.
Мы зашагали дальше. Я думала: что же будет? Каких бед еще ждать? Чего такого пока не знает Мэтт? Что же случится? Что-то плохое, настолько ужасное, что при мне он не хочет говорить.
Мы дошли до тропки, что вела от насыпи в лес. Как только мы оказались в спасительном сумраке, я решилась спросить. Открыла рот, но страх победил любопытство, и я не смогла вымолвить ни слова. Вслед за языком отнялись и ноги, я застыла столбом. Мэтт обернулся, посмотрел на меня:
– Что-то в туфлю попало?
Я спросила:
– Что она хотела сказать? – У меня вырывались частые, судорожные вздохи.
– Кто – она?
– Мэри. Когда спросила, что дальше будет. О чем это она?
С минуту Мэтт не отвечал. Бо копошилась у него в волосах, брала в горсть пряди и что-то мурлыкала. Рубашка у него была такая же мокрая и зеленая от ряски, как платье у Бо.
Я начала:
– О чем она… – И не договорила, расплакалась, застыв неподвижно, руки по швам. Мэтт поставил на землю Бо, опустился передо мной на колени, взял меня за плечи:
– Кэти! Кэти, что с тобой?
– О чем она спрашивала? Что с нами будет? Что она хотела сказать?
– Кэти, все будет хорошо. Нас не бросят. Тетя Энни обо всем хлопочет.
– Тогда почему она спросила? Ты ей сказал, что пока не знаешь. Чего не знаешь?
Мэтт набрал побольше воздуху, выдохнул.
– Дело вот в чем, Кэти, мы вроде как не сможем здесь остаться. Нас отправят к родственникам.
– Разве тетя Энни не останется с нами жить?
– Нет, у нее не получится. Ей за отцом ухаживать надо, и ферму бросить не на кого. Слишком у нее много забот.
– А если не она, то кто же? К кому мы поедем?
– Пока не знаю. Вот чего я пока не знаю. Но неважно к кому, все будет хорошо. Они все добрые. Все родные у нас хорошие.
– Я хочу жить здесь. Не хочу уезжать. Хочу, чтобы ты и Люк за нами присматривали. Почему нас нельзя оставить с тобой и с Люком?
– Чтобы за вами с сестрой присматривать, в доме должны быть деньги, Кейт. На что мы будем жить? Вот что, ты успокойся, все уладится. За этим тетя Энни и приехала, все уладить. Все будет хорошо, вот увидишь.
Люк и тетя Энни вернулись из города в шестом часу. Тетя Энни позвала нас в гостиную, и мы уселись там, один Люк стоял у окна и смотрел на озеро. Тетя Энни опустилась на стул, выпрямилась и рассказала нам вот что.
От отца нам остались деньги, но совсем немного.
Из конторы адвоката она обзвонила всю нашу родню, и решено было, что Люк в колледж поедет, как собирался. На его учебу уйдут почти все деньги, но, по общему мнению, такова была бы воля наших родителей.
А что до нас, младших… Тут тетя Энни, несмотря на свою величественную позу, дрогнула. Отвела глаза, потом взгляд ее скользнул по Мэтту, по мне и задержался на Бо… Что до нас, увы, никому из нашей многочисленной родни не прокормить еще троих детей. Да что там, даже двоих взять никому не под силу. А потому, чтобы не разлучать хотя бы меня и Бо, решили, что Мэтт, если он не против, поедет с ней на ферму. Там нужен помощник, а на заработанные им деньги можно будет прокормить сестер. Люк, как все надеются, сможет помогать, как только доучится и начнет зарабатывать. А пока что заработков Мэтта и помощи других родственников хватит, чтобы отправить меня и Бо в Ривьер-дю-Лу, к тете Эмили и дяде Иэну, у которых четверо детей.
5
В наши дни мы повсюду видим страдания детей. Голод и войны разворачиваются перед нами на телеэкранах, чуть ли не каждую неделю нам показывают детей, переживших немыслимые ужасы и утраты. Большинство из них на удивление спокойны. Смотрят в камеру, прямо в объектив, и, зная, что им довелось испытать, ожидаешь увидеть в их глазах ужас и горе, но зачастую их взгляды не выражают ничего. Глаза пустые, будто они утратили способность чувствовать.
И хоть я не смею равнять свои беды с несчастьями этих детей, я помню, что точно так же ничего не чувствовала. Помню, как со мной разговаривал Мэтт – другие тоже, но в основном он – и с каким трудом мне удавалось даже просто разбирать слова. На меня навалился неподъемный груз, отключив все чувства. Я будто очутилась глубоко под водой.
– Кейт?
Мой взгляд был вровень с его коленями. У меня тощие, загорелые, узловатые, а у Мэтта – он был в шортах – каждое колено в обхвате с два моих.
– Кейт!
– Что?
– Ты слушаешь?
– Да.
– Взгляни на карту. Тут недалеко, видишь? Буду к тебе приезжать. Это же совсем близко, пойми.
На коленях у него волос было меньше, чем на бедрах и икрах, и кожа была другая, грубая. У меня коленки были совсем безволосые, гладкие.
– Смотри сюда, Кейт.
Здесь, на диване, мы просиживали подолгу. Мэтт и Люк снова работали у мистера Пая, но по вечерам Мэтт брал меня с собой на пруды, а если шел дождь или на пруды идти было поздно, то садился рядом и рассказывал, как мы заживем, как будем видеться. А я слушала. Точнее, пыталась, но внутри меня завывал смерч, заглушая все обращенные ко мне слова.
– Давай разберемся, – объяснял Мэтт. – Вот шкала, видишь? Она показывает, сколько миль в дюйме.
Карта была не очень хорошая. Нью-Ричмонд, ближайший к ферме тети Энни город, на ней не был отмечен, и Мэтт попросил тетю Энни показать, где он, а потом взял ручку и, хоть в книгах рисовать нельзя, поставил в том месте точку и подписал аккуратно, печатными буквами: Нью-Ричмонд.
Решено было, что мы останемся на Вороньем озере до отъезда Люка в колледж и тогда вчетвером – тетя Энни, Мэтт, Бо и я – отправимся на восток. Мэтт и тетя Энни поживут с нами три дня в Ривьер-дю-Лу, пока мы с Бо не освоимся на новом месте, а потом уедут к тете Энни на ферму.
А пока что Кэлвину Паю не хватало рабочих рук, и тетя Энни рассудила: почему бы ребятам не подзаработать? И я ненароком услышала ее слова: так мы с Бо скорей привыкнем, что их нет рядом.
– Приложи к шкале палец, Кейт, вот так. А теперь смотри. Верхняя фаланга твоего большого пальца, отсюда досюда, – это примерно сто миль. Поняла? Теперь приложи палец к карте. Смотри. Тут чуть больше ста миль, видишь? Сто пятьдесят от силы. Я запросто смогу к тебе приезжать.
Он говорил, а смерч завывал все сильнее.
– Кто там? – спросила тетя Энни. – Кейт, кто это к нам идет?
– Мисс Каррингтон.
– А кто это, мисс Каррингтон?
– Моя учительница.
– А-а. – Тете Энни стало любопытно. – Совсем молоденькая, с виду и не скажешь, что учительница.
Мы сидели на веранде, чистили фасоль. Тетя Энни была из тех, кто считал работу лучшим лекарством от любого горя. Она пыталась меня разговорить. Удавалось ей это лучше, чем Мэтту, тот слишком меня щадил.
– Хорошая учительница? Нравится она тебе?
– Да.
– А чем нравится?
Я тупо молчала.
– Кейт? Чем тебе нравится мисс Каррингтон?
– Она добрая.
Дальнейших расспросов мне удалось избежать, потому что мисс Каррингтон была уже у порога.
– Здравствуйте! – Тетя Энни отодвинула корзину с фасолью и встала встретить гостью. – Вы, как я поняла, учительница Кейт. А я Энни Моррисон.
Они пожали друг другу руки, без теплоты. Тетя Энни предложила:
– Хотите чего-нибудь прохладительного? А может, чаю? Вы ведь издалека шли, от самого поселка?
– Да, – ответила мисс Каррингтон. – Спасибо. От чая не откажусь. Здравствуй, Кейт. Вижу, ты трудишься. – Она слабо улыбнулась, видно было, что ей не по себе. В те дни я вообще мало что замечала, но на это обратила внимание, настолько это было не в ее характере.
– Кейт, заваришь нам чаю? – попросила тетя Энни. – Возьми самый лучший сервиз, хорошо? Для мисс Каррингтон. – Она улыбнулась гостье: – Кейт чай заваривает лучше всех.
Я зашла в дом, поставила кипятить воду. Тишина в доме стояла необычайная. Бо была в детской, тетя Энни уложила ее там после обеда, Бо вначале вопила как резаная, а теперь, кажется, уснула.
Пока грелась вода, я влезла на стул, достала с верхней полки буфета мамин любимый заварочный чайник. Он был пузатый, гладкий, густого кремового цвета, а на боку ветка яблони с темно-зелеными листьями и двумя румяными яблочками. Яблоки были тисненые, так и круглились под пальцами. Был еще кувшинчик для сливок, сахарница с крышкой, шесть чашек с блюдцами и шесть небольших тарелок – все тоже с яблоками, и на весь сервиз ни единой щербинки. Тетя Энни говорила, что это свадебный подарок моим родителям от одной знакомой из Нью-Ричмонда, а когда я подрасту, он перейдет ко мне, но и сейчас можно его ставить на стол для самых дорогих гостей. Казалось бы, мне полагалось радоваться.
Я обдала чайник кипятком, заварила чай. Чайник поставила на самый красивый поднос, сверху накрыла стеганым чехлом. Рядом я пристроила две чашки с блюдцами, молоко, сахарницу и осторожно двинулась с подносом к выходу. Сквозь сетчатую дверь виднелись силуэты мисс Каррингтон и тети Энни.
– Вы уж не взыщите, мисс Моррисон. Не поймите меня превратно.
Тетя Энни, увидев меня, встала, распахнула передо мной дверь.
И сказала:
– Спасибо, Кейт, красиво ты как все расставила. А теперь нам с мисс Каррингтон надо кое о чем переговорить – может, ты пока дочистишь фасоль на кухне? Или на берегу, если хочешь. Где тебе больше нравится?
– На берегу, – ответила я, хотя не все ли равно?
Я взяла кастрюлю с фасолью, нож, сбежала по ступенькам веранды, свернула за угол дома. И там уронила нож. Он упал, наверное, прямо возле моих ног, но затерялся в высокой траве. Взяв под мышку кастрюлю, я принялась прочесывать траву, раздвигая ее ногами, и тут услышала голос мисс Каррингтон:
– Понимаю, не мое это дело, но молчать не могу. Все они, конечно, умные ребята, но Мэтт не просто умный. У него такая тяга к знаниям… он исследователь, мисс Моррисон, прирожденный исследователь. Из тех, кого мне приходилось учить, он самый способный, на голову выше остальных. И в школе ему доучиться осталось всего год…
– Два года, – поправила тетя Энни.
– Нет, только год. Он ведь перешагнул через класс, он моложе Люка на два года, но отстает всего на год. Экзамены ему сдавать будущей весной. И в университет он поступит, стипендию ему присудят обязательно. Никаких сомнений.
Воцарилось молчание. Пальцами босой ноги я наткнулась на что-то холодное, твердое. Наклонилась, подобрала нож.
Тетя Энни спросила:
– Стипендии хватит на все? На питание, на жилье?
– На самом деле нет. Главное, учиться он будет бесплатно, а с жильем что-нибудь придумаете. Как-нибудь да можно выкрутиться. Мисс Моррисон, простите меня за назойливость, но поймите – это будет трагедия, если Мэтт не поступит в университет. Настоящая трагедия.
Выждав минуту, тетя Энни сказала мягко:
– Мисс Каррингтон, у нас в семье произошла трагедия куда страшнее.
– Понимаю! Понимаю, конечно! Потому-то и кажется несправедливым, если на Мэтта обрушится двойной удар.
Молчание. Тетя Энни вздохнула. И наконец заговорила, по-прежнему мягко:
– Но прошу, войдите и вы в наше положение. Мы рады бы помочь Мэтту, если б могли. Мы всем детям рады бы помочь. Но денег у нас нет. Понимаю, верится в это с трудом, но так и есть. В последние пять лет – нет, шесть – у всех фермеров на Гаспе тяжелые времена. Братья мои оба в долгах, и отец тоже. Влез на старости лет в долги, а ведь раньше ни у кого ни пенни взаймы не брал.
– Но этот дом…
– Деньги от продажи дома и наследство Роберта пойдут на образование Люка, да еще останется понемногу каждому из детей, когда им исполнится двадцать один. Совсем понемногу. Несправедливо это, обделять девочек, чтобы Мэтт учился в университете. Да и все равно не хватит.
– Но ведь…
– Мисс Каррингтон, выслушайте меня, прошу. Я не должна вам этого говорить, это в высшей степени… неуместно… Но прошу вас, поймите. Вижу, вы болеете душой за Мэтта, и хочу объяснить, как… как тяжело это для нашей семьи. Роберт потому так мало оставил, что он всем нам помогал. Он чувствовал себя перед нами в долгу. Братья мои всем пожертвовали, чтобы открыть ему дорогу, и он многого добился, а в тяжелые времена, само собой, взялся нам помогать. Проявил щедрость… И разумеется, откуда ему было знать, что дети… Он рассчитывал на хорошую зарплату на много лет вперед…
Наступило молчание, я ворошила ножом стручки фасоли.
Мисс Каррингтон подтвердила совершенно упавшим голосом:
– Тогда да, трагедия. Вы правы.
– Да, так и есть.
– Вы не могли бы… хотя бы дать ему окончить школу? Мисс Моррисон, он этого достоин – хотя бы школу окончить.
– Милочка, у сестры моей – не у той, что забирает к себе Кейт и Элизабет, у другой – четверо сыновей, и все они этого тоже достойны – окончить школу, поступить в университет, если на то пошло. Способные ребята. У нас в семье все способные. Но все они сейчас на рыболовных судах. Даже на ферме будущего у них нет. Можно сказать, трагедия, но почти всякому на свете знакомая. Скажу вам правду, для меня печальней разлучать детей, чем забирать Мэтта из школы. Образования у него и так более чем достаточно.
И снова молчание. У мисс Каррингтон губы, наверное, сжались ниточкой, как в классе, когда она сердится.
Тетя Энни продолжала:
– Знаете ли, нам грех жаловаться. Ведь дети могли быть там, в машине.
Я спустилась к озеру. Дочистив фасоль, посидела еще немного, глядя на волны, слушая их мерный рокот. Этот звук, во всем многообразии оттенков, сопровождал меня всю жизнь, с рождения, я не мыслила себя без него.
Я снова взяла в руки нож, ткнула острием в кончик пальца. Он вонзился в кожу, выступила темная блестящая капелька крови. Было почти не больно.
6
О случайности, мелкие мимолетные события, что определяют ход нашей жизни! Если сказать, что жизнь моя сложилась именно так, потому что мои родители погибли, это очевидно – такое отразилось бы на чьем угодно будущем. Но если я скажу, что жизнь моя повернулась так, а не иначе, потому что в тот день к нам зашла мисс Каррингтон, а я уронила нож, а потом Мэтт, отчаянно пытаясь мне помочь, стал засыпать меня вопросами, а рядом был Люк, пытался читать газету, а Бо плакала…
– Ты палец порезала, – заметил Мэтт.
Мы сидели на диване. После ужина я вытерла посуду по просьбе тети Энни, а та, с мрачным упорством приучая нас к новому порядку, укладывала Бо. Из-за двух закрытых дверей неслись вопли. «Нет! – кричала Бо. – Нет! Нет! Нет!»
Это означало: только не тетя Энни. Все мы это понимали, а тетя Энни понимала лучше всех.
Люк, стоя на полу на четвереньках, делал вид, будто читает газету. Подбородком он оперся на стиснутые кулаки.
– Чем ты порезалась? – спросил Мэтт.
– Ножом.
– А что ты этим ножом делала?
– Фасоль чистила.
– Надо осторожней.
Он откинулся назад, повел плечами и застонал:
– Спина отваливается. Уж лучше фасоль чистить, чем наша с Люком работа, это я точно тебе говорю.
Он ждал от меня расспросов. Я все понимала, но слова не шли с языка, засели глубоко внутри, никак не вытащить наружу.
Мэтт мне и так рассказал.
– Мы сегодня солому раскидывали. Работенка – врагу не пожелаешь. Полный нос и рот пыли, всюду солома – под рубашкой, под штанами, от пыли и пота пальцы на ногах склеиваются, да еще и старик Пай над душой стоит, с вилами, как тролль с трезубцем, – как зазеваешься, съест!
Он пытался меня рассмешить, но мне было не до смеха. Я вымученно улыбнулась. Он улыбнулся в ответ и продолжал:
– А теперь расскажи, как день провела. Что случилось сегодня интересного, не считая фасоли?
Я не знала, о чем рассказать. Мысли ворочались еще тяжелей, чем язык. Ум мой сбился с курса, словно корабль в тумане.
– Ну рассказывай, Кэти. Чем занималась? Заходил кто-нибудь?
– Мисс Каррингтон.
– Мисс Каррингтон? Здорово. И что говорила?
Я пробиралась сквозь туман.
– Сказала, что ты умный.
Мэтт хохотнул.
– Во как!
Мало-помалу ко мне возвращались подробности. Мисс Каррингтон волновалась. Робела перед тетей Энни, и слова ей давались с трудом, и говорила она не своим голосом.
– Она сказала, что другого такого ученика у нее не было. Сказала, что это будет… трагедия… трагедия… если ты не поступишь в университет.
На секунду между нами легло молчание. Мэтт сказал:
– Мисс Каррингтон – добрая старушка! К учителям подлизываться – дело полезное, Кейт. Бери с меня пример.
Теперь и он заговорил не своим голосом. Я бросила на него взгляд, но он смотрел на Люка, а сам покраснел как рак. Люк оторвался от газеты, и они уставились друг на друга. Люк спросил у меня, не сводя глаз с Мэтта:
– А что тетя Энни?
Я силилась припомнить.
– Сказала, денег не хватит. – Тетя Энни сказала не только это, но я забыла.
Люк кивнул, по-прежнему глядя на Мэтта.
Чуть погодя Мэтт отозвался:
– Права она, что тут скажешь. Да и какая разница?
Люк промолчал.
Вдруг ни с того ни с сего Мэтт разозлился. Он сказал:
– Если хочешь всю жизнь себя грызть за то, что тебя угораздило родиться первым, – пожалуйста, только меня от этого избавь.
Люк не ответил. Он отвернулся и снова уставился в газету. Мэтт наклонился, тоже взял страницу. Пробежал ее глазами и швырнул на пол. Глянул на часы:
– Сходить бы на пруд, через час уже стемнеет.
Но ни один из нас не двинулся с места.
За стеной по-прежнему не унималась Бо.
Люк резко встал и вышел из комнаты, слышно было, как он ворвался в детскую. Раздались голоса – возмущенный голос Люка, голос тети Энни, твердый и неумолимый, и безутешный плач Бо; мне представилось, как она тянется к Люку. А потом тетя Энни отчеканила:
– Ты ей только мешаешь уснуть, Люк. Только мешаешь.
Застучали шаги Люка, громкие, сердитые, хлопнула входная дверь.
Вот что надо сказать про Люка. До того самого дня, когда погибли наши родители, не припомню, чтобы он хоть раз взял на руки Бо. Ни разу. Мэтт носил ее на руках, а Люк – нет. И не помню, чтобы Люк проявлял к нам хоть какой-то интерес, разве что иногда бранился или перешучивался с Мэттом; он нас будто не замечал.
Наутро Люка дома не оказалось.
Постель его была смята, на кухонной стойке осталась миска хлопьев, а сам Люк будто сквозь землю провалился. Им с Мэттом пора было собираться на ферму.
– Может, он уже там, – предположила тетя Энни. – Решил выйти пораньше.
– Как бы не так, – буркнул Мэтт. Он был вне себя. Он уже обувался, стоя у дверей, яростно затягивал шнурки, заправлял джинсы в рабочие ботинки, чтобы не набилась внутрь солома.
– Куда он делся? – спросила я.
– Не знаю, Кейт. Хоть бы записку оставил, да где там! Люк есть Люк. То-то будет праздник, если он хоть раз нам сообщит о своих планах!
Так оно и было. Люк, прежний Люк, каким он был всего два месяца назад, вечно забывал говорить, куда уходит и когда вернется, и этим злил родителей. Мэтту в ту пору было все равно, его это не касалось.
Я посасывала порезанный палец. Мне стало страшно: а вдруг Люк не вернется? Сбежал или погиб?
– Но куда он, по-твоему, делся?
– Не знаю, Кейт, да и неважно. А важно, что если он через две минуты не вернется, то мы на работу опоздаем.
– Что поделать, иди без него, – сказала тетя Энни. Она делала им к обеду бутерброды, настоящие фермерские бутерброды – огромные ломти хлеба и на каждом шмат мяса в палец толщиной. – Пусть сам выкручивается. Может, он уехал зачем-то в город? Смог бы он сейчас туда добраться?
– Мог с молоковозом уехать. Мистер Джени в четыре утра выезжает – может, он его и подвез.
– Он вернется? – Голос у меня задрожал, ведь наши родители погибли по дороге в город.
– Вернется, никуда не денется. Не знаю только, что я скажу старику Паю, он со злости лопнет.
– Но откуда ты знаешь, что он вернется?
– Знаю, и все, Кейт. Оставь палец в покое. – Он вытащил руку у меня изо рта. – Знаю, и все, понятно? Знаю.
Утро я провела за домашними хлопотами, а почти весь день – у озера с Бо. Бо объявила тете Энни войну. Она, как видно, считала тетю Энни виновницей всех своих бед и решила с ней биться не на жизнь, а на смерть. Думаю, Бо победила бы. И подозреваю, что так думала и тетя Энни.
Итак, тетя Энни изгнала нас из дома, дав себе передышку, чтобы выстроить оборону. Так и вижу, как мы шагаем по тропинке к берегу – я еле плетусь, а Бо топает, взметая крохотные облачка пыли. Волосы у меня свисают сосульками, а у Бо стоят дыбом и будто пышут гневным жаром. Хороши сестрички!
Опустившись на горячий песок, мы стали смотреть на озеро. Был полный штиль. Казалось, озеро мерно дышит, словно огромный зверь, серебристый, лоснящийся. Бо, сидя со мной рядом, перебирала камешки и то и дело вздыхала, посасывая палец.
Я пыталась успокоить смерч внутри, но едва мне это удалось, едва ураган стих и стало можно разобрать в этой сумятице отдельные мысли, мне сделалось от них невмоготу. Как жить без Мэтта? Без Люка? Покинуть дом? Поселиться у чужих? Тетя Энни мне про них рассказывала, говорила, детей в той семье четверо – трое мальчиков и девочка. Все они старше меня и Бо, но, по словам тети Энни, хорошие. Да только откуда ей знать, хорошие или нет? Если ты не ребенок, то и не поймешь по-настоящему. Мэтт меня просил присматривать за Бо, но наверняка понимал, что мне не справиться. Слишком уж было мне страшно. Намного страшнее, чем самой Бо.
Высмотрев вдали на озере крохотную лодку, я заставила себя на ней сосредоточиться. Я знала, кто хозяин лодки – Джим Сумак, приятель Люка из индейской резервации.
– Вон там Верзила Джим Сумак, – громко сказала я Бо. Меня тянуло говорить, чтобы заглушить мысли.
Бо вздохнула и продолжила сосать палец, зачмокала громче. Большой палец был у нее вечно мокрый, на кончике взбухла белая мозоль.
– Он рыбачит, – продолжала я. – Что-нибудь поймает к ужину. Весит он двести с лишним фунтов, вот его и прозвали Верзилой. Школу он бросил, а Мэри Сумак в третьем классе. Зимой она в школу не ходила, учительница пошла к ее маме, и оказалось, ей не в чем – нет башмаков. Индейцы очень бедные.
Мама говорила, что всем нам перед ними должно быть стыдно. Я не совсем понимала, чего нам стыдиться, но меня терзало смутное чувство вины. Я вспомнила о маме, попыталась вызвать в памяти ее лицо, но оно от меня ускользало. Бо уже перестала спрашивать, где мама.
Ярдах в двадцати от берега из воды вынырнула гагара.
– Смотри, гагара, – сказала я.
Бо опять вздохнула, и гагара исчезла.
– Юк? – спросила вдруг Бо, вынув изо рта палец и глядя на меня во все глаза.
– Люк ушел.
– Мэт?
– И Мэтт тоже ушел. Они скоро вернутся.
Я огляделась, ища, чем бы ее отвлечь, чтобы она не заводилась. По песку к нам приближался паук, волоча дохлую оленью муху. Он полз, пятясь задом, вцепившись в муху челюстями и двумя лапками, изо всех сил перебирая остальными шестью. Мы с Мэттом видели однажды, как крохотный паучишка тащит из ямки в песке поденку втрое крупнее себя. Сухой песок то и дело осыпался, и паучок со своей ношей срывался на дно ямки. Он не сдавался, снова и снова пытался выбраться тем же путем, не сбавляя ходу. Мэтт рассуждал: «Вот что непонятно, Кэти, – то ли он очень-очень упорный, то ли память у него совсем короткая, вот он и делает все как в первый раз, забывает, что было секунду назад. Вот в чем вопрос».
Почти полчаса мы за ним следили, и наконец, к нашей радости, он выбрался из ямки – значит, не просто упорный, но еще и очень умный, заключили мы.
– Смотри, Бо, – сказала я. – Видишь, паук? Муху поймал и домой к себе тащит, в гнездо, видишь? А как дотащит, замотает в кокон и, когда проголодается, съест.
Я не пыталась разделить с ней свой восторг, как Мэтт со мной. Цель у меня была другая, более приземленная. Я надеялась, что она увлечется и забудет про свои капризы, мне было в тот день совсем не до них.
Но, увы, не сработало. Я-то думала, все идет как надо – Бо нагнулась и несколько мгновений внимательно смотрела на паука, но вдруг, вынув изо рта палец, вскочила, шагнула к пауку и наступила на него.
7
Мэтт вернулся ближе к шести. Я поджидала его на ступеньках веранды. Он спросил, дома ли Люк, я ответила нет, и он ничего не сказал, а просто пошел к озеру, разделся и нырнул.
Я шла за ним следом от самого дома и теперь молча стояла на берегу, глядя, как там, где он нырнул, по воде расходится рябь. Он вновь показался из воды, мокрый и скользкий, как тюлень. Загар был у него неравномерный, из светлых и темных кусочков: лицо, шея и руки коричневые, спина и грудь чуть светлее, а ноги совсем белые.
Он попросил:
– Принесешь мне мыло? Я забыл.
И я сбегала в дом за мылом.
Намыливался он яростно, скреб себя, втирал пену в волосы. Потом бросил мыло на песок и снова нырнул, а вокруг расплылось по темной воде белесое облачко. Уплыл он далеко.
Мыло нельзя оставлять на песке, потом песчинки не отскребешь, надо его класть на камень. Я подобрала мыло, опустила в воду и стала полоскать, но песок только глубже застревал.
Тут приплыл Мэтт, вылез из воды. Со словами «Не надо, Кейт» забрал у меня мыло. Когда мы шли к дому, улыбнулся мне мимоходом, улыбка вышла ненастоящая, просто растянутые губы.
Тетя Энни тянула с ужином до последнего, все дожидалась Люка, но в конце концов накрыла на стол без него. Она приготовила окорок, поставила посреди стола большую миску яблочного пюре, я его любила, но в этот раз почему-то есть не смогла. Как и остальное. Кусок не шел в горло. Во рту набиралась слюна, приходилось ее засасывать внутрь.