Коммуналка на Петроградке бесплатное чтение
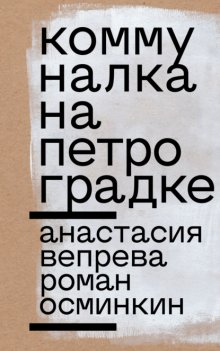
Письмо по ту сторону жанра
Алексей Юрчак
Эта книга – эксперимент. Эксперимент интересный, провокационный и в чем-то спорный. Текст написан в смешанном жанре, в котором пересекаются личный дневник, публичный блог, художественная проза, документальный театр и этнографическое исследование. Он заставляет задуматься о том, в каких отношениях находятся автор, герой и читатель, что такое коммунальное пространство в сравнении с частным и публичным, как жанр и эстетика изложения связаны с этикой наблюдения и политикой репрезентации, что общего между литературой, театром, антропологией и реальной жизнью и как все эти темы влияют на принципы письма. Это большие вопросы, про которые немало написано и по поводу которых существует много точек зрения.
По мере чтения соотношение этих жанровых составляющих меняется. И одновременно у авторов – Романа Осминкина и Анастасии Вепревой – меняется и понимание авторами того, что, как и зачем они наблюдают и описывают. Начав с публичного блога, паблика, в какой-то момент они его закрывают, объясняя это неожиданной популярностью блога и осознанием того, что настоящие имена героев, которые не были заранее изменены, оказались в публичном пространстве. Но и после закрытия блога дневниковые записи продолжаются. Вначале в них немало рассуждений на темы литературной и культурной теории; упоминаются формалисты и другие теоретики. Но постепенно появляются рассуждения об исследовательской стороне проекта, и у авторов меняется ощущение своей ответственности. Сначала ответственность касается исключительно отношений с читателем. Комментируя растущую популярность блога, они замечают, что на автора «налагается не только пресловутая ответственность за слово», но и требование «быть как можно более убедительным для как можно большего числа читателей». Чуть позже появляется ощущение ответственности перед коммунальными соседями – главными героями повествования. «Не подло ли колонизировать чужую речь?» и «как представлять другого?» – задаются вопросами авторы. Правда, эта новая ответственность своеобразна: слова соседей продолжают звучать в публичном пространстве – их читают с театральной сцены, популярные СМИ берут интервью у авторов, к изданию готовится эта книга – но сами соседи об этом не догадываются.
Такое отношение авторов с живыми героями текста не может не вызывать вопросов из области этики. Но есть ли тут этическая проблема? И если есть, насколько она значительна и в чем именно она заключается? Ответ на эти вопросы частично зависит от того, к какому жанру письма этот текст отнести. Хотя научным исследованием текст не назовешь, у него есть явно выраженная исследовательская составляющая. Авторы не раз сравнивают свои записи с этнографией, а себя с антропологами, исследующими иную культуру. Но при этом авторы также противопоставляют свой подход научному, подчеркивая художественную направленность текста. Учитывая это, я позволю себе ряд комментариев с позиции антрополога, но постараюсь не ограничиваться этой позицией.
Одним их базовых принципов антропологии, как и некоторых других социальных и гуманитарных наук, является неразрывность связи между методом и этикой исследования. В антропологии этическая составляющая влияет на формулировку исследовательской темы, практику сбора материала (этнографию), отношение с информантами и другими людьми, а также на структуру аналитического текста, который пишется на основании исследования. Занимаясь исследованиями в каком-то культурном контексте, антрополог/этнограф не просто смотрит со стороны, пытаясь разобраться в происходящем, а стремится стать участником, проживающим реальность изнутри. Этот подход требует длительного погружения, часто на долгие месяцы и годы. Обычно он также подразумевает открытость процесса наблюдения – открытость не только для читателей, но и для людей, среди которых исследователь живет и собирает материал. Этнограф не должен скрывать свое истинное лицо и намерения, по крайней мере, в идеале.
Эта позиция подразумевает диалог с информантами и окружающими людьми, что важно как с этической, так и с методологической точек зрения. Публичное описание людей без их согласия, а иногда и при их согласии, может нанести им вред. Но дело еще и в том, что разобраться в социально-культурных смыслах незнакомого контекста вряд ли возможно, не включая «местных» в процесс наблюдения и анализа и не учитывая их точку зрения, комментарии и критику, в том числе по поводу видения этнографа. Картина искажается, если единственной перспективой на происходящее является взгляд наблюдателя.
Авторы этого текста не сообщают своим героям-соседям о том, что ведут наблюдение и делают записи, видимо, считая, что в противном случае их проект будет невозможен. В этом – первое отличие жанра, в котором они пишут, от жанра, в котором пишет этнограф. В принципе авторы понимают это отличие и говорят, что они в общем-то не этнографы, хотя поначалу ощущали себя таковыми. Этнография для них – это, скорее, не метод поиска истины, а способ исследовать новые жанры письма. Кроме того, замечают авторы, пока они наблюдают за соседями, те точно так же наблюдают за ними. А значит, не только они в своем тексте «объективируют» своих соседей, но и те в своих разговорах занимаются «объективацией» их, авторов. Такая взаимная объективация, по мнению авторов, уравнивает обе стороны и снимает этическую проблему. Когда авторы случайно слышат, как соседи в разговоре друг с другом иронично называют их «ботанами», авторы вдруг осознают, что никаких привилегий у них нет: «наше исключительное право раздавать имена и экзотизировать» оказалось «раз и навсегда низвергнуто».
Насколько этот аргумент о взаимной объективации работает? Соседи по коммуналке действительно обсуждают авторов, посмеиваются над ними и говорят не всегда приятные вещи в лицо и за глаза. Однако эти разговоры ведутся внутри коммунального пространства и не адресованы внешней публике. Если в пространстве коммуналки авторы и герои живут в похожих условиях и более-менее равных отношениях, то за пределами коммуналки, в публичном пространстве, где циркулирует этот текст – где у него большая аудитория, где его читают со сцены, где его упоминают в интервью, – их условия далеко не равны. К тому же соседи про свою публичность в этом внешнем пространстве не подозревают. Очевидно, что объективация в данном случае не обоюдная; она идет в одну сторону.
С этической точки зрения такое отношение авторов к героям текста приемлемо в том случае, если герои являются вымышленными персонажами. Здесь мы сталкиваемся с внутренним парадоксом этого текста. Хотя внутри коммуналки авторы взаимодействуют с соседями как вполне реальными живыми людьми и хотя авторы не раз подчеркивают, что они занимаются этнографически точным описанием этих людей, за пределами коммунального пространства они воспринимают этих людей как литературных персонажей. Парадокс в том, что оба вида отношений с соседями – как с реальными людьми и как с вымышленными персонажами – присутствуют внутри самого текста. Проявляется этот парадокс на разных уровнях: в языке, которым авторы пишут, в выборе тем и событий, которые они описывают, в том, как они комментируют эти события, в рассуждениях авторов о методе наблюдения и жанре письма и т. д. Проявляется он и в том, как этот текст затем циркулирует в публичном пространстве, для какой аудитории он пишется и как вокруг него формируется дискурс комментариев, интервью, публичных читок и обсуждений.
Нельзя сказать, что авторы не догадываются об этом парадоксе. Не говоря о нем открыто, они тем не менее пользуются им в качестве художественного приема. Из-за этого парадокса текст, с одной стороны, сталкивается с этическими проблемами, которые он не в состоянии разрешить, но, с другой стороны, в нем открывается широкое пространство для эксперимента с новыми художественными жанрами и видами письма. Я уже упомянул о роли этнографического метода в этом подходе. Но эксперимент здесь происходит не только во взаимодействии с жанром этнографии, но и с рядом других жанров – художественной прозы, документального театра, этнографического театра, онлайн-блога и, возможно, других жанров. К каждому из этих жанров текст частично относится, но ни с одним из них он не совпадает полностью. Для понимания природы этого текста важно сравнить его с перечисленными жанрами письма. Для начала рассмотрим его в контексте двух жанров – этнографии/антропологии и художественной прозы.
Не секрет, что у этих двух жанров письма есть много общих черт, но этические и методологические принципы каждого из них значительно различаются, что делает сведение одного к другому невозможным. На протяжении всей истории антропологии как дисциплины многие из ее представителей использовали этнографические наблюдения для написания не только исследовательских текстов, но и художественных книг. В первой половине двадцатого века считалось, что художественный текст, основанный на этнографических наблюдениях, способен передать общую культурную атмосферу точнее, чем научная книга. Частично это было связано с тем, что в научных текстах того времени было не принято писать про личный опыт этнографа во время этнографического исследования (чтобы не подорвать «объективность» исследования). А жанр художественной литературы, напротив, позволял это делать. Основатель американской культурной антропологии Франц Боаз (Franz Boas) писал новеллы о жизни североамериканских индейцев и народов Арктики, а его знаменитые ученики Зора Нил Херстон (Zora Neale Hurston) и Алфред Кроубер (Alfred Kroeber) печатались в сборниках художественной прозы и ставили пьесы.
В 1954 году антрополог Лора Боханнан (Laura Bohannan) напечатала ставшую знаменитой книгу «Возвращение к смеху», в которой описала свою жизнь и этнографический опыт в поселении нигерийского племени Тив. Чтобы отделить личные переживания от научного исследования Боханнан напечатала эту книгу под псевдонимом Эленор Смит Боуен (Elenore Smith Bowen). А чтобы не поставить реальных людей, с которыми она общалась, в неловкое положение и не нанести им вреда, она ни разу не упоминает название племени, среди которого жила, и даже название страны. В начале книги Боханнан пишет: «Все герои этой книги, кроме меня, являются выдуманными в полном смысле слова <…> Но описанные события являются реальными событиями, с которыми я лично столкнулась в Африке. Я – антрополог. И племя, которое я описываю, существует в реальности»1.
Контакты художественного и этнографического жанров происходили и в обратном направлении. Курт Воннегут в послевоенные годы изучал антропологию в Чикагском университете, но, не сумев защитить магистерскую диссертацию, оставил академический мир и стал писателем. Однако всю жизнь, по его собственному признанию, он ощущал влияние антропологического жанра на свою манеру письма. В 1971 году Чикагский университет даже присудил Воннегуту магистерскую степень антрополога – правда, лишь почетную – за роман «Колыбель для кошки» (Cat’s Cradle), в котором с этнографической точностью и элементами научной фантастики Воннегут описывал вымышленное островное государство, погруженное в сложный контекст колониальной истории, холодной войны и гонки вооружений. События, политические катаклизмы и основные герои книги, которых Воннегут выдумал, были основаны не реальных фактах, включая те, что он почерпнул из этнографических исследований. Писательница-фантаст Урсула Ле Гуин (Ursula Le Guin), дочь антрополога Альфреда Кроубера, с детства слышавшая споры о культурном релятивизме, которые вели аспиранты ее отца, всю жизнь выдумывала иные культуры, включая миры на других планетах. Следуя антропологической традиции смотреть на себя через взгляд другого, Ле Гуин использовала эти вымышленные миры как призмы, сквозь которые нормы человеческой культуры начинали казаться странными. Ле Гуин «запустила антропологию в космос», как написал про нее один рецензент.
В этих текстах писателей и антропологов художественный вымысел и реальные факты находились в тесном взаимодействии, но никогда не смешивались по соображениям объективности и этики. Реальные события и особенности культуры описывались через персонажей, которые не были портретами конкретных людей, а настоящие имена, названия и легко узнаваемые детали контекста менялись. В тех редких случаях, когда автор пытался выдать вымысел за реальные этнографические факты, его текст быстро терял ценность и как научный, и как художественный. Примером служит книга бывшего антрополога Карлоса Кастанеды «Учение Дона Хуана»2. Представленная автором в качестве антропологического исследования, книга приобрела широкую известность, но вскоре была разоблачена как вымысел. Это стоило Кастанеде академической карьеры и репутации честного человека, а его книге – возможности стать полноценным научным или художественным текстом (поспособствовав, правда, ее популярности в области ненаучной эзотерики).
Одним из ключевых отличий художественного и этнографического жанров письма является то, как в них понимается объективность. В 1980‐х годах дебаты на тему объективности даже вызвали кризис этнографического метода, важной вехой которого стал известный сборник «Writing Culture», вышедший в 1986 году. В его заголовке обыгрывается несколько смыслов, но точнее всего его перевести как «Конструирование культуры на письме»3. Идея заключалась в критике этнографии как таковой. Во вступительной статье Джеймс Клиффорд (James Clifford) писал, что в процессе этнографии сторонний наблюдатель занимается конструированием фактов, что делает этнографию не столько описанием реальности, сколько ее выдумыванием.
Эта критика повлияла на практику этнографов – но в первую очередь благодаря обратной реакции, которую она вызвала. Стало очевидно, что решение проблем объективности заключается не в том, чтобы отменить этнографию как таковую, а в том, чтобы практиковать более рефлексирующую этнографию, в процессе которой исследователь анализирует не только внешние факты, но и свое особое положение в «поле», свой взгляд наблюдателя и процесс наблюдения, неравенство социальных позиций между собой и людьми, среди которых он проводит исследование, этические проблемы, которые возникают в результате этих отличий и так далее. После этого большинство этнографических текстов стало включать описание личного опыта этнографа в процессе исследования. Одновременно художественной прозы, которая раньше описывала этот опыт по примеру книги Лоры Боханнан, стало гораздо меньше.
Объективность – понятие неоднозначное. Ее нельзя свести к объективной незаинтересованности и отстраненности наблюдателя, как считает позитивистская наука. Не существует абсолютного, отстраненного описания фактов, так же как не существует способа смотреть абстрактным «божественным» взглядом, который, по выражению Донны Харауэй, «смотрит ниоткуда и видит все». Взгляд наблюдателя всегда отмечен конкретной ситуационностью или расположенностью (situatedness)4 – он имеет свою ориентацию и перспективу по отношению к объекту наблюдения, он оформлен конкретной «телесностью» смотрящего (не обязательно биологической), он наделен исторически и культурно сформированным способом видения, подмечающим одни детали и не замечающим других и т. д. Объективность – это не противоположность субъективности. Напротив, объективность означает, что наблюдатель отдает себе отчет в субъективности своего взгляда и учитывает этот факт при наблюдении. Это особенно важно в этнографии.
Критика объективности повлияла на основной метод этнографического исследования – включенное наблюдение или, точнее, участвующее наблюдение5. Этот метод подразумевает не только глубокую погруженность этнографа в контекст иного культурного сообщества, но также участие представителей этого сообщества в процессе исследования. Важны их точка зрения, понимание, комментарии и критика. Это дает возможность этнографу увидеть субъективность собственного взгляда через призму взгляда другого. Как писал антрополог Рой Вагнер, в методе участвующего наблюдения «другой» занимает позицию не только объекта исследования, но и его субъекта, соучастника, соавтора6. Трудно достичь объективности наблюдения, если оно проводится в отрыве от точки зрения наблюдаемых. Важно «давать живой, неотредактированный голос самим информантам, наделять их правом и возможностью критиковать этнографические наблюдения и выводы», замечает антрополог Сергей Абашин7. Взгляд другого является составной частью антропологического взгляда. Этот метод подразумевает определенное раздвоение или, точнее, удвоение сознания самого исследователя, пребывание в двух несовпадающих состояниях одновременно – в состоянии внешнего наблюдателя и внутреннего участника, человека, который смотрит своим взглядом на «другого» и взглядом «другого» на себя.
Очевидно, что, наблюдая и записывая, авторы данного текста руководствуются несколько другими принципами. Это отличает их текст и весь процесс наблюдения и анализа от жанра этнографии. С одной стороны, как включенные этнографы они погружены в контекст на правах реальных жильцов коммуналки. С другой стороны, соседи ничего про их наблюдения не знают, то есть активной обратной связи внутри текста нет. С позиции метода и этики такой процесс наблюдения является не вполне участвующим, а авторский текст – не вполне этнографией. Авторы этого различия, в принципе, не скрывают. Несмотря на частые сравнения себя с этнографами, они одновременно дистанцируются от этнографии/антропологии.
В какой-то момент авторы сравнивают свой метод с другим жанром – фактографическими экспериментами Сергея Третьякова. Третьяков и его коллеги по литературно-театральному авангарду 1920–1930‐х годов считали, что фактографическое исследование материала жизни подразумевает особый вид этики. Пишущий в фактографической манере автор, которого Третьяков называл очеркистом, «не просто пассивно фиксирует реальность, но берет на себя личную ответственность за свой материал», делая его частью своей биографии. Ответственность перед материалом человеческой жизни означала для Третьякова, что наблюдатель не может отделить себя от тех, кого он исследует и описывает: «Нельзя просто наблюдать за объектом. Вместо этого, постоянно работая с объектом, ты становишься органически связанным с ним», а значит, «ты должен осознать степень своей социальной ответственности перед объектом…»8
Факт, полученный в результате наблюдения и художественного описания, согласно Третьякову, не является лишь чем-то внешним, полностью заданным заранее – тем, что наблюдатель пассивно фиксирует. Напротив, любой факт реальности всегда частично конструируется в процессе наблюдения. Как отмечает Девин Фор, «несмотря на сегодняшнюю тенденцию понимать факт как объективную данность – своего рода онтологический краеугольный камень реальности», для Третьякова было очевидно, что факты не просто обнаруживаются во внешнем мире, а частично производятся и фабрикуются9. Процесс производства фактов в фактографическом жанре художественного письма зависит от конкретной перспективы наблюдателя и происходит во взаимодействии наблюдателя и наблюдаемого. Близость авторов фактографическому жанру проявляется, например, когда они замечают, что, наблюдая за жизнью коммуналки, они не просто фиксируют события и фразы, а участвуют в их производстве. В процессе наблюдений, дневниковых записей, чтения комментариев читателей и общения с интервьюерами у авторов несколько меняется отношение к происходящему. Они начинают обращать больше внимания на одни факты и реакции и меньше на другие, провоцировать соседей на определенные высказывания, а порой даже додумывать какие-то фразы за соседей. Такое додумывание, как им кажется, может придать событию не меньше, а больше фактографической точности.
Метод Третьякова предшествовал современному документальному театру10. Данный текст связан с жанром документального театра даже в большей степени – в публичном пространстве текст быстро приобрел элементы театральности; молодые актеры в разных контекстах читали его со сцены, разыгрывая роли реальных соседей по коммуналке. Тем не менее этот текст имеет как минимум два отличия от жанра документального театра. Первое отличие заключается в этике репрезентации. Для большинства представителей документального театра, как и для этнографов, важно, чтобы не только имена и детали биографии реальных людей, слова которых воспроизводятся со сцены, были скрыты, но и позиция героев не игнорировалась11. Как подчеркивала создатель Театра.doc Елена Гремина, документальный театр не должен относиться к живому человеку как отстраненный наблюдатель, который изучает занятных существ, но не прислушивается к их мнению по поводу этого изучения. В качестве иллюстрации того, как отношения между наблюдателем и наблюдаемым не должны строиться. Гремина приводила картину Эдуарда Мане «Завтрак на траве»: «Мужчины сидят, одетые в черные костюмы, а женщины сидят голые»12. В данном тексте имена соседей изменены, но их мнение не обсуждается (при этом то, что они живут в одной квартире с известными авторами, вряд ли действительно анонимизирует их). Как с этим поступать, не вполне очевидно. Второе отличие этого текста от документального театра связано с процессом наблюдения. Тексты в жанре документального театра обычно пишутся на основании относительно кратких и несистематических наблюдений, ситуаций, интервью. А данный текст, как уже говорилось, написан на основе длительного наблюдения изнутри. Это второе отличие является, безусловно, значительным преимуществом этого текста и сближает его с еще одним жанром – этнографическим театром. Как я упомянул выше, в антропологии всегда существовала область, которая экспериментировала на границе этнографии и художественных жанров. Сегодня эти эксперименты особенно распространены в этнографическом фильме и этнографической пьесе. Приведу один пример. Недавно молодая антрополог Кассандра Хартблэй (Cassandra Hartblay) из Университета Торонто в течение нескольких лет прожила в Петрозаводске в сообществе людей с ограниченной физической мобильностью. За годы жизни и тесного общения с этими людьми и с теми, кто их окружает, Кассандра со многими подружилась. Кроме научного исследования по материалам своей этнографии она написала документальную пьесу об этих людях. Пьеса была поставлена в нескольких американских театрах и планируется к постановке в России13.
Все персонажи пьесы имеют реальных прототипов, но их имена, детали биографии и узнаваемые детали контекста изменены. Актеры со сцены говорят реальными фразами, воспроизводя реальные ситуации. Но многие фразы и ситуации добавлены или изменены. Люди, среди которых Кассандра жила, с самого начала знали о ее этнографическом исследовании и о планах написать пьесу. Многие из них принимали активное и заинтересованное участие в обоих проектах, обсуждая наблюдения и размышления антрополога, а впоследствии участвуя в читке и обсуждении пьесы, комментируя, соглашаясь, не соглашаясь, исправляя, критикуя, дорабатывая. Пьеса высвечивает разные вопросы, включая проблемы и предрассудки, с которым сталкиваются люди с физическими ограничениями как в российском, так и в североамериканском контекстах. Ее идею нельзя свести к критике; напротив, она заряжена уважением и оптимизмом, а по форме поражает ощущением эксперимента. Жанр участвующего наблюдения, который материализовался в пьесе, и участие в ее создании тех, о ком она написана, дает возможность показать их с нормальной стороны – показать, что несмотря на проблемы, ограничения и стереотипы они, как и все, живут сложной полноценной жизнью и их возможности куда шире, чем может показаться.
Как и пьеса Кассандры Хартблэй, текст данной книги существует в виде театральной пьесы. Его герои тоже реальные люди, жители коммуналок, которые тоже сталкиваются с ограничениями, правда, скорее социально-экономическими, классовыми, и написан этот текст тоже на основании длительного наблюдения. Но поскольку в процессе этнографии, а также в создании текста пьесы герои не участвовали, этот жанр отличается от этнографического театра. Поэтому авторский подход следует сравнить еще с одним жанром, который на их письмо, безусловно, повлиял, – жанром блога. Начав когда-то писать свой текст в виде блога, авторы не думали, что это начало большого проекта, пьесы и книги. Блог был настолько небольшим, что им не пришло в голову скрыть реальные имена соседей. Но когда блог неожиданно приобрел популярность и широкую аудиторию, авторам показалось, что обсуждать его с соседями уже поздно и это может вызвать нежелательную реакцию.
Жанр блога – особенный. Блог располагается между приватным и публичным пространствами, между дневниковой записью и внешней аудиторией. Он часто пишется синхронно с событиями, и аудитория читает и комментирует его в том же ритме. Эти условия влияют не только на форму и содержание записей, но и на процесс наблюдения и взгляд автора. Автор может ощущать необходимость регулярно обновлять посты, фокусироваться в своих постах на определенных фактах и случаях, писать интересным языком, менять стиль, реагировать на комментарии читателей и т. д. Такие черты блога могут подтолкнуть автора не только фиксировать одни факты и игнорировать другие, но и додумывать детали и высказывания, добавляя им необычности или художественности. Этим блог отличается от традиционных этнографических записей и от других вышеперечисленных жанров, не ориентированных на онлайн-аудиторию и синхронную обратную связь. Кроме того, в жанре блога, как и в жанре поста в социальных сетях, сложилась традиция чаще писать о конкретных людях, не скрывая их идентичности. Этические принципы в этом жанре не-совсем-публичного письма не совпадают с принципами публичного дискурса, тем более этнографии. Находясь в пространстве блога, автору может быть легче воспринимать читателей как активных собеседников, перед которыми автор несет ответственность, а тех, о ком блог пишет, напротив, воспринимать как объекты отстраненного наблюдения.
Несмотря на то что в какой-то момент блог был закрыт, жанр блога продолжал влиять на форму, в которой по-прежнему писался текст. Но влиял он на эту форму лишь отчасти, как один из нескольких вышеперечисленных жанров – антропологии/этнографии, художественной прозы, фактографии и документального и этнографического театра (это перечисление, безусловно, не исчерпывает жанровых особенностей текста). Пересекаясь с каждым из этих жанров, данный текст не совпадает ни с одним из них полностью – ни по форме письма, ни по замыслу, ни по этическим и исследовательским принципам, ни по художественной составляющей. Поэтому не совсем правомерно оценивать этот текст с позиции других жанров, например, этических норм только этнографии.
Жанр, в котором написан этот текст, отличается от перечисленных жанров как минимум по двум причинам. Первой причиной является то, как авторы воспринимают особое пространство коммуналки. В отличие от коммуны, хипстерского сквота или группы друзей, снимающих общее жилье, большинство коммунальных соседей оказалось вместе по случайному стечению обстоятельств. Хотя здесь, безусловно, складывается более-менее единое культурное пространство, говорить о солидарном сообществе трудно. Проводя много времени в этом пространстве, соседи тем не менее разобщены. Социальная близость здесь сосуществует с атомизацией, а возникающие приятельские отношения – с соперничеством, раздражением и безразличием. Тут многие наблюдают за многими, и все обсуждают всех. В этом контексте, как, видимо, кажется авторам, рассказать соседям о проекте и предложить им его комментировать – означает сделать проект невозможным и разрушить с соседями отношения.
Возможно, авторы правы. Возможно, приглашение соседей участвовать в проекте, в котором описываются их быт, поведение, отношения и язык, вызовет у них отторжение. Правда, как вам скажут антропологи, имеющие опыт полевых исследований в разных контекстах, такой вывод далеко не очевиден, и многое зависит от того, как сформулировать тему этнографии. С другой стороны, проводить какие-то части этнографического наблюдения, не включая в него комментарии наблюдаемых, не редкость и в самой антропологии. Существует множество ситуаций, в которых открыто проводить этнографию становится невозможно, неэтично или небезопасно. Поэтому неверно было бы настаивать на одинаковых правилах этнографии в каждой ситуации, превращая их в «фетиш», не зависящий от контекста14. Но тем не менее, занимаясь наблюдениями и публичным описанием, надо стремиться следовать базовому принципу – не навреди. Его хорошо сформулировала антрополог Зинаида Васильева: «Если принять метафору хирургической практики применительно к науке, важно помнить, что антрополог/этнограф, в отличие, скажем, от историка античности, „режет по живому“, „без наркоза“15». Можно ли данный проект отнести к ситуациям, в которых участвующее наблюдение невозможно? Следует ли он базовому принципу этнографической этики? Насколько важна для него эта этика? Ответить на эти вопросы непросто, но этическая дилемма здесь есть и ее стоит обсуждать.
Второй и самой важной причиной, по которой этот текст отличается от всех перечисленных жанров, является желание авторов не столько или не только описывать коммуналку, взаимоотношения людей или изменения своего «я» в коммунальном контексте, сколько экспериментировать с природой, формой и процессом письма как такового. Это желание ощущается в разных частях текста в большей или меньшей степени, но оно всегда присутствует. Если смотреть на этот текст под таким углом, то видно, что объектом наблюдения авторов становится не окружающая реальность, а непосредственный процесс письма, возникающий из взаимодействия с этой реальностью. То, что авторы относятся к живым людям, присутствующим в тексте, как отчасти вымышленным персонажам, связано, мне кажется, с этой особой ситуационностью авторского взгляда – с тем, что этот взгляд смотрит не на окружающий мир, а на природу письма через призму этого мира.
Однако этот вывод тоже верен лишь отчасти. Очевидно, что авторы могут рассматривать природу текстуальности и процесс письма через призму окружающего мира именно потому, что они погружены в мало привычную им реальность и окружены живыми людьми, которые кажутся им необычными, непривычными, играющими роль «других». Один из читателей авторского блога написал в своем комментарии: «Все персонажи настолько фриковые», что в них появляется «своя магия». Этот комментарий оставлен нашей общей хорошей знакомой, которую невозможно заподозрить в классовом снобизме. Суть комментария не в том, что «другие» выглядят аутентично странными и потому интересными, а в том, что авторский взгляд на реальность вообще, благодаря наличию этих персонажей, становится иным взглядом, нетрадиционным, ненормальным, а потому продуктивным (магическим). Но вновь возникает вопрос: насколько оправданно (этически, методологически, художественно) использовать «инаковость» людей в качестве приема по исследованию авторского взгляда и жанров письма? На этот вопрос у меня тоже готового ответа нет, но его тоже стоит обсуждать.
Еще один вывод мне кажется важным. То, что авторский взор устремлен в первую очередь на текст через призму «необычной» реальности, приводит к интересному результату на уровне процесса письма. Этот процесс можно рассматривать как эксперимент по доведению каждого из перечисленных жанров письма до предела, за которым эти жанры начинают меняться и преобразовываться друг в друга. Онлайн-блог превращается в этнографическое наблюдение, но при этом этнография наследует от блога нехарактерные для нее принципы и методы, которые в традиционной этнографии были бы неприемлемы. Относясь к реальным живым людям как к художественным персонажам, этнография, в свою очередь, превращается в театральную пьесу. Но пьеса наследует у этнографии необычную для пьесы глубину наблюдения изнутри, а у блога – метод публичного подглядывания за живыми героями без их ведома. Театральная пьеса, в свою очередь, преобразуется в книгу с художественным нарративом и особой поэтикой языка, а книга превращается в теоретический текст, полный метакомментариев, самоанализа и методологических обоснований. Эти жанровые преобразования в тексте происходят не поступательно одно за другим, а спорадически, проявляясь в разных частях текста и в разных формах его публичного существования.
Именно междужанровость и текучесть данного вида письма, мне кажется, являются его наиболее интересными и продуктивными чертами. Такой подход неизбежно сталкивается с этическими, методологическими и художественным проблемами. Не все в нем продумано до конца, и что-то вызывает сомнения. Но для эксперимента это не удивительно. Текст ставит под вопрос многие общепринятые принципы и открывает пространство для дебатов на темы, которые часто остаются за скобками. Видимо, для этого авторы и затеяли свой проект. То, что они доверили антропологу написать вступление к своей книге, лишний раз это подтверждает. За что я им благодарен.
Коммуналка на Петроградке 16
Коммуналка еще с советских времен являет собой образ места, где приватное и публичное смыкаются в общем «бытии выставленности», образуя «напряженный диалог» между социально и психологически разными акторами. Поэт Роман Сергеевич Осминкин и художник Анастасия Вепрева несколько лет проживали в одной из коммунальных квартир на Петроградской стороне Петербурга. Чтобы хоть как-то справляться с коммунальной действительностью, Роман Сергеевич и Анастасия завели блог, куда записывали свой опыт проживания в коммуналке в виде то ли дневниковых заметок, то ли антропологических очерков, то ли репортажей с места событий. Блог быстро обрел популярность, а письмо настолько захватило своих субъектов, что переросло в настоящее вовлеченное исследование, с той разницей, что было уже совсем не ясно – кто и кого тут исследует. Роман и Анастасия и не заметили, как из соглядатаев и подслушивателей сами стали объектами чужих глаз, ушей и разговоров. Иногда возникает ощущение, что это не наши герои описывают свой коммунальный быт и соседей, а сама коммуналка вписывает их в свою драматургическую машину, проходя через их биосоциальные тела – табачным дымом, жиром соседских котлет, укусами клопов, настенными инструкциями, протечками, детскими визгами и полупьяной игрой на расстроенной гитаре посреди коммунальной кухни. Коммунальная реальность в заметках Романа и Анастасии предстает в виде хоть и упорядоченной, но все же антиутопии, наполненной нежелаемыми аффектами и соседствами, включающими связи агрессии и близости.
Данная схема пронумерованных комнат представляет карту социальной драматургии отдельно взятой коммунальной квартиры, где каждый номер комнаты отсылает к глоссарию действующих лиц. Схема позволяет наглядно представить топологию разворачиваемых взаимодействий между персонажами (социальными акторами).
Оксана – полненькая приземистая сибирячка 30–35 лет, доброго нрава, болтлива при выпивке, неформальный лидер и душа коммуналки.
Вадим – тучный коренастый мужчина 35 лет, дальнобойщик, после ввода налога «Платон» продал фуру и открыл мастерскую по изготовлению ключей. Суровый, но незлобивый, выпивал до обострения язвы, сейчас реже. Страдает одышкой. Брат Артемия.
Стасик – 7–8-летний полненький насупившийся мальчик, сын Оксаны от первого брака и приемный сын Вадима. Чтобы стать чуть более бесстрашным, записался на карате. Занимается творческой самодеятельностью.
Собачка-блохоловка по кличке Кукла – вызывает волны умиления у всех, кто ее видит. Часто бегает по кухне.
Катя и Света – молодые девушки-медики. Работают по очереди в разные смены, тем самым решая проблему ограниченного пространства комнаты, так как почти никогда не появляются вместе.
Нина, Игорь – молодая пара. Она – худощавая вертлявая болтливая короткостриженая брюнетка 20+, мерчандайзер. Он – татуированный с ранней плешью молодой человек, простоватый, но неагрессивный. Часто ругаются на повышенных тонах между собой.
Кошка Киса – пугливое существо, никогда не покидает пределы комнаты.
Костик – мужичок с ноготок, хозяйственный, но запойный.
Тарас и Андрей. Обычные курсанты Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, считаются идеальными квартирантами.
Артемий – пухлощекий инфантильный мужчина за тридцать, выпивоха и заядлый геймер в онлайн-игру «World of tanks». Работает сутки через трое в хлебопекарне. Брат Вадима.
Ольга – крепко сбитая женщина за тридцать, грубоватая, но незлобивая и отходчивая, де-факто глава семьи. Работает на кондитерской фабрике.
Сын Славик – 7–8 лет, щуплый тихоня-проказник, бойкий непоседливый мальчик, любящий носиться по квартире и включать воду и свет.
Кошка Катя – время от времени собирается с силами и старается покинуть комнату, правда, сразу же теряется и забывает, зачем ей это было нужно, и начинает прятаться.
Двоюродная бабушка Ольги. Ольга перевезла ее в коммуналку, чтобы о ней заботиться.
Зинаида Геннадиевна – мама Вадима и Артемия, свекровь Оксаны и Ольги. Поджарая короткостриженая женщина чуть за шестьдесят, ростом ниже среднего, хирургическая сестра – работает сутки через трое, старожилка, живущая в коммуналке более пятидесяти лет. По факту является «смотрящей» за хатой: когда дома – следит за каждым шагом соседей и не преминет отчитать за малейшую, с ее точки зрения, провинность.
Собака Тотоша и два австралийских попугая.
Настя и Рома – молодая пара, проживающая в коммуналке третий год и ведущая дневниковые записи. Настя – субтильная девушка под тридцать, приехала из Архангельска, современный художник, куратор, имеет обманчиво холодное выражение лица и индифферентную манеру держаться на людях. Рома – поэт, мужчина под сорок, член Союза писателей Петербурга, несколько лет пытается получить научную степень по искусствоведению. Невротик, наивно считает коммунальный опыт полезной вакциной от буржуазного сознания.
Из растений и животных – два алоэ, молчаливы, нетребовательны.
Никита, Илона – молодая пара съемщиков. Рано встают и рано ложатся, много работают, делают заготовки еды на неделю вперед, в конфликты стараются не вступать.
Ваня – молодой человек под тридцать, редко выходит из комнаты, работает непонятно где, дома имеет столярный станок и часто что-то вытачивает.
Сима – родственница Оксаны и ее кот Босс – ловелас, нахал и повеса.
Жанна, ее дочь Аглая, а также 10-летний сын и бабуля-мать из Удмуртии + кот Барсик – семья, оказавшаяся в тяжелом финансовом положении и вынужденная съехаться в одну коммунальную комнату.
Витек – запойный молодой человек лет тридцати, осветитель на Ленфильме, в трезвые периоды кроток и меланхоличен, что в сочетании с мускулистой конституцией производит странное впечатление.
Вера, Валера – пара среднего возраста, съемщики родом из Луганской области, переехавшие еще до конфликта на Донбассе. Их дети выросли и живут отдельно.
Вера – крупная короткостриженая брюнетка с низким голосом и характерным восточноукраинским акцентом. Работает горничной в отеле.
Валера – поджарый рукастый мужичок лет сорока, ниже Веры на голову, с небольшим дефектом речи, любит ерничать, неагрессивен, почти не пьет. Работает на стройке.
Кошка Муся – любопытное животное, все время желающее знать, что происходит в соседних комнатах.
2016
Январь
1 января 2016
Мы, Анастасия Вепрева и Роман Сергеевич Осминкин, открываем дневниковые записи в жанре включенного наблюдения за одной коммунальной квартирой на Петроградской стороне. Что из этого выйдет, мы сами пока не очень представляем. Присоединяйтесь к чтению этого документа, предоставляемого нам самой жизнью!
Эти грибы выросли у нас в комнате между паркетин в новогоднее «прекрасное» утро, став последним знаком о необходимости начала ведения наших коммунальных очерков.
1 января. Осминкин пишет:
Поздним утром у одного из наших соседей – Витька – началось что-то похожее на белую горячку. Я заслышал женские визги и вышел в коридор. Там я разнимал драку Витька и другого соседа, Вадима. Почти нежно я просил не устраивать поножовщины в первый же день нового года (как будто бы ее можно было бы отсрочить на несколько дней). Витек вращал безумными глазами, как шарнирами. Метафора избитая, но единственно верная в данном случае, так как я почти слышал скрип его шарообразных белковых телец внутри глазниц – они были расширены и немигающе устремлены во все стороны и в никуда одновременно. Тучный и короткий Вадим был зол и пыхтел, грозясь зарыть Витька в землю заживо. Маленькая круглая Оксана, его жена, жизнерадостная сибирячка-повариха, пританцовывала рядом, умоляюще прося Вадима успокоиться, а меня помочь разнять дерущихся. Я спросил у Оксаны и Вадима, не стоит ли вызвать скорую психиатрическую помощь, ведь если у Витька действительно белая горячка, то перспектива жить бок о бок с человеком, могущим в любой момент уснуть с сигаретой в кровати, или забыть газ выключить, или наброситься ни с того ни с сего с ножом, не оставляла мое болезненное воображение. Ответом было снисходительное: «Витек у нас дрессированный, не боись…» В итоге для жителей коммуналки все на этот раз закончилось благополучно. Витек остался со своей «белочкой» наедине – были слышны только его лихорадочные передвижения в комнате и нечленораздельные вопли, которые ближе к ночи стихли.
2 января. Вепрева пишет:
Разбудили ранним утром, в 12 часов, колотили в дверь и вопили: «Открывай, сука, открывай, тварь». Вроде не в нашу. Представила картину, что Виктор, наш сосед-алкоголик, заснул в ванной и утоп, а другие хотят ее принять и нервничают из‐за грядущей уборки.
2 января. Осминкин пишет:
После вчерашнего происшествия с Витьком Вадим сидел и курил на кухне. Рядом его женщины – мама и Оксана – нахваливали, какой Вадимчик молодец, что припугнул этого Витю. Вадим для еще большей значимости отвечал, что он бы его вообще убил, если бы их не разняли. А разнял их я и поэтому не избежал заочной похвалы от Оксаны, что она будет знать, что если ее будут убивать в этой квартире, то найдется хоть один человек, который не допустит этого, – сосед Роман.
Когда я появился для приготовления утреннего омлета, Оксана с Вадимом начали выпытывать мои занятия по жизни и наши с Настей планы по поводу регистрации брака и заведения детей. Всегда ожидаю этих вопросов, но никогда не могу быть к ним готовым в абсолютной мере и всегда горожу половину не по сценарию. Вот и сегодня отвечал что-то про то, что я работаю в бюджетной сфере от Минкульта в научном институте, исследую современное искусство, перформанс и общество. Оксана напоследок дала совет: «Настя такая скромная девушка, таких сейчас мало, в основном все вульгарные такие, курят, матерятся, так что, Рома, зарегистрируйте брак и не тяните».
3 января. Вепрева пишет:
На кухне собрался консилиум. Смеясь и плача, соседи сказали, что Виктор упер у них новогоднюю утку. Холодильники были забиты, поэтому ее пришлось оставить на противне на кухне. Жаркую, нежную, с яблочками и медом, завернутую в фольгу. С утра ее уже не было. Вначале подумали на мать, что унесла ее на работу, но когда она вернулась и все отрицала, возмущение достигло предела – и они стали колотить ему в дверь. Меня уверили, что на нас никто не думает, ведь мы веганы и вообще хорошие люди. Я с нежностью вспомнила обилие употребленных на Новый год мясных блюд и старалась не умереть от смеха, слушая эту трогательную историю. Они продолжили смаковать подробности алкоголизма Виктора вперемешку с воспоминаниями об утраченной утке. Засим вынесли вердикт – выписывать Виктору штрафы за аморальное поведение – и разошлись.
Осминкин пишет свою версию:
Оксана, оказывается, испекла утку 31 декабря, но так как все наелись, то утку оставили в духовке до возвращения мамы с дежурства 2 января, и вот 2 января все семейство в предвкушении утки уже сидело в одной из комнат нашей коммуналки, но утка исчезла. Сначала никто не поверил в произошедшее, все думали, что мама унесла утку с собой на работу. Мама (Зинаида Геннадиевна) клялась, что не брала утку, но успела ее попробовать и та была очень вкусненькая. Дальше все стрелы были пущены в сторону Вити. Решали, что делать с Витей и какие санкции еще ввести против него, чтобы они наконец возымели действие.
Ольга рассуждала здраво и сдержанно: хочется кушать, так отрежь кусочек, но всю-то зачем забирать. У нас такая маленькая коммуналочка, а не общежитие на сорок комнат, где она раньше жила и все у всех пиздили еду.
Муж Ольги – Артемий пожаловался, что видел, как с утра Витек не стал дожидаться очереди в туалет и пописал в ванную. Все запричитали и постановили выписывать Витьку с этого дня штрафы в сумме нанесенного ущерба.
Вепрева добавляет:
Стоит отметить, что версия Осминкина написана с моих слов, так как он свидетелем события не был.
3 января. Вепрева пишет:
Сегодня утром попросились о вписке московские знакомые Ира и ее друг граффитист Дима. Они приехали со своими большими сноубордами. Их выбежала встречать наша глубокоуважаемая соседка, мать семейства, Зинаида Геннадиевна, зажав в узком темном коридоре, где они и так уже застряли, пытаясь раздеться и разуться. «Не пачкайте мою одежду!» – недовольно проворчала она и убежала на кухню. Мы посадили их на два свободных квадратных метра, расчистив место у стола и достав спрятанный стул, и незамедлительно напоили чаем с тортом «Наполеон», который на Новый год испекла Ромина мама. Самому Роману, по его словам, стало дико стыдно, что к нам не могут спокойно прийти друзья, не будучи зажатыми в узком темном коридоре и обласканными чудесной Зинаидой Геннадиевной. Перед родственниками ему стыдно было бы еще больше, но, слава богу, к нам и так почти никто не ходит.
Ира прочитала в туалете и ванной объявления-диалоги, написанные Зинаидой Геннадиевной, и очень смеялась. Мы выложим их как-нибудь потом. Затем ребята позвонили другой подруге – Ане – договориться о следующей вписке, сказали, что у нас тут мало места и злые соседи, оставили сноуборды и дорожную курицу в ананасах и ушли гулять.
P. S. Виктор в краже утки не сознался.
4 января. Вепрева пишет:
Сын Оксаны скакал на кухне и спрашивал:
– Мама, мама, а мы поедем в Турцию?
Она с сожалением отвечала:
– Там война. Путин запретил нам туда ездить.
– Ну, тогда поехали в Египет! – не унывал ребенок.
– Туда Путин тоже запретил, – взгрустнула Оксана.
– Иди вообще занимайся! Твоя школа скоро сожрет все наши деньги, отдыхать он еще захотел! – грубо вмешалась его курящая рядом бабушка, Зинаида Геннадиевна.
4 января. Осминкин пишет:
Снова про утку. В 22.10 захожу в туалет (он прямо в кухонном предбаннике).
На кухню заходит семейство.
Зинаида Геннадиевна: «Оксана, убери супы в холодильник, чтобы не было как с уткой. У тебя есть место? А то я к себе поставлю».
Оксана: «У нас шаром покати после Нового года, ничегошеньки не осталось, мы все на стол выставили и всех кормили – вот такая мы семья лошариков, полные лошарики».
Зинаида Геннадиевна: «Я к вам тоже носила и колбаску, и салатики, и 1, и 2 и 3 января, а сама ничего не ела, между прочим, носила и не ела…»
Вадим: «А Витюша зато как в рэсторане покушал – пришел, глядь, лежит уточка… с корочкой сучка была, эх так и уебал бы…»
Оксана: «Тише, тише, Вадим, при детях-то…»
Зинаида Геннадиевна: «Хорошо, я свою порцию сразу отрезала и убрала, и вам надо было сразу разделать и убрать».
Оксана: «Так все и так обожравшись были, куда еще и утку-то. Вот и оставили в маринаде лежать, соками напитываться».
Зинаида Геннадиевна (передразнивая): «Вот и оставили в маринаде, вот и напиталась желудочными соками этого бугая…»
Оксана: «Ой, мама, не травите душу. Мы семья лошариков, чего уж там».
5 января. Вепрева пишет:
Сделали шторы из пододеяльника, найденного на помойках Петроградки. Затраты практически гетеронормативные. Осминкин: покупка карниза, доля за новый карниз 490 рублей; высотные работы, удаление остатков старого карниза, монтаж нового, длительность сорок минут, развеска шторы – десять минут, мытье пола – пятнадцать минут. Вепрева: доля за карниз 490 рублей; подача шурупов, страховка высотных работ, моральный хелпинг – сорок минут; распорка найденного пододеяльника, внедрение карнизных крючков в тканую плоть – длительность тридцать минут; вытирание пыли – пять минут. Общая длительность: 1 час 40 минут.
6 января. Осминкин пишет:
Открылась тайна красных глаз и нервного курения двух соседей мужеского полу. Инфантильный муж Ольги Артемий и бодрый съемщик Никита с утра на кухне:
Артемий (не здороваясь): «Ну что, бля, апгрейдил семерку свою?»
Никита: «Нет, бля, ебался с немцами до трех ночи, сука, и почти дожал гадов».
Артемий: «А я на восьмере весь день хуячил, сказочно порезвился, восьмера круче, там есть бонусы несгораемые и снаряды можно покупать».
Никита: «У меня движок на восьмерку не потянет. И да ну на хуй возиться с интерфейсом по новой».
Артемий: «Ну зря, я, бля, вчера ночью только так загасился заебца, пока они меня жмут фюзеляжами, я – бац – с другой стороны хуяк тэдэщ тыдэщ троих сразу, и главное, зарабатывать можно на бонусах, на хуй восьмера круче сто пудов».
Никита: «Ну движок не тянет, надо карту апгрейдить вначале. В пизду, в пизду. У меня уже на тэшки тридцать четвертые рука натаскана, как облупленных знаю пиздец ха-ха».
Артемий: «Да ты че, еб твою мать, а знаешь, как на восьмере они зверюги! Уух ебать колотить рвы берут на шару йобт и мощь брони хуй тебя загасят в лобовой».
Никита (глубоко затягиваясь и нервно гася сигарету): «Короче, блядь, пойду сейчас попробую восьмеру установить, если не потянет, верну семеру».
Артемий: «Давай шлепай, я вот сыну пельмени доварю и захуячу курскую дугу, седня Рождество выходной ебт…»
P. S.: Артемий и Никита, как оказалось, обсуждали популярную онлайн-игру «World Of Tanks». Подумал, что это хороший способ отвлечь диванные войска от слива Новороссии.
7 января. Вепрева пишет:
Разбирали загруженные антресоли, и вместе с облаком пыли оттуда посыпались носки, в которых Осминкин признал давно утерянные свои. Экспертиза помогла сопоставить данные и восстановить полную картину: наша соседка, Зинаида Геннадиевна, возмущенная той чудовищной антисанитарией, которая возникала от оставленных осминкинских носков в осминкинских ботинках, устроила носочный геноцид. Вдоволь нанюхавшись его верхней одежды (о чем он жаловался осенью на своей странице в фейсбуке), она смелой рукой зарывалась в теплоту его еще не остывших носочков, изымала их из ботинок и ловко забрасывала на антресоли, воображая себя, наверное, здоровенным мускулистым баскетболистом и, вероятно, почихивая или покряхтывая от пыли.