Сознание как инстинкт. Загадки мозга: откуда берется психика бесплатное чтение
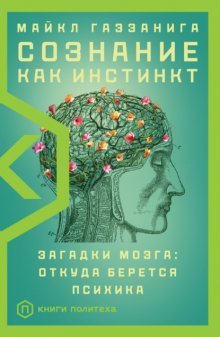
Книга издана при поддержке Политехнического музея и Фонда развития Политехнического музея
© Michael S. Gazzaniga, 2018
© Ю. Плискина, перевод на русский язык, 2022
© А. Бондаренко, Д. Черногаев, художественное оформление серии, 2022
© ООО «Издательство Аст», 2022
Издательство CORPUS ®
«КНИГИ ПОЛИТЕХА» – партнерский проект Политехнического музея, издательств CORPUS, «АЛЬПИНА НОН-ФИКШН» и «БОМБОРА».
В серии выходят лучшие современные и классические книги о науке и технологиях – все они отобраны и проверены учеными и отраслевыми специалистами.
Серия «Книги Политеха» – это пять коллекций, связанных с темами постоянной экспозиции Политехнического музея:
«Человек и жизнь» – мир живого, от устройства мозга до биотехнологий.
«Цифры и алгоритмы» – математика, искусственный интеллект и цифровые технологии.
«Земля и Вселенная» – происхождение мира, небесные тела, освоение космоса, науки о Земле.
«Материя и материалы» – устройство мира с точки зрения физики и химии.
«Идеи и технологии» – наука и технологии, их прошлое и будущее.
Политехнический музей представляет новый взгляд на экспозицию, посвященную науке и технологиям. Спустя столетие для музея вновь становятся важными мысль и идея, а не предмет, ими созданный.
Научная часть постоянной экспозиции впервые визуализирует устройство мира с точки зрения современной науки – от орбиталей электрона до черной дыры, от структуры ДНК до нейронных сетей.
Историческая часть постоянной экспозиции рассказывает о достижениях российских инженеров и изобретателей как части мировой технологической культуры – от самоходного судна Ивана Кулибина до экспериментов по термоядерному синтезу и компьютера на основе троичной логики.
Политех делает все, чтобы встреча человека и науки состоялась. Чтобы наука осталась в жизни человека навсегда. Чтобы просвещение стало нашим общим будущим.
Подробнее о Политехническом музее и его проектах – на polymus.ru
Я намерен разобраться в том, как материя создает психику.
Майкл Газзанига
Живой и умный рассказ о науке и философии сознания. Приправляя сознание юмором, ясно и непретенциозно… Майкл Газзанига просвещает нас по самому сложному вопросу, который разум способен задать.
Стивен Пинкер
Газзанига легко вовлекает читателей в один из самых увлекательных диспутов, происходящих в современной науке.
Kirkus Reviews
Майкл Газзанига – один из ведущих ученых в области когнитивной нейронауки, автор множества научно-популярных книг – всю жизнь исследовал работу мозга: изучал, как взаимодействуют между собой два полушария, занимался проблемами нейропсихологии, пытался понять, каким образом зарождается сознание человека – это не некая вещь, которую можно отыскать где-то в мозге. В книге «Сознание как инстинкт» он убедительно доказывает, что мозг следует рассматривать как совокупность модулей, каждый из которых специализируется на одной-единственной задаче.
Леонардо: сознание появляется постепенно, насколько я могу судить
Введение
Представьте себе, если сможете, что вы осознаете только текущий момент времени. Этот момент существует в отрыве от прошлого и будущего. Теперь представьте свою жизнь как последовательность таких отдельных моментов, не связанных во времени в вашем восприятии. Вы каждый раз как бы замираете на мгновение, а из этих мгновений и складывается нормальная жизнь. Мы с трудом можем себе это представить, ведь наши мысли, словно героиня балета «Щелкунчик», легко и свободно переносятся из прошлого в будущее и обратно. Из каждого мгновения, точно из зерна, вырастает следующее запланированное действие, которое в свою очередь сопоставляется в настоящем с нашим прошлым опытом. Иной ход событий не укладывается в голове. И однако же бывают повреждения мозга, при которых человек понимает, что прошлое и будущее существуют, но не видит себя самого в них. Странно, даже если возможно. Ни прошлого, ни будущего – одно настоящее.
В этой книге мы с вами совершим путешествие по миру, где сплошь и рядом происходят самые невообразимые метаморфозы сознания. В неврологических отделениях больниц можно наблюдать различные отклонения от нормальных осознаваемых переживаний. Каждая история болезни поведает нечто новое о том, как мозг благодаря своей организации обеспечивает нам столь драгоценный сознательный опыт. Каждый пример отклонения от нормы требует тщательного анализа, все результаты необходимо включать в общую связную картину ежедневной созидательной работы мозга, который дарит нам счастье быть разумными. Когда-то люди довольствовались историями о нетипичных явлениях. Сейчас на дворе двадцать первый век, и простого описания интересных расстройств уже недостаточно. В этой книге я поставил себе задачей продвинуться вперед в решении проблемы сознания и попробую объяснить, как организация нашего высокоразвитого мозга позволяет ему творить чудеса. Короче говоря, я намерен разобраться в том, как материя создает психику.
Несколько лет назад, во время деловой поездки, я проходил паспортный контроль в лондонском аэропорту «Хитроу». Бдительный офицер британской государственной службы задал мне дежурные вопросы: как меня зовут, чем я занимаюсь и с какой целью приехал в Великобританию. Я ответил, что занимаюсь исследованиями мозга и направляюсь в Оксфорд на конгресс. Он спросил, знаю ли я о том, что левое и правое полушария выполняют разные функции. Я сказал не без гордости, что не только слыхал об этом, но и причастен к исследованиям в этой области. Внимательно разглядывая мой паспорт, он поинтересовался темой оксфордского конгресса. «Сознание», – с оттенком важности в голосе ответил я.
Пограничник закрыл мой паспорт и, возвращая его мне, спросил: «Вам не кажется, что лучше остановиться, от греха подальше?»
Нет, мне так не кажется. Естественно, в своем желании познать нашу природу мы порой проявляем неосторожность. Имея шестидесятилетний опыт научной работы в психологии и нейробиологии, я с большим огорчением вынужден признать, что мы до сих пор не разобрались в этой проблеме. Однако нам свойственно задумываться о том, кто мы, что мы делаем и что значит быть разумным человеком. Стоит один раз этому вопросу кольнуть нас, и мы всю жизнь будем мучительно искать ответ на него. Но когда мы пытаемся ухватить суть, решение проблемы будто ускользает от нас. Почему же так трудно отыскать путь к разгадке тайны сознания? Может, старые устоявшиеся идеи мешают нам отчетливо увидеть процесс? Может, сознание – это просто результат деятельности мозга? Может, мозг со всеми своими нейронами продуцирует сознание примерно так же, как карманные часы со всеми их колесиками сообщают нам время? У этой темы богатая история, маятник которой качается между чистым механицизмом и оптимистичным ментализмом. Как ни странно, двадцать пять веков истории человечества не дали ответов и не подсказали людям четких формулировок для объяснения личного сознательного опыта. Впрочем, базовые идеи изменились не так уж сильно. Можно сказать, что всегда господствовали две важнейшие и противоречивые концепции о психике как о неотъемлемой части мозговой деятельности и как о некоей не связанной с мозгом функции, хотя еще триста лет назад Декарт начал размышлять о сознании как таковом. И обе эти концепции сохранились по сей день.
В последние годы дебаты на тему сознания вспыхнули с новой силой. При этом – несмотря на лавину новых данных – общепризнанных гипотез о том, как мозг конструирует психику и вместе с ним осознаваемые переживания, очень мало, если таковые вообще существуют. Цель настоящей книги – вывести нас из кризиса и представить новый подход к осмыслению сознания. Мы увидим, чего добились ученые не только в нейробиологии, но и в эволюционной и теоретической биологии, инженерных науках, физике и, конечно, в психологии и философии. Никто не обещал, что исследовательская работа пойдет как по маслу. Но мы можем достичь поставленной цели – понять, с помощью каких хитрых ходов природа превращает нейроны в психику. Вас ждут ошеломительные открытия!
Если начистоту, я считаю, что сознание – это инстинкт. Не только люди, но и прочие существа появляются на свет с врожденными, полностью развитыми инстинктами. Собственно, инстинкт – это и есть то, с чем рождаются. Живые организмы устроены так, чтобы быть жизнеспособными и достаточно сознательными для существования, хотя и состоят из тех же частиц, что и окружающая их неживая природа. Инстинкты присущи всем организмам – от бактерий до человека. Обычно мы относим к инстинктам способность выживать, размножаться, адаптироваться во внешней среде, ходить, но ведь и более сложные навыки, такие как речь и социализация, – это тоже инстинкты. Перечислять можно долго: у людей, пожалуй, больше инстинктов, чем у любых других живых существ. Однако инстинкт сознания занимает в этом списке особое положение. Это необычный инстинкт. Необычный настолько, что, по широко распространенному мнению, только у людей есть право претендовать на него. Но даже если это мнение ошибочно, все равно хотелось бы узнать о нем побольше. А поскольку все мы им обладаем, нам кажется, что у нас есть представление о нем. Между тем, как мы увидим, это непредсказуемый, многоплановый инстинкт, который формируется в одном из самых трудных для анализа органов – в мозге.
Слово «яблоко» – это имя существительное, обозначающее физический объект. Слово «демократия» – тоже существительное, которое описывает состояние общественных связей, нечто не столь простое для точного определения. Я могу показать вам яблоко как реальный предмет. Показать физическую сущность демократии куда труднее. А если взять еще одно существительное – «инстинкт»? Все три слова – некие понятия, которыми управляет мозг. Таких понятий огромное множество – но в каких отделах мозга они угнездились? Может быть, одни из них удобнее представить как физические структурные системы мозга, а другие – как процессы, происходящие в этих системах? Что же это такое – физическое проявление инстинкта? Можно ли его пощупать, как яблоко, или оно так же нематериально, как демократия?
Сложные инстинкты сродни демократии, им можно дать определение, но нелегко определить их местоположение. Они формируются при взаимодействии простых инстинктов, однако сами таковыми не являются – карманные часы тоже исправно тикают, показывая время, но невозможно обнаружить в часах само время. Хотите выяснить, как связаны часы и время – опишите не только все пружинки и колесики механизма, но и его схему, а также принцип действия. То же самое относится к инстинкту сознания. Не надо думать, что раз сознание – инстинкт, то уникальное состояние самосознания дарит нам одна только унитарная, отдельно взятая сеть нейронов мозга. Ничего подобного. Если мы с такими воззрениями придем в неврологическое отделение больницы, то сразу поймем, что пациенты с деменцией, даже в тяжелых случаях, обладают сознанием. Пациенты с обширным поражением мозга остаются в сознании, хотя ни один компьютер не смог бы работать при столь серьезных дефектах. В каждой палате, где лечатся больные с локальными или диффузными повреждениями мозга, вы ощутите потоки сознания. После нескольких визитов в медицинские учреждения вы задумаетесь о том, что сознание не связано с какой-либо единой системой. Им распоряжаются локальные нервные цепи.
В первой части нашей книги мы увидим, как природа стала неким абстрактным, существующим помимо нас объектом для изучения и беспристрастного толкования. Мы наблюдаем это, начиная с идей Декарта и заканчивая нынешней эпохой и рождением современной биологии. Вы удивитесь, но современная научная мысль нередко возвращается в прошлое, обращаясь к древнегреческим теориям и, по сути, используя те же модели, которые жестко связывают психологию и физиологию в единую систему. Современная наука вслед за древними греками поставила перед собой те же цели, но пока тоже не преуспела в их достижении. Опять нужны новые гипотезы, и эта книга – попытка выдвинуть одну из таковых.
Во второй части обсуждаются некоторые современные представления о функционировании мозга – мне кажется, это должно подготовить почву для разговора о том, как нейроны формируют психику. Меня восхищает переход от метафоры мозга как машины, впервые предложенной Декартом и в основном принятой современной наукой, к мысли о том, что для осуществления многих функций мозга нужен единый большой механизм. Все мы фактически являем собой гармоничную систему в значительной степени независимых модулей, способных к совместной работе. Чтобы понять, как эти модули кооперируются, надо изучить общую структуру системы, многоуровневую (или многослойную) архитектуру – многим читателям, в частности программистам, такие системы наверняка знакомы. Под конец мы отправимся в неврологическую клинику проверять эту теорию. Мы увидим, что модульный мозг с его многоуровневой структурой управляет сознанием из… вынужден повториться… из каждого своего уголка. Нет одной централизованной системы, которая творит грандиозное действо – осознаваемый опыт. Оно происходит повсюду, его нельзя задавить даже при таком генерализованном расстройстве, как болезнь Альцгеймера.
В третьей части я вплотную займусь самым больным вопросом, главным в теме соотношения психики и мозга, а именно – как нейроны приводят разум в действие? Каким образом маленькие сгустки неплотной, влажной ткани наделяют нас психикой? Оказывается, в наших представлениях о физическом мире есть пробелы. Мы изучаем его организацию на одном уровне, затем на другом – но не видим, как взаимодействуют эти уровни. Между жизнью и неживой материей, психикой и мозгом, квантовым миром и тем миром, в котором мы живем, зияет пропасть. Как сузить или даже закрыть все эти разрывы? Думаю, тут нам поможет физика.
В финале книги я представлю общую картину возникновения того, что мы называем сознательным опытом, в результате деятельности этих модулей, уровней и разрывов. Профессор Ричард Аслин, психолог, однажды в разговоре со мной заметил, что концепция «сознания», как ему кажется, служит заменой целому спектру разнообразных понятий, связанных с нашей психикой. Мы говорим и пишем «сознание», когда нам надо коротко описать функционирование множества таких врожденных инстинктивных механизмов, как речь, восприятие и эмоции. Также становится очевидным, что лучше всего рассматривать сознание как сложный инстинкт. Мы все приходим в этот мир с набором инстинктов. Наш паттерн мышления, действующего безостановочно, хаотичен. Нас занимает одна мысль, затем другая – противоположная, потом мы переключаемся на семью, на какое-нибудь страстное желание, любимую мелодию или бейсбол, вспоминаем о предстоящей встрече, неприятном коллеге, о том, какие купить продукты, еще о чем-то… И так далее… до тех пор, пока мы не научимся – можно сказать, вопреки своей природе – мыслить последовательно.
Осознанное, последовательное мышление – тяжелая работа. Я вот, к примеру, сейчас выжимаю из себя все соки. Наш ум закипает при этом, словно вода в котле. Невозможно предсказать, какой из пузырьков в ту или иную минуту выскочит наверх. Достигший поверхности пузырек в конце концов лопается, высвобождая мысль, а на его место всплывают следующие. Из-за непрекращающейся, бесконечной деятельности поверхность будет бурлить до тех пор, пока пузырьки не улягутся. По мере того как пузырьки поднимаются, каждый в свой момент, их сшивает ось времени. Считайте, что сознание, вероятно – всего лишь вероятно! – можно представить как совокупность пузырьков мозга со своими инструментами для ликвидации разрыва, и каждый из пузырьков ловит свой момент. Если это описание кажется вам невразумительным, прочтите книгу и посмотрите, подходит ли вам такая трактовка сознания. Главное – наслаждайтесь процессом высвобождения своих собственных мыслей из кипящего сознания.
Часть I
Подготовка к современному мышлению
Глава 1
Консервативные, трудные для понимания и нелепые воззрения на природу сознания
– Говорите по-человечески, – сказал Орленок Эд. – Я и половины этих слов не знаю! Да и сами вы, по-моему, их не понимаете[1].
Льюис Кэрролл.«Приключения Алисы в стране чудес»
Зигмунд Фрейд умер в 1939 году, как раз когда я родился. Тогда в научном мире бродило множество безумных идей о природе психологии, и многие из них выдумал сам Фрейд. Сейчас об этом редко кто вспоминает, но в душе Фрейд был биологом, редукционистом. Он был глубоко убежден, что психика создается мозгом по строго определенному порядку, и немалое число современных нейробиологов разделяет эти взгляды. Мы уже понимаем, что многие его тезисы – не более чем фантазия, однако вплоть до 1950-х годов они имели столь широкое хождение, что в судах США их принимали во внимание при рассмотрении психологических аспектов!
Основные сведения о сложнейшей работе мозга были получены не при жизни Фрейда, а уже при моей. Необоснованные рассуждения о силах, управляющих нашей психикой, уступили место конкретным знаниям о молекулярных, клеточных и внешних факторах, влияющих на нашу жизнь. За последние семьдесят пять лет мы получили массу информации о мозге и даже об основных принципах его организации. Думаю, Фрейду наш новый мир понравился бы и он с наслаждением занялся изучением мозга, дав волю своей удивительной творческой фантазии. Впрочем, сегодня все еще актуальны те заковыристые вопросы, которые мучили чуть ли не всех ученых в прошлом веке – а на самом деле еще в Древней Греции. Каким образом из неживой материи получаются конструктивные элементы для живого объекта? Как нейроны превращаются в психику? В каких терминах следует описывать взаимодействие мозга и его мыслей? Не постигнет ли нас горькое разочарование, когда мы хотя бы частично найдем ответы на эти вопросы? Может, то, что мы в будущем поймем о «сознании», нам не понравится? Не окажется ли правда жестокой и нелицеприятной, пусть и простой?
Страшновато погружаться с головой в историю науки о сознании. Пугает уже само обилие мудреных, абстрактных философских трудов. Даже один из самых авторитетных современных специалистов по философии сознания Джон Сёрл признался: «Наверное, мне следовало бы изучать больше философской литературы. Но, по-моему, читать многие философские опусы – это как зубы лечить, ты просто понимаешь, что придется потерпеть»[1]. Добавьте сюда позицию великого философа Дэвида Юма, который убедительно показал, что ни логика, ни математика, ни чистый разум не дают ответов на большинство поставленных философами вопросов. Тем не менее философы заставили нас задуматься о душе, разуме и сознании. С самых давних времен и по сей день они оказывают на нас сильнейшее влияние.
Идея сознания относительно новая. Само это слово, как его понимают сейчас в самых разных контекстах (Марвин Минский назвал его «словом-чемоданом», потому что оно несет в себе множество разнообразных смыслов), в его современном значении придумал Рене Декарт в середине семнадцатого века. Оно происходит от греческого слова οἶδα (óйда), что значит «знаю, потому что вижу или ощущаю», и его латинского эквивалента scio – «знать». Впрочем, у древних философов не было точной концепции сознания. Их интересовало, как работает разум, откуда берутся мысли и даже то, является ли этот процесс чисто физиологическим. В самых ранних философских учениях считалось, что психическая жизнь есть продукт нематериального духа. А если рассматривать сознание как нематериальный дух, идеи о его принципиальном механизме едва ли придут в голову!
На протяжении многих столетий взаимосвязь теорий о душе и разуме то укреплялась, то ослабевала. В письменной истории практически отсутствовала сама идея о личной психической реальности как объекте для изучения. Если предположить, что наш мозг и структура мышления не изменились, о чем же тогда раздумывали люди? Однако, как вы убедитесь, за истекшие двадцать пять веков представления о сознании кардинально поменялись. Современное толкование этого слова не имеет почти никакого отношения к первым неясным идеям.
Человечество должно выработать новые пути анализа этой проблемы, и, надеюсь, в моей книге отыщется парочка свежих мыслей. Но, как обычно, прежде чем устремиться вперед, полезно сначала оглянуться назад.
Основы современной западной философии были заложены в Древнем Египте и Месопотамии. В мировоззрении мыслителей той эпохи природа не считалась противницей людей в борьбе за жизнь. Скорее человек и природа были в одной лодке и выступали героями одной и той же истории. Человек применял к природе те же понятия, что и к себе и другим людям. Природа думала, чего-то хотела и испытывала эмоции точно так же, как люди. Следовательно, царство человека не отличалось от царства природы и не стоило даже пытаться познать их с разных точек зрения. Для описания природных явлений использовались те же понятия, что и для человеческого опыта, такие как щедрость и прижимистость, надежность и злоба и многие другие. В древности на Ближнем Востоке видели причинно-следственные связи, но рассуждали об этом в категории «кто», а не «что». Уровень воды в Ниле поднимался не из-за дождей, а потому что река так хотела. Чтобы предположить другую причину, не хватало научных знаний.
В Древней Греции складывалась иная картина. В отличие от ближневосточных философов первые древнегреческие мыслители не были жрецами, которым общество поручило заниматься духовными делами. Они не были профессиональными прорицателями. Этих самоучек интересовала природа и не сдерживали никакие догматы, они собирались по-соседски на дружеские посиделки просто ради удовольствия обменяться мнениями и мыслями. И когда вставал вопрос об их происхождении, они спрашивали, «что» стало их первопричиной, а не «кто» был их прародителем. Археолог и египтолог Генри Франкфорт считал этот исторически важный для всего человечества поворот в мировоззрении «головокружительным»:
…эти люди строили свои теории – с самоуверенностью, противоречащей здравому смыслу, – на основании абсолютно недоказанных допущений. Они считали вселенную интеллигибельным целым. Иными словами, они исходили из предположения, что под хаосом наших ощущений лежит единый порядок и, более того, что этот порядок мы способны познать[2].
Франкфорт объясняет, как греческие философы сумели совершить такой рывок: «Фундаментальное различие в отношении современного и древнего человека к окружающему миру заключается в следующем: для современного человека мир явлений есть в первую очередь «Оно», для древнего – и также для примитивного человека – он есть «Ты»».
«Ты» – это некто со своими убеждениями, мыслями и желаниями, способный что-то сделать, и его поведение вовсе не обязательно будет стабильным и предсказуемым. В свою очередь «оно» – это не друг, а объект. В кажущейся наиболее разумной структуре, какой бы она ни была, «оно» может быть связано с другими объектами. Можно выстроить и расширить эти связи и поискать общие законы для управления поведением и событиями в прогнозируемых заданных условиях. Стремление определить сущность объекта – процесс активный. Попытки понять, что есть «ты» – напротив, процесс пассивный, в начале которого создается эмоционально окрашенное впечатление. «Ты» уникально и непредсказуемо, его можно познать лишь в той степени, в какой оно себя раскрывает. «Ты» – это всегда индивидуальный опыт. Из взаимодействия с ним можно выжать историю или легенду, но никак не целостное учение. Научное мышление сформировалось тогда, когда вместо «ты» стали говорить «оно».
Впечатляющий прогресс древних греков, по-видимому, создал предпосылки для появления в науке Аристотеля. Аристотель придерживался такой позиции, что наука должна давать беспристрастные оценки причинам всего существующего и происходящего; именно отсюда выросло его учение о причинности (каузальности). По Аристотелю, научное знание о чем-либо (скажем, об Х) включает в себя все варианты постановки вопроса о причине – если причиной Х является Y или Y является хотя бы необходимым условием возникновения Х, то утверждение такого типа относится к области науки. Он обозначил четыре причины: материальная (суть), формальная (относящаяся к форме), производящая (эффективная) и целевая («то, ради чего»). Например, если бы его спросили: «Аристотель, почему колесница?», он ответил бы, что материальная причина – это древесина, относящаяся к форме – чертеж, осуществляющая (эффективная) – конструкция, а ради чего… да просто захотелось.
Аристотель считал природу паутиной из причинных ограничений, как называет это биолог-теоретик Роберт Розен, то есть «икс» возникает сразу со всеми своими «игреками». Как указывает Розен, все учение Аристотеля направлено на то, чтобы показать недостаточность любого типа объяснения для понимания чего-либо, поскольку категории причинности не влекут за собой друг друга. Скажем, если известно, как что-то смастерить, это не значит, что вам понятно, как это работает, а если вы знаете, как работает вещь, вам может быть неизвестно, как ее сделать. Кроме того, Аристотель считал, что научное знание предопределено. Истина не зависит от методов, которые используются для ее поиска.
Научный метод в том виде, как его практикуют в наши дни, представляет собой строгую систему, где гипотеза приводит к каким-нибудь заключениям, то есть следствиям из себя – гипотеза влечет за собой следствия. Иначе говоря, причина предшествует следствию. Поэтому с аристотелевским вопросом о последней причине возникает загвоздка. Вернемся к вопросу «Аристотель, почему колесница?» Почему колесница оказалась перед домом Аристотеля, хотя несколько часов назад она стояла в сарае Акрополя? Он увидел колесницу – что означало последствия материальной, относящейся к форме и осуществляющей причин – и захотел ее иметь. Условия изменились, и следствие встало перед причиной. В ньютоновской философии, где из одного состояния может образоваться только последующее состояние, это абсолютно невозможно. Таким образом, конечная причина Аристотеля (то, ради чего) в качестве самостоятельной категории была для науки потеряна. Позже мы увидим, как пострадала из-за этого биология.
Помимо всего прочего Аристотель стремился больше узнать о строении и функциях человеческого организма. Это было не так-то просто – ведь вскрытие человеческого тела в Греции запрещалось. Аристотель обходил запреты, исследуя тела животных. Накопив таким способом знания, он вывел систему классификации организмов – scala naturae (иерархическую лестницу), расположив объекты в зависимости от типа их «души». В самый низ он поместил растения, которые, в его понимании, обладают «вегетативной душой», ответственной за рост и размножение. Венчает иерархию, конечно же, человек.
На этом Аристотель не остановился. Он предположил, что животным присуща «чувственная душа», благодаря чему они могут передвигаться, ощущать, испытывать голод и выражать чувства. «Разумная душа» вложена в чувственную, есть только у человека и разительно отличает нас от обитателей нижних ступеней scala naturae, обеспечивая нам уникальные способности к рассуждению, мышлению, разумному волеизъявлению и рефлексии. Вот самый яркий показатель переворота в мышлении людей: к становлению этих способностей привели не самоанализ и не духовные искания, а наблюдения за взаимодействием человека с окружающим миром. Мир вокруг нас можно изучать и анализировать как объект, как то самое «оно». Мы забываем, что несколько тысячелетий назад эта простая идея, с которой сегодня согласны все, еще не родилась! Идеи, несомненно, имеют последствия, и, к счастью, сама идея научного наблюдения по-прежнему нравится нам и довлеет над нами.
Аристотель верно понимал смысл науки, но его выводы об источниках мыслей безнадежно устарели. В наши дни студент получил бы за такие рассуждения «неуд» на экзамене. Из наблюдений за поведением животных и людей Аристотель знал об их способности реагировать на окружающий мир. Препарируя трупы животных, он заметил, что не всегда удается четко выделить мозг. Отсюда он сделал вывод, что мозг, по-видимому, не играет в жизни большой роли. По его наблюдениям, у эмбрионов, которые он исследовал, раньше всего формировалось сердце, и потому он поместил душу – в случае человека разумную (рациональную) душу – именно в этот орган. Под «душой» Аристотель не подразумевал духовные ощущения, поскольку душа, по его мнению, прекращает свое существование после смерти ее носителя. Он имел в виду орган, благодаря которому мы обладаем чувствами и можем познавать мир. Как считал Аристотель, разумная душа – источник человеческой способности к мышлению – требует некоего механизма восприятия, а следовательно, ей нужно тело с его различными частями и органами. Однако он не утверждал, что думает какая-то специальная часть тела или орган. Он даже ни разу не произнес слова «сознание», хотя и задавался вопросом, как мы распознаем собственные ощущения. Короче говоря, Аристотель запустил процесс и заставил людей задуматься о физической природе человека.
Зародившееся в Греции исторически важное движение философской мысли быстро распространилось за ее пределы. В 322 году до н. э., вскоре после смерти Аристотеля, два греческих врача из Александрии, Герофил и Эрасистрат, вопреки табу на анатомирование начали исследовать человеческое тело. Они открыли существование нервной системы и описали свои наблюдения. Также они обнаружили в мозге пустые камеры – желудочки. Герофил подумал, что в них-то и заключен разум и что оттуда по полым нервам дух течет к мышцам, приводя их в движение. Хотя Герофил и Эрасистрат не совсем точно разобрались в этом процессе, их принято считать первыми нейробиологами. Трудно поверить, но древнегреческая цивилизация, которая спроектировала и построила Парфенон, ничего не знала о мозге. И в Древнем Египте, где возводили великие пирамиды, тоже никто ничего не знал о его функциях.
Пронеслись еще четыре столетия – всего лишь краткий миг в масштабах эволюции. В Средиземноморье установилось господство Рима, куда удалось заманить выдающегося врача Клавдия Галена из Пергама, греческого города, находившегося на берегу Эгейского моря (сейчас это территория Турции). Гален получил медицинское образование в Александрии, входившей тогда в Римскую империю, где старательно изучал труды Герофила и Эрасистрата, окончив курс эмпириком. Эмпирическая медицина Древней Греции опиралась не на устоявшуюся догму, а на практический опыт и наблюдения. Вернувшись в Пергам, Гален получил свою первую работу – стал лечить гладиаторов. Поскольку в Риме, как и в Греции, вскрытие тел не допускалось, Гален никогда этого не делал. Свой багаж знаний в области анатомии и хирургии он пополнял за счет окровавленных останков пациентов и ежедневных исследований трупов животных, в основном обезьян маготов. Он собрал сведения, почерпнутые из собственной практики, воспользовался здравыми выводами своих давних и далеких наставников Герофила и Эрасистрата, позаимствовал у Гиппократа теорию о четырех жидкостях (соках) и из всего этого составил новое учение об организме и его хитростях. Заработав блестящую репутацию, Гален отправился в Рим, где растущая слава привела его на службу к императору: он стал личным лекарем Марка Аврелия.
Вклад Галена в медицину поистине огромен. Он первым понял, чем отличается артериальная кровь от венозной. Сейчас известно, что артериальная кровь более насыщена кислородом, в то время как в венозной его содержится гораздо меньше (кислород забирают ткани организма, благодаря чему они могут дышать), и на этом различии основан главный метод исследований в современной нейробиологии – функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ). Гален впервые описал четырехкамерное человеческое сердце, уточнил знания о кровеносной, дыхательной и нервной системах. Конечно, некоторые его представления об анатомии были абсолютно неверны – например, он выделил так называемое «чудесное сплетение» (rete mirabile), зону скопления кровеносных сосудов в основании черепа человека, потому что видел его при вскрытии туш крупного рогатого скота. Эта грубейшая ошибка – весьма поучительный пример индуктивной логики. Позже выяснилось, что у людей rete mirabile отсутствует вовсе!
Вместе с тем Гален сознавал важность пищи и дыхания для человеческой жизни и утверждал, что пища и воздух преобразуются в организме в плоть и дух. Обобщив труды Гиппократа, Платона, Сократа и Аристотеля, Гален сформулировал концепцию тройственной души. Каждой из трех составляющих души, которые определил Платон, – разумной, эмоциональной и вожделеющей – он отвел свое место в теле. Разумная часть души находилась в мозге, эмоциональная – в сердце, а вожделеющая – в печени. Каждая выполняла свою функцию. Вожделеющая часть души управляла естественными потребностями организма, такими как утоление голода и жажды, инстинкт выживания и физическое наслаждение. Ее оживляет природный (растительный) дух. Эмоциональная часть души – это эмоции и страсти, ее приводит в движение жизненный дух, который формируется в сердце из крови и поставляемого легкими воздуха. Разумная отвечает за такие проявления сознания, как восприятие, память, принятие решений, мышление и произвольные действия. Гален не разделял психическое и физическое. Здесь уже прослеживаются зародыши современных теорий о соотношении сознания и подсознания, понятий «оно» (Ид) и «эго», рационального и интуитивного. Базовые идеи, пусть несколько в ином виде, появились еще в III веке.
Гален сделал заявку на механицизм. Он предположил существование некоей жизненной силы – «жизненного духа», который попадает в организм и облагораживается в «чудесном сплетении». Затем очищенный дух перетекает в желудочки мозга, превращается там в «животный дух» и запускает когнитивную деятельность разумной души. Хотя Гален правильно выбрал орган для выполнения когнитивных функций, сути процесса он явно не понимал. Он локализовал его в полых желудочках. Это равносильно утверждению, что дырка – самая вкусная часть пончика.
Тем не менее Гален внес огромный вклад в медицину будущего – в частности предположил, что разные органы выполняют разные функции. Это была великая идея – дифференцировать человеческие органы, подобно машинам, каждая из которых выполняет в организме свою задачу. Сегодня одна из задач нейробиологии – выяснить, как работают разные части мозга. На протяжении столетий нейробиологи все более детально описывают роль отдельных систем мозга в нашей психической жизни. Гален, в духе редукционизма, не разделял физическое и психическое, хотя и полагал, что душа бессмертна. Как мы еще увидим, выдающиеся прародители современной нейробиологии порой забывали свою строгую логику, и в выводах их теорий ни с того ни с сего вырисовывались потусторонние образы.
Гален всю жизнь твердо верил в приоритет личных наблюдений и практики над устоявшимися учениями, однако не всегда следовал своему убеждению. Его система познания зиждилась на уроках философии, полученных от таких учителей, как Платон, Аристотель и стоики, и, чтобы сформулировать общую теорию медицины, он объединял и сопоставлял философские знания. Тем не менее эффект, который он произвел на медицину последующих тринадцати веков, вероятно, расстроил бы его до слез. Более тысячи лет к открытиям Галена относились, словно к Священному Писанию! В новой христианской церкви отдельные положения его теории воспринимались, как догматы. В Ветхом завете говорится, что душа умирает вместе с телом – то же самое утверждал и Аристотель. Но у христиан был иной взгляд на душу. В их вере душа была бессмертна и существовала независимо от жизни тела – того же мнения придерживались Платон и Сократ. Несмотря на то, что Гален не различал духовное и телесное, его идея о душе в наполненных воздухом желудочках, в стороне от грешного и чувственного тела, пришлась христианам по вкусу. И церковь приняла это как доктрину о местонахождении в организме бессмертной и нематериальной души. Физические ощущения таились в переднем желудочке, осознание – в среднем, а память помещалась сзади.
С самого раннего древнегреческого периода и далее, в период влияния Галена, размышляя о природе человеческой сущности, мы на семнадцать столетий погрязли в полной неразберихе идей и теорий. Все дискуссии шли в основном на тему души, а не разума – и уж точно не на тему сознания. Платон и Сократ ратовали за бессмертную тройственную душу, в которой есть разумная, эмоциональная и вожделеющая компоненты. Аристотель тоже наделял нас тройственной душой – однако же не бессмертной. Первые исследователи, изучавшие мозг и общую анатомию, вновь вернулись к бессмертию души, но при этом не различали психику и физиологию. Идеи чрезвычайно живучи, даже несмотря на развитие науки. Как мы увидим, эти примитивные концепции дошли и до наших дней.
Труды Галена не подвергались сомнению вплоть до XVI века, когда их стал изучать Андреас Везалий, молодой анатом из университета Падуи. Сравнив результаты собственных исследований в прозекторской с рисунками Галена, Везалий крепко задумался. К счастью для него – и современной науки, – над ним не довлели запреты на вскрытие, и местный суд без тени сомнения снабжал его трупами казненных преступников. Везалий понял, что Гален не только никогда не анатомировал тело человека, но и вовсе ошибался во многих анатомических вопросах. У Везалия не было удобных инструментов для вскрытия черепа и исследования мозга. Он попросту распиливал его сверху донизу, буквально рвал на куски, как будто резал тупым ножом шарик моцареллы. Тут-то и выяснилось одно обстоятельство: никакого «чудесного сплетения» не существует. За многие века мы усвоили чрезвычайно важный урок – надо всегда проверять и перепроверять старые теории.
Несколькими годами раньше в университете Болоньи другой анатом, Никколо Масса, обнаружил, что желудочки мозга заполнены вовсе не эфироподобными дýхами, а жидкостью. А Везалий увидел, что это отнюдь не те безупречно ровные сферические камеры из плоти, которые описывал Гален. В трудах Галена было столько неточностей, что Везалий счел нужным, так сказать, переписать – а вернее, перерисовать – все заново. В 1543 году вышел его трактат под названием De Humani Corporis Fabrica Libri Septem («О строении человеческого тела, в семи книгах») с иллюстрациями, выполненными учениками венецианской мастерской Тициана, где скелеты, как голые, так и обтянутые мышцами и кровеносными сосудами, разгуливали с тросточками на фоне прекрасных итальянских пейзажей, стояли в непринужденных позах, прислонившись к деревьям или колоннам, и даже разглядывали лежащие на конторке книги. Издание имело грандиозный успех, особенно среди студентов.
Везалий снял шкуру с множества трупов, но хотел сберечь свою собственную. В организме не нашлось какой-либо системы, предназначенной для облагораживания жизненных дýхов и превращения их в дýхи животные. Мало того: желудочки мозга, где якобы помещалась душа, вовсе не были наполнены воздухом и не отвечали церковному описанию. Везалий не усомнился ни в вере, ни в бессмертии своей души, однако понял, сколько вопросов возникнет к нему у священников, если он оспорит официальную христианскую доктрину, – в эпоху инквизиции это было бы крайне рискованно. Везалий предположил, что душа (ощущения, разум и память) помещается в самом мозге, а не в желудочках, но, хорошенько поразмыслив, предпочел не поднимать шум.
Исследования конца XVI века подлили масла в огонь. В той же Падуе Галилей не только пересмотрел аристотелевскую – и библейскую – геоцентрическую модель вселенной, но и доказал с помощью математики, промеров и экспериментов, что Аристотель ошибался. В завершение всего Галилей заявил, что законы природы, то есть те, что управляют физическим миром, – это законы математические, или законы механики. Его обвинили в вольной трактовке Библии, предали суду святой инквизиции, заставили прекратить рассуждения о Солнце и посадили под домашний арест.
Но в Париже появились новые гипотезы. Галилея поддержал еще один математик (а также богослов, философ, теоретик музыки и монах) – Марен Мерсенн. Он жил в монастыре Благовещения, и к нему частенько приезжали побеседовать видные ученые и философы со всей Европы. Кроме того, он вел обширную и обстоятельную переписку. И Мерсенн пришел к выводу, что Церкви, если она хочет выжить в борьбе с новой наукой и еретическими протестами, придется принять и усвоить механистическую картину вселенной. Господь с равным успехом мог бы править как антропоцентричной вселенной, так и вселенной, которая подчиняется созданным им же законам. В конце концов, если подумать, почему бы ему, при его-то мудрости, не создать вселенную так, чтобы все в ней работало само собой, без «техподдержки»?
К научной дискуссии присоединился еще один француз – философ, математик, естествоиспытатель и священнослужитель Пьер Гассенди. Он тоже придерживался мнения, что мир состоит из атомов (впервые в западной культуре эту гипотезу выдвинули Левкипп и Демокрит в V веке до нашей эры). Считалось, что атомы неделимы и неизменяемы, а окружает их вакуум. Атомы пребывают в постоянном движении и различаются величиной и формой. Они могут соединяться, образуя молекулы, как называл новые частицы Гассенди, а эти различные молекулы тоже обладают специфическими формой и свойствами. Все макроскопические структуры в мире состоят из разнообразных атомов. Гассенди не видел тут ни малейших признаков крамолы. Атомы, как и все прочее, создал Бог.
Но вот с постулатом о двух типах души у Гассенди вышла осечка. Одна душа, способная к чувственному восприятию, состояла из атомов, выступала заодно с нервной системой и мозгом, могла испытывать радость и боль, принимать решения. При этом Гассенди решительно утверждал, что ни в каком сочетании атомы не могут заниматься самоанализом и воспринимать что-либо помимо физических ощущений. Следовательно, заключил он, человек должен обладать душой другого рода – разумной и нематериальной. Однако эта душа не существовала сама по себе. Гассенди считал, что на протяжении всей жизни она тесно связана с телом и в своем восприятии внешнего мира зависима от него. Но в момент смерти эта душа, на самом деле бессмертная, покидает тело.
И здесь на сцену выходит молодой Рене Декарт, философ, математик и рационалист, участник научных диспутов у Мерсенна и поборник идеи о том, что физический мир состоит из частиц и работает, как машина. Он был щеголем, любил тафту, перья и шпаги и частенько выгуливал свои наряды в парижских садах, где в те времена уже появилось некое подобие диснейлендского музыкального аттракциона «Этот маленький мир». Автоматы, которые приводила в движение вода, перемещались, издавали звуки и играли на музыкальных инструментах. Они начинали работать, когда люди, прохаживаясь по аллеям, наступали на плитку и тем самым включали хитроумный механизм. Сегодня мы назвали бы такие автоматы роботами, но и в те годы они были уже достаточно широко распространены. Безусловно, такое развлечение нравилось большей части публики.
Однако для философа Декарта прогулка в парке имела особое значение (потому-то он и облачался в тафту с перьями). Он знал, что человекоподобные роботы – это машины, а оживляют их внешние силы. Со стороны же казалось, будто они двигаются осознанно и по своей воле. У Декарта зародилась мысль, что и в наших организмах некоторые функции осуществляются точно так же. Принцип наших рефлексов таков: в окружающей среде находится внешний раздражитель, под его воздействием в нервной системе что-то происходит, в результате чего возникает предусмотренная двигательная реакция. Не нужен никакой технический директор. Не нужна душа. Кроме того, Декарт не имел в виду только моторные рефлексы – они могли быть также эмоциональными или когнитивными (например, память). Если уж вы пошли по аллее мышления, у вас есть все шансы встретить на своем пути бесконечно разнообразные, теоретически возможные варианты поведения, обусловленные рефлекторными реакциями на внешние раздражители. Но вместе с тем рефлекторные реакции предопределены, то есть стимул х всегда вызывает отклик y. Эта теория казалась Декарту правдоподобной, если речь шла о машинах, но люди – совсем другое дело. Без свободной воли? Без произвольного выбора? Без личной ответственности за свои действия? Без нравственных норм и греха? Примитивные механизмы? Это уже чересчур.
Декарт не стал предаваться бессмысленному экзистенциальному отчаянию и принялся уверенно развивать свою теорию, которая перевернула мир. Однако биологическая наука уже пострадала. Как указывает выдающийся биолог-теоретик Роберт Розен, что такое живой организм, объяснить невозможно, зато легко описать, на что он похож. Розен считает, что Декарт воспринял все наоборот: «[Он] проследил связь между автоматами и организмами, которые они имитировали, но в обратном направлении. Он увидел только то, что при подходящих условиях автоматы иногда становятся подобны живым существам. Отсюда он сделал вывод, что жизнь сама подобна работе автомата[2]. Так родилась метафора машины, возможно, главная концептуальная идея даже в современной биологии»[3]. А кроме того, был описан вытекающий из этой идеи полностью предопределенный мир.
Бесспорно, ваш организм непроизвольно дернет ногой, если вас стукнут по коленке, но вы можете и сами, по своей воле, дернуть ногой. Это два совершенно разных случая – в одном тело реагирует на внешний раздражитель, а в другом, согласно Декарту, телом управляет ваш разум. Первый можно описать с точки зрения механики – то есть физики – и восстановить цепочку событий вплоть до исходного, а во втором, с точки зрения Декарта, происходят два связанных события: вы захотели, и вуаля – действие произведено. Почему вы решили это сделать? Потому что вам так захотелось, и изучать тут нечего. Простое желание. То, что Аристотель называл конечной причиной.
Декарт отверг мысль о том, что произвольные действия – это ответная реакция или физический механизм, которому можно дать научное описание. В конце концов он пришел к выводу, что тело подчиняется законам физики и что причиной и двигателем человеческих действий является независимый главный агент, разумная душа, не состоящая из вещества, то есть не физическая, не механистическая и не связанная никакими законами природы, – нечто, состоящее из ничего. Этой душе присущи сознание, свободный выбор, абстрактное мышление, сомнение и нравственность. Идея о том, что тело составляют физические механизмы, а душу – нефизические (нематериальные) когнитивные, известна как дуализм души и тела.
Подлинный ученый и математик, Декарт хотел найти логичное объяснение истинной природе бытия. Поскольку его рациональный математический подход позволял хорошо описывать физический мир (в частности Декарт придумал аналитическую геометрию и открыл закон преломления света), он попытался рассмотреть природу человека с тех же позиций разумной логики. Для начала он должен был разрешить все неясные вопросы, чтобы создать прочный фундамент для своей теории. Оказалось, что сомнению можно было – так или иначе – подвергнуть буквально все, даже то, являлась ли его мать действительно его матерью, взойдет ли завтра солнце и спал ли он прошлой ночью у себя дома в Париже или распутничал в Риме. Он засомневался даже в том, есть ли у него самого тело. В конце концов, уверенность в обладании телом вытекает из чувственного восприятия, а оно может оказаться обманчивым. Ошибившийся раз может ошибаться и дальше. Впрочем, одно Декарт знал наверняка. Он точно был уверен в своем существовании. Сам процесс сомнений убедил его в том, что он – объект думающий. То есть, cogito ergo sum – я мыслю, следовательно, существую.
Теперь, когда надежный фундамент для построения теории вроде бы был создан, Декарт решил раз и навсегда – шаг за шагом, научными методами – определить истинную природу бытия. Он по-прежнему полагал, что, сомневаясь в существовании своего тела, он ставит под сомнение и свое физическое существование. Простой логический переход привел его к следующему заключению: «Из этого я узнал, что я – субстанция, вся сущность, или природа, которой состоит в мышлении и которая для своего бытия не нуждается ни в каком месте и не зависит ни от какой материальной вещи. Таким образом, мое я, душа, которая делает меня тем, что я есмь, совершенно отлична от тела и ее легче познать, чем тело; и если бы его даже вовсе не было, она не перестала бы быть тем, что она есть»[4]. Так причудливо текли его мысли и делались выводы из рассуждений, в которых мы легко найдем слабые, с нашей нынешней точки зрения, места. Например, ясно, что сомнения в собственном существовании как физического объекта вовсе не доказывают ни того, что ты прав и тебя нельзя считать физическим объектом, ни того, что для мышления необязательно иметь тело. Первый аргумент Декарта в пользу дуализма души и тела был основан на шатком базисе.
Но Декарт в своих рассуждениях не мог опираться на современные знания. Вплоть до сегодняшнего дня его выводы и идеи направляли мысль в определенное русло, и концепция дуализма души и тела, сепарации психики от тела и мозга, засела в умах философов на 350 лет. А вот его современники с трудом воспринимали эти теории. Многие сторонники Декарта, в число которых вошла и его постоянная собеседница в переписке принцесса Елизавета Богемская, не могли понять, как нематериальная душа взаимодействует с материальным телом. Декарт, как он признался Елизавете, не умел дать внятного ответа[5]. Возможно, он испытал бы облегчение, узнав, что по этому вопросу до сих пор идут ожесточенные споры. Но он по крайней мере попытался. Декарт исследовал мозг и нашел область, где, по его мнению, происходил контакт психики и мозга: в шишковидной железе. «Мое мнение таково, что именно эта железа служит главнейшим органом, где располагается душа и рождаются наши мысли. Я убежден в этом потому, что, за исключением этой части мозга, не могу найти ни одной непарной»[6], – писал он ей[3]. Должно быть, вы сейчас подумали, что он просто ухватился за соломинку. В конце концов, все его исследования сводились к разглядыванию неточных рисунков Галена и анатомированию мозга телят, не обладавших, как он уже отметил, нематериальной душой.
Обдумывая все это, Декарт лишь единожды употребил слово «сознание» (как и все образованные люди в ту эпоху, он писал на латыни: conscious), в 32 абзаце «Третьего размышления», – и таким образом ввел этот термин в философию. Интерпретация и употребление этого слова во французских и английских переводах не слишком различаются, но оно встречается там, где сам Декарт использовал глаголы «думать» и «знать». Новый термин многие восприняли в штыки. Возможно, Декарт уже пожалел, что написал это, поскольку и сам толком не понимал, что имел в виду, не мог решить, является ли сознание рефлексией – то есть размышлением о мыслях – или мышлением вообще. Во всяком случае, этим словом Декарт обозначил присущее нам знание о происходящем в наших умах, как он утверждал, несомненное и верное – к такому выводу он пришел в своих логических рассуждениях. К примеру, если я полагаю, что мой виноградник – самый лучший, я, стало быть, не сомневаюсь в том, что я думаю, – то есть мое знание несомненно. Я также не ошибаюсь в том, что думаю именно об этом, – мое знание достоверное. Поскольку он знал наверняка, о чем он думает, то свой разум он знал лучше, чем тело. По Декарту, собственное сознание не могло его обманывать.
Декарт и французы положили начало индустрии философии, задачей которой с тех самых пор стало осмысление изначально расплывчатой идеи сознания. Кончилось все примерно так, как выразился судья Верховного суда Поттер Стюарт в своей знаменитой фразе о порнографии: «Я больше не буду… пытаться дать этому определение… да, вероятно, и не смогу вразумительно сформулировать его. Но когда я это вижу, мне все ясно».
Францию XVII века мы покидаем, имея в арсенале механистическую вселенную и два различных описания разума. До Декарта в мышлении людей доминировало понятие души, будь то материальной или нематериальной. Это можно воспринимать так: наличие сознания, которое ощущает и переживает человек, практически не позволяет считать «душу» куском плоти. По вполне понятным причинам нелегко и прямо-таки досадно думать, что вот так вот всю жизнь трудишься, а в конце – смерть и больше ничего. Аристотель попробовал наставить нас на путь истинный, объяснив, что душа умирает в момент смерти. Но, несмотря на весь багаж знаний, накопленный за два тысячелетия, мало кто готов смириться с простым фактом: мы со всей своей сложной биологической и культурной сущностью есть продукт нашего организма – и мозга.
На пути к настоящему Декарт дерзко изолировал бессмертную душу – и вместе с ней разум – от механистической вселенной и механистического тела. Разум, который рассматривался отдельно от плоти, стал главной загадкой, его признали нематериальным, непогрешимым, неизменным и не вызывающим сомнений. Для Декарта разум как нечто сверхъестественное не представлял научного интереса. Он не смог объяснить, каким образом нематериальный разум взаимодействует с материальным телом, однако на два с лишним века его теория затормозила развитие научной мысли в области физической сущности разума. Многие из его выдающихся современников, в частности Пьер Гассенди, согласились с существованием думающей нематериальной души, будучи уверены, что никакая комбинация атомов не способна размышлять о себе и воспринимать то, что не передается физическими ощущениями. И в науке XXI века жива и активно обсуждается идея о психических состояниях, столь же странная и непрактичная, как те самые идеи XVII века. Только современная наука не занимается витающим непонятно где нематериальным разумом – она поместила его в мозг и изучает физические процессы. Остается все тот же вопрос: что происходит на самом деле?
Глава 2
Подъем эмпиризма в философии
– Не знаю, – начала Алиса, – может…
– А не знаешь – молчи, – оборвал ее Болванщик.
Льюис Кэрролл.«Приключения Алисы в стране чудес»
По другую сторону Ла-Манша британские коллеги Декарта и его парижских единомышленников тоже ломали головы, стараясь понять, что такое жизнь, душа и разум. У них тоже было в ходу слово «сознание», и через пятьдесят лет после того, как Декарт впервые ввел его в обиход в «Размышлениях», Джон Локк расширил это понятие; ему вторил шотландец Дэвид Юм. Причем философы не были одиноки в своих исканиях. Медики, с присущим им интересом к анатомии и работе организма, тоже принялись исследовать психику и мозг. В Оксфорде этим вплотную занялись Томас Уиллис и Уильям Петти, и их открытиям предстояло повлиять на непрекращающиеся дебаты о психике и мозге. История в какой-то степени повторилась. Ученые были детьми религии. Их научные представления о мире пошли вразрез с верой, с самого нежного возраста укоренившейся в их сердцах. Они испытывали чувство, которое сейчас называется когнитивным диссонансом – психологический дискомфорт из-за согласия с двумя или несколькими противоречивыми убеждениями, идеями и ценностями одновременно. И чтобы избавиться от подобного неприятного ощущения, люди либо пытаются как-то объяснить или оправдать эти противоречия, либо меняют свои убеждения. В те времена почти все искренне желали, чтобы нарождающаяся наука с ее открытиями не подрывала веру в Бога. Поэтому, стремясь согласовать мысли о психике, о которой мало что было известно, и об организме, о котором становилось известно все больше и больше, ученые стали выдвигать довольно несуразные гипотезы о взаимодействии этих двух структур. Так что поначалу не только философов, но и нейробиологов той эпохи сбивали с толку их собственные туманные представления о сознании и стремление мыслить объективно, по-новому.
К уйме гипотез, родившихся во Франции и Англии, добавилась и настоящая лавина трудов немецких ученых. Версии о природе психики, высказанные разными исследователями – от Лейбница до Канта, – взбудоражили континент. Уже одно то, как формировались, развивались и менялись теории, вызывает изумление у наблюдателя. Декарт с блеском и самоуверенностью бросил вызов, предположив, что разум и мозг имеют разное происхождение, и этот интеллектуальный акт послужил стимулом для самых ярких и пытливых умов двух последующих столетий. Длительная дискуссия во многих отношениях приняла форму схватки всех со всеми, и значение ее было колоссально.
В середине XVII века в Англии бушевала жестокая гражданская война из-за религиозных разногласий и борьбы за трон. Томас Гоббс, роялист и в полном смысле этого слова ученый-энциклопедист, вернулся в Париж из Лондона, где подвергался нападкам из-за своей брошюры о политике того периода. В Париже он получил должность наставника находившегося в изгнании принца Карла, будущего Карла II, и вскоре стал вхож в салон Мерсенна. Физик по образованию, Гоббс с самого начала категорически возражал против декартовской трактовки души – по его мнению, абсолютно бредовой. Гоббс считал, что логическое мышление не может быть продуктом какого-то таинственного «невещества». Порядок в голове поддерживается исключительно за счет ресурсов тела. Гоббс мыслил как инженер – построить, привести в действие, и дело с концом, никаких призраков.
Занятия с принцем и работа над двумя книгами – одной о зрении, другой об организме и его функционировании – отнимали у Гоббса все его время. Ему нужен был помощник, и он нанял молодого способного студента-медика, англичанина Уильяма Петти. У Гоббса по каким-то причинам уже сложилось убеждение, что биение сердца вызывается давлением чувств. Молодой Петти помог ему проштудировать труды Везалия, и Гоббс не нашел в них подтверждения своей теории. Тем не менее, обладая фундаментальным свойством характера многих ученых, Гоббс упорствовал.
Вместе с Петти он производил вскрытия в надежде увидеть нервы, расходящиеся от сердца лучами во все стороны, – наподобие игл морского ежа. Когда же их там не обнаружилось, Гоббс наконец прозрел и решительно отказался от своей гипотезы. В науке, как и в жизни, социальная среда позволяет нам обмениваться идеями. Резкая смена идеологии Гоббса произвела на Петти столь сильное впечатление, что он взял на вооружение метод всестороннего исследования и гибкого отношения к проблеме: если его предположения не совпадали с наблюдениями, он менял позицию. В Англию Петти вернулся с микроскопом под мышкой (вещественным подарком от Гоббса) и концептуальным завещанием в голове, а именно – с представлением об организме как о совокупности узлов, работающих подобно машине. Но главное, что Гоббс сделал для Петти, – это убедил своего ученика в том, что надо искать ответы на вопросы в наблюдениях и практическом опыте, а не подгонять результаты наблюдений под собственные теории. Уверяю вас, такое только сказать легко! Признавать свои ошибки никто не любит.
Петти стал выдающимся анатомом. Вскоре после возвращения в Англию он обосновался в Оксфорде, и ему, как когда-то Везалию, регулярно поставляли трупы повешенных преступников. Чуть позже к нему присоединился еще один молодой врач, Томас Уиллис, роялист и стойкий приверженец англиканской церкви. Из-за своих непопулярных в тех местах взглядов Уиллис получил довольно бессистемное образование. Петти с лихвой компенсировал ему это упущение и за пять лет сделал из него еще одного блестящего анатома, тоже предпочитавшего учиться на практическом опыте и наблюдениях. Когда этот дуэт стал задавать тон в исследованиях, в Британии только начинала вырисовываться новая область науки. Спустя какое-то время, если заходила речь о состоянии психики, о сознании, а в некоторых случаях и о душе, уже никто не мог оспаривать главенство мозга.
Великие научные биографии создаются благодаря массе факторов; особенно это касается новых областей, где еще много белых пятен. Примерно через год после того, как Петти начал свои исследования, ему и Уиллису повезло – в их лабораторию доставили гроб с телом окончившей жизнь на виселице Энн Грин. Эту женщину изнасиловали, а позже приговорили к смертной казни за убийство ее новорожденного младенца. Грин провисела в петле целых полчаса, и, как часто бывало в ту эпоху, ее близкие приникли к болтающемуся на веревке телу, чтобы своим весом ускорить смерть несчастной. На следующий день, во время вскрытия, в кабинет Петти набилась целая толпа.
Под руководством Петти вскрытие превращалось, можно сказать, в зрелищный вид спорта. Но еще до его прихода кто-то приподнял крышку гроба, и оттуда, словно в рассказах Эдгара По, раздались странные булькающие хрипы. Когда Петти с Уильямсом вошли в зал, один из зрителей как раз массировал грудную клетку Грин. Анатомы использовали все доступные методы, чтобы вернуть Грин к жизни, и на следующее утро благодаря их отчаянным стараниям она попросила пива. Судьи хотели было повесить бедную женщину во второй раз, однако доктора заверили их, что у нее случился выкидыш (срок ее беременности был всего четыре месяца) и на самом деле ребенок появился на свет уже мертвым. Грин оправдали, и впоследствии она родила еще троих детей. Это яркое событие принесло Петти и Уиллису славу и благополучие. С тех пор их научная работа шла с завидным успехом и им больше никогда не приходилось выпрашивать денег на исследования.
Петти и Уиллис сотрудничали еще четыре года. Со временем Уиллис начал под руководством Петти проводить вскрытия своих умерших пациентов, чтобы детально изучить человеческий организм и влияние на него различных патологий, а также – по возможности – отыскать их причины. Затем Петти в поисках новых перспектив отправился в Ирландию, служил врачом в армии Оливера Кромвеля, а спустя годы стал известным экономистом, членом парламента и одним из учредителей Королевского общества. Уиллис занял его место, увлекся исследованиями мозга и разработал такие методики вскрытия, которые давали возможность изучить строение мозга более детально, чем это удавалось его предшественникам. Вместе с Кристофером Реном, астрономом, хирургом и архитектором, помимо всего прочего впервые применившим внутривенные вливания красителей, Уиллис ввел в сонную артерию собаки чернила и шафран и вычертил сосудистую карту мозга. Он первый понял, как работает сосудистая структура в основании мозга – названный в его честь виллизиев круг.
Уиллис и Рен вместе создали самые подробные по тем временам схемы человеческого мозга и включили их в книгу «Анатомия мозга и нервной системы». Книга быстро разошлась и за первый же год выдержала четыре переиздания. Еще более двухсот лет их анатомические рисунки оставались лучшими в своем роде.
При всех своих глубоких познаниях в анатомии Уиллис упорно цеплялся за старую (если не сказать – вечную) гипотезу о жизненных и чувственных дýхах, которые поддерживали жизнь в организме. Но Петти оказался хорошим учителем. В конце концов, когда студенты Уиллиса провели ряд тонких экспериментов и убедили его, что дýхи тут ни при чем, он изменил свое мнение. Кровь забирала из воздуха нечто и доставляла это «нечто» к мышцам – вот что являлось движущей силой для организма. До открытия кислорода они не дошли, но были почти на пороге.
Выполнив серию вскрытий трупов животных, Уиллис обнаружил, что мозг человека очень похож на мозг животного. Из своих наблюдений он сделал вывод, что душа человека почти такая же, как у животного, а различия сообразны различиям их организмов. Например, у животных с крупной обонятельной луковицей был лучше развит нюх. Уиллис видел, что кора мозга человека намного больше, чем у других животных, и потому поместил в этот отдел память – ведь человек запоминает все гораздо лучше. Заключения Уиллиса, возможно, грубые и упрощенные, не так уж сильно отличаются от некоторых самых перспективных идей, распространенных сейчас в нейробиологии. К примеру, в 2016 году премию Кавли в области нейронауки присудили Майклу Мерзеничу, который показал, как в результате активной работы увеличиваются области мозга, связанные с определенными функциями.
Вместе с тем анатомирование животных поставило перед Уиллисом весьма непростой вопрос. Несмотря на резкие отличия в мышлении разных животных, их мозг, как выяснилось, устроен примерно одинаково. Поскольку Уиллис не нашел особого мозгового вещества, которым можно было бы объяснить эти различия, он решил, что у людей эта способность обусловлена другим фактором – разумной душой. Все та же старая история. Уиллис не смог определить местонахождение рационального мышления в организме и потому согласился с версией Гассенди о нематериальной природе и локализации души в мозге – это же утверждал и Декарт. Уиллис полагал, что нервы воспринимают ощущения из внешнего мира, а животные дýхи доставляют их в мозг. В мозге животные дýхи проходят по глубинным каналам и собираются в центре, в огромном нервном узле, который соединяет два полушария, – в мозолистом теле. Таким образом, еще один блестящий ум ошибочно истолковал ключевой вопрос. Как если бы современный ученый влез в компьютер и, не найдя там ничего примечательного, сказал бы, что, должно быть, компьютер работает под воздействием некоего нематериального духа, который бродит по материнской плате.
Роялист Уиллис рассматривал разумную душу как «королеву» всего организма. Возглавляющая крупную структуру королева не получает информации непосредственно из внешнего мира, а знает лишь то, о чем ей доложили. В таких условиях информация может искажаться и утаиваться. Мозг – это физический орган, в нем могут возникнуть как генерализованные, так и локальные повреждения, из-за чего нарушится интеллектуальная деятельность, а это скажется на передаче информации разумной душе. Патологии мозга могут влиять на разумную душу, иногда необратимо. Это надо понимать, так было и так есть. Как вы, наверное, догадываетесь, чтобы подкрепить свои теоретические выводы, Уиллис описал различные психические заболевания, которые наблюдал у пациентов.
В наших поисках истины Уиллис играет важную роль, ибо он был одним из первых, кто связал конкретные повреждения мозга с теми или иными расстройствами поведения и понял, что разные отделы мозга занимаются разными проблемами. Свои мысли он изложил в книге «Два рассуждения о душе животных», где описал автономную работу мозга, выполняющего различные задачи, причем не в одном отделе, а по всему объему, а также описал каналы передачи информации – хотя в те времена, когда электричество еще не открыли, Уиллис представил это не как передачу электрических сигналов, а как течение дýхов по каналам. Он запустил процесс, в итоге вылившийся в появление когнитивной нейронауки, задача которой – постараться понять сущность осознаваемого опыта у людей.
Считается, что молодой и одаренный философ Джон Локк попал под сильное влияние Уиллиса с его эмпирическими исследованиями в области анатомии и теоретическими размышлениями. Он получил образование в Оксфорде в ту же пору, когда там был и Уиллис, и тоже начинал как медик. Лекции Уиллиса по анатомии Локк считал одним из немногих курсов, достойных посещения. Позже Локк подружился с еще одним врачом, также однокурсником Уиллиса, Томасом Сиденхемом. Знания по медицине Сиденхем черпал главным образом из практики, а это, как убедился Локк, наиболее надежный метод.
Перебирая и анализируя сотни клинических случаев, Сиденхем заметил, что для того или иного заболевания характерна одинаковая симптоматика, и неважно, кто был его пациент – кузнец из Сассекса или сам герцог Йоркский. Он пришел к выводу, что болезни можно различить по набору симптомов, и принялся систематизировать их, как если бы систематизировал растения. В те времена оставались в ходу относительно субъективные галеновские диагнозы и методы лечения, так что это был революционный шаг. По Галену, у каждого пациента болезнь вызывало специфическое нарушение гуморального равновесия, что требовало индивидуального подхода к лечению. Сиденхем, напротив, заложил основы того, что сейчас кажется первыми ростками доказательной медицины. Испытывая в группе пациентов различные методы лечения одной болезни, он оценивал их эффективность, а также корректировал терапию. Как ни странно, взгляды Галена лучше согласуются с нашей новой тенденцией к индивидуальному выбору схемы лечения, в то время как подход Сиденхема ближе к формализованной медицине, где всех пациентов с одинаковым комплексом проявлений болезни лечат по установленным методикам со стандартными процедурами. В 7 и 8 главах мы еще увидим, что подобные столкновения различных концепций (обычное дело в науке) приводят к ожесточенным спорам с необходимостью выбирать «или-или», хотя в действительности всегда можно найти по крайней мере еще одно решение. Это называется «ложная дилемма», вариант неформальной ошибки. Как мы увидим, физики решительно доказали, что обычно бывает недостаточно одного-единственного ответа. Мы вспомним об этом в разговоре о том, как нейроны создают разум.
Как и следовало ожидать от будущего великого философа, Локк засыпал Сиденхема вопросами о его методах. Так ли уж необходимо знать первичную причину заболевания, чтобы его лечить? Можно ли вообще ее найти? Уиллис полагал, что причины найти можно, ведь ради этого он и проводил вскрытия и эксперименты, но Локк и Сиденхем думали иначе. По их мнению, человек не в силах постичь причины болезни; позже Локк пришел к убеждению, что умственная деятельность и сущность вещей одинаково непостижимы. Он мыслил в философии так же, как Локк лечил больных – позволял себе рассуждать только о том, что подтверждалось повседневным опытом. При такой позиции неудивительно, что Локк выдвинул концепцию чистой доски, знаменитой «табула раса», согласно которой разум формируется только на основании опыта и саморефлексии. На этом положении основана общепринятая современная теория человека в социологии – все дело в воспитании.
Несмотря на то, что и Локк, и Декарт в конце концов пришли к дуализму, во многих деталях их идеи различались. Локк размышлял о душе с точки зрения психологии. «Сознание есть восприятие того, что происходит у человека в его собственном уме», – писал он[1]. В его теории это восприятие, или осознание восприятия, становится возможным благодаря «внутреннему источнику ощущений» – Локк назвал его «РЕФЛЕКСИЕЙ, потому что он (источник) доставляет только такие идеи, которые приобретаются умом при помощи размышления о своей собственной деятельности внутри себя». Локк даже идет еще дальше и утверждает, что бессознательных психических состояний не бывает: «…ибо невозможно, чтобы кто-нибудь воспринимал, не воспринимая, что он воспринимает».
Локк, в отличие от Декарта, разрывает связь между душой и разумом (то есть тем, что думает). Вспомним, что Декарт отождествлял разум и душу – мысль есть главный атрибут разума, а субстанция не может существовать без своего главного атрибута. Следовательно, разум думает постоянно, даже когда спит, пусть эти мысли и забываются моментально. Локк согласен с постоянной работой бодрствующего ума, но, исходя из собственного опыта, возражает против того, что человек, который спит без сновидений, тоже мыслит. Однако душа у такого человека есть – а вдруг он умрет во сне, что тогда? Потому Локк утверждал, что нельзя смешивать разум – с присущим ему сознанием – и душу! Элементарно!
Кроме того, Декарт ограничивал содержание сознания текущей умственной деятельностью. Локк таких ограничений не накладывал. По его мнению, человек может осознавать прошедшие события и работу разума. Локк рассматривал сознание как клей, который скрепляет прошлое человека с его самоощущением, личной идентичностью. Он считал, что мы воспринимаем свое прошлое как личную историю благодаря сознанию. Как и Декарт, Локк наделил людей свободой воли, но добавил в формулу всемогущего Бога и обошел трудное место – вопрос о том, как материя ее порождает, – сказав, что на то была воля Божья.
Так одни из самых великих мудрецов создавали свои картины функционирования тела, разума и души. Им пришлось вписать неоспоримые, как им казалось, факты в такую модель, в которой четко проведены границы между людьми, животными, богами, разумом и сознанием. Те, кто занимается моделированием, делают то же самое, даже в наши дни. Составив модель, они постоянно корректируют ее, сверяясь с новой информацией, пока им не покажется, что их модель объясняет суть дела. Но в данном случае модель представляла собой полный сумбур.
К концу XVII века было сформулировано множество теорий о сути сознания, и это лишь добавляло неразберихи. День, когда накопленные факты составят основу для научных концепций будущего, еще наступит, но пока фундаментальной теоретической схемы, которая объясняла бы, что такое сознание, не существовало. Философы никак не могли договориться по этому вопросу, и бытовало мнение, что философские трактовки сознания довольно бестолковы. Чтобы поставить теорию сознания на прямой путь в будущее, потребовалось вмешательство не по годам развитого шотландского философа Дэвида Юма, уже в 18 лет уставшего от «бесконечных философских диспутов». Этику и натурфилософию древних он счел «абсолютно бездоказательными и опирающимися не столько на Опыт, сколько на Вымысел»[2].
Казалось, Юм ворвался на арену философии уже готовым к бою бунтарем, поставившим себе задачей прекратить все разговоры об идеализме. Идея о каком-то сверхъестественном положении разума по отношению к телу представлялась ему заблуждением – да и просто глупостью. Он хотел покончить с этим раз и навсегда и создать стройную теорию о подлинной природе жизни. Что он и сделал – и на ближайшие века радикально изменил ход мысли людей о природе разума.
Юм быстро понял, что его современники повторяют распространенные ошибки древних философов – например, формулируют гипотезы, исходя не из опыта и наблюдений, а из рассуждений и вымыслов. По убеждению Юма, мы судим о реальности по своему опыту, а также, хорошо это или плохо, на основании выбранных аксиом. Аксиомы – это настолько, как нам кажется, очевидные или устоявшиеся утверждения, что их можно принять без возражений, вопросов и доказательств, просто взяв на вооружение. То есть аксиома – это в принципе недоказуемое допущение или точка зрения. Но тут есть одна загвоздка: если знание основано на аксиоме, то выводы о реальности зависят от выбранной аксиоматики. Как предупреждает Роберт Браун, физик из Университета Дьюка, «в философских рассуждениях самое опасное и важное дело – это выбор аксиом… Самое бесполезное занятие – вступать в философский, религиозный или социологический спор с человеком, использующим совершенно другие аксиомы, нежели твои»[3].
Действительно, Юм решил, что философы часто обсуждают псевдопроблемы, которые нельзя решить методами логики, математики и рационального мышления, ибо любое решение неизбежно в той или иной степени будет опираться на недоказанный тезис, или аксиому. Хватит, думал он, философам отнимать время у почтенной публики, без конца переписывая псевдопроблемы и вываливая людям на головы свои бездоказательные умозаключения, пора уже им вслед за учеными прекратить словесные спекуляции. Надо отказаться от всего, что не основано на фактах и наблюдениях, – и, в частности, не стоит апеллировать к сверхъестественному. Юм имел в виду Декарта и других философов, считавших, что они методами математики, логики и аргументации убедительно продемонстрировали дуализм в философии. В наше время позиция Юма более или менее поддерживается всеми – отчасти потому, что нынешние ученые-философы работают в современных исследовательских университетах, где ведутся естественнонаучные эксперименты. Картезианские настроения и сейчас еще иногда дают о себе знать, но, как правило, ни философы, ни другие ученые не воспринимают их всерьез. Однако в начале восемнадцатого столетия дерзкие нападки Юма на Декарта подрывали все устои.
У Юма были грандиозные планы – создать «науку о человеке», то есть, используя научный метод Ньютона, найти фундаментальные законы, которые приводят хитрые игры разума в соответствие всему тому, что было известно о ньютоновском мире. Ему казалось, что если разобраться в человеческой природе со всеми ее сильными и слабыми сторонами, то станет более понятно поведение людей в целом. Это позволило бы также увидеть, чего можно достичь, каковы подводные камни в наших интеллектуальных поисках и какие аспекты нашего мышления могут помешать нам понять самих себя. Собственно, Юм думал, что его теория человека затмит ньютоновские: «Даже математика, естественная философия и естественная религия в известной мере зависят от науки о человеке, поскольку они являются предметом познания людей и последние судят о них с помощью своих сил и способностей. Невозможно сказать, какие изменения и улучшения мы могли бы произвести в этих науках, если бы были в совершенстве знакомы с объемом и силой человеческого познания»[4], – писал он. Скажем так, Юм был готов к бою, и он внес в путаницу с разумом и мозгом некоторую практическую ясность. Кое-кто считает его отцом когнитивистики.
В 1734 году, в возрасте 23 лет, Юм поступил в альма-матер Декарта – Иезуитский коллеж в Ла-Флеш, городе французской провинции Анжу. В свободное время Юм писал свой классический труд «Трактат о человеческой природе, или Попытка применить основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам», каковой он, переработав, подчистив, откорректировав и в отдельных местах прояснив, и опубликовал в 1748 году в виде «Исследования о человеческом разумении». Он начал с того, что выделил два типа умственного восприятия – впечатления (поступающие извне чувства и внутренние рефлексии, как то: желания, страсти и эмоции) и идеи, которые берутся из памяти и воображения. Он утверждал, что идеи в конечном итоге являются копиями впечатлений, а под словом «сознание» подразумевал мышление. Этот закон копий выражает первое положение науки о человеческой природе: «Все наши простые идеи при первом своем появлении происходят от простых впечатлений, которые им соответствуют и которые они в точности представляют»[5].
Впрочем, замечает Юм, идеи не рождаются хаотически. Если бы это было так, мы не могли бы мыслить связно. Таким образом он вводит принцип ассоциации: «Существует некая тайная связь между отдельными идеями, которая заставляет дух чаще соединять их вместе и при появлении одной вводить другую»[6]. Далее эти связи подчиняются трем принципам: сходство, протяженность во времени и пространстве и причинность. Говоря об этом, Юм признает, что принцип причинности выводит нас за пределы ощущений – он связывает опыт настоящего и прошлого, а также предполагает будущее. Юм делает вывод, что «все заключения о фактах основаны, по-видимому, на отношении причины и действия»[7]. Это предвещало закат декартовой теории дуализма.
По Юму, в причинно-следственной связи есть три компонента: предшествование во времени, близость в пространстве и необходимая связь. Идея предшествования во времени, утверждает Юм, вытекает из наблюдения и опыта. То есть, если мы говорим, что событие А является причиной события В, значит, А происходит раньше, чем В. Идея пространственной близости тоже вытекает из наблюдения, так как если мы наблюдаем событие В и говорим, что оно вызвано событием А, значит, В происходит недалеко от А. Когда я жарю чеснок в оливковом масле, по моему дому моментально растекается аппетитный аромат – не через два часа и не в соседнем доме. Чтобы я мог заметить причинно-следственную связь, жарка чеснока и появление аромата должны быть близко связаны и во времени, и в пространстве.
С третьим компонентом в этой теории Юма – необходимой связью – не все так однозначно. По мнению Юма, необходимая связь между причиной и следствием не есть просто результат мышления (то, что он называл связью идей, иными словами – нечто заведомо верное, для обнаружения чего не нужен опыт, как в примере 4 × 3 = 12). Нет, необходимая связь требует практического опыта. Допустим, я жарю чеснок и в это время звонит телефон. Должен ли я сделать вывод, что звонок раздался потому, что я жарил чеснок? Нет. Если это не будет происходить всякий раз, как я кину чеснок на сковородку, мой ум не увидит необходимой связи.
Представьте себе, что вам дали какой-то белый порошок, которого вы еще никогда не видели. Вы понятия не имеете, что случится, если его проглотить. Будь вы хоть семи пядей во лбу, вы сможете лишь описать его цвет, консистенцию, запах и, возможно – если вы достаточно безрассудны, что само по себе странно для интеллектуала, – его вкус. Но не имея информации из прошлого опыта и не проведя эксперимента, вы не узнаете (и не можете предвидеть) вероятных последствий. Под необходимой связью причины и следствия Юм подразумевает представление, которое формируется в разуме на основании опыта. Это не подлинное свойство внешнего мира, которое мы познаем, исходя из своих ощущений. Юм утверждал, что когда люди усматривают в каком-либо сочетании событий причинно-следственную связь, они видят лишь то, что два события всегда идут рядом – событие, похожее на А, всегда влечет за собой событие, похожее на В, однако, как говорится, связь и зависимость – не одно и то же. Посредством ассоциации, делает вывод Юм, впечатление от одного события ведет за собой впечатление от другого, и если эти события и дальше происходят вместе, рано или поздно возникнет устойчивая ассоциация. Поэтому, наблюдая событие А, мы по привычке ждем, что сейчас случится и В. Когда жарится чеснок, мы ожидаем появления запаха, потому что за первым всегда следует второе, но не ждем, что зазвонит телефон. В этом смысле Юм предвидел эксперименты Павлова по формированию условных рефлексов. Юм приходит к следующему заключению: если не удается увидеть устойчивую ассоциацию с помощью чувственного восприятия, то единственный источник, который может служить основанием для идеи причинности, – это та самая упорно возникающая в мозге мысль о связи, вызывающая ощущение ожидания, и именно из этого ощущения рождается идея причинности.
Итак, опираясь на повторяющийся опыт, мы знаем или предполагаем в силу привычки, что В и впредь всегда будет следовать за А. И тут мы упираемся в логический тупик. Представьте себе такую картину: вы всегда любили креветки, и вот однажды вечером вы взяли своего двухлетнего ребенка и поехали к отцу в загородный дом, где тот обычно рыбачит, а по пути остановились перекусить в придорожном кафе. Вы начинаете с аппетитом уплетать сочные креветки, но буквально сразу давитесь. Вы пытаетесь глотнуть воздуха и понимаете, что это аллергическая реакция. Вкусная еда принесла вам не удовольствие, а страшные мучения. Как мы переходим от «я могу есть креветки» к «сегодня вечером я смогу съесть креветки»? Обычно это удается сделать, но бывает, что и нет, – эссеист Нассим Талеб назвал бы такие редкие исключения событиями «Черный лебедь». Дело в том, что мы можем сделать какие-либо выводы о причинно-следственных отношениях в будущем, только приняв, что в будущем наступят те же последствия, что наступали в прошлом. Мы принимаем такие допущения по сто раз на дню. Как мы приходим к этому соглашению? Юм доказывает, что не путем логических рассуждений, ибо, с точки зрения логики, легко предположить какие-то иные последствия. Умом вы понимаете, что можно выйти из дома и попытаться завести машину, но поворот ключа зажигания ничего не даст: будет не как вчера, позавчера и вообще в любой день за последние пять лет. Юм не принимает во внимание и наши вероятностные (эмпирические) доводы, поскольку это замкнутый круг – предполагается то, что мы пытаемся доказать (в будущем наступят те же последствия, что и раньше). Он приходит к заключению, что наша вера в единообразие природы и одинаковость последствий в прошлом и будущем должны выводиться из основанной на ассоциациях привычки не умом, а психологически.
Весьма смелый тезис, последствия которого непредсказуемы, – и Юм это понимал. Он ставит под сомнение идею причинности, приравнивая ее к аксиоме, – то есть высказыванию, которое не стоит даже пытаться обосновать. На самом деле он не сомневается в том, что у причин есть следствия – он задается вопросом, откуда берется наша уверенность в этом. В 1754 году он писал Джону Стюарту, профессору натурфилософии из Эдинбурга: «Позвольте сказать Вам, что я никогда не утверждал столь нелепого положения, а именно что какая-либо вещь может возникнуть без причины; я утверждал лишь, что наша уверенность в ошибочности такого положения исходит не от интуиции и не от демонстрации, а из другого источника»[8].
Юм показал, что аксиому о причине и следствии невозможно доказать в рамках математики, логики и здравого смысла. Юм восхищался Ньютоном, но в данном случае усомнился в философском базисе ньютоновского учения, а вместе с ним и в механистической определенности всего мира и мозга с разумом. Далее мы увидим, что сомнения в механистической определенности могут завести нас в любопытную область.
О самоощущении, то есть о личной идентичности, Юму тоже было что сказать. В результате самонаблюдения он пришел к выводу, что «я сам» состоит из целого набора восприятий, а вот субъекта, в котором эти восприятия проявлялись бы, не существует: «Что касается меня, то когда я самым интимным образом вникаю в нечто, именуемое мной своим я, я всегда наталкиваюсь на то или иное единичное восприятие тепла или холода, света или тени, любви или ненависти, страдания или наслаждения. Я никак не могу уловить свое я как нечто существующее помимо восприятий и никак не могу подметить ничего, кроме какого-либо восприятия»[9]. Однако он признает, что должен как-то объяснить свою идею о личной идентичности. Он приписывает это ассоциированным восприятиям. «Я сам» для Юма – это не что иное как комплекс восприятий, объединенных связями причинности и сходства, которые возникают из непрерывной цепочки наших восприятий. Наши мысли и фантазии в совокупности создают почву для идеи идентичности. Память связывает их с такими же образами из прошлого и выводит эту идею за границы сиюминутных восприятий.
Иными словами, Юм считает, что наш способ мышления порождает идею о постоянной самоидентичности, из-за чего возникает путаница между последовательностью связанных объектов (в данном случае – наших восприятий) и цельным, неизменяемым объектом с постоянной идентичностью, например, со стулом. Юм настаивает на том, что, оправдывая «эту нелепость, мы часто придумываем какой-нибудь новый и непредставимый принцип, соединяющий объекты и препятствующий их перерыву или изменению. Так… для того, чтобы скрыть изменения, [мы] прибегаем к идее души, я и субстанции. Следует, далее, заметить, что когда мы даже не образуем подобной фикции, наша склонность к смешению тождества и отношения так велика, что мы готовы воображать кроме отношения между частями еще нечто неизвестное и таинственное, связывающее последние»[10]. Юм мог бы из могилы разнести в пух и прах многие современные концепции сознания, сформулированные в таком ключе.
Но он не дает спуску и Декарту с его res cogitans, или «вещью, которая мыслит». Юм протестует против трактовки разума как думающей вещи. Для него разум – скорее сцена, где дает представление мозг: «Дух – нечто вроде театра, в котором выступают друг за другом различные восприятия; они проходят, возвращаются, исчезают и смешиваются друг с другом в бесконечно разнообразных положениях и сочетаниях»[11]. Юм не допускает перехода разнообразия опыта в нечто единое, в цельный субъект. По его логике, прибегая к самоисследованию (интроспекции), мы можем уловить о себе лишь комплекс ощущений и идей. Разум, который их создает, нам никогда не ухватить. Согласно Юму, «я» – это упаковка восприятий без упаковщика и без реальной, постоянной и неизменной сущности. Если нет фундамента в виде «я», идея субстанциального дуализма ошибочна.
Мы оставляем в XVIII веке одного из величайших философов в истории, неодобрительно поглядывающего на Декарта и Локка, и идем дальше. Хотя и Юм, впрочем, тоже упустил из виду кое-что важное – наш богатый внутренний мир, который влияет на наше поведение. Подсознательный разум, бдительный контролер, подобен тайному агенту в вашем доме. Эта вроде бы сверхъестественная сила на самом деле представляет собой процесс в нервной системе, происходящий ниже уровня сознательного восприятия.
Пришла очередь немцев сказать свое слово, и они подняли тему бессознательных ментальных процессов. «Ибо дух времени всегда подобен резкому восточному ветру, насквозь все пронизывающему и на всем оставляющему свой след. Дела, мысли, писания, музыка и живопись, процветание того или другого искусства – все бывает отмечено его печатью»[12], – писал, в частности, Артур Шопенгауэр.
Для нашего расследования важно, что в начале XIX века этот резкий восточный ветер дул из Германии, а именно – из уст Артура Шопенгауэра. Шопенгауэр бросил вызов Декарту, полагавшему, что разум полностью открыт и ничто не ускользает от сознательного анализа. В своей философии Шопенгауэр делал акцент на мотивации каждого отдельно взятого человека. По его мнению, людьми руководят не самые благовидные мотивы – человек следует не разуму, а собственной воле, хотя иногда решительно это отрицает. В книге «Мир как воля и представление», опубликованной в 1818 году, Шопенгауэр пришел к заключению, что «человек может делать то, что хочет, но не может пожелать, чего ему хотеть». В сущности, мало того что воля – то есть наши подсознательные мотивы – рулит, так еще и сознательный интеллект этого не понимает. Шопенгауэр пояснил свой тезис, сравнив волю со слепым, но сильным существом, а разум – со зрячим, но увечным: «В действительности же самым удачным будет сравнение взаимного отношения воли и интеллекта с мощным слепцом, который несет на своих плечах зрячего паралитика»[13].
Формулировка Шопенгауэра сразу переводит проблему сознания в более широкую плоскость. Разум с его рациональными процессами – это прекрасно, но ключевой фактор – воля, та самая, что придает нам «драйв»: «Воля… снова наполняет сознание желаниями, аффектами, страстями, заботами»[14]. В наши дни подспудное подсознательное бормотание «воли» еще не расшифровано до конца – было предпринято лишь несколько попыток. На текущий момент, когда я пишу эти слова, фанаты программ искусственного интеллекта (ИИ) – машин, которые думали бы не хуже человека, – обходят стороной, а то и вовсе игнорируют данный аспект психологии. Именно поэтому Дэвид Гелернтер из Йельского университета, один из крупнейших мировых авторитетов в области вычислительной техники, говорит, что программы ИИ не оправдают возлагаемых на них надежд. «При нынешнем положении дел в сфере ИИ специалистам нечего сказать по поводу эмоций и физиологии организма, так что они просто не желают об этом говорить», – объясняет он. Человеческий разум, добавляет Гелернтер, имеет дело не только с информацией и мыслями, но и с чувствами, и каждый индивидуальный разум – это продукт личного, сугубо индивидуального, опыта человека, его чувств и воспоминаний, которые дробятся и тасуются на протяжении всей жизни: «Разум живет в данном теле, и сознание – это деятельность всего организма». Перейдя на язык программистов, он подытоживает: «Я могу запустить приложение на любом устройстве, но смогу ли я запустить в вашем мозгу чужой ум? Очевидно, нет»[15]. Представьте себе, что Шакил О’Нил и Дэнни Де Вито обменялись мозгами. Дэнни автоматически пригибался бы у каждой двери, а Шак мазал бы на километр мимо корзины.
В теории Шопенгауэра воля – это воля к жизни, стимул, толкающий людей и вообще всех животных к воспроизводству себя. Главным продуктом человеческой жизни, считает он, является продукт любви, потомство, ибо от этого зависит, кто составит следующее поколение. Интеллект Шопенгауэр задвигает на второй план. Не разум управляет поведением, и не от него зависят волевые решения – он выступает лишь после того, как все высказались и разошлись, чтобы на ходу, задним числом, объяснить порывы воли.
Своим неуважением к сознательному интеллекту Шопенгауэр еще и открывает ящик Пандоры бессознательного. Ясные сознательные идеи он сравнивает с верхним уровнем водоема, в то время как основную массу воды составляют смутные ощущения, восприятия, интуитивные идеи и оценки, перемешанные с личной волей: «Сознание – только поверхность нашего духа; в духе, как и в земном шаре, мы знаем лишь оболочку и не знаем внутреннего ядра»[16]. Настоящее мышление, говорит он, редко происходит на поверхности, а следовательно, лишь в редких случаях может быть описано как последовательность «отчетливо мыслимых суждений».
Шопенгауэр ввел нас в мир бессознательных психических процессов за несколько десятилетий до расцвета славы Фрейда, однако сама эта мысль была отнюдь не нова. Напомню, что о процессах, протекающих в организме вне сознания, особенно жизнеобеспечивающих – таких как дыхание и отправление естественных потребностей, – знал уже Гален. Но в XIX веке эта идея снова получила развитие. В 1867 году, по результатам многолетнего изучения физиологии глаза, немецкий врач-материалист, физик и философ Герман фон Гельмгольц предположил, что в зрительном восприятии включается непроизвольный, предшествующий рациональному и подобный рефлекторному механизм бессознательных умозаключений – зрительная система мозга воспринимает необработанную входящую визуальную информацию и складывает из этих данных максимально связную картину[17]. Это не тот тип обработки информации, который предполагал Юм в своей теории копий, но тоже не революционная идея. Ее выдвинул в XI веке арабский ученый Ибн аль-Хайсам.
У Гельмгольца учился его коллега, медик-материалист и физик Эрнст фон Брюкке. Оба они были приверженцами теории о физической сущности составных элементов мозга, причинно-следственные связи между которыми управляются все теми же действующими в физике и химии механическими законами. Никаких жизненных дýхов и неясных образов, никакой мистики. Психика и тело едины. Впоследствии, будучи профессором физиологии Венского университета, Брюкке оказал огромное влияние на одного из своих студентов – Зигмунда Фрейда. Можете ли вы вообразить себе ту атмосферу интенсивно работающей научной мысли? Система свободна от потусторонних сил. Остался только мозг со всеми его компонентами, многие из которых функционируют вне области сознания, и все это приводится в действие физическими и химическими законами.
В 1868 году голландский офтальмолог Франц Корнелиус Дондерс выдвинул новую гипотезу – и тем самым предложил исследователям функционирования мозга новый инструмент. Дондерс понял, что если измерить разницу в скорости реагирования, можно сделать выводы о различиях в усвоении мозгом информации. Он предположил, что время, необходимое для распознавания цвета, равно разнице между временем реагирования на определенный цвет и временем реагирования на свет. Его гипотеза показала, что можно изучать психику, измеряя поведенческие реакции, – так появилась экспериментальная психология. И действительно, новаторские выводы Дондерса о потреблении кислорода в мозге, как и описанный выше метод, привели к грандиозному прорыву в анализе когнитивных процессов методами визуализации мозга – через сто с лишним лет в Университете Вашингтона в Сент-Луисе Маркус Райкл и Майкл Познер с коллегами впервые провели исследование такого рода.
Судя по работам психиатра Генри Модсли, в Англии тоже шли разговоры о глубоком подсознании, и к 1867 году эти идеи уже были широко распространены: «Предсознательная – как ее называют некоторые психологи-метафизики – и бессознательная, сомневаться в коей сейчас нет ни малейших разумных оснований, работа ума, бесспорно, является фактом, и самые ярые адепты интроспективной психологии вынуждены признать, что самосознание не говорит нам ничего об этой работе»[18]. Далее Модсли утверждает, что «бессознательная психическая деятельность – это важнейшая часть психической деятельности в целом, основной процесс, от которого зависит мышление»[19].
Прошло немного времени, и в 1878 году был учрежден журнал Brain. В следующем году там появилась статья ученого-энциклопедиста Фрэнсиса Гальтона с результатами эксперимента, проведенного им на самом себе. Глядя на слово, написанное на карточке, он засекал по секундомеру время, за которое у него возникали две ассоциации с этим словом, и записывал свои ответы. Он провел пробы с семьюдесятью пятью словами в четырех разных местах с интервалами около месяца. Результаты его удивили. За все четыре эксперимента он придумал всего 289 отличающихся ответов на 75 слов. Почти в 25 % случаев определенное слово вызывало одни и те же ассоциации во всех четырех сессиях, и в 21 % попыток одинаковые ответы рождались в трех из четырех подходов, то есть ассоциативные ответы оказались гораздо менее разнообразными, чем он ожидал. «На дорогах наших мыслей образовались глубокие колеи», – заметил Гальтон. Вот к какому заключению он пришел:
Наверное, самое сильное впечатление от этих экспериментов связано с многогранностью работы, проделанной разумом в полубессознательном состоянии, а также с убедительным доводом в пользу существования еще более глубокого уровня умственных действий, целиком и полностью производимых ниже уровня сознания, которыми можно объяснить подобные психические явления, иначе, вероятно, и не объяснимые[20].
Но сознательный разум тоже был готов отстаивать свое место. В 1874 году молодой профессор физиологии Вильгельм Вундт опубликовал свой первый учебник по экспериментальной психологии под названием «Основы физиологической психологии». В этой книге он обозначил границы новой дисциплины, которая охватывала изучение мышления, восприятия и ощущений. Вундта особенно интересовал анализ сознания – главная задача психологии, по его мнению. Он составил систему исследования непосредственного опыта сознания с помощью самоанализа. Методика должна была включать объективные наблюдения за ощущениями, эмоциями, желаниями и идеями человека. Спустя пять лет он открыл в Лейпцигском университете первую психологическую лабораторию, за что снискал славу «отца экспериментальной психологии». Вундт утверждал, что закономерности внутренней жизни человека подобны строгим правилам и могут быть установлены экспериментальным путем. Нейрофизиология и психология, считал он, изучают одни и те же процессы с разных сторон – изнутри и снаружи.
Между тем, благодаря Зигмунду Фрейду, стала весьма популярна новая прогрессивная теория о бессознательном. Не потому ли психоаналитические концепции вышли на первый план, что они шокировали публику? Во всяком случае, уже в самом начале профессионального пути Фрейд брался за непосильные задачи. В 1895 году он написал «Проект научной психологии», где отстаивал радикальную материалистическую идею полной тождественности ментальных и неврологических событий. Он утверждал, что первым шагом к достижению цели в научной психологии должно быть определение и точное описание неврологического события, связанного с каждым психическим событием, – это была ранняя версия современных попыток выявить мозговые корреляты сознания. Мало того, он пошел еще дальше – следующим шагом стал «элиминирующий редукционизм»: старую лексику, которая описывала психические состояния, следовало упразднить и заменить на новую неврологическую терминологию. Так, вместо обычных слов о ревности надлежало объяснить, что ваша зона J2 реагирует с определенной частотой и скоростью импульсов. Фрейд хотел, чтобы это нововведение приняли все, а не только ученые, изучавшие мозг. Все без исключения. И поэзия должна была стать другой, а валентинка выглядела бы примерно так: «Когда моя L987T обращается к твоему лицу, моя р392J ускоряется на 95 %». Числовое выражение для слова «моя», вероятно, оказалось бы слишком длинным.
Однако едва книга покинула типографию, как Фрейд полностью и радикально поменял свою позицию. Как пишет Оуэн Фланаган, «в 1895 году, в том самом, когда появился Проект, Фрейд заявил, что «попытка объяснить психологические процессы с точки зрения физиологии была бессмысленным подлогом»"[21]. Но это еще не все – он решил, что о психических явлениях следует говорить только в терминах психологии. Конец редукционизму. Фланаган отчасти связывает это утверждение с Францем Брентано, немецким философом, психологом и бывшим священником, одним из тех, у кого Фрейд учился на медицинском факультете.
Брентано ратовал за такие же точные методы в философии и психологии, как те, что применяются в естественных науках. Он выделял в психологии два разных подхода – генетический и описательный, как он их называл. Генетическая психология изучала психологические аспекты с традиционной эмпирической позиции независимого стороннего наблюдателя, а описательная – как Брентано иногда говорил, феноменология – была привязана к мнению самого субъекта, высказанному от первого лица. Как и философы восемнадцатого столетия, он считал, что все знания опираются на опыт, и в психологии для эмпирического изучения переживаний во внутреннем восприятии человека следует использовать самоанализ. Здесь кроются корни еще одной трактовки термина «сознание» как осознания и субъективного ощущения феноменального опыта, и в следующей главе мы к этому вернемся.
По глубокому убеждению Брентано, психические явления отличаются от физических тем, что последние – это объекты внешнего восприятия, в то время как психические несут в себе некую историю, они всегда «про что-нибудь», то есть направлены на объект. Этот объект, уточняет Брентано, «в данном случае не следует понимать как значение чего-то»[22], это объект семантический. Так, вы можете мечтать увидеть лошадь – или единорога, целиком и полностью вымышленный объект, а могли бы жаждать прощения, и оно тоже будет семантическим объектом, хотя и непонятно, воображаемым ли, но точно не тем, которое можно положить на стол. Брентано считал «направленность» главным отличительным свойством сознания, а статус объектов мышления описывал выражением «интенциональное отсутствие существования». «Отсюда – из «тезиса Брентано», как это назовут позже, – следует, что невозможно адекватно описать суть психологических феноменов языком, в котором нет понятийных средств для описания наполненного смыслом содержания психических состояний – скажем, языком физики или нейробиологии»[23].
Фрейд выстроил систематическую психологическую теорию на основе наблюдений за пациентами, привязав имеющиеся данные к представлениям о бессознательных процессах. Он выделил три уровня психической деятельности – сознательную, которая охватывает все, в чем мы отдаем себе отчет, предсознательную, то есть обычную память, содержание которой можно восстановить и переправить в сознательную область, и бессознательную, то есть сферу ощущений, стремлений, воспоминаний и мыслей, оставшихся за пределами сознательного осмысления. Сама по себе идея о том, что процессы, сопряженные с чувствами, желаниями и мотивациями, недоступны для сознательного обдумывания, была не нова. Ее так и эдак муссировали не только Декарт, но и (задолго до него) Августин, еще в четвертом веке, и Фома Аквинский в тринадцатом, а после – Спиноза и Лейбниц. Однако, в отличие от них, Фрейд в бессознательных процессах чаще всего усматривал нечто неблаговидное. И согласно его теории, подсознание влияет почти на все наши мысли, чувства, побуждения, поведение и восприятие.
Как ни странно, Фрейд, апологет научной психологии, не допускал эмпирической проверки своих психоаналитических идей в новой, развивающейся области экспериментальной психологии. Хотя некоторые его гипотезы хорошо согласовались с анализом эмпирических данных – например, сейчас принято считать, что большинство когнитивных процессов протекает в подсознании, – оригинальные концепции, касающиеся психопатологии, не выдержали придирчивой критики и, в большинстве своем, были отвергнуты[24].
В XIX веке миру пришлось привыкать не только к бессознательным процессам в психике – на Британских островах появилась еще одна грандиозная теория: в 1859 году была опубликована книга Чарльза Дарвина «О происхождении видов». В заключении Дарвин еще и дистанцировался от приверженцев идеи дуализма души и тела, написав: «В будущем, я предвижу, откроется новое важное поле исследования. Психология будет прочно основана на фундаменте, уже прекрасно заложенном м-ром Хербертом Спенсером, а именно на необходимости приобретения каждого умственного качества и способности постепенным путем. Много света будет пролито на происхождение человека и на его историю»[25]. Несмотря на первые ругательные отзывы, к 1871 году, когда был опубликован другой труд Дарвина, «О происхождении человека», научное сообщество и основная масса населения уже поверили в великое учение об эволюции. В этой книге подробно рассмотрено огромное множество примеров тесной связи физиологии и психики, свойственной как людям, так и животным, и сделан следующий вывод: «Как бы ни было велико умственное различие между человеком и высшими животными, оно только количественное, а не качественное»[26]. То есть Дарвин, вовсе не наделяя животных бессмертной душой, еще раз выступил против дуализма души и тела.
Как неоднократно отмечалось, Дарвин был человеком мягким и неагрессивным – он чуть ли не прощения просил за свой «обезьяний» выпад против религиозных убеждений многих людей, в том числе и его собственной жены. Ради этой группы читателей он завершил «Происхождение видов» на оптимистичной, внушающей надежду ноте:
Таким образом, из борьбы в природе, из голода и смерти непосредственно вытекает самый высокий результат, какой ум в состоянии себе представить, – образование высших животных. Есть величие в этом воззрении, по которому жизнь с ее различными проявлениями Творец первоначально вдохнул в одну или ограниченное число форм; и между тем как наша планета продолжает вращаться согласно неизменным законам тяготения, из такого простого начала развилось и продолжает развиваться бесконечное число самых прекрасных и самых изумительных форм[27].
Дарвин полагал, что объяснение умственным способностям человека тоже следует искать в его теории. Прения по этой части дарвиновского учения были наиболее оживленными. Против выступали как сторонники классической идеи дуализма, так и последователи эмпиризма теорий Локка и Юма – проповедники принципа tabula rasa применительно к человеческому мозгу, считавшие, что знания берутся исключительно из чувственного опыта. Из-за этих споров еще много лет никак не удавалось продвинуться дальше, к разгадке тайны сознания. В конце концов из юмовского принципа ассоциаций выросло и заняло главные позиции новое направление в психологии – бихевиоризм.
К концу XIX века многие философы настаивали на том, что разуму необходим физический мозг, своего рода хранилище знаний и воспоминаний. Кое-кто из физиологов считал обязательным участие спинномозговых нервов, некоторые утверждали, что определенную роль играет и весь организм.
Локк разделял душу и разум, но добавил последнему логические рассуждения, этическую деятельность и свободную волю. Разум составляет основу сознания, волеизъявления и индивидуальности, однако ему свойственно ошибаться и создавать иллюзии, так что главное его богатство – это сознательные идеи. Из глубин подсознания ничего не всплывает. Вопрос о том, как именно материя производит нечто вроде свободной воли, Локк замял, включив в формулу всемогущего Господа и сказав, что Бог так все устроил. Юм вычеркнул сверхъестественные силы и попытался создать строгую научную теорию о человеческом разуме. При этом он понимал, что возможности разума небезграничны и мышление должно укладываться в эти пределы. Таким образом, он подрывал основы понимания людьми физических причинно-следственных связей и даже ставил под сомнение философский базис механики Ньютона как способа изучения мира.
Шопенгауэр утверждал, что нами управляют не сознательные рассуждения, а бессознательные побуждения и стремления, то есть источником знаний он считал скорее опыт. Гельмгольц показал, что наши системы восприятия не работают, как копировальный аппарат, а объединяют сенсорную информацию в наиболее вероятные картины. Затем пришел Дарвин и встроил наш мозг в бесконечный эволюционный процесс, велев нам оставить Бога в покое, а за разъяснениями, как и почему мозг стал таким, а не другим, обращаться к естественному отбору.
Итак, в XX столетие мы входим с прежней путаницей в голове и с прежними вопросами, однако теперь в нашем арсенале имеются два новых рабочих метода – оценка разницы во времени реакции в конкретных задачах и новая описательная психология, которую интересует субъективная точка зрения, высказанная от первого лица. Последующие сто лет должны, несомненно, стать эпохой новых прозрений и научных открытий, а также проложить новые пути для изучения сознания. Люди расщепили атом, расшифровали код ДНК, слетали на Луну, а теперь еще и научились получать изображение живого человеческого мозга. Несомненно, что-то должно было сдвинуться и в проблеме сознания.
Глава 3
XX век: рывок вперед и готовность к современному мышлению
Тем не менее есть люди – и я один из них, – которые считают, что даже с практической точки зрения самым важным для человека является его видение Вселенной… Мы полагаем, что вопрос не в том, как теория мироздания влияет на деяния людей, а в том, влияет ли на них в целом что-нибудь еще.
Г. К. Честертон[4]
В начале двадцатого столетия в философии психики и мозга все еще враждовали два лагеря – рационалистов и эмпириков. Впрочем, как мы скоро увидим, в конце того же века дела обстояли не намного лучше. Можно подумать, будто в человеческом мозгу умещается ограниченный набор идей и та или иная из них начинает звучать громче в зависимости от популярных на данный момент научных данных и модных настроений. Но вернемся в начало века. Пришло время бесцеремонно вмешаться в разговор самонадеянным американцам, и первым из них обратил пристальное внимание на проблему сознания Уильям Джеймс. Свой цикл лекций в Гарварде, в 1907 году, он начал с приведенной выше цитаты из Г. К. Честертона, в которой очень точно схвачена суть великого вопроса философии: может ли состояние психики – нематериальные убеждения, идеи – влиять на материю, то есть на состояние мозга?
Джеймс был согласен с Честертоном, считавшим этот вопрос очень важным. Темой его лекций был новый философский метод – прагматизм, детище Чарльза Пирса, друга Джеймса, родившееся в их спорах с другими философами и юристами, членами основанного ими в Кембридже (Массачусетс) в 1870-х годах недолго прожившего, но влиятельного интеллектуального Метафизического клуба. Прагматизм ни у кого не вызывал большого интереса, пока Джеймс спустя двадцать лет не стал его развивать и пропагандировать. В своей первой лекции Джеймс обратил внимание аудитории на неочевидный факт – влияние темперамента философов на их научные воззрения:
История философии является в значительной мере историей определенного столкновения человеческих темпераментов… Какого бы темперамента ни был профессиональный философ, он старается заглушить его. Общепринято, что темперамент не есть аргумент; поэтому философ для своих выводов ищет лишь безличных доводов. В действительности же темперамент влияет на ход мыслей философа несравненно сильнее, чем любая из его безукоризненно объективных предпосылок. От темперамента зависит убедительность тех или иных аргументов философа, темперамент влияет, подобно фактам или принципам, побуждая выбирать более мягкую или более строгую точку зрения на мир. Философ доверяет своему темпераменту. Философ ищет мира, который подходил бы к его темпераменту, и поэтому верит в любую картину мира, которая к нему подходит[1].
В этом и заключалась великая роль дерзких американских мыслителей. Американских философов Джеймс делит на две группы по их темпераменту – «мягких бостонцев» и «жестких обитателей Криппл-Крика в Скалистых горах». Подобное деление по темпераменту он видит не только в философии, но и в литературе, искусстве, государственном управлении и манере поведения. Те и другие, конечно же, не слишком высокого мнения о своих антиподах: «Их взаимные отношения похожи на те, которые наблюдаются, когда туристы из Бостона приходят в столкновение с людьми, подобными обитателям Криппл-Крика. Каждый тип считает другой ниже себя. Только в одном случае презрение смешано с удовольствием, а в другом к нему примешивается чувство страха». Далее он дает примерные характеристики обеим группам: мягкие, осторожные бостонцы – рационалисты (придерживаются объективных и устоявшихся правил), интеллектуалисты, идеалисты (то есть верят, что все происходит от разума), оптимисты, монисты (их рационализм исходит из единого целого и общего, единству всего придается большое значение), догматики, и они верят в Бога и свободу воли. Декарт в глубине души был мягким и осторожным человеком!
Суровый народ Скалистых гор – их полная противоположность; эти люди – эмпирики (уважают факты, даже самые жестокие), сенсуалисты, материалисты (все вокруг – материя, идеализму – нет), пессимисты, неверующие, фаталисты, плюралисты (имеется в виду, что эмпирики начинают с частных деталей и создают из набора деталей целое) и скептики (стало быть, не против дискуссий). Перед вами Юм, непреклонный характер!
Но Джеймс понимал, что большинство из нас не вписывается четко ни в одну из этих крайностей:
Большинство из нас желает извлечь хорошее из тех и из других. Конечно, факты вещь отличная – давайте нам кучи фактов. Принципы тоже хорошо – дайте нам пригоршни принципов. Мир, несомненно, един, если смотреть на него с одной стороны, но он также несомненно и множествен, если взглянуть на него с другой. Он в одно и то же время и единое, и многое, поэтому примем некий плюралистический монизм. Разумеется, все необходимо определено, но так же несомненно и то, что наша воля свободна: своего рода детерминистическая свободная воля – такова истинная философия. Нельзя отрицать, что в отдельных частях мира царит зло, но целое не может быть злом: таким образом практический пессимизм объединяется с метафизическим оптимизмом. И т. д. и т. п. Обыкновенный непрофессионал в философии отнюдь не радикал, он не заботится о последовательности своей системы, он использует то одну ее часть, то другую, как этого требуют меняющиеся запросы времени[2].
При этом тех, кто увлекается философией, «тревожит чрезмерная несвязность и неопределенность [наших] воззрений. Наша интеллектуальная совесть не может быть спокойной, пока мы придерживаемся несоединимых между собою противоположных взглядов».
Итак, у Джеймса обычному дилетанту нужны факты, научные данные и религия. А философия дает ему «эмпирическую философию, которая недостаточно религиозна, и религиозную философию, которая недостаточно эмпирична»[3]. Чтобы ориентироваться в мире, обитатели которого с интересом реагируют на град научных фактов и одновременно чувствуют себя комфортно в религии и романтизме, требуется практическая помощь. Джеймс полагал, что такую помощь мог бы обеспечить прагматический подход. Базовые принципы прагматизма основаны на той идее, что наши действия определяются нашими убеждениями – если у нас формируются какие-то убеждения, то вырабатывается и склонность поступать определенным образом. Чтобы понять значение того или иного убеждения, достаточно знать, какое действие им мотивировано. Если два разных убеждения заставляют вас действовать одинаково, то и ладно:
Прагматистский метод – это прежде всего метод улаживания метафизических споров, которые без него могли бы тянуться без конца. Представляет ли собою мир единое или многое, царит ли в нем свобода или необходимость, является ли он материальным или духовным?.. Если мы не в состоянии найти никакой практической разницы, то оба противоположных мнения означают по существу одно и то же, и всякий дальнейший спор здесь бесполезен. Серьезный спор возникает только в том случае, когда мы можем указать на какую-нибудь практическую разницу, вытекающую из допущения, что права какая-нибудь одна из сторон[4].
Хотя прагматизм основан на том, что действия могут быть спровоцированы ментальным состоянием, это всего лишь метод, который ничего не говорит о каких-либо конкретных результатах. Прагматизм допускает и другие методы, работающие в различных сферах науки. Однако бездоказательная метафизика и нескончаемые интеллектуалистские потоки сознания в расчет не принимаются. Прагматизм подходил психологам, изучавшим связь стимулов с реакциями, последователям теории ассоциаций Юма – основному контингенту новой области экспериментальной психологии, созданной Вильгельмом Вундтом, а позднее развитой в Нью-Йорке его харизматическим учеником, психологом Эдвардом Титченером. Большим авторитетом пользовался и Эдвард Торндайк. В своей монографии 1898 года «Интеллект животных. Экспериментальное исследование ассоциативных процессов у животных» он вывел первое общее правило для природы ассоциаций – закон эффекта. Торндайк заметил, что реакция закрепляется в организме и становится привычной, если за ней следует вознаграждение, и забывается, если вознаграждения не давать. Вероятно, закрепление адаптивной реакции происходит по механизму связи стимула и ответа.
Психология связи стимула и реакции, иначе говоря, бихевиоризм, быстро вышла на первое место в американских исследованиях ассоциативных процессов. С точки зрения бихевиоризма, предметом изучения психологии должен быть не умственный или субъективный опыт, а поведение, изучать которое следует не методом самонаблюдения, а примерно так же, как естественные науки. Бихевиористы считали, что поведение всех животных, включая людей, можно объяснить закономерной реакцией определенного типа на тот или иной стимул, возникший в окружающей среде.
В этой области особенно выделялся Джон Б. Уотсон, человек весьма энергичный. Он был убежден в том, что объективности в психологии можно добиться, только если оценивать доступное для наблюдения поведение; он не желал ничего слышать о процессах, не видимых наблюдателю, поскольку заглянуть в черный ящик мозга невозможно. Уотсон не принимал во внимание дарвиновскую теорию о врожденных психических процессах, а придерживался гипотезы об одинаковом неврологическом оснащении организма у всех людей; разум представляет собой чистую доску, и любого ребенка можно научить чему угодно методом поощрений и определенных реакций на определенные стимулы. Эта теория отвечала американской идее равноправия. Вскоре большинство руководителей кафедр психологии в Америке встали на те же позиции, пустив побоку тезис учения Дарвина о том, что в ходе эволюции и естественного отбора сформировался достаточно сложный человеческий организм. Бихевиоризм воцарился в США еще на полвека, и в течение многих лет на этом направлении лидировал его убежденный пропагандист, профессор психологии из Гарварда Б. Ф. Скиннер.
В научном мире всегда существовали противоположные настроения, даже если и доминировала какая-то одна теория. Появлялись новые способы изучения «психических» процессов, которые прочно вошли в практику экспериментальной психологии, да и в наши дни остаются главными исследовательскими инструментами[5]. Тем не менее до середины века – до когнитивной революции, возглавляемой Джорджем Миллером в Гарварде, и работ по теме ментализма под руководством Роджера У. Сперри в Калифорнийском технологическом институте – вопросы психического состояния и сознания в Америке почти не обсуждались.
По счастью, к победившей партии бихевиористов не примкнули канадские ученые. Собственно, самые потрясающие открытия, касающиеся изнуряющих судорожных припадков, принадлежали первому канадскому нейрохирургу Уайлдеру Пенфилду; помочь таким пациентам можно было, только удалив ту часть коры головного мозга, что инициировала приступы. Чтобы локализовать судорожные очаги, Пенфилд стимулировал разные зоны коры электродами и наблюдал за реакцией пациента. Во время операции под местной анестезией пациенты бодрствовали, поэтому могли сказать, что они чувствовали и чего не чувствовали. Пенфилд составил карты сенсорной и двигательной областей коры, соответствующих частям тела, – иначе говоря, физическую репрезентацию человеческого тела в мозге[5]. Однако изображенное на картинке тело было непропорциональным. Пропорции отражали степень иннервации определенного органа и части тела – чем выше иннервация, тем более обширная область мозга ей отводилась. Когда Пенфилд и его ближайший помощник, физиолог Герберт Джаспер, поняли, где локализуется мозговая деятельность, процесс пошел. «Независимо от удаления той или иной части коры мозга, сознание сохраняется. С другой стороны, если травма, давление, болезнь или очаговый эпилептический разряд нарушат функцию верхнего отдела ствола мозга (промежуточного мозга[6]), сознание неминуемо пострадает», – писал Пенфилд. Вместе с тем он тут же уточнил, что «гипотеза о существовании такого отдела мозга, где концентрируется сознание, могла бы стать приглашением Декарту переместить туда душу из шишковидной железы»[6].
Далее Пенфилд описывает двусторонний обмен информацией между подкоркой и разными зонами коры, притом что сенсорная информация обрабатывается в промежуточном мозге: «Таким образом, различные психические процессы становятся возможны не только в пределах промежуточного мозга, а и благодаря сочетанию функциональной деятельности промежуточного мозга и коры»[7]. Он утверждает также, что завершающий процесс, без которого не может быть сознательного опыта, сводится к концентрации внимания на вызывающем этот опыт психическом состоянии. Пенфилд предполагает, что этот процесс входит в сферу деятельности промежуточного мозга. По его работам видно, что он вкладывает в слово «сознание» двойной смысл. В первую очередь это психический статус бодрствования и осознавания, то есть не коматозное состояние. Во втором значении имеется в виду сознание по Декарту – мышление, или размышления о мышлении, причем Пенфилд добавляет обязательное условие концентрации внимания.
Чтобы изучать влияние мозговых травм на состояние пациентов и результатов хирургических операций на деятельность мозга, Пенфилд пригласил в свою группу психолога Дональда Хебба. Хебб, как и многие другие, кто занимался пациентами с повреждениями головного мозга, в конце концов пришел к заключению, что поведение объясняется работой мозга. Это было понятно Галену много сотен лет назад, да и нам сейчас тоже очевидно, но в 1949 году, когда вышла книга Хебба «Организация поведения: нейропсихологическая теория», идея дуализма души и тела все еще владела многими умами. В те времена, когда психологию крепко сжимали тиски бихевиоризма, Хебб демонстративно проигнорировал «строжайшие» запреты, наложенные на эту сферу как эмпириком Юмом, так и бихевиористами, и, вызвав восхищение психологического сообщества, отважно заглянул в черный ящик мозга. Он исходил из предположения о способности многих нейронов кооперироваться с образованием единого процессорного элемента. Схемы объединения могут меняться и задавать алгоритмы, которые определяют реакцию мозга на раздражители; алгоритмы тоже могут меняться в зависимости от изменения нейронных групп. Из этой концепции родилась мантра «нейроны, возбуждающиеся вместе, связаны». По этой теории, схемы «объединения» нейронов составляют биологическую основу обучения. Хебб отметил, что мозг активен не только под действием раздражителей, а всегда, и внешние сигналы могут лишь влиять на характер его постоянной активности. Гипотеза Хебба представляла интерес для создателей искусственных нейронных сетей и нашла применение в программировании. Кроме того, открыв черный ящик мозга и заглянув внутрь, Хебб произвел первый залп, ознаменовавший начало революционной борьбы с бихевиоризмом.
В 1950-х годах, особенно когда славная когорта молодых исследователей мозга и психики – в том числе Аллен Ньюэлл, Герберт Саймон, Ноам Хомский и Джордж Миллер – заложила основы когнитивной психологии, бихевиоризм в Америке стал сдавать позиции. Например, Миллер поступил так, как и должно поступать ученому, оказавшемуся перед новыми фактами, – он изменил собственное мышление. Миллер писал свою первую книгу, «Язык и общение», изучая проблемы речи и слуха в Гарварде. Уильяму Джеймсу пришлось бы по душе не оставляющее вопросов предисловие, где Миллер не скрывал своего пристрастия: «Моя позиция – бихевиористская». В части, посвященной психологии и тому, как по-разному люди пользуются языком, его вероятностная модель выбора слов основывалась на бихевиористском характере обучения по ассоциациям. Через одиннадцать лет он написал учебник, название которого – «Психология: наука об умственной деятельности» – говорило о полном отказе автора от своей прежней уверенности в единственно правильном бихевиористском подходе к изучению психологии. К такому повороту Миллера подтолкнуло развитие теории информации – внедрение языка программирования IPL, повлекшее за собой несколько первых разработок искусственного интеллекта, и идеи гения информатики Джона фон Неймана о том, что организация нервной системы предполагает способность мозга функционировать наподобие ЭВМ с массовым параллелизмом. В отличие от последовательной обработки данных, когда в каждый момент времени работает только одна программа, при параллельной схеме одновременно может выполняться много программ.
Наверное, для Миллера последний гвоздь в крышку гроба бихевиоризма был вбит, когда он познакомился с блестящим лингвистом Ноамом Хомским. Хомский показал, что последовательное предугадывание речи подчиняется не законам вероятности, а правилам грамматики. И, что удивительно, эти правила оказались врожденными и универсальными – то есть уже от рождения вписанными в мозг и известными каждому человеку. Таким образом, понятие tabula rasa следовало решительно упразднить, хотя нет-нет, да и услышишь еще эти слова.
В первом приближении тезисы своей теории синтаксиса Хомский изложил в книге «Три модели описания языка», вышедшей в сентябре 1956 года. Он взял лингвистику штурмом и одним махом преобразовал всю науку о языке. Из этой работы Миллер усвоил, что механизм усвоения языка не объясняется положениями ассоцианизма – любимой теории бихевиористов и, в частности, яркого их представителя Б. Ф. Скиннера. Хотя бихевиористы и прояснили некоторые аспекты поведения, в этой загадочной сфере происходило нечто такое, что им трактовать никак не удавалось – и не удастся. Пришла пора им попытаться в это вникнуть.
Задавшись целью понять принципы единого функционирования мозга и психики, Миллер стал анализировать психологические следствия концепций Хомского. Впрочем, к одному из аспектов психики Миллер тогда относился настороженно. В книге «Психология: наука об умственной деятельности» он писал, что пока изучение сознания надо отложить до лучших времен: «Само слово сознание затерто миллионами языков. В зависимости от выбранного метафорического смысла под ним подразумевается общее состояние, сущность, процесс, пространство, эпифеномен, эмерджентное (внезапно возникающее) свойство материи и единственно правдивая реальность. Возможно, мы должны лет на десять-двадцать наложить табу на это слово, пока не придумаем более точные термины для многих понятий, которые сейчас завуалированы под сознанием»[8].
Слово «сознание», которым Декарт обозначал мышление или размышления о мыслях, за много лет активного использования приобрело самые разные дополнительные значения. Помимо перечисленных Миллером оно стало смешиваться с осознанием, самосознанием, самопознанием, информированностью и субъективным опытом. Большинство ученых вняли совету Миллера и на время закрыли тему сознания, но одна группа неустрашимых исследователей не сдавалась. Они решили собрать все имеющиеся на тот момент в науке сведения о сознании.
В то время как Миллер постарался вычеркнуть из лексикона слово «сознание», Pontificia Academia Scientiarum (Папская академия наук) внесла его в центральную повестку научной недели 1964 года. Корни этого учреждения уходят к Академии деи Линчеи («Академии рысьеглазых»), основанной в 1603 году восемнадцатилетним римским аристократом и натуралистом Федерико Чези, племянником весьма влиятельного кардинала. Чези основал Академию, чтобы изучать естественные науки методами наблюдения, эксперимента и индуктивных рассуждений. Эмблемой академии он выбрал зоркую рысь, что символизировало такой подход к науке. В 1610 году главой Академии был избран Галилей.
Тогда был не самый подходящий момент для такого проекта, и после кончины Чези в возрасте всего лишь сорока пяти лет это учреждение прекратило свое существование. Возродил его – под названием Academia Pontificia dei Nuovi Lincei (Академия деи Нуово Линчеи) – папа Пий IX в 1847 году. Затем, после объединения Италии и отделения в 1870 году Ватикана, новая «Академия рысьеглазых» разделилась на два института – Национальную академию деи Линчеи и другое заведение, которое в 1936 году при папе Пие XI модифицировалось в Папскую академию наук с президиумом в Ватикане. Несмотря на роль папы в создании последней и ее местонахождение в Ватиканских садах, научная работа в Папской академии ведется без каких-либо ограничений. Она собрала ученых разных специальностей из многих стран, а своей главной задачей видит «содействие прогрессу математики, физики и естественных наук, а также исследованию связанных с ними эпистемологических вопросов и проблем». В сентябре 1964 года Папская академия провела недельную научную школу по теме «Мозг и сознательный опыт» под председательством известного врача и физиолога сэра Джона Экклса.
Экклс родился в Австралии. В Медицинском университете он проявлял горячий интерес не только к учебе, но и к прыжкам с шестом. Штудируя «Происхождение видов» по программе зоологии, он увлекся классическими и современными философскими книгами о взаимосвязи психики и мозга[9]. Но медицина не давала ответов на вопросы об их взаимодействии, поэтому он взял курс на нейробиологию[10]. Также он решил добиться стипендии Родса и поступить в Оксфорд, чтобы поработать с известным нейрофизиологом Чарльзом Шеррингтоном. Сказано – сделано. В 1925 году он отправился в путь через полмира, в Англию.
Экклс стал изучать способ передачи нервного сигнала в синапсе. Поначалу он был уверен, что этот процесс имеет электрическую природу. В то время он познакомился с философом Карлом Поппером, считавшим, что о справедливости гипотезы говорят не доказательства, вроде бы ее подтверждающие, а неудавшиеся попытки ее опровергнуть при детальном разборе, и решил тщательно все проверить. Всесторонне проанализировав свою гипотезу, Экклс поменял свое первоначальное мнение, поскольку пришел к выводу, что синаптическая передача – это химический процесс. Сэр Генри Дейл, его старинный друг, написал в связи со столь резким поворотом мысли: «Поразительная перемена взглядов! Как тут не вспомнить Савла, идущего в Дамаск: осиял его свет, и чешуя спала с его глаз»[11]. В течение следующего десятилетия Экклс исследовал механизмы возбуждения и торможения синапсов двигательных нейронов в спинном мозге, после чего переключился на таламус, гиппокамп и мозжечок. За год до папской конференции Экклсу присудили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины. А несколькими годами ранее он за ту же работу удостоился рыцарского звания. Экклс стал тогда живой легендой, и те из нас, кому довелось знать его, видели в нем великого ученого, человека блестящего ума и неиссякаемой энергии. Плюс ко всему он был воспитан в католической вере и твердо стоял на позиции дуализма. Прагматист Уильям Джеймс нимало не удивился бы, узнав, что руководством к действию Экклсу служила вера и что он посвятил жизнь изучению механизмов, с помощью которых разум управляет телом.
В 1951 году в эссе под названием «Гипотезы, связанные с психофизиологической проблемой», опубликованном в Nature, Экклс утверждал, что «многие ученые рассматривают дуализм и взаимодействие как наиболее приемлемые исходные положения научного подхода к проблеме соотношения мозга и психики. Такая трактовка влечет за собой вопрос: какие можно было бы выдвинуть научные гипотезы, имеющие какое-либо отношение к не поддающейся до сих пор решению проблеме взаимосвязи мозга и психической деятельности?»[12] И далее предлагает собственную гипотезу. Хотя Экклс и считал, что любой перцептивный опыт является результатом особого паттерна активации нейронов, а память зависит от повышения эффективности синапсов, он почему-то думал, что опыт и память «не укладываются в систему материя-энергия». Ученый предположил, что активированная кора мозга «обладает чувствительностью иного рода, не свойственной ни одному физическому инструменту» и что «взаимодействие разума и мозга становится возможным благодаря возникновению пространственно-временных полей влияния, действенность которых обусловлена этой уникальной… функцией активной коры». Ничего себе! Звучит, как камлание шамана на профессиональном сленге ученых! Декартовскую шишковидную железу он заменил активированной корой мозга с какой-то загадочной чувствительностью. Вот так, спустя целых двести лет, Экклс продолжил дело Декарта и поддержал его учение о дуализме – вопреки тому, что шестьдесят часов в неделю изучал и регистрировал функции нейронов, да и во всем прочем полностью принимал детерминизм. Уму непостижимо.
В председательские обязанности Экклса входил отбор участников и публикация материалов, что в итоге вылилось в написание выдающейся книги «Мозг и сознательный опыт». Пожалуй, Экклс лишь в одном проявил необъективность – на конференции оказалось слишком много физиологов; впрочем, как правило, они совмещали специализации. Ему удалось привлечь самых лучших представителей каждой области науки, включая нейрофизиологию, нейроанатомию, психологию, фармакологию, клиническую диагностику и патологическую анатомию, биопсихологию, нейрохирургию, химию, передачу информации, кибернетику, биофизику и этологию. Поставив своей целью изучение физики, математики и естественных наук, Академия наложила единственное ограничение – не приглашать философов. Экклсу это не нравилось, хотя среди приглашенных участников и были, как выразился один обозреватель, «весьма незаурядные философы-дилетанты». Этот комментатор отметил также, что «наверное, нет другого такого однотомника [имелся в виду «Мозг и сознательный опыт»], посвященного последним достижениям в исследованиях коры мозга»[13].
До начала конференции Академия устроила короткую встречу для участников, где была описана концепция сознания – «психофизиологическая способность к восприятию, осознанию этого восприятия и к соответствующим действиям и реакциям». Как сказал мне мой учитель и будущий нобелевский лауреат Роджер Сперри по возвращении в Калифорнийский технологический институт, «папа заявил: «Мозг ваш, а душа наша»». Дискуссия о сознании шла примерно по трем направлениям – восприятие, действие и волеизъявление.
Вот как растолковал это присутствовавший на конференции зоолог Уильям Торп:
На мой взгляд, при всех бесчисленных смысловых обертонах термин «сознание» включает в себя три основных компонента. Первый – внутреннее осознание чувственного восприятия, можно сказать, способность к духовному восприятию. Второй – самосознание, осознание собственной сущности. Третий заключается в том, что идея сознания предполагает идею единства, то есть имеется плохо поддающийся описанию сплав всей совокупности впечатлений, мыслей и ощущений, который превращает сознание человека в нечто цельное[14].
В ходе дискуссии о связанных с сознательным опытом мозговых явлениях Экклс задал вопрос: «Каким образом нейронная активность в коре мозга с каким-либо специфическим пространственно-временным паттерном провоцирует определенное чувственное переживание?»[15] Ответа на этот вопрос нет до сих пор.
Листая те отчеты, я не мог не рассмеяться над реакцией слушателей на сообщение Роджера Сперри о наших исследованиях расщепленного мозга, тогда еще только начинавшихся. Сперри написал в кратком обзоре: «Все факты, которые мы до сих пор наблюдали, указывают на то, что после операции у этих людей образовалось два отдельных разума, то есть две отдельные области сознания»[16]. Судя по тому, как оживилась дискуссия, наши открытия произвели фурор, это был настоящий шок для аудитории. Сперри пытался объяснить Ватикану и своим коллегам, что психику можно разрезать пополам хирургическим скальпелем.
В тот период Сперри и сам находился на перепутье: менялись – отчасти из-за работ по расщеплению мозга – его базовые представления о функционировании мозга. Он отрекся от материализма и редукционизма в их тогдашнем виде и стал называть себя менталистом. Ранее в том же году, готовясь к просветительской лекции об эволюции мозга, он и сам поразился, когда написал в заключение, что «по логике вещей, развитие умственных способностей должно обуславливать и контролировать сверху электрофизиологические мозговые процессы»[17]. В те годы предположение о возможности влияния психического состояния на состояние мозга выглядело безусловной нейробиологической ересью – да и сейчас в немалой степени выглядит именно так. Я пришел к тем же выводам, что и Сперри, и в 2009 году, в Эдинбурге, повторил в Гиффордской лекции мысль о причинном воздействии психических процессов на процессы более низкого уровня – и вновь не встретил горячего отклика у детерминистов всех мастей. Как бихевиоризм, так и материализм стоят на том, что реальный физический мозговой процесс являет собой полноценную сеть стимулов и реакций, где все можно объяснить физическими причинами и куда не поступают внешние сигналы от сознания и психических факторов, да в них и нет нужды. Книгу, которая сейчас перед вами, можно считать очередной попыткой разобраться в этом вопросе.
На ватиканской конференции Сперри несколько смягчил свою менталистскую позицию, сказав под конец, что «возможно, сознание имеет немалую оперативную ценность, это не просто некий рефлекс, побочный продукт, эпифеномен или метафизическая параллель реального объективного процесса»[18]. В другой раз он выразился чуть иначе: «Вероятно, сознание может быть использовано для управления и причинного обоснования физических процессов»[19].
Как материалист Экклс признался: «Могу подтвердить, что нам, нейрофизиологам, нет нужды думать о сознании, когда мы пытаемся объяснить работу нервной системы»[20]. Также он добавил: «Эта история, безусловно, не вызывает у меня доверия, но и логичных возражений я также не нахожу»[21]. Он остался на дуалистской позиции.
Когда неделя подошла к концу, психолога из Массачусетского технологического института, одного из отцов-основателей нейропсихологии, Ганса-Лукаса Тойбера попросили подвести итоги. Он славился своими великолепными финальными выступлениями на конференциях и научных совещаниях, сопровождавшимися к тому же виртуозной игрой бровей[22]. Тойбер четко, как умел только он, представил картину общих и отличающихся точек зрения, отметил белые пятна в знаниях и представил краткий и емкий отчет о состоянии дел в этой области науки. Все остальные согласились в том, что многое поняли о переработке чувственной и зрительной информации в коре мозга и что если бы удалось в такой же мере понять механизмы двигательной деятельности, запоминания и осознания (чего пока сделать не удалось), это означало бы большой шаг вперед в изучении процесса сознания. «Когда мы пытались обрисовать вероятные системы и механизмы, без которых не было бы сознания, мнения высказывались самые разные и противоречивые. Не было даже уверенности… касательно понимания, зачем нужно сознание»[23], – посетовал Тойбер.
Тойбер был сильной, незаурядной личностью, и на первых порах я многому у него научился. Помню его визит в Санта-Барбару в конце шестидесятых годов. Мы с женой устроили для него прием у нас дома, в Мишен-Каньоне, и он вдруг подмигнул мне и сказал, что хотел бы переговорить со мной наедине. Мы удалились в спальню, и там он вынул из своего дипломата рукопись, которую я отправил в журнал Neuropsychologia, и принялся черкать в ней красным карандашом. Я опешил, но был благодарен ему за внимательность. Когда мы все обсудили, он вскочил и воскликнул: «Ну, пошли обратно в гостиную!» Должно быть, я отвечал ему достаточно внятно, потому что потом он пригласил меня на Международный симпозиум по нейропсихологии – и целых двадцать лет я имел удовольствие участвовать в этих замечательных мероприятиях, которые проводятся ежегодно в разных городах мира.
Разумеется, ватиканская конференция не решила проблемы соотношения психики и тела. Однако высказанные на ней разнообразные точки зрения запустили ряд дискуссий и споров в биологии и философии, продолжающихся по сей день. На обсуждение были выдвинуты все те же вопросы, причем Экклс остался верен декартовской теории о двух субстанциях – о раздельном существовании двух разных систем, души и тела, – хотя практических доказательств этому так и не нашел. Большинство членов собрания склонялось к материалистической точке зрения о том, что психика (сознание) создается материей – только вот как именно, так и осталось загадкой.
Для Сперри ватиканская конференция стала поворотным событием. Идея о возможном причинном воздействии психических состояний на мозг завладела его умом – со всеми вытекающими последствиями. Психиатр Ганс Шефер из Гейдельбергского университета, опираясь на свою уверенность в практической ценности психоанализа, тоже поддержал эту гипотезу. Эволюционные теории привели к разделению материалистических теорий сознания на две ветки – эмерджентность и панпсихизм. Согласно первой, сознание появляется из бессознательной материи, когда ее организация достигает определенного уровня сложности. Сперри решительно отдавал предпочтение этой концепции. Вторая – панпсихизм – снимает все вопросы, поскольку предполагается, что субъективным сознанием, пусть в очень широком спектре вариантов, обладают все материальные объекты. Суть же в том, что для объяснения сознания не нужны понятия эмерджентности и сложности. Сознание – неотъемлемое свойство всего сущего, от камней и муравьев до нас с вами.
Вернувшись с конференции, Сперри продолжил шлифовать свои идеи. На следующий год, читая лекцию в Чикагском университете, своей альма-матер, он открыто заявил о склонности к ментализму. «Я намерен присоединиться к оппозиции и вместе с менталистским меньшинством, составляющим около 0,1 процента, поддержать гипотетическую модель мозга, в которой сознанию и психическим факторам отводится особая функциональная роль как важным звеньям в цепи контроля»[24]. Он пояснил свою логику: «Во-первых, мы считаем, что сознание и психические явления – это динамические, эмерджентные, схемообразующие (конфигуративные) свойства функционирующего живого мозга, и такую точку зрения принимают многие, в том числе некоторые более материалистично настроенные исследователи мозга. Во-вторых, мы делаем еще один значимый шаг вперед в дискуссии и настаиваем, что эти эмерджентные конфигуративные свойства оказывают каузально-контролирующее действие в мозге – как и всюду во вселенной. И вот тут мы можем раскрыть старую как мир тайну сознания». Сперри описал процесс сознания как не поддающееся редукции (разбиению на составляющие), динамичное (реагирующее на нейронную активность) и эмерджентное (выходящее за рамки простой суммы породивших его процессов) свойство мозга, а также сказал, что этот процесс невозможен вне мозга. Отрицая дуализм во всех видах, он подчеркнул: «Этот термин [психические факторы] согласуется с явлениями субъективного опыта, но не подразумевает здесь никаких бесплотных сверхъестественных сил, действующих независимо от мозгового механизма. Психические факторы, как они здесь понимаются, обязательно связаны со структурой мозга и его функциональной организацией»[25]. Нет в системе никаких духов-невидимок.
К началу 1970-х эта концепция получила признание ограниченного круга специалистов и способствовала усилению антибихевиористских настроений. В повестку дня вернулись умственные образы, мысли и представления, а также внутренние ощущения. Им даже отводили каузальную роль в трактовках. Началась – и пока еще не завершилась – «когнитивная революция».
Тем временем философы вели ожесточенный спор из-за теорий, включавших материалистическую точку зрения на мозг. В 1975 году Экклс вышел на пенсию, оставил лабораторию и скооперировался с выдающимся философом Карлом Поппером. Как и Декарт, они оба полагали, что при условии эффективности психической деятельности – то есть если мысль способна оказывать воздействие на состояние мозга – мозг должен быть восприимчив к нефизическим влияниям[26]. Экклс пробовал выдвинуть проверяемые гипотезы, но не преуспел в этом и в конце концов остановился на модели взаимодействия мозга и разума без экспериментальных доказательств и проверяемых гипотез. Хотя в таком виде дуализм не привлек большой армии сторонников, в очередной раз родилась новая его разновидность, причем на сей раз ее принесли на своих крыльях летучие мыши.
В 1974 году известный философ из Нью-Йоркского университета Томас Нагель опубликовал сенсационную работу «Каково быть летучей мышью?» и тем самым спровоцировал массу дискуссий на тему «Как объяснить восприятие красноты?» Утверждая, что субъективность – неотъемлемое свойство сознания (то же самое утверждал и Франц Брентано), Нагель заявляет, что «организм находится в сознательном психическом состоянии только тогда, когда реализуется нечто похожее на «быть» этим организмом – нечто похожее для этого организма». Здесь «похожее» не значит «напоминающее», как в вопросе «на что похоже катание на коньках – похоже ли это на катание на роликах?» В данном случае речь идет о субъективном качественном ощущении опыта, то есть – на что похожи ощущения субъекта: «Что вы чувствуете, когда катаетесь на коньках?» Скажем, прилив бодрости и веселья. Нагель называл это «субъективным характером опыта». Этому дали и другие определения – «феноменальное сознание» (формирующееся на основании чувств и опыта), а также, хотя Нагель тут ни при чем, квалиа.
По Нагелю, что-то ощущается так же, как ощущает это субъект опыта, который имеет этот опыт, и что-то ощущается так же, как это ощущает живое существо, которое является именно этим существом, а не кем-то другим; только данный субъект способен переживать субъективное психическое состояние. Это было похоже (в значении «напоминало») на то, как если бы перед оголодавшим футболистом поставили тарелку пасты карбонара, – философы, по выражению философа Питера Хакера, жаждущие избавления от «упрощающего физикализма и бездушного функционализма»[27], жадно набросились на новую идею. Для некоторых это стало спасительной соломинкой – наука объективна, а сознание субъективно, и никогда им не сойтись, а если и сойдутся, то столкнутся с какими-нибудь новыми, пока еще не открытыми, физическими или фундаментальными законами (такова нынешняя позиция Нагеля)[28].
Однако философ Дэниел Деннет во всеуслышание заявил о несогласии с вопросом Нагеля. По его мнению, Нагеля не интересует, каково ему самому было бы перевоплотиться в летучую мышь. Он хочет получить объективное знание о субъективных ощущениях: «Ему было бы мало примерить снабженный электродами «шлем бэттера», который вызвал бы в его мозгу реакции, подобные реакциям летучей мыши, и таким образом «войти в ее положение». В общем, Нагель представил бы себе, что значит для него быть летучей мышью, вот и все. Тогда что его удовлетворило бы? Ему кажется, что ничего, это его и беспокоит. Он опасается, что само понятие «иметь опыт» выходит за рамки объективного»[29].
Выходит за рамки науки. Именно здесь многие видят непреодолимую пропасть между субъективным и объективным. Это дуализм нового типа.
Деннет решает проблему путем ее отрицания. Познать сознание трудно в частности оттого, сокрушается он, что все мы числим себя экспертами в этой области и у каждого есть твердое мнение на сей счет просто потому, что мы все обладаем сознанием. Вот в области исследований зрения ничего такого почему-то не происходит. Мы не считаем себя офтальмологами, хотя большинство из нас зрячие. Деннет утверждает, что сознание формируется в результате целого набора разных умений, что наш субъективный опыт – это очень правдоподобная иллюзия и мы каждый раз обманываемся, даже если нам объясняют, что происходит на самом деле, точно так же, как мы верим оптическому обману, хотя и знаем секрет фокуса.
Философ Оуэн Фланаган тоже не видит непреодолимой пропасти. «Почему вы по-своему воспринимаете некоторые мозговые явления, объяснить легко: только вы подключены к вашей нервной системе надлежащим образом, что позволяет вам испытывать ваш собственный опыт»[30]. Звучит разумно. Так в чем же проблема? Большинство современных философов готово признать физические основы любых психических явлений и практического опыта, однако многие возражают против того, что суть психических явлений и субъективного опыта целиком и полностью описывается на нейронном уровне. По мнению Фланагана, в том, что сознательные психические состояния имеют феноменологическую сторону, нет ничего загадочного. Это часть системы кодирования.
Итак, мы входим в современную эпоху с оставшимися нерешенными вопросами. Притом что в нейробиологии уже установили механизмы рефлексов, взаимодействия нейронов и наследования характерных признаков и прочих свойств, никто и понятия не имел, как мозг формирует так называемый феноменальный сознательный опыт. В науке о мозге и психике не произошло эйнштейновского прорыва, и хотя ничто не мешало когнитивным психологам исследовать содержимое черного ящика сознания, молодым ученым настоятельно не рекомендовалось туда влезать.
Через двадцать лет после того, как Джордж Миллер решил на время прекратить работу с сознанием, не кто иной, как Фрэнсис Крик, человек неустрашимый и творческий, обладатель редкого ума, движимый желанием все знать, взялся за дело и вытащил эту тему из архивов. Да-да, тот самый Фрэнсис Крик. С ранних лет его интересовали две нераскрытые тайны – происхождение жизни и сознание. Тридцать лет он бился над первой из них, а потом ощутил настоятельную потребность заняться второй. И вот в 1976 году, в совсем еще юном возрасте шестидесяти лет, когда другие начинают подумывать о заслуженном отдыхе, он уложил чемоданы и уехал из Кембриджа в Сан-Диего, в Институт биологических исследований Солка, чтобы начать новую научную жизнь, на этот раз в нейробиологии.
Вскоре после того, как Крик перебрался в Институт Солка, мне довелось посетить его, и я оказался в его потрясающем кабинете с видом на море. Крик тогда только начинал вникать в нейробиологию, и вместе с ним трудились другие талантливые ученые. Не зная, как бы включиться в разговор, я спросил: «Что можно сказать о временных параметрах, которые диктуются молекулярными процессами, и как они соотносятся с различными временными параметрами, действующими при функционировании нейронов? На каждом уровне происходят свои процессы, как они соотносятся?» Кажется, вопрос ему понравился, и через несколько месяцев я, приободренный той встречей, пригласил его принять участие в небольшом съезде на Муреа, темой которого были проблемы памяти и организацией которого я занимался. Он согласился, не раздумывая. Крика всегда раздражали разговоры о заведенных порядках в любой области, он прямо-таки терпеть этого не мог. Он любил хороший эксперимент, но непременно хотел докопаться до смысла того или иного наблюдения в более широком контексте. Он вечно переворачивал все с ног на голову. Видимо, только такой человек и мог вытолкнуть науку о сознании за границы устоявшихся классических воззрений.
Крик принялся изучать нейроанатомию и штудировать литературу по нейрофизиологии и психофизике нервной системы. В 1979-м, года через два после того, как он занялся этой областью знаний, его попросили написать статью для журнала Scientific American о последних достижениях в исследованиях мозга. Перед ним стояла задача «показать в общих чертах, в сколь немалой степени эта тема касается тех, кто вроде бы остается в стороне от нее». Крик написал о своем неприятии бихевиористского и функционалистского подхода к мозгу как к черному ящику. Вообще говоря, объектом исследований были именно процессы, происходившие в этом черном ящике. «Идея черного ящика плоха тем, что довольно быстро достигается тот уровень, когда несколько противоположных теорий одинаково хорошо объясняют наблюдаемые эффекты, если только ящик не устроен совсем примитивно»[31]. Но никто и не думал, что черный ящик устроен примитивно.
Также Крик отметил чересчур узкую специализацию исследователей мозга. Им следовало бы избавиться от научной «провинциальности» и перейти к более открытому обсуждению в междисциплинарных областях. Психологам надо было разобраться в строении и функциях мозга, а анатомам – в психологии и физиологии. Свой обзор он, разумеется, основывал на информации о десятках, а то и о сотнях когнитивистов[32] и перспективных молодых нейробиологов-когнитивистов, включая вашего покорного слугу[33], уже начинавших разрабатывать проблему сознания. Но признать, что главной задачей в этой сфере является изучение физических основ сознания, заставил ученых именно Крик с его особым, отличным от всех остальных статусом.
Толика нейропсихологии с добавкой физики и химии никому не помешала бы, а Крик рассчитывал получить теоретический инструмент – им могла бы стать новая область теории коммуникации, так что будьте добры изучить и это тоже. Невозможно составить общую теорию без рассмотрения всех аспектов и всех уровней работы мозга и поведения человека. Если ты хорошо разбирался лишь в определенном вопросе, тебе не стоило рассчитывать на всеобъемлющую концепцию.
Одно из условий Крика оказалось выполнить труднее всего. Он предлагал нам изменить отношение людей к точности их собственной интроспекции, ибо «наша интроспекция обманывает нас на каждом шагу»[34]. В качестве примера такого самообмана он, в частности, приводил слепое пятно в наших глазах. Кроме того, он отчитал современных философов (за исключением Деннета, надо полагать) за игнорирование этого явления:
Никто не понимает, что слепое пятно существует, хотя это легко доказать. Весьма примечательно, что мы не видим этого упущения в нашем зрении. Причина в том, что у нас нет возможности определить границы дыры, а также в том, что наш мозг заполняет ее зрительной информацией, заимствованной в прилегающих зонах. Предела нашей готовности обманываться относительно функционирования нашего мозга практически нет, главным образом оттого, что мы способны зафиксировать лишь мизерную долю происходящего у нас в голове. Именно поэтому более 2000 лет философия не давала желаемых результатов – и не даст, вероятно, пока философы не научатся понимать язык обработки информации.
Однако это не означает, что мы должны полностью отказаться от интроспекции в изучении психических процессов, как это пытались сделать бихевиористы. Для этого надо было бы отбросить одно из неотъемлемых свойств того, что мы хотим изучать. Но факт остается фактом: данные интроспекции нельзя воспринимать буквально. Их следует трактовать в терминах, отличных от тех, что в ней принимаются[35].
Вывод Крик сделал следующий:
По-видимому, высшая нервная система представляет собой чрезвычайно искусно смонтированную комбинацию точных нейронных связей и ассоциативных сетей… Нейронная сеть делится на множество мелких подразделений с последовательным и параллельным соединением. Более того, дробление на подсети отражает как структуру внешнего и внутреннего миров, так и наше отношение к ним[36].
В душе Крик был теоретиком и при этом обладал даром «выкапывать» из самых разных дисциплин идеи и результаты экспериментов и использовать их так, что рождались новые теории и идеи новых экспериментов. Он ясно сформулировал серьезные задачи, связанные с пониманием сознательного опыта. Он обладал тем бесценным качеством, о котором говорил Уильям Джеймс: «Секрет мудрости кроется в умении видеть, на что не стоит обращать внимание». А Крик был мудр.
Вскоре Крик объединился с Кристофом Кохом, ярким, умным и фантастически деятельным нейробиологом и специалистом по информационным технологиям из Калифорнийского технологического института. К проблеме сознания они решили подойти со стороны зрительной системы млекопитающих – к тому времени исследования по этой теме уже дали массу экспериментальных данных. Крик с Кохом задались целью найти нейронные корреляты сознания (NCC – neural correlates of consciousness), то есть минимальный набор нейронных событий и механизмов, которые в совокупности обеспечивают специфическое сознательное восприятие[37]. «Между любым психическим событием и его нейронным коррелятом должна быть четко выраженная связь. Иначе говоря, любому изменению субъективного состояния должно соответствовать изменение состояния нейронной системы. Следует отметить, что обратное вовсе не обязательно, два разных состояния нейронов в мозге могут не давать отличий в субъективном переживании»[38], – объясняет Кох. Звучит в высшей степени логично и просто – исследованиям сознания очень не хватает таких характеристик.
Свой квест Крик и Кох начали с двух предположений о сознании. Первое – что в каждый момент времени какие-то активные нейронные процессы коррелируют с сознанием, хотя другие с ним не связаны. Вопрос: чем они отличаются? Второе, «предварительное», как они выразились, заключалось в том, что «во всех проявлениях сознания, таких как запах, боль, зрение, самосознание… и прочие, задействуется один общий механизм, а может, и более одного»[39]. Разобравшись в одном аспекте, Крик с Кохом получили бы подсказки и для всех остальных. Чтобы не тратить время на споры, они решили отложить обсуждение на потом. Они обошли тупиковый вопрос соотношения сознание/тело и решили не давать пока четкого определения сознанию ради научного подхода к исследованию, поскольку оба имели свое примерное представление о том, что такое сознание, и это помогло им избежать риска преждевременных выводов на этот счет.
Уклонившись от точного определения, Крик и Кох решили быть последовательными и не уточнять функции и целевое назначение сознания. Также они условились, что сознанием в том или ином виде обладают некоторые высшие виды млекопитающих, – но не все. Так, можно иметь основные признаки сознания и не владеть речью. Сознанием низших животных они на тот момент заниматься не планировали, хотя в той или иной степени допускали существование такового. Ученые договорились не рассматривать и самосознание как самореферентный тип сознания. За пределами их внимания остались также гипнотические состояния и сновидения наряду с волеизъявлением и интенциональностью. И наконец, они проигнорировали квалиа – субъективное ощущение, восприятие «красноты», – решив, что если известно, как воспринимает красный цвет один человек, то, наверное, можно с достаточной долей уверенности полагать, что и все мы воспринимаем его так же.
Ни Крик, ни Кох не считали, что NCC раскроют все тайны сознания. При эмпирическом исследовании сознания идентификация нейронных коррелятов сознательных процессов в сравнении с бессознательными сузила бы требования к моделям, достоверным с точки зрения нейробиологии. NCC могли бы сыграть такую же важную роль в развитии теории сознания, как ДНК в изучении механизма генетического наследования. Открытие строения молекулы ДНК и построение ее 3D-модели позволило понять, как отделяется и реплицируется молекула в полном соответствии с законами Менделя. Первые точно выявленные NCC станут первой ступенью в построении теории сознания, однако сами по себе они не объяснят связь нейронной активности с сознанием. Для этого нужны модели – и первые из них не заставили себя ждать.
Крик открыл шлюзы – исследования сознания вновь получили одобрение. За два предыдущие десятилетия были заложены основы и наработаны эмпирические данные о механизмах мозговых процессов. Экспериментаторы бросились в бой, используя постоянно увеличивающийся арсенал новых методов, спектр которых в настоящее время очень широк: от возможности как записи, так и контроля возбуждения отдельных нейронов (мечта Крика осуществилась благодаря оптогенетике) до визуализации активности мозга разными способами и обработки данных с помощью компьютеров. Ученых, внявших предостережению Крика о том, что «данные интроспекции нельзя воспринимать буквально, их следует трактовать в терминах, отличных от тех, что в ней принимаются», изумило бесконечное разнообразие бессознательных мозговых процессов. Нейробиологические модели, включавшие в себя вычислительные, информационные и нейродинамические элементы и предлагавшие объяснение связей между нейронной активностью и сознанием, возникали, подобно выдумкам озорных неугомонных детей. Модели различаются в соответствии с заданным уровнем универсальности (примерно об этом мы поговорим в 5 главе), и хотя некоторые из них кое в чем схожи, ни одна не дает исчерпывающего объяснения всем аспектам сознания и ни одна пока не получила всеобщего признания.
В следующих главах я намерен изложить новую концепцию и наметить план размышлений о проблеме сознания. Я робею и волнуюсь, мне, мягко говоря, страшновато лезть со своими идеями в историю, созданную величайшими мыслителями и учеными. Но мы сейчас располагаем огромным и быстро увеличивающимся объемом новой информации, и при некотором везении это позволит нам взглянуть на волшебную работу мозга под новым углом. Гипотезы Декарта и других философов прошлого о как бы парящей над мозгом душе, а также теории новых механицистов о сознании как цельном объекте, продукте единого механизма или сети, попросту ошибочны. Я намерен твердо стоять на том, что сознание – это не объект. Мы произносим слово «сознание», когда хотим описать субъективное ощущение множества инстинктивных и/или связанных с памятью явлений, происходящих в организме на протяжении жизни. По этой причине слово «сознание» говорит о сложности организации живого существа. А чтобы понять, как функционирует сложный организм, надо знать, как устроены и как работают разные отделы мозга, обеспечивая сознательный опыт в том виде, в каком мы его воспринимаем. Об этом и пойдет дальнейший разговор.
Часть II
Физическая система
Глава 4
Модуль за модулем, развитие мозга
Черная королева: «Здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте! Если же хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее!»
Льюис Кэрролл.«Алиса в зазеркалье»
Наш мозг кажется таким же непрочным, как Музей Гуггенхайма в испанском Бильбао, этом творении Фрэнка Гери, однако, как справедливо указывает сам архитектор, в здании музея протечек не бывает. Сооружение вполне надежно! Гери, гениальный архитектор, расширил наши представления о физических структурах, способных выполнять полезные функции. Наш мозг – тоже физическая структура, выполняющая полезные функции. В хаотичности этой с виду неустойчивой конструкции есть свои закономерности, понятные нам лишь отчасти, а большей частью – непонятные. Несмотря на много веков исследований, никто до конца так и не догадался, каким образом из этого запутанного клубка биологического материала у нас в голове рождается наш повседневный опыт. Ежесекундно в нашем мозгу совершаются мириады электрических, химических и гормональных превращений, а нам это кажется плавным и гармоничным процессом. Возможно ли это? И впрямь: как должен быть устроен мозг, чтобы он мог формировать целостное сознание?
Все на свете имеет свою базовую структуру, а физики распространяют это правило на квантовый уровень (мы еще поговорим об этом в 7 главе). Мы любим разбирать всякие вещи, чтобы посмотреть, почему они работают. Тело и мозг, как и все прочее, состоят из отдельных частей. В этом смысле можно сказать, что мы состоим из модулей, то есть из компонентов, при взаимодействии которых рождается тот самый цельный функционирующий объект нашего внимания. Мы должны разобраться в его частях, причем не только в их комбинациях, но и во взаимодействиях.
То, что наши психические состояния и поведение есть результат некоей совместной деятельности разных частей мозга, сомнений не вызывает. Мысль о мозге, функционирующем как единая структура, которая производит сознательный опыт, на первый взгляд кажется разумной. Даже нобелевский лауреат Чарльз Шеррингтон в начале 1900-х писал о мозге как о «заколдованном ткацком станке»[1], имея в виду слаженную работу нервной системы по созданию загадочного разума. Однако неврологи, его современники, могли бы пригласить его к себе в больничные отделения, на обход. В их клиниках было полно пациентов, чей поврежденный мозг поведал бы ему совсем другую историю.
Парадокс в том, что существует масса доводов против функционирования мозга как единого целого, хотя все мы кажемся себе неделимыми сущностями – и тем самым на интуитивном уровне подтверждаем модель станка Шеррингтона. Наше неделимое сознание создается как раз тысячами относительно независимых единиц – проще говоря, модулей. Модули представляют собой обособленные и зачастую локализуемые нейронные сети, выполняющие специфические задачи.
Нейробиолог, физик и философ Дональд Маккей однажды заметил, что принцип работы чего-либо гораздо проще понять, когда в этой работе происходит сбой. Как физик он знал, что нередко инженеры быстрее разбирались в принципах работы каких-то устройств, например телевизора, когда картинка нарушалась, а не когда она была четкой и неискаженной[2]. Точно так же изучение поврежденного мозга помогает лучше понять, как работает мозг здоровый.
Самые убедительные доказательства модульной структуры мозга дает обследование пациентов с поражением мозга. Если пострадают некоторые ограниченные области мозга, то отдельные когнитивные способности могут ухудшиться из-за прекращения работы ответственной за них нейронной сети, в то время как другие сохранятся и будут по-прежнему работать и безупречно выполнять свои задачи. Любопытно, что сознание пациентов с изменениями в мозге при многих отклонениях кажется абсолютно нормальным. Этого не было бы, если бы сознаваемый опыт зависел от идеального функционирования всего мозга в целом. Поскольку моя концепция держится на данном факте (что модули присутствуют везде), мы должны понять, в какой степени для мозга характерно модульное строение.
Возьмем любую, какую хотите, долю мозга у человека после инсульта. Например, при повреждении правой части теменной доли обычно возникает так называемый синдром неглекта (одностороннего пространственного игнорирования). В зависимости от местоположения и величины пораженного участка пациенты с синдромом неглекта ведут себя так, будто левой половины воспринимаемого ими мира, иногда включая левую часть их собственного тела, не существует частично или полностью! Они могут оставить еду на левой половине тарелки, не побриться или не накраситься с левой стороны, нарисовать часы без левой части циферблата, не прочесть левую страницу книжного разворота и не заметить ни людей, ни предметы в левой части комнаты. Иногда они не признают собственные левые руки и ноги, пытаясь встать с кровати без их помощи, хотя их конечности вовсе не парализованы. Некоторые игнорируют левую часть пространства даже в воспоминаниях и воображении[3]. Судя по тому, что дефицит способностей зависит от размера и локализации пострадавшего участка, повреждение в специфических нейронных цепях приводит к ухудшению работы различных звеньев процесса. В пользу этой гипотезы убедительно говорит картирование функциональной нейроанатомии при подобных поражениях мозга[4].
Здесь мы сталкиваемся с неожиданным фактом: если сенсорная или двигательная система действительно выходит из строя, то проявляется синдром неглекта, а когда все сенсорные и моторные системы работают в нормальном режиме – то возможна его разновидность, синдром вытормаживания. В этом случае каждое полушарие само по себе работает вроде бы нормально, но если им приходится функционировать одновременно, начинаются ошибки. При этом на подсознательном уровне информация в игнорируемом поле может быть использована![5] Стало быть, информация есть, просто пациент не отдает себе в этом отчета. Вот как это происходит. Пациенты с левосторонним пространственным неглектом, которым одновременно подают зрительные сигналы в правое и левое зрительные поля, говорят, что видят только зрительный стимул справа. Но если им показывают стимул только в левом зрительном поле и этот стимул воздействует на те же зоны сетчатки, что и в предыдущем случае, то он воспринимается нормально. Иными словами, в отсутствие конкуренции с нормальной стороны зона неглекта попадает в поле внимания и в область сознательного восприятия! Самое удивительное, что такие пациенты не видят и не ощущают ничего из ряда вон выходящего – они не замечают ни пробелов в восприятии, ни сопряженных с этим проблем.
Тогда в их рассказах о себе, по-видимому, отражается лишь то, что они осознают. А это, в свою очередь, зависит от двух факторов. Во-первых, не работающие нейронные цепи ускользают от их сознания, как будто этих цепей никогда и не было. А вместе с ними исчезает и осознание их функций. Во-вторых, имеет место своего рода конкуренция. Процессы в одних цепях попадают в область сознания, в других – нет. Короче говоря, сознательный опыт, вероятно, связан исключительно с локальной обработкой информации (что обеспечивает специфические возможности), и кроме того, другие модули могут оказаться сильнее – в результате процесс так и не дойдет до сознания. Это поразительные выводы.
Однако, на мой взгляд, самое интересное клиническое расстройство – это не отрицание частей своего тела, а «феномен третьего человека»[7], когда кажется, будто кто-то находится рядом с вами, хотя на самом деле там никого нет! Синдром воплощенного присутствия заставляет вас думать, что в определенной части пространства, часто прямо у вас за спиной, кто-то есть. Ощущение это настолько сильное, что люди то и дело оглядываются, пытаясь увидеть этого человека или угостить его. Когда вы идете по темной аллее и вам кажется, что вас преследуют, – это совсем другое. Чувство присутствия возникает резко и неожиданно. Подобное часто случается с альпинистами и с теми, кто подвергает себя чрезмерным физическим нагрузкам в экстремальных условиях.
Райнхольд Месснер, первым в одиночку покоривший Эверест и снискавший мировую славу величайшего альпиниста – и, между прочим, никогда не пользовавшийся дополнительными источниками кислорода, – в своей книге «Голая гора»[6] описал один случай, который произошел с ним и его братом Гюнтером в 1970 году во время их первого серьезного восхождения на вершину Нанга-Парбат в Гималаях: «Вдруг, откуда ни возьмись, рядом со мной появился третий альпинист. Он шел вверх вместе с нами, держась на расстоянии нескольких шагов немного правее меня и не попадая в поле моего зрения. Фигуру я разглядеть не мог, да и нельзя было отвлекаться, но я был уверен, что рядом кто-то есть. Мне не требовалось доказательств, я чувствовал его присутствие». Но для того, чтобы испытать подобный опыт, не надо быть уставшим от перегрузок альпинистом. Чуть ли не половине вдов и вдовцов доводилось ощутить присутствие покойных супругов[7]. Кое-кого такие явления вдохновляли на истории о призраках, видениях и божественном вмешательстве.
Все это тут ни при чем, утверждает швейцарский невролог и нейрофизиолог Олаф Бланке, который столкнулся с этим явлением чисто случайно. Он спровоцировал такое состояние, когда проводил электрическую стимуляцию височно-теменной зоны коры мозга своего пациента, пытаясь локализовать эпилептический очаг[8]. Также он обследовал большую группу пациентов, жаловавшихся на ощущение чужого присутствия. Как выяснил Бланке, это явление непосредственно связано с поражением лобно-теменной области на противоположной стороне[9]. Такое пространственное соотношение навело Бланке на мысль, что причины кроются в нарушениях обработки сенсомоторной информации и слаженной работы всех органов чувств. Определяя свое местоположение в пространстве, мы не задумываемся о том, что при этом задействуется множество процессов – зрение, слух, осязание, проприоцепция, движение и прочие, – которые при нормальной интеграции дают нам верное представление о том, где мы находимся. Если возникает сбой, наш мозг ошибается и дезинформирует нас. Олаф Бланке и его сотрудники обнаружили, что одно из подобных нарушений в обработке информации проявляется как ощущение присутствия чужака. Недавно с помощью роботизированной руки им удалось вызвать нарушение сенсорного восприятия и создать это ощущение у здоровых людей[10].
Совершая какие-либо движения, мы ждем последствий через определенное время и в определенном месте. Вы чешете спину – и ждете моментальной реакции на спине. Если пространственные и временные ощущения отвечают вашим ожиданиям, мозг интерпретирует их как самопроизвольные. При рассогласовании, если сигналы расходятся с самоощущением во времени и пространстве, вы приписываете эти действия постороннему агенту. Представьте себе, что вы стоите с завязанными глазами и вытянутыми вперед руками, ваш палец вставлен в паз «ведущего» робота, как в наперсток, а робот передает сигналы механической руке, расположенной у вас за спиной. Вы двигаете пальцем и тем самым приводите в движение механическую руку, которая постукивает вас по спине. Палец может ощущать сопротивление, иногда соответствующее силе толчка, а иногда едва заметное, явно не коррелирующее с вашими действиями. Если вы чувствуете касание рукой спины одновременно с производимым вами движением, то ваш мозг создает иллюзию: хотя ваши руки вытянуты перед вами, вам кажется, будто ваше туловище переместилось вперед и вы касаетесь пальцем своей спины. Но если ощущение касания несинхронно и на мгновение запаздывает, мозг рисует другую картину. Вы как бы перемещаетесь в обратном направлении, назад от вашего пальца, и вам кажется, будто вашей спины касается что-то другое. А если вы к тому же, управляя механической рукой, еще и не чувствуете сопротивления пальцу, такое расхождение ощущений во времени порождает чувство, будто кто-то, стоящий позади вас, касается вашей спины! С помощью точного управления физическими раздражителями Бланке показал, что сенсомоторные конфликты – то есть несовпадение сигналов с физическими реакциями во времени и пространстве – способны вызвать ощущение чужого присутствия у здоровых добровольцев. Конфликты такого рода были созданы в результате манипуляций с различными локальными нейронными сетями – модулями.
Если бы мозг работал, как «заколдованный ткацкий станок», удаление его части или стимулирование неправильной работы каких-нибудь нейронных цепей либо вывело бы из строя всю систему, либо привело бы к нарушениям во всех когнитивных проявлениях. В действительности масса людей с поврежденными или отсутствующими частями мозга живет более или менее нормально. Если страдают определенные области мозга, какие-то, хотя и не все, когнитивные функции почти всегда ухудшаются. Возьмем, к примеру, такую хорошо развитую когнитивную функцию, как язык и речь. У большинства людей речевой центр расположен в левом полушарии. В речевом центре мозга имеются две совершенно различные области – зона Брока и зона Вернике.
Зона Брока отвечает за формирование речи, в то время как зона Вернике связана с восприятием и пониманием устной и письменной речи, а также с построением понятных фраз и правильным порядком слов. Точнее, зона Брока отвечает за произношение слов, то есть координирует работу мускулатуры губ, рта и языка, чтобы слова звучали правильно, а зона Вернике – за выстраивание слов в нужном порядке еще до того, как мы произнесем осмысленную фразу. Речь людей с нарушениями в зоне Брока затруднена – они произносят слова в нужном порядке, но выговаривают их с трудом, как бы рывками (скажем, «модуль… ный… мозг»), иногда с грамматическими ошибками. Пациенты с расстройствами в зоне Брока чувствуют свои ошибки и могут растеряться. Люди с нарушениями в зоне Вернике, напротив, главным образом демонстрируют неспособность понимать слова. Они произносят их с правильными интонациями и грамматическими особенностями, но то, что они говорят, лишено смысла. Можно сделать вывод, что обе эти области выполняют свою специфическую работу, а та, где возник дефект, перестает справляться со своими обязанностями. Это однозначно указывает на высокоспецифичное модульное устройство мозга.
Почему в мозге развилась модульная структура? Однажды я услышал, как глава компании Coca-Cola объяснял принцип функционирования его корпорации. По мере разрастания штата руководители компании поняли, что производить всю продукцию на одном центральном предприятии и развозить ее по всему миру неумно, неэффективно и дорого. Не было никакого смысла тратить деньги на упаковку и доставку товара, на организацию совещаний в «штаб-квартире», командировочные для их участников и на все такое прочее. Следовало поделить мир на регионы, построить в каждом свой завод и продавать продукцию на местах. Централизованное планирование отменили и ввели местное управление. То же самое и с мозгом – дешевле и более эффективно.
Сложилось общепринятое мнение, что животные с более крупным мозгом, чем можно было бы ожидать при их размерах тела, обладают более развитыми умственными и другими когнитивными способностями. Считалось, что мозг человека велик для его тела, чем и объясняются наш высокий интеллект и разнообразие талантов. Однако в этой теории не все гладко. В действительности мозг неандертальцев гораздо больше нашего, но это не помогло им в конкуренции с Homo sapiens, когда тот появился. Что касается моего собственного исследования, то тут возникает другой непростой вопрос: после операции по расщеплению мозга оставшееся в одиночестве левое полушарие (половина мозга) почти не уступает по интеллектуальным способностям целому, неповрежденному мозгу. Больше – не обязательно лучше. Так в чем же дело?
Сюзана Эркулану-Хаузел с сотрудниками сравнила количество нейронов и других клеток в мозге разных видов, применив новую методику их подсчета в человеческом мозге. Как выяснилось, слухи о нашем большом мозге сильно преувеличены! Человеческий мозг вовсе не гипертрофированный – что касается размеров, он представляет собой пропорционально увеличенный мозг приматов. Несмотря на то, что мозг человека гораздо крупнее и содержит гораздо больше нейронов, у шимпанзе и людей одинаковое соотношение количества нейронов и размеров мозга[11]. Было сделано еще одно поразительное открытие – оказалось, что соотношение глиальных клеток и нейронов 10:1 (которое часто называлось, хотя и не подтверждалось никакими источниками) не имеет ничего общего с действительностью. На самом деле глиальных клеток в человеческом мозге не больше половины общего их количества, ровно столько же, сколько у приматов. Эркулану-Хаузел рассеяла и другое заблуждение, предположив, что наше ошибочное мнение об использовании мозга всего лишь на 10 %[8] основано на завышенной оценке соотношения глиальных клеток и нейронов как 10:1[12]!
Впрочем, человеческий мозг имеет два преимущества перед мозгом других млекопитающих. Во-первых, он устроен очень экономично и компактно, по правилам подобия, справедливым и для других приматов, и во-вторых, из всех экономично устроенных мозгов приматов наш самый крупный, а следовательно, в нем больше всего нейронов. Но, когда вы сравниваете другие виды с приматами, нельзя автоматически судить о количестве нейронов по величине мозга. Возьмем, например, грызунов: если сравнивать мышей и крыс, мозг последних крупнее – но не только потому, что в нем больше нейронов. У крыс при увеличении числа нейронов увеличивается и размер нейрона. Стало быть, один нейрон крысы занимает больше объема, чем нейрон мыши – разница примерно такая же, как между спагетти и тоненькой вермишелью. А у приматов, если сравнивать обезьян и людей, с увеличением числа нейронов размер нейрона не меняется. Поэтому в более крупном мозге примата на единицу объема приходится в целом больше нейронов, чем в относительно более крупном мозге грызуна. Если взять мозг крысы и увеличить его до размеров человеческого, крыса будет иметь 1/7 общего количества нейронов, которые имеются у человека – по той простой причине, что каждый нейрон крысы займет больше места. Увеличение размера мозга – дело хитрое, и, по-видимому, для разных отрядов (приматы, грызуны и прочие) действуют разные правила пропорционального роста.
Тут мы снова возвращаемся к модулям. Если бы в человеческом мозге при увеличении числа нейронов каждый из них соединялся бы с соседними, мы имели бы экспоненциальный рост количества аксонов (элементов нейрона, обеспечивающих передачу сигналов). Наш мозг был бы гигантским – 20 км в диаметре[13], – и ему требовалось бы столько энергии, сколько мы не смогли бы ему дать, даже если бы нас кормили как на убой[14]. Фактически на наш мозг приходится около двух процентов всего веса тела, и при этом он забирает 20 % всей энергии. Эта мощная электрическая система работает в непрерывном режиме, как кондиционеры в Фениксе в июле, поэтому и потребляет так много энергии. Возникла бы и другая проблема – длина аксонов была бы такой, что скорость обработки информации резко упала бы.
Нейробиолог Георг Стридтер изучает причины и характер различий, сформировавшихся у разных видов в ходе эволюции мозга. Он полагает, что размеры мозга увеличиваются с соблюдением определенных законов, регулирующих внутренние связи[15]. Прежде всего, по мере увеличения мозга количество связей, соединяющих один нейрон с другими, в среднем не меняется. Напротив, в абсолютном отношении число нейронных связей сохраняется, благодаря чему – в плане энергозатрат и пространства – рост мозга становится более управляемым. Однако это означает, что с увеличением размеров мозга связанность частей структуры в целом сокращается. Сокращение связанности подразумевает более высокую автономность процессов.
Вторая закономерность – минимизация длины связей. Это приводит к тому, что нейроны соединяются главным образом с соседними нейронами. Короткие связи требуют меньше энергии, объема и времени на передачу сигнала и обеспечивают эффективную коммуникацию между локализованными в определенных зонах нейронами. Следовательно, при увеличении мозга происходит реорганизация путей передачи сигналов и меняется структурная архитектура мозга. В итоге архитектура сложившейся структуры такова, что образуется кластер, или «сообщество», локализованных нейронов с хорошо развитыми соединениями.
Организация такого типа позволяет этим самостоятельным кластерам независимо выполнять определенные функции – и вот уже рождается модуль! Как правило, в одном модуле устанавливаются внутренние связи между нейронами, но некоторые, немногие, нейроны способны образовывать короткие связи с нейронами близлежащих модулей, и в итоге формируется нейронная цепь. Нейронная цепь возникает, когда один модуль получает информацию, обрабатывает ее и передает в другой модуль для дальнейшей обработки. Таким образом, пути передачи информации от одного модуля к другому, пусть и немногочисленные, позволяют соседним модулям объединяться в кластеры для более многоступенчатой ее обработки. В следующей главе мы узнаем об этом больше, когда будем говорить о многоуровневой архитектуре.
Иногда модули образуют иерархическую систему – они состоят из субмодулей, которые и сами в свою очередь складываются из субсубмодулей[16]. Тем не менее при множестве независимо функционирующих модулей возникает нужда в эффективной коммуникации между ними и координации их работы. Получаем третье условие связанности – не все связи должны быть минимизированы, кое-какие длинные связи, которые сокращают путь между удаленными узлами, сохраняются[9].
Общая архитектура, выстроенная по таким правилам соединения, называется архитектурой «малого мира». Для подобного типа архитектуры характерна высокая степень модульности, однако передача информации между любыми двумя модулями всегда происходит в несколько стадий. Архитектура «малого мира» характерна для многих многокомпонентных систем, например для энергосистемы западных штатов США и социальных сетей. Кластерная организация мозга – система функционально взаимосвязанных областей – подтверждена многими исследованиями[17].
Рассмотрев эту конфигурацию, мы увидим, что преимущества модульного мозга перед мозгом, функционирующим целиком, обоснованы массой причин. Начать с того, что модульный мозг существенно снижает расход энергии. Поскольку он разделен на отдельные узлы, для выполнения конкретной задачи необходимо активировать лишь некоторые участки в составе данного модуля. Если бы вы по каждому поводу задействовали весь мозг целиком, вам пришлось бы платить по счету за электричество для всей черепной коробки. Это можно сравнить с летом в Фениксе. Гораздо дешевле включать ночью кондиционеры не во всем доме, а только в спальне. Но хотя модульность и позволяет беречь энергию, так ли уж велика экономия, если учесть, что на питание мозга уходит пятая часть вашего рациона?
Оказывается, несмотря на всю свою энергоемкость, мозг действительно работает рационально в плане потребления энергии. Нейроны передают электрические импульсы по «проводам» мозга – аксонам и дендритам. Хотя нейронная «проводка» заметно отличается от электросхем современных приборов, базовая идея та же – информацию от одного узла к другому несет электрический ток, и на это нужна энергия. Чем длиннее путь, тем больше потребляется энергии, и чем толще аксон, тем выше его сопротивление и, следовательно, больше энергии уходит на его преодоление. Когда в работу включаются локальные модули, мозг экономит энергию при передаче информации между ними за счет использования более тонких «проводов» на коротких расстояниях с меньшим временем проведения сигнала. Кроме того, с учетом динамики нервных систем, доля проводящих путей в мозге – 60 процентов (отношение суммарного объема аксонов к объему серого вещества) – согласуется с той, что и предполагалась при минимальных длине путей и связанном с ней замедлении проводимости. В проводящих системах многих мозговых структур почти выдерживается этот оптимальный параметр[18]. В противном случае, если бы мозг функционировал как унитарный орган, в каждом его отделе содержалось бы примерно равное количество коротких и длинных связей, а более длинная связь подразумевает больше «проводов», то есть больше «затрат». Модульный мозг сокращает затраты, поддерживая для путей передачи сигналов относительно низкое соотношение 3:5 (те самые отведенные им 60 %) и таким образом ограничивая объем передачи электрических сигналов по длинным связям. По-видимому, благодаря модульному режиму работы мозгу удается в целом максимально повышать эффективность расходования энергии.
Модульный мозг эффективен еще и потому, что сразу много модулей могут одновременно обрабатывать разную информацию. Если вместо одной системы, которая пытается скоординировать все действия, несколько систем функционируют независимо друг от друга, говорить на ходу, жуя резинку, гораздо проще. Кроме того, чтобы работать как единый центр и хорошо справляться со всеми повседневными обязанностями, мозг должен был бы стать «мастером на все руки». Более выгодно иметь «специалистов», каждый из которых занимается своим делом. Для сложных систем характерно разделение функций. Скажем, в экономике наблюдается подъем, когда сельским хозяйством занимаются лучшие фермеры, образованием – лучшие учителя, а управлением – лучшие администраторы. Неумные менеджеры способны загубить бизнес, неумелые фермеры разорятся, а плохие учителя… да что там говорить, все мы хотя бы раз пострадали из-за них и знаем, чем это может кончиться. Люди становятся экспертами тогда, когда выбирают свое дело и сосредотачиваются на своей работе, не углубляясь во все направления, необходимые для поддержания экономики. Труд специалистов более производителен. Экономический эффект возрастает не тогда, когда все пытаются внести свою лепту в каждую область, а когда узкие специалисты одновременно заняты в своих областях. Таким образом, логично предположить, что наш мозг эволюционировал по пути модульной организации ради параллельной и эффективной обработки информации.
Пожалуй, самое главное – это то, что модульная организация, помимо всего прочего, позволяет мозгу быстрее адаптироваться и эволюционировать в изменчивой окружающей среде: поскольку один модуль способен меняться и воспроизводиться независимо от остальных, нет риска изменить или потерять по ходу дела другие, уже хорошо приспособленные. Поэтому дальнейшие преобразования одной части не угрожают надежной работе всей системы.
Даже если не принимать во внимание эволюцию, модульность полезна в плане приобретения новых навыков. Как выяснили исследователи, в процессе отработки двигательных навыков меняется архитектура отдельных нейронных сетей[19]. Хотя на повышение квалификации часто уходит немало времени, мы можем учиться на практике. Если бы каждый раз, когда мы осваивали новые умения, менялся режим функционирования всего мозга, мы разучились бы выполнять то, что уже умеем. Модульный мозг хорош тем, что экономит энергию при скудных источниках, обеспечивает параллельное выполнение разных когнитивных задач при ограниченности во времени, облегчает переход к новым функциям при появлении новых угроз выживанию и позволяет нам приобрести практический опыт в различных областях. Но если от всего этого отвлечься, какие еще возможны варианты организации мозга?
Человеческий мозг – не единственный мозг с модульной организацией и не единственная модульная биологическая система. Из модулей состоят мозги червя, мухи и кошки, а также сосудистая система, сети межбелковых взаимодействий и регуляции экспрессии генов, метаболическая система и даже наши социальные сети[20]. Как развивалась модульность? Какие факторы естественного отбора стимулируют образование модульной системы? Трое специалистов по информатике озадачились этим вопросом и, хорошенько пораскинув мозгами, решили проверить гипотезу Стридтера о том, что модульность стала побочным продуктом при минимизации затрат на соединение, вызванной естественным отбором[21].
Затраты на соединения в сети складываются из затрат на установление и поддержание связей, энергозатрат на передачу информации по каналам связи и на запаздывание сигнала. Чем больше связей и чем они длиннее, тем дороже выстроить и затем обслуживать сеть[22]. Кроме того, добавление связей и удлинение сигнальных путей может привести к увеличению критического времени запаздывания реакции – не очень здорово для выживания в конкурентной среде, когда хищник, завидев вас, обнажает клыки и выпускает когти, а его пасть наполняется голодной слюной.
Ученые-информатики Джефф Клун, Жан-Батист Муре и Год Липсон сделали то, что обычно и делают информатики: построили компьютерную модель[23]. Они использовали хорошо изученные сети с сенсорными входами и результирующими выходными данными. По результирующим данным судили о способности нейросети противостоять возникающим в окружающей среде трудностям. Ученые смоделировали двадцать пять тысяч поколений эволюции, заложив в программу прямое давление отбора либо на максимальный рост производительности, либо на ту же производительность, но в сочетании с минимизацией затрат на соединение. И вот вам пожалуйста! Стоило только добавить второе условие при изменяемой или неизменной окружающей среде, как сразу стали образовываться модули, в то время как без минимизации затрат на соединение этого не происходило. А когда исследователи посмотрели, какие нейросети проявили самую высокую производительность, то оказалось, что это были модульные сети. Выяснилось, что в этой группе степень модульности возрастала вместе с уменьшением затрат. Одновременно те же сети и развивались гораздо быстрее – то есть как при постоянных, так и при меняющихся внешних условиях им требовалось заметно меньше поколений. Эксперименты с компьютерными моделями убедительно доказывают, что влияние естественного отбора на рост производительности нейронных сетей и минимизацию затрат на межнейронные связи приводит к существенному возрастанию модульности и лучшей способности таких сетей к развитию.
Итак, мы поняли, что модульные системы имеют массу достоинств, но как они их реализуют? Каким образом тысячи независимых модулей, каждый на своем месте, сообща координируют наши мысли и поступки – и в конечном итоге формируют наш сознательный опыт?
Как мы уже знаем, слабые связи между модулями существуют, хотя конкретные задачи модули и выполняют за счет многочисленных хорошо развитых внутренних связей. Для регулирования сложных форм поведения жизненно важно иметь какой-то контакт между модулями. Например, зоны Брока и Вернике разделяют ответственность за специализированные речевые функции, однако они должны уметь договариваться. Назначение зоны Вернике – выстроить связное предложение из фонем и слов, чтобы затем зона Брока велела вашим губам, рту и языку воспроизвести правильно звучащую фразу. Эти речевые области сообщаются через дугообразный пучок нервных волокон, пролегающий между ними наподобие автомагистрали. Затраты на столь крупные и дорогостоящие каналы связи мозг сводит к минимуму, сокращая контакты между модулями, занятыми в разных когнитивных областях. Скажем, когда вы нюхаете розу, незачем активировать зоны Брока и Вернике, если только вы не сочиняете сонет о ее красоте или гневную тираду в адрес селекционеров, для которых форма важнее аромата. Модули взаимодействуют друг с другом, но связей между узлами, выполняющими родственные задачи, несравнимо больше, чем между звеньями разнородных процессов.
При всем богатстве данных и разнообразии методов их анализа, исследования, как правило, свидетельствуют о модульной организации структурных и функциональных нейронных сетей мозга и сходстве многих свойств модулей у всех видов[24]. Имеет смысл уделить немного времени различиям между структурной и функциональной сетями нейронов. Под словом «структура» подразумевается просто строение сети – количество, расположение, форма нейронов и прочие физические параметры. Функциональная сеть выполняет определенную функцию – например, отвечает за устную речь или за понимание смысла фраз. Надо отметить, что по структуре сети нельзя судить о ее функции и наоборот. Какие-то подсказки удается найти, но не более того. Вы можете посмотреть на дерево и понять, как оно устроено, но это ничего не скажет вам о назначении листьев. Эксперименты на различных животных, от беспозвоночных до млекопитающих, также показали, что связи между нейронными модулями хорошо развиты, а расстояния достаточно малы, чтобы расход энергии был меньше. Что интересно, даже нейронная сеть прозрачного круглого червя Caenorhabditis elegans, в чьем организме насчитывается несколько сотен хорошо изученных нейронов, тоже функционирует в модульном режиме, хотя это одно из самых маленьких живых существ, обладающих нервной системой[25]. Модульная организация выгодна для всех видов животных, это необходимое условие успешного функционирования и развития в конкурентной борьбе за выживание.
Естественно предположить, что если мозг и животных, и людей устроен по модульной схеме, то их когнитивные свойства, включая сознание, тоже должны быть примерно одинаковы. Томас Нагель поддержал бы эту идею, но, к сожалению, современные технологии не позволяют нам с уверенностью судить о том, как воспринимают мир различные организмы. Мы и свое-то восприятие мира далеко не всегда можем четко передать. Лучшее, что мы можем сделать для эмпирического изучения чужого опыта как животных, так и людей, – это прибегнуть к измерениям поведенческих особенностей и активности мозга.
Неудивительно, что мы, люди, связываем свой сознательный опыт с разнообразием наших когнитивных навыков. Отсюда мы автоматически заключаем, что и животные, дабы обладать сознанием, должны иметь такие же навыки. Свою способность к сознательному переживанию мы не раздумывая проецируем на все подряд, от кукол до роботов или, как в моем случае, на автомобиль Plymouth coupe 1949 года.
Пытаясь распознать зачатки сознательных состояний у других животных, ученые искали, в частности, признаки владения инструментами. Считается, что использование инструментов – вариант поведения, которое указывает на достаточно развитые когнитивные способности. Признаки такого рода были обнаружены по всему царству животных. Например, птицы семейства врановых (представители его – ворóны и вóроны, сойки, сороки, грачи, кедровки), подобно тому, как это делают шимпанзе, приспособились извлекать пищу из труднодоступных мест с помощью разных технических средств[26]. В японском городе Сендай вороны колют орехи, задействуя машины, – бросают орехи на пешеходные переходы и не просто ждут, когда им раздавят скорлупу, а еще и дожидаются красного сигнала светофора и лишь потом подбирают ядра. Вороны в Новой Каледонии, как настоящие вундеркинды, применяют два вида инструментов в зависимости от стоящей перед ними задачи. Они отправляются за пропитанием, прихватив с собой нужный инвентарь, словно рыбаки с удочками. Они решают еще и промежуточные задачи – с помощью одного приспособления получают другое, необходимое собственно для добычи еды[27]. Разнообразие средств, которыми пользуются птицы в разных регионах, говорит об изменчивости их образа жизни и передаче опыта в птичьем сообществе[28]. Но и ручные вороны, не имеющие опыта социального обучения, способны выработать навыки пользования простыми инструментами[29]. Это говорит о том, что врановые, скорее всего, обладают сознанием: они энергичны, всегда сохраняют бдительность и живо воспринимают текущие события – но можно ли заключить, что они осознают свои способности? Безусловно, у них есть какие-то особые модули, которых лишены другие птицы, но помогает ли им это осознавать себя? В многочисленных исследованиях их повадок, практических навыков и обучения этот вопрос рассматривается весьма осторожно. А что можно сказать о шимпанзе?
Давно известно, что дикие шимпанзе умеют пользоваться техническими приспособлениями – прежде всего, они собирают палками муравьев и мед, а воду черпают листьями. В разных регионах шимпанзе тоже применяют различные средства для разных целей, что наводит на мысли о вариативности их образа жизни и передаче практического опыта. Но если обезьяна один раз освоит какое-то орудие, это превратится в ее навык, и когда новые члены стаи найдут и приспособят другой, более совершенный инструмент, она не станет переучиваться[30]. С другой стороны, замечено, что те шимпанзе, которые живут с людьми, решают довольно мудреные задачи и справляются с непростыми проблемами. Например, увидев под потолком банан, подвешенный на недосягаемой высоте, шимпанзе ставили один на другой ящики, чтобы достать лакомство с этого импровизированного помоста[31]. Хотя шимпанзе умеют еще много чего, можно ли на этом основании считать их столь же сознательными существами, как люди? Наверное, так ставить вопрос некорректно. Вероятно, следует сказать иначе: «Одинаково ли содержание нашего сознательного опыта и сознательного опыта шимпанзе?»
Многие исследователи взяли кое-какие выводы из этих экспериментов с участием животных и сравнили мышление шимпанзе с ходом мысли детей. Обезьяны терялись в простой игре, где надо было найти спрятанный предмет по подсказкам экспериментатора, в то время как малыши в возрасте год и два месяца отлично справлялись с поставленной задачей[32]. Вместе с тем и шимпанзе, и дети способны воспроизвести чужие действия, даже если раньше они ничего подобного не делали. Но дети в расчете получить награду повторяли все, что им показывали, а шимпанзе воспроизводили только необходимые действия. Предположительно, это указывает на то, что в таких случаях дети склонны к компульсивным реакциям, а шимпанзе копируют поведение, чтобы получить награду. Однако если не поощрять – или не наказывать – шимпанзе, они, как правило, не повторяют усвоенных действий. Маленькие же дети, наоборот, будут воспроизводить свое поведение независимо от того, похвалят их или поругают, что говорит о готовности учиться просто ради обучения[33]. Это означает, что между человеком и всеми остальными представителями царства животных есть колоссальная разница. И все-таки, по-видимому, шимпанзе продвинулись дальше птиц семейства врановых. Обеспечивается ли сознательный опыт дополнительными структурными компонентами в их черепной коробке – или просто меняется его содержание?
Потенциал человека к обучению и решению абстрактных задач превышает способности других животных. Люди изобрели куда более тонкие технологии, имеющие куда более высокую практическую ценность, чем любые средства, до которых додумались животные. Ученые и инженеры создали компьютеры, самолеты, небоскребы, ракеты для полетов на Луну… да мало ли что еще! Однако человечеству вполне достаточно, чтобы изобретательством занималась лишь малая часть населения. Замечательные открытия и устройства стихийно распространяются по всему свету и входят в нашу повседневную жизнь благодаря копированию и обучению. Как заметил выдающийся психолог Дэвид Примак, у людей есть «немногие избранные», способные на великие изобретения и открытия – такие как методы добычи огня, колесо, сельскохозяйственные технологии, электричество, сотовая связь, интернет и рецепт фаршированного картофеля с беконом и сыром. Ни один из представителей любого другого вида живых существ не добился столь грандиозных успехов[34]. Не эти ли исключительные способности к обучению, решению проблем и изобретательству делают нас сознательными? Ведь все эти способности должны обеспечиваться особыми структурами, так сказать, модулями специального назначения. Не в них ли кроется ключ к разгадке?
На мой взгляд, все рассуждения о некоем магическом зелье как источнике человеческого сознания ошибочны от начала до конца. Когда мы видим, как шимпанзе проделывают все эти штуки, наш ум закипает и мы присваиваем обезьянам особый высокий статус. Мы открываем перед ними двери своего клуба – и с радостью встречаем их у входа. Но человек, обнаруживший у шимпанзе психическую жизнь и сформулировавший эти идеи, должен задаться вопросом: а что они обо всем этом думают? У нас есть теория о шимпанзе – а у них есть теория о нас?
Первым проверил, есть ли «модель психического» у других животных, Дэвид Примак – вместе со своим студентом Гаем Вудраффом[35]. Если у кого-либо есть «модель психики», то это означает, что индивид приписывает себе и другим психические состояния – цели, побуждения, знание, верования, сомнения, претензии, предпочтения и прочие. Слово «теория» Примак и Вудрафф, авторы термина, выбрали потому, что подобные состояния скрыты, их нельзя наблюдать у другого человека в явной форме. Люди допускают, что у других есть психика и что действия других людей определяются их психическими состояниями. Спустя почти сорок лет после того, как была выдвинута эта идея, страсти все еще не улеглись, но, по-видимому, ни у одного животного теория психики не развита так, как у человека, хотя некоторым она в той или иной степени свойственна.
Хосеп Калл и Майкл Томаселло с коллегами посвятили поискам ответа на этот вопрос много лет. Шимпанзе более или менее понимают чужие цели, побуждения и ощущения, а также догадываются о том, что может быть известно другим, однако они, оказывается, не в состоянии осознать, что чужое мнение может быть ошибочным[36], как ни пытались исследователи втолковать им это, в то время как ребенок двух с половиной лет легко проходит такие тесты[37]. Впрочем, совсем недавно Калл и Томаселло, вместе с Кристофером Крупенье, нашли факты, дающие основания полагать, что три вида человекообразных обезьян действительно проявляют косвенные признаки понимания того, что кто-то может ошибаться, хотя и не было показано, что они выбирали свою линию поведения, исходя именно из знания об ошибке[38]. Способны ли обезьяны формировать у себя теорию психики так же хорошо, как люди, еще предстоит выяснить.
С недавних пор одними из главных участников соревнований на самый высокий IQ среди животных с оценкой коммуникабельности стали собаки. Чейсер, знаменитая бордер-колли вышедшего на пенсию профессора психологии Джона Пилли, знала больше тысячи слов, понимала синтаксис и угадывала значение новых слов[39]. Если собаку просили принести «дакс» (ранее она такого слова не слышала), она просматривала все многочисленные игрушки и приносила ту, которую видела впервые. Собаки способны также по социальным сигналам – например, по подсказке человека – делать выводы о том, где спрятана еда и разные предметы, чего обезьяны не делают. Майкл Томаселло полагает, что это подразумевает понимание побуждения на двух уровнях – «что» и «зачем». Во-первых, собака должна понять, что подсказка адресована ей, чтобы она обратила внимание на цель, а во-вторых, зачем она должна это сделать – человек сообщает ей полезную информацию о том, где что-то спрятано, или ему самому нужна эта вещь?[40] Шимпанзе часто следуют указующему жесту, но не понимают, что им указывают на спрятанное угощение, то есть они, видимо, не воспринимают второй уровень побуждения – «зачем». В последние двенадцать лет некоторые ученые, занимающиеся моделями психического, заинтересовались впечатляющими способностями собак использовать коммуникативные подсказки человека, и хотя первые доказательства того, что собакам свойственна в определенном объеме модель психического[41], уже получены, впереди еще очень много работы.
Несмотря на восторги заядлых собачников по поводу этих результатов, следует помнить, что вне сферы общения собаки не проявляют особой гибкости. Они рабы определенных интересов, а точнее – определенных возможностей. Они не справятся с задачей, если им дать подсказку, не связанную с общением, – скажем, еда спрятана не под ровно лежащей доской, а под приподнятой (для шимпанзе это простая задачка), – и не поймут, что лучше потянуть ту веревку, к которой привязано лакомство, чем ту, к которой ничего не привязано, а шимпанзе и тут сообразят, в чем хитрость[42]. Отличающиеся когнитивные способности собак дают основания предположить наличие у них специфических, но отличающихся модулей, которые развились в результате реакции на то или иное воздействие окружающей среды. Содержание их сознательного опыта отличается от нашего и обезьяньего, хотя что-то общее тут, несомненно, есть.
Словом, судя по всему, пытаться точно определить когнитивные предпосылки для формирования сознательного опыта – дело неблагодарное. Немножко тут, немножко там – все это плохо помогает понять, какие действия мозга создают сознательный опыт. Так просто секрет своего фокуса мозг не раскроет – если, конечно, это и впрямь фокус. Вспомним, что мы не осознаем наличие в нашем поле зрения слепого пятна, хотя оно там есть. Наша зрительная система показывает нам фокус с сознанием. Но вместе с тем большинству людей сознание не кажется чем-то загадочным – обычное дело, нечто, управляемое какой-то частью мозга, поиски которой продолжаются. Коль скоро у людей есть когнитивная система для обработки сложной информации, позволяющая им создавать и применять на практике новые технологии и судить о мнении и желаниях других людей, есть ли у них в мозге что-то, чего нет у животных?
В недавно проведенном сравнительном исследовании рассматривался объем нейропиля в различных отделах мозга человека и шимпанзе[43]. Нейропиль охватывает те части мозга, куда входят соединительные элементы – аксоны, дендриты, синапсы и прочие. Доля нейропиля в префронтальной коре человека – в той области, где принимаются решения, решаются проблемы, определяется психическое состояние и планируются разные дела, – оказалась выше, чем в мозге шимпанзе, а у дендритов в этой области оказалось больше мест контактов для связи с другими нейронами, чем в любом другом отделе мозга. Исходя из обнаруженных анатомических особенностей можно предположить, что отличительные свойства нашего мозга объясняются характером соединений префронтальных нейронов. Любопытно, что у врановых передний мозг, особенно те его зоны, которые считаются аналогом префронтальной коры млекопитающих, крупнее, чем у других птиц[44]. Однако, как мы еще увидим, хотя такой логикой и можно объяснить более развитые способности, это не приведет нас к цели – не даст понимания того, каким образом создаются условия для формирования сознания. Вернуться к гипотезам о специальной субстанции или особой области в мозге, которые обеспечивают нам сознательный опыт, – означает взять плохой старт.
Надо сменить тактику. Забыть про все эти специальные субстанции, особые зоны и прочие вещи. Нам следует думать о совокупности в высокой степени независимых модулей и о том, как их совместная деятельность приводит к формированию у нас постоянного ощущения сознательного опыта. Мы, как когнитивисты, чересчур зациклились на том, что феномен сознания не связан с нашими другими психическими процессами. Скорее сознание надо рассматривать как неотъемлемый компонент многих наших когнитивных функций. Утратив какую-то одну функцию, мы утратим ассоциированное с ней сознание, но не все сознание полностью.
Сам я начал замечать, что сознание не связано ни с одной специфической нейронной сетью, когда занимался пациентами с расщепленным мозгом. Хотя нейронные связи в пределах одного полушария развиты лучше, чем между полушариями, все-таки две половины мозга тоже связаны множественными соединениями. Причем разрыв этих соединений сказывается на переживании человеком сознательного опыта несущественно. То есть, даже лишившись доступа к половине коры мозга, левое полушарие по-прежнему говорит и думает как ни в чем не бывало. Что еще более важно, после разъединения двух полушарий тут же образуется вторая, тоже независимая система сознания. Теперь правое полушарие успешно продолжает свой труд без оглядки на левое – со своими собственными возможностями, желаниями, целями, важными знаниями и чувствами. Из одной разделенной пополам нейронной сети получаются две системы сознания. Как же можно было решить, будто источником сознания является какая-либо обособленная сеть нейронов? Чтобы уяснить себе этот факт, нужна свежая идея.
Примите также во внимание сознательный опыт пациента, который очнулся после операции по расщеплению мозга с двумя полушариями, не имеющими представления о зрительных полях друг друга. Левое полушарие не видит левой половины пространства, а правое не видит правой. При этом говорящее левое полушарие не жалуется на потерю зрения. Собственно, пациент скажет вам, что после операции для него ничего не изменилось. Как же так – ведь половина поля зрения пропала? Как и пациент с односторонним пространственным неглектом, говорящее левое полушарие не жалуется, что перестало воспринимать половину своего поля зрения. Ответственные за сообщения об ущербе модули остались в правом полушарии и с левым больше не сообщаются. Левое полушарие не замечает их исчезновения, да и не помнит об их существовании. Стерлись и воспоминания о том, что было когда-то такое зрительное поле. Отныне только правое полушарие сознательно воспринимает левое зрительное поле в полном объеме, а левое полностью лишено этого удовольствия. Что это говорит нам о сознании?
Отвыкнув от мысли об одном модуле «сознания», мы можем сосредоточиться на выяснении сути сознания. Мы знаем, что локальные поражения мозга могут стать причиной различных специфических когнитивных расстройств. Но окружающий мир такие пациенты все же воспринимают. Пациенты с тяжелым синдромом неглекта не замечают левой половины пространства, но правую осознают нормально.
А может, за сознательный опыт отвечают все модули? Потеряешь модуль из-за травмы или инсульта – пропадет и связанное с ним сознание. Не забудьте, что пациенты с односторонним неглектом не замечают утраты половины пространства, потому что перестает работать модуль, который обрабатывает такую информацию. Или, если не кооперируются должным образом модули, ответственные за определение вашего положения в пространстве, у вас возникают серьезные нарушения в сознательном восприятии и вам может показаться, что за вашей спиной кто-то стоит. Или возьмем, к примеру, людей с болезнью Урбаха-Вите, при которой нарушена функция миндалевидного тела, – они перестают чувствовать страх. Одна такая пациентка, несмотря на пристальное наблюдение в течение двадцати лет, понятия не имеет о своей беде и нередко попадает в опасные ситуации[45]. Видимо, она не пытается избежать опасности, поскольку не испытывает осознанного чувства страха.
Разнообразие типов сознания у разных видов можно было бы объяснить тем, что сознанием распоряжается не единственная возможная для них сеть нейронов, а отдельные модули. Животные – не зомби, лишенные сознания, но их сознательное восприятие зависит от имеющихся у них модулей и способа соединения этих модулей. У людей много различных модулей, оттого и наш сознательный опыт так богат. В самом деле: у людей может быть много высокоразвитых интегрированных модулей, и это позволяет нам мыслить отвлеченными понятиями, объединяя информацию из разных модулей. Нелегко разгадать секрет формирования сознания у человека, однако, возможно, ответ отыщется, если рассматривать сознание как проявление активности множества модулей.
Но даже если сознание связано с множеством разных сфер когнитивной деятельности, почему люди с неповрежденным мозолистым телом воспринимают мир не как совокупность разрозненных событий в данный момент времени, а как единое целое? Чтобы это понять, можно провести аналогию между обработкой информации в мозге и соревнованиями. Электрическая активность модулей меняется каждое мгновение, поэтому меняется и вклад модулей в сознательный опыт. Суть в том, что выигрывает соревнование самый «активный» модуль, и переживаемый опыт индивида – его «состояние» в данный момент времени – определяется информацией, обработанной этим модулем. Допустим, вы сидите на пляже и наблюдаете за летающей в небе неизвестной птицей. В эту минуту в соперничестве за сознательное восприятие побеждает зрительное возбуждение – вид птицы и ее красочного оперения. В следующий момент первенство перешло к крику другой птицы, а спустя еще мгновение – толчок любопытства, – и вы поворачиваете голову, пытаясь определить источник звука. Вдруг резкая боль в ноге перекрывает все ваши ощущения и немедленно побуждает вас посмотреть вниз, где вы видите краба, вцепившегося в ваш палец. В каждый момент времени самый сильный при сложившихся внешних и внутренних условиях аспект когнитивной деятельности, самая «болезненная тема» становится вашим текущим сознательным опытом. Каждый из разнообразных конкурирующих процессов осуществляется своим модулем. Как это происходит?
Под тем, что мы именуем «сознанием», я предлагаю понимать фоновые ощущения, сопутствующие текущему психическому событию или инстинкту. Самая удобная для понимания модель – принятая в технике иерархическая архитектура, когда сложная система эффективно и органично работает как единое целое, начиная от атомов, молекул, клеток и цепей и заканчивая когнитивными и перцептивными функциями. Если мозг действительно состоит из различных уровней (тех, что подразумеваются в технике), то информация с микроуровня может шаг за шагом интегрироваться в вышележащие уровни – вплоть до тех, на которых каждый модульный элемент продуцирует сознание. Иерархическая архитектура позволяет создавать новые уровни функционирования из низлежащих активных структур, которые сами по себе не способны создать опыт более «высокого уровня». Давайте займемся иерархией мозга и посмотрим, что это нам даст для понимания его организации. Скоро мы поймем, что сознание – это не вещь и не объект. Это результат процесса, заложенного в архитектуре мозга, точно так же как демократия – не вещь, а результат некоего процесса.
Глава 5
У истоков понимания архитектуры мозга
В архитектуре есть масса всего, чего не понять без специальной подготовки.
Фрэнк Гери
Допустим, вы, как полагают ваши мама с папой, подающий надежды молодой ученый. Родители дарят вам на Рождество старый будильник и говорят: «Раз ты такой умник, разбери-ка его и собери снова, а потом объясни нам, как он работает». Не вопрос. Всего-то деталей в конструкции – колесики, шестеренки да пружинки, они движутся все вместе, выполняют определенную задачу, какую – нам известно. Вот если бы вы не знали, каково его назначение, а просто держали в руках детали, вам было бы намного труднее.
Тем из нас, кто занимается исследованиями мозга, труднее всего понять, как 89 миллиардов нейронов соединяются друг с другом, давая людям право гордиться своими когнитивными способностями. Мозг рассекают, окрашивают, протыкают, картируют и прослушивают. Аккуратно собраны самые обширные данные, тщательно обследовано множество пациентов с различными повреждениями мозга, изучены особенности психики людей с выдающимися способностями – и все ради того, чтобы проникнуть в интригующие тайны скрытой магии. Раз в году 26 000 специалистов собираются на конгресс Общества нейронаук, чтобы обменяться знаниями и своими соображениями о работе мозга, но единая схема, охватывающая всю эту информацию, до сих пор так и не выработана. Почему решение все время ускользает от нас? Что упускают из виду ученые? В середине XX века биолог-теоретик Роберт Розен предложил своей дочери подумать над возможной дилеммой: «В человеческом организме примерно за два месяца все полностью меняется в результате метаболизма, репликации и восстановления. Но при этом ты остаешься сама собой, твоя память, личность – все при тебе… Если наука чересчур увлечется частицами, в погоне за ними по всему организму можно проскочить мимо самого организма»[1].
Розен хотел сказать, что организация живой системы не должна зависеть от материальных частиц, из которых она состоит. Действительно: структурные компоненты и функция мозга – это лишь часть истории. Чтобы связать структуру и функции системы, необходим еще и третий фактор, о котором часто забывают. Упускается из виду организация частей, влияние любых их взаимодействий и связь со временем и окружающей средой. Николас Рашевский, математик и физик-теоретик, профессор Чикагского университета и учитель Розена, назвал это реляционной биологией. В электронной инженерии и системной биологии эти идеи были усвоены, а вот в молекулярной биологии и нейробиологии о них знают мало (или совсем ничего), даже спустя пятьдесят лет после предостережения Розена.
Я сам впервые узнал об альтернативном подходе к изучению организации мозга от Джона Дойла, профессора Калтеха, специалиста по системам управления и динамическим системам, био- и электронной инженерии. Первый урок от доктора Дойла: изучение деталей помогает лишь до известного предела. В школе есть помещения для чтения и приема пищи, для мытья рук и хранения вещей. В жилом доме они тоже есть. Однако школа и дом – совсем не одно и то же, они имеют разное назначение и пропускают через себя совершенно разное число людей. Их главное различие заключается в организации компонентов, в их структуре. Майкл Полани, английский ученый-энциклопедист венгерского происхождения, писал, что «работа всей машины подчиняется двум отдельным законам. Принцип конструкции механизма – это закон высшего порядка, и ему подчиняется принцип более низкого порядка – физико-химические основы устройства механизма»[2]. Каким-то образом конструкция машины накладывает ограничения на природу, чтобы заставить ее выполнять конкретную задачу. Например, ваша кофемашина сделана из специально сконструированных и точно пригнанных друг к другу деталей, благодаря чему может сварить вам чашку кофе. Как говорит Полани, это наложение граничных условий на законы физики и химии. Он объясняет, что организмы, как и машины, обладают такими же свойствами: «Показано, что работа организма, как и машины, подчиняется двум различным принципам – его строение служит граничным условием для управления физико-химическими процессами, на основании которых орган выполняет свои функции. Следовательно, такую систему можно называть системой с двойным управлением»[3]. Принцип устройства организма, о котором говорит Полани, – это его строение, или архитектура, и это дает нам ключ к пониманию работы комплекса психика/мозг. Нам важно это знать.
Дойл лучше всех может объяснить, почему такие сложные, состоящие из множества взаимодействующих частей системы – как, например, «Боинг-777» и ваш мозг – успешно выполняют свои задачи, причем быстро и безопасно, а не ломаются, не взрываются и не тормозят. Неудивительно, что слово «сложность», как и «сознание», не получило объективного определения. Мы для наших целей можем выделить три составляющие сложной системы. Система считается сложной, если в ней много (а) компонентов, (b) межкомпонентных связей и взаимодействий, или же компоненты, а также их взаимодействия и связи разнообразны, и (с) если результирующее поведение может быть различным и не всегда предсказуемо. Сконструированные системы уже почти приблизились к биологическим по уровню сложности[4]. Так, «Боинг-777», по оценкам Дойла, содержит 150 000 различных модулей, входящих в подсистемы и связанных в сложные сети и системы управления, в том числе примерно 1000 компьютеров, которые ведут самолет. При всех очевидных различиях компонентов высокотехнологичных моделей и высокоразвитых биологических систем в их организационной структуре много общего[5].
Обычно слово «архитектура» ассоциируется у нас с искусством и наукой проектирования зданий и прочих сооружений – скажем, мостов и скоростных автомагистралей, – с их стилем (барокко, ар-нуво) и методами строительства (конструкция может быть, например, глинобитной или из стекла и стали). Возможно, кто-то вспомнит Брунеллески и Палладио. Но под архитектурой понимают еще и сложную структуру чего-либо. Не обязательно здания и не всегда физического объекта. Это может быть организационная структура правительства, каналов интернета, сети нейронов мозга. В самом общем смысле архитектура подразумевает конструирование с учетом граничных условий. Майкл Полани считает граничными те условия, что налагаются запретами всеобщего характера[6]. В строительстве это означает работу с учетом ограничений, которые накладывают строительные материалы (стекло, глина, дерево, кирпич, камень, сталь), выбранное место (районы с достаточно высокой вероятностью пожаров, наводнений, землетрясений и ураганов, равнина или горы, тропики или тундра), назначение здания (жилой дом, оперный театр или автозаправочная станция), а также многое другое. Ну и, конечно, следует учитывать желания владельцев (конечная причина по Аристотелю). Что касается мозга и нервной системы, архитектурные ограничения включают в себя затраты энергии, физические размеры и скорость обработки информации.
И биологическим, и техническим сложным системам свойственна высокоорганизованная архитектура, то есть компоненты этих систем расположены особым образом, что делает систему функциональной и/или устойчивой. Простой пример – ткань годится для изготовления одежды благодаря высокому уровню организации хлопковых волокон[7]. Она устойчива к нагрузкам, которым подвергается одежда, – истиранию и разрыву. И наоборот, в бумаге те же самые волокна ориентированы хаотично, поэтому бумага не выдерживает таких же нагрузок. Поскольку сложные системы с высоким уровнем организации имеют схожую архитектуру, можно ожидать, что и требования к ним предъявляют примерно одинаковые. Их устройство должно обеспечивать «эффективность, гибкость, способность к развитию и устойчивость»[8].
Если условиться, что животные, большие и маленькие, устроены примерно так же, как «БМВ» или небольшой грузовик, будет проще представить себе естественные процессы, протекающие в биологических тканях. Как утверждают Дойл и его коллега Дэвид Олдерсон, неслучайно высокоорганизованные системы столь сложны. Эта сложность обусловлена стратегиями конструкции – неважно, созданными искусственно или в ходе эволюции, – которые обеспечивают устойчивость, или, по Дарвину, приспособляемость.
Дойл и Олдерсон предлагают следующее определение устойчивости: "[Свойство] [системы] устойчиво, если оно [инвариантно] по отношению к [комплексу возмущающих факторов]"[9], а квадратные скобки означают, что все эти термины нуждаются в пояснении. В качестве иллюстрации возьмем доступную пониманию сложную систему – одежду. Допустим, вы собираетесь в путешествие с целью полюбоваться северным сиянием. Вам предстоит отправиться зимой на Север, и вы не хотите замерзнуть. Вероятно, вы обеспечите устойчивость в зимнем туре, выбрав пуховый [свойство] костюм [система], который согреет вас при низкой температуре. Но если польет дождь [возмущающий фактор, не предусмотренный техническими условиями] и ваша куртка промокнет, пух перестанет греть. Несмотря на инвариантность (до известной степени) пухового наполнителя по отношению к низким температурам, он не является инвариантным по отношению к воде, то есть при одних условиях он надежен (устойчив), при других нет (хрупок). Если же вы поставите условие «выглядеть изящно» [свойство], а [возмущающим фактором] будет внешняя грузность, все кончится тем, что вы будете красиво смотреться под снегопадом в элегантном костюме (устойчивом к грузности), не инвариантном по отношению к такому возмущающему фактору, как сильный мороз[10].
Любое свойство, которое делает систему более устойчивой, защищает ее от каких-либо внутренних и внешних рисков. Вместе с тем каждый шаг к устойчивости усложняет систему. К сожалению, ни одно добавленное свойство не будет устойчивым по отношению к любым неожиданностям. Вместе с каждым новым свойством система получает еще одно слабое звено, свойство уязвимости перед новыми непредвиденными обстоятельствами. Значит, как только это выясняется, приходится добавлять другое свойство, компенсирующее вновь возникшую хрупкость. Но вместе с очередным свойством придет и очередное слабое звено, и тогда вновь придется искать защиту. Каждый защитный фактор повышает уровень сложности, что требует дальнейшего его повышения.
Компромиссы между свойствами (характерными признаками) системы всегда приводят к тому, что она проявляет устойчивость по отношению к одним факторам и хрупкость по отношению к другим. Высокоразвитая сложная система отличается устойчивостью и хрупкостью одновременно. Картина устойчивости, неразрывно связанной с хрупкостью, наблюдается повсеместно. Один из моих любимых примеров в биологии взят из исследований развития мозга.
Очевидно, что в нормальной работе мозга важную роль играют нейронные связи. Чтобы его в конце концов скоординированная деятельность привела к поведенческому акту, нейроны одной части должны установить контакт с другой частью мозга. Эволюция, видимо, позаботилась об этом, обеспечив большое перепроизводство нейронов в процессе развития. Структура А посылает структуре В не ровно столько нейронов, сколько требуется, а гораздо больше – для надежности. Природа нашла способ избавиться от лишних нейронов – ввела процесс, получивший название «прунинга» («обрезка»). Когда окружающая среда вносит соответствующий вклад, ненужные нейроны отмирают, и к окончанию периода развития между двумя структурами остается приемлемое число связей. Но, само собой разумеется, появляются и слабые места. Зачастую обрезается больше, чем требуется. В самом деле: некоторые факты доказывают, что в процессе прунинга ошибки развития приводят к аутизму[11] и шизофрении[12]. Сплошь и рядом наблюдается сочетание устойчивости с хрупкостью, и эта концепция лежит в основе понимания организации мозга.
Согласно теории Дойла, большинство биологических систем, очевидно, имеет «многоуровневую архитектуру». Следовательно, в основе любых попыток постичь феномен сознательного опыта должно лежать ясное представление о принципах многоуровневой организации мозга. Возможно, немало исследователей, готовых использовать когнитивные модели, поначалу не видело разницы между «стадиями» и «уровнями». Стадийность подразумевает последовательный процесс (как и, к примеру, в электротехнике), в то время как при многоуровневой архитектуре все процессы выполняются одновременно («параллельно»). При последовательной схеме информация обрабатывается на каждом этапе по очереди, словно в эстафете. Сначала надо закончить один этап, и лишь потом может начаться следующий. При многослойной схеме, наоборот, все игроки стартуют одновременно и разбегаются в разные стороны. Столь большими различиями в архитектуре обусловлены совершенно иные особенности системы.
Многослойная архитектура – основная стратегия построения системы с гарантией устойчивости и функциональности организованных систем, как биологических, так и искусственно созданных. Это простая, необходимая, мощная и в высшей степени выгодная структура. Так, и технические системы вроде «Боинга-777», и биологические вроде нашего мозга организованы настолько грамотно, что пользователи даже не догадываются о том, какие мудреные свойства в них скрыты[13]. Мы просто садимся в самолет, застегиваем ремни и открываем книгу или заказываем напиток. Мы не думаем ни о 150 000 модулей подсистем самолета, ни о том, что в них происходит. Да и пилоты о них не вспоминают. Мы вообще не знаем о существовании этих 150 000 модулей подсистем. А если вы пропустили предыдущую главу, то, возможно, ничего не знаете и про сами модули. Вот и о мозге мало кто вспоминает, пока он работает исправно. Сложность его многослойной структуры так хорошо замаскирована, что даже по прошествии двух с половиной тысяч лет мы все еще пытаемся ее разглядеть. Сложность устройства нашего мозга, как и «Боинга-777», спрятана в архитектуре системы. Так что же это за архитектура такая – многослойная?
Задача инженера – спроектировать и построить некий объект, работающий рационально, эффективно и надежно. Даже перголу[10] над площадкой в своем саду не так-то просто соорудить – что уж говорить о Сиднейском оперном театре. Чтобы все части постройки функционировали рационально, эффективно и надежно, надо не только увязать друг с другом детали проекта, но и добиться слаженной работы инженеров. Один человек не в силах разработать все этапы. Но вместе с тем, если для организации проектных работ выбрана неверная стратегия, «бригадный метод» может привести к весьма плачевным результатам.
Фактически команда проектировщиков сложных систем и сама является сложной системой, организованной по тому же принципу. Давайте рассмотрим разные стратегии проектирования авиалайнера и системы управления им. По одной из них каждый инженер, занятый своей частью проекта, должен понимать, что делают все остальные его коллеги. Затем, когда будут готовы проекты отдельных блоков, надо установить взаимосвязи между всеми компонентами, чтобы они работали правильно, – то есть все должно быть интегрировано последовательно. Иными словами, проектировщику кресла надо знать все о двигателях, подъемной силе и тяге, стеклах иллюминаторов, герметизации и так далее, и учитывать все это при разработке функций кресла. Помимо того, что на создание проекта уйдет больше времени и денег при участии большого штата специалистов, обладающих квалификацией в разных областях, еще и возрастает риск ошибок: ведь не отклоняющееся назад кресло не просто неудобное – из-за него самолет может спикировать носом вниз.
Независимое конструирование компонентов (слоев или модулей) с независимыми функциями – более выгодная стратегия. Разработчики используют только «минимально необходимую» информацию. Все остальное проходит мимо них. В технике такой подход известен как абстрагирование – отсечение ненужных подробностей (чем выше уровень абстрагирования, тем меньше мелких подробностей). Понятие «слоев абстрагирования» связано с той информацией, которая вам известна или не известна. Слои абстрагирования не всегда связаны с иерархической структурой и даже с принципиально отличающимися компонентами. Атлас мира содержит множество слоев абстрагирования, хотя каждый из них выражен в одном и том же виде. На первой странице показана карта мира. Вы видите океаны, континенты и, возможно, названия крупнейших рек и горных массивов. Но на ней отсутствует львиная доля сведений – не показаны страны, города, дороги, малые реки и горы. Перелистнув страницу, вы попадете в следующий слой абстрагирования: на континентах будут уже страны, их столицы, реки и горы. Листайте дальше, и вы найдете более подробную карту одной страны с ее основными магистралями и менее важными городами. В каждом слое абстрагирования вам открывается все больше и больше деталей и все меньше информации остается неизвестной. Впрочем, знать множество подробностей не всегда полезно: если вы просто хотите сравнить океаны по величине, для вас не важно, что между провинцией Руссильон и коммуной Фонтан-де-Воклюз есть пешеходная тропа.
Однако в сложной системе информация не просто скрыта. У каждого слоя своя специфика. Чтобы перейти из одного слоя в другой, надо виртуализировать необходимую информацию, то есть вывести некие отвлеченные сведения на определенный уровень. В примере с «Боингом» разработчик кресел знает только то, что ему требуется – стандартные параметры, позволяющие предусмотреть подвижность кресла, но ограничивающие процесс проектирования так, чтобы все кресла аккуратно умещались в салоне. Ничего, что касается аэродинамики, топлива, даже количества пассажирских мест, инженер не знает. По своему опыту могу сказать, что конструкторы самолетных кресел явно не подозревают о существовании людей ростом выше 180 см.
В нашем примере кресла – взаимозаменяемые модули. Функционирование кресел не влияет на способность самолета летать. Поэтому конструктор кресел знает о самолете больше, чем вы, но меньше, чем специалист, отвечающий за корпус авиалайнера. Вместе с тем инженерам по турбинам не нужна информация о конструкции кресла, а нужно многое другое.
Природе это известно с незапамятных времен, и в процессе эволюции организмов она задействует ту же стратегию. Различные системы в вашем мозге эволюционировали с расчетом на независимую работу. Например, функции слуховой системы не зависят от обоняния. Слуховая система не получает информации о запахах, да и для обработки слуховой информации она не нужна. Вы можете потерять обоняние и прекрасно слышать жужжание пчелы.
В многослойной структуре каждый слой системы работает автономно, потому что в каждом слое приняты свои специфические протоколы – комплекс правил и условий, которые накладывают ограничения на допустимые пограничные слои, или взаимодействия, как внутри данного слоя, так и между слоями. Вернемся к самолетному креслу. Инженер может сколько угодно играть с дизайном кресла, оставаясь в рамках нормативных параметров – протокола для уровня кресла. Протокол для слоя накладывает свои ограничения, но в их пределах оставляет достаточно гибкости.
Каждый слой в «этажерке» обрабатывает сигнал, полученный с предыдущей «полки», по своему протоколу, а результат передает на полку выше и/или возвращает на полку ниже. В следующем слое процесс повторяется уже по его собственному протоколу, который может быть таким же, как в нижнем слое, или совершенно иным, и новый результат поступает дальше, в более высокие слои. Ни одному слою неизвестно, какую информацию получил предыдущий слой и как она была обработана. В этом нет нужды, поэтому информация остается скрытой (абстрагированной). Протоколы позволяют каждому слою обрабатывать только ту информацию, что получена с соседних слоев. Информация, сформированная в результате обработки, может быть передана вверх и вниз. Тут кроется ловушка – в многослойной структуре информация не может перескочить через ступеньки. То есть шестой слой не может заниматься интерпретацией сигнала, выпущенного с четвертого слоя, поскольку в нем нет протокола для расшифровки такого сигнала; следовательно, нужен промежуточный пятый слой. Задача каждого слоя – обслужить те, что расположены выше, не раскрывая процессов, происходящих ниже[14].
Вот вам простой пример слоев с протоколами. Представьте себе, что вы оказались на вечеринке среди множества гостей из разных стран. Вы хотите поболтать с китаянкой – по-видимому, знакомой вашей сестры. Вы владеете только английским, а ваш партнер – английским и французским. Дама из Китая говорит только по-китайски, зато ее муж – по-китайски и по-французски. Каждый из вас играет роль слоя в переводческой «этажерке», причем в каждом слое используется собственный протокол преобразования входящей информации в исходящую. У вас есть протокол английской речи и передачи ее вашему партнеру. Ваш партнер принимает информацию от вас и, согласно протоколу обработки английской и французской речи, передает в следующий слой – мужу китаянки – французскую речь. Тот тоже владеет французским протоколом, но у него есть еще и протокол для китайского языка, и он передает жене китайскую речь. Гостья из Китая точно так же могла бы послать обратную информацию вам, однако ни вы, ни она не можете перепрыгнуть через промежуточные франкоязычные слои. Информация переходит по слоям вверх и вниз, но ее необходимо обработать в слоях с подходящими протоколами и передать в следующий слой. Самостоятельно вы ничего не сможете передать от английского стола китайскому за один этап.
Но при желании можно создать протокол передачи информации с английского на китайский. Многие так и делают. Это называется выучить язык, причем учиться можете не только вы, но и машины. Собственно, программисты применяют многослойную архитектуру уже давно – особенно в области искусственного интеллекта. Родни Брукс, гениальный профессор информатики из Массачусетского технологического института, выдвинул идею «категориальной архитектуры», которая много лет доминировала в робототехнике.
Звучит не очень понятно, хотя сама идея достаточно простая. В любой системе, будь то человек, компьютер, робот или библиотека, хранятся какие-то сведения. Общий их запас все время пополняется новой информацией. В идеале эта информация должна быть отнесена к той или иной категории, иначе говоря, усвоена существующей системой без осложнений. Роботу нужна именно такая архитектура.
Брукс отлично знал, что роботы не прошли проверку на категоризацию новых данных, потому что двадцать лет назад, когда он выдвинул эту идею, роботов бы заклинило, если бы на их пути оказался, скажем, зефир или вообще что-либо, чего нет в запрограммированном перечне объектов, которых следует остерегаться. Они не сумели бы перестроиться соответственно изменившимся условиям. А вот категориальная архитектура, будь она заложена в конструкции робота, позволила бы ему вносить изменения – раз за разом добавлять к существующим слоям новые. Каждый слой оказывал бы влияние на нижележащие и таким образом внедрялся бы в архитектуру более крупного масштаба. Как подытожил в «Энциклопедии психики» Хэрольд Пашлер, «ключевая идея состоит в том, что система не создает единого, цельного представления о мире – напротив, сенсорные сигналы обрабатываются по-разному на каждом уровне, так что между сенсорными данными и двигательными сигналами, необходимыми для управления исполнительными механизмами робота, устанавливаются более или менее прямые, специфические для поведения соответствия»[15]. То есть справляться с текущими трудностями роботу каждый раз помогают узкоспециализированные системы – быстродействующие, эффективные и полезные. Централизованной системы, которая меняла бы картину отклика, когда робот встречается с очередным незнакомым препятствием, не существует. Вместо нее добавляется отдельная инструкция для конкретной ситуации, так что разработчики все время добавляли новые и новые инструкции по преодолению все новых и новых трудностей, которые возникают в окружающей среде. Никто не пытается решить все и сразу с помощью одного главного органа. Новые слои добавляются в систему по мере поступления проблем. Это все очень напоминает модули, образующие многослойную архитектуру. Собственно, модуль и сам по себе может служить слоем – или же слой может складываться из нескольких модулей. Консолидированные (интегративные) модули, о которых шла речь в конце 4 главы, – это модули обработки информации, составляющие один из верхних слоев. Он получает информацию с предыдущей ступеньки и обрабатывает ее согласно своему протоколу так, чтобы выдать более сложный продукт – может статься, даже модель психического (модель психического мира другого) или самоосознание!
Слои обеспечивают гибкость. Внести обновления в многослойную систему легко и просто, благо менять приходится только один слой, сохраняя все остальные. Если же что-то пойдет не так, легко найти причину ошибки. Нет нужды отправлять в утиль или ремонтировать всю систему – достаточно исправить неполадки на одном или нескольких неработающих слоях. В многослойной системе вашего костюма вы можете сменить порванную рубашку, а вот новые брюки вам не понадобятся. Что касается мозга, возможно, вам будет труднее заменить его части, однако, если где-то возникнет сбой, вы не лишитесь всей системы.
Прелесть многослойной архитектуры в том, что она выполняет задачу для пользователя сложных систем, не посвящая его в подробности процесса. Высший слой смартфона – это слой приложений, и при такой схеме нам не надо знать или понимать, как работают остальные слои системы. Вряд ли вы хотите в обязательном порядке разбираться в протоколах распределения памяти каждый раз, когда вам надо отправить рассылку или щелкнуть фото. Точно так же мы должны поблагодарить судьбу за возможность пользоваться своим мозгом и не знать, как он работает. Нам неведом механизм превращения нашего обеда в энергию – мы просто съедаем его, и все. То же самое относится и к нашей психике. Мы понятия не имеем, как мы что-то делаем. Укажите на свой нос. Вы знаете, что, собственно, произошло? Вы не в силах ни понять, ни осознать, как это описывается с точки зрения формирования и передачи сигнала от нейронов к вашим мышцам. Мы используем свой разум – слои приложения в мозге, – чтобы произвести некие действия, которые составляют наше поведение, точно так же, как пилот авиалайнера использует программу, чтобы вести самолет. Но правда ли, что в живом мозге реализуется многослойная архитектура? Или это теоретическая модель, и на самом деле ей нет места в живой биологической системе?
Как это часто бывает, открытие нового подхода в науке или создание новой теории влечет за собой другое открытие – оказывается, те же идеи выдвигали и другие ученые, возможно, много лет назад. Сколько раз должны мы получить этот урок – что человеческая мысль является именно что мыслями человечества, которые на протяжении всей истории много кому приходили в голову? В данном случае нас интересуют Тони Прескотт, Питер Редгрейв и Кевин Герни из Шеффилдского университета. Все трое в нейробиологии, робототехнике и информатике, что называется, собаку съели и чрезвычайно умно распоряжаются полученными знаниями и опытом. В своей новаторской работе о многослойной структуре[16], написанной почти двадцать лет назад, они указали путь туда, где мы сейчас находимся. В начале этого пути стоит великий британский невролог XIX века Джон Хьюлингс Джексон. По всеобщему признанию, он был выдающимся врачом – скажем так, первоклассным жокеем. Но когда он брался за перо, то, к сожалению, пересаживался на захудалую лошадку – его труды почти недоступны для понимания. К счастью, другие жокеи, оседлавшие фаворитов, расшифровали его работы для всего мира.
Ученых и медиков, в том числе и Джексона, вдохновил Дарвин. В ходе естественного отбора мозг вел себя, как сенсорно-моторный механизм, и у каждого вида развился свой набор способностей. У человека за координацию действия отвечают высшие, самые сложные слои, но базовые способности вписаны как в высшие, так и в нижние слои. Так, кошка и крыса с удаленной корой мозга по-прежнему демонстрируют различные типы мотивированного поведения – передвижение, вылизывание шкурки, еду и питье. Однако некоторые более сложные поведенческие реакции в отсутствие коры невозможны. Как пишут Прескотт и его коллеги по Шеффилдскому университету,
[Джексон] разделил нервную систему на нижнюю, среднюю и высшую центральные и предположил, что в этой последовательности выражен прогресс от «максимальной организованности» (максимальной жесткости) к «минимальной организованности» (максимальной изменчивости), от «максимальной автоматичности» к «минимальной автоматичности» и от самой «чистой рефлекторности» к наименее «чистой рефлекторности». Эта тенденция предполагает повышение компетенции в том смысле, в каком мы сейчас представляем себе разделение в поведении – высший отдел центральной нервной системы связан с теми же видами сенсорно-моторных координаций, что и низшие, но в большей степени опосредованно[17].
Джексон сразу разглядел последствия своей концепции слоев и ввел в неврологию термин диссоциация – предположил, что те или иные расстройства поведения должны вызываться специфическими поражениями мозга. Если вывести из строя высшие слои, реагировать на раздражители будут только нижние. А они реагируют в пределах своих ограниченных возможностей, что и было описано для кошки, лишенной коры головного мозга.
Само собой разумеется, эта первопроходческая работа подняла вопрос о том, шло ли развитие мозга в процессе эволюции по многослойной схеме. Добавлялись ли отделы мозга медленно, но верно, и подтверждают ли это исследования в области сравнительной анатомии? Да, так оно и есть, и здесь Прескотт блистает. Он разворачивает перед нами длинную, затейливую и увлекательную историю: у всех позвоночных их нынешняя нервная система начала развиваться более 400 миллионов лет назад с базовой схемы – со спинного мозга, нижней части ствола головного мозга, среднего мозга и переднего. Шли тысячелетия, и в переднем мозге формировались модули и слои, что привело не просто к более сложным формам старых структур, а к появлению новых. Например, по мере того как конечности все более ловко выполняли разные действия с предметами, для управления новыми периферийными манипуляторами – иначе говоря, пальцами – нейронная площадь для этих модульных слоев должна была увеличиваться. У позвоночных с развитыми пальцами эти новые нервные пути прослеживаются отчетливо, а если пальцев нет – отсутствуют вовсе. И – в точности так, как предсказывал Джексон, – повреждения переднего мозга приводят к расстройствам функций одной группы модулей, ответственной за тонкую моторику руки, однако другие модули, управляющие более базовыми движениями всей руки, не страдают.
Любой популяции животных выгодно обладать способностью к эволюции, поскольку на этом свойстве зиждется адаптация к новым трудностям. Это определяется как способность организма к фенотипической изменчивости, генерированию наследуемых характерных признаков[18]. Характерный признак, сохранившийся под воздействием естественного отбора, передастся следующему поколению. Всем известный пример – клюв земляных вьюрков с Галапагосских островов, который может быть как совсем маленьким, так и очень большим[19]. И все же один из вопросов, поставленных дарвиновской теорией естественного отбора наследуемых изменений, таков: каковы предпосылки изменчивости и как возникали новые признаки? Самый ходовой ответ – что во всем виноваты главным образом случайные мутации генов – объясняет далеко не все. Биологи ломают головы над этим вопросом уже много лет.
В том числе и биологи из Гарварда Марк Киршнер и его коллега из Беркли Джон Герхарт[20]. Их интересовало, есть ли у современных животных клеточные и эволюционные механизмы с такой характеристикой, как способность к развитию. Иными словами, способны ли они генерировать наследуемую фенотипическую изменчивость? И подвергается ли давлению естественного отбора сама способность к эволюции? То есть, если биологическая система производит больше наследуемой фенотипической изменчивости, повышаются ли ее шансы выиграть эволюционную гонку вооружений?
В животном мире наблюдается невероятное разнообразие форм тела, структур тканей, развития и физиологии организма. И в то же время цепочки, регулирующие экспрессию генов, равно как и многие основополагающие процессы – например биохимические и передача клеточных сигналов, – у всех одинаковы. Кое-какие основные процессы роднят нас, живых существ, с растениями, грибами и миксомицетами – так, деление клеток управляется одними и теми же ферментами. Другие – метаболизм и репликация – у нас протекают так же, как у всех живых организмов вплоть до бактерий. Почему? Потому что у нас много общих геномных последовательностей. В отличие от некоторых своих коллег, Киршнер и Герхарт не считают, что эти основные процессы сдерживают эволюцию. На самом деле они уверены в обратном. По мнению этих ученых, обилие общих основных процессов, их стабильность в течение вот уже 530 миллионов лет и прекрасные результаты объясняются тем, что такие процессы не только не сдерживали, а, напротив, обеспечивали приспособляемость, позволяя передавать потомству удачные генетические вариации. Обеспеченная этими процессами приспособляемость сводилась к фенотипической вариативности в неустойчивых по отношению к внешним переменам процессах. Таким образом, основные процессы стали тем ограничением, которое гарантировало эволюционную изменчивость в непредсказуемой окружающей среде.
И вы совершенно правы, если видите здесь протокол для многослойной архитектуры – «ограничения, которые снимают ограничения». Дойла и Олдерсона огорчает, что биологи большей частью недооценивают роль многослойной архитектуры в формировании изменчивости. Возможно, многослойная архитектура, столь распространенная в биологических системах, и развилась потому, что ее способность генерировать новые признаки в условиях наложенных ограничений давала устойчивость в конкурентной борьбе и была отобрана по принципу «слой или смерть!».
Одно дело распознать многослойную архитектуру, и совсем другое – понять, как взаимодействуют разные слои. Поступающая на один слой самая разнообразная информация должна быть обработана и конвертирована в доступную для восприятия следующим слоем форму. Основные ограничения в многослойной системе накладываются на образование связей между слоями[21]. Подходящая иллюстрация для этой особенности многослойной архитектуры – песочные часы или галстук-бабочка, где протоколу соответствует ограничивающий узел, а сигналы поступают и выходят, как крылья банта. В нашем прежнем примере с проектированием самолетных кресел протокол – это уровень кресла, параметры которого служат узлом. Входящей информацией можно считать все виды стройматериалов, форму, расцветку и так далее. Исходящей – любые модели из разных материалов разных цветов, лишь бы размеры и функции кресел удовлетворяли протоколу. Система в целом подчиняется ограничениям, но вместе с тем, по выражению авторов, это система без границ[22]. Набор входящих сигналов может быть преобразован в разные типы исходящих, поскольку теперь задача слоя может выполняться разными способами. Когда об этом думаешь, кажется, что творятся чудеса. Глядя на робота с правильной многослойной архитектурой, почти веришь в то, что опутанная проводами система с заданным набором реакций и впрямь способна мыслить, чувствовать и сомневаться, словно живое существо. Эту гибкость системе дает ее архитектура[23].
Тот факт, что многослойный протокол накладывает ограничения и одновременно раскрепощает систему, имеет решающее значение. Я хочу, чтобы вы это твердо усвоили, так что вот вам еще один пример. Вернемся опять к многослойной экипировке и рассмотрим целый ряд возможных вариантов для каждого слоя. Скажем, уровень утепления (его ограничивающий протокол – удерживать тепло тела) в качестве входящих условий допускает все типы одежды, а исходящих – различные варианты костюма. Это может быть плащ-накидка из медвежьей шкуры с шерстяными штанами, пальто из шерстяной ткани с кашемировым свитером и штанами из овчины, куртка из полипропиленового флиса с норковым жилетом и брюки из прорезиненной ткани для гидрокостюмов. Ваша одежда может застегиваться на молнию или надеваться через голову, это может быть комбинезон или комплект из куртки со штанами. Возможен высокий отворачивающийся воротник, а манжеты и низ штанов могут быть на резинке, но это необязательно. Цвет и размер – любые. Протокол слоя утепления, несмотря на ограничения (удерживать тепло тела), одновременно снимает ограничения разными способами, что предоставляет вам широчайший выбор. По Дарвину, это естественный отбор признаков вида. Мы видим, как приспособляемость позволяет слою эволюционировать от накидки из медвежьей шкуры до куртки из полипропиленового флиса цвета фуксии, размера L, с капюшоном и на молнии. И с карманами. Это наглядная иллюстрация важнейшего свойства многослойной архитектуры – она разрешает изменения, которые происходят в течение длительного времени, от нарядов Фреда и Уилмы Флинтстоунов до костюма Armani и платья Valentino.
Многослойная архитектура, при всей своей гибкости, не лишена недостатков. Давайте добавим к вышеописанным преобразованиям теплой одежды новое условие – костюм должен быть «стильным». Это уже задачка потруднее. Чем больше в протоколе условий, тем жестче ограничения. В этом смысле унифицированная система без многослойных процессов будет работать лучше, потому что в ней нет независимых протоколов для каждой функции. Не забудьте, что протокол – это комплекс правил, или технических условий, который предопределяет допустимые интерфейсы, или взаимодействия, как внутри слоя, так и между слоями. Проще было бы взять дорогой материал, который убережет вас от холода и сырости, и сшить один удобный, легкий и практичный комбинезон. Кинул его в дорожную сумку, а когда понадобится – быстро надел. Возможно, вы будете выглядеть в нем даже стройнее и более стильно! Тогда вам хватило бы одного этого предмета одежды на всю оставшуюся жизнь. Мечта!
Однако для сложной системы единообразная функциональная структура – не лучший вариант, ведь из-за одной малейшей неполадки весь процесс может пойти насмарку, да к тому же такую систему труднее усовершенствовать. Напоретесь на гвоздь, порвете одну штанину своего идеального комбинезона, и он пропадет весь целиком. В многослойной системе у вас хотя бы оставались резервные части, и починить ее или что-то в ней заменить было дешевле и легче. Мало ли, вдруг изобретут более качественный, дышащий материал? Чтобы получить такой бонус, придется выбросить старый костюм и купить новый, а это дорого. На обслуживание унифицированной системы требуется больше времени, энергии и средств, то есть вы идете на компромисс и за более высокую эффективность получаете более дорогую и не такую устойчивую систему. Система, каждый слой которой обеспечивает выполнение различных функций, – более гибкая в целом, что дает ей огромное преимущество в изменчивой внешней среде. С точки зрения эволюции, это идеальный тип структуры, потому что слабых мест не так уж много, а возможностей для модификации – великое множество. Когда в окружающей среде что-то поменяется, такие системы смогут адаптироваться быстрее и легче. В общем, для сложной системы наиболее выгодна многослойная архитектура, так как ее проще восстановить и адаптировать к новым условиям, она требует меньших затрат и лучше развивается.
Вместе с тем многослойные системы не застрахованы от сбоев в протоколе. Если система сломается, окажется в кризисной ситуации или даже будет захвачена, могут наступить катастрофические последствия. Например, из-за нарушения протокола на уровне шитья разойдутся швы на ваших шерстяных штанах, и тогда одежда перестанет выполнять свои функции – с тем же успехом вы могли бы облачиться в дикарскую юбку из травы и листьев. Если биологическая система – ваш организм и будут атакованы протоколы иммунной системы, у вас может развиться аутоиммунное заболевание. Из-за множества компонентов и уровней подсистем эффект от взаимодействий в сложной системе может быть непредсказуемым. Небольшая ошибка в каком-нибудь фрагменте системы может не слишком сильно повлиять на его частные локальные функции, но при его взаимодействии с другими фрагментами значение такой ошибки вырастет и она повлияет на работу всей системы. Такое непредсказуемое взаимодействие может привести к гибели системы[24].
Нарушения в протоколах могут расшатать самую устойчивую систему, но есть один плюс – во всей системе не так уж много ключевых точек для атаки. Более того, поврежденная сложная система способна худо-бедно существовать, а вот унифицированная может и вовсе отказать, если хотя бы один ее компонент подвергнется атаке.
Почему нельзя просто устранить ошибки в системе? Почему нельзя избавиться от точек атаки? Дело в том, что новые методы решения одной проблемы неизбежно влекут за собой появление новых дырок, и их тоже придется латать. Повышение устойчивости – это гонка вооружений, в ходе которой в системе образуется все больше и больше слоев, и она становится все сложнее и сложнее. Эволюция нашего сложного мозга и организма из того самого первичного бульона – как и авиалайнера из болтов и гаек велосипеда братьев Райт – стала не чем иным, как результатом гонки вооружений с добавлением одного за другим слоев, обеспечивающих устойчивость в борьбе с хрупкостью. Вспомните Черную королеву, которая бежит все быстрее и быстрее, чтобы остаться на месте. Неужели нет нам спасения? Можно принять контрмеры – сделать систему избыточной.
Протокол слоя ограничивает варианты исходящей информации, но не диктует выбор варианта. Ограничения, которые снимают ограничения, – это не то же самое, что причинно-следственная зависимость. Условие может ограничивать количество исходящих вариантов, но не является причиной выбора того или иного варианта. Когда вы собираетесь в гости, ваш гардероб – и, возможно, ваши представления о том, как следует одеваться на светское мероприятие, – накладывает ограничения на костюм, но не предписывает вам выбирать определенные предметы одежды. Свобода выбора остается. Протокол ограничений, снимающих ограничения, не предопределяет жестко конечный вариант. Если не отдавать себе отчета в том, что вы имеете дело с протоколом многоуровневой архитектуры, подобное заблуждение может существенно навредить. Этак вы, пожалуй, решите, будто картину возбуждения нейронов, иначе говоря, «состояние мозга», можно восстановить по вызванному этим состоянием поведению. Выдающийся нейробиолог Ив Мардер ясно показала ошибочность такой логики на примере кишечника омара[25].
Мардер изучала «уровень пищеварения» омара по перистальтике его кишечника. Она выделила и рассмотрела все до одного нейроны и синапсы, участвующие в сокращениях кишки омара, вплоть до работы нейромедиаторов. Вы можете подобрать миллиард вариантов вечернего костюма из имеющихся у вас вещей, комбинируя их так и эдак – например, надевая носки на руки или юбку поверх джинсов, – вот и Мардер нашла в этом крошечном кишечнике 2 миллиона возможных сетевых комбинаций. Но, как и с вашими нарядами, предписанные протоколом ограничения сужают спектр исходящих вариантов – функциональной оказывается лишь малая их часть. Вы же не надеваете трусы поверх брюк и жакет под коктейльное платье, хотя могли бы. Как и в случае с вашей коллекцией одежды, небольшая доля от миллиарда или от двух миллионов – это все равно достаточно широкий выбор. Фактически работоспособными оказываются один-два процента – в любой момент времени от ста до двухсот тысяч сочетаний этой кучки нейронов вызывают одинаковое поведение. Подобно тому, как существует множество вариантов сочетания одежды, на уровне моторики задача может быть выполнена многими способами. Это пример многовариантной реализуемости, наглядное представление о том, что, когда дело касается возбуждения нейронов, возможны разные альтернативы. Иными словами, одни и те же свойства, состояния и проявления психики могут быть обусловлены различными паттернами активности нейронов. Казалось бы, пустая трата биохимической энергии и эволюционного времени. Но это означает, что если одна ниточка рвется, тут же натягивается другая.
За счет способных к адаптации компонентов, которые могут обслуживать различные процессы, многослойные системы сводят к минимуму затраты на ресурсы. Так, за выполнение различных функций, связанных с передачей сигналов и петлями обратной связи (что обеспечивает управление системой на разных слоях), отвечают многие белки биохимического уровня мозга[26]. Энергия в системе экономится, поскольку отпадает необходимость развивать несколько компонентов, специфических для каждого слоя.
Оптимизация затрат происходит также благодаря контролю повреждений за счет параллельных процессов. Например, в многоклеточных организмах существует клеточный уровень, где клетки функционируют независимо друг от друга и вступают в обменные процессы по отдельности, а есть уровень тканей, состоящих из дружно функционирующих клеток, которые выполняют задачу ткани согласно протоколу ткани. На клеточном уровне каждая клетка следует собственному протоколу, и он может совпадать с протоколами других клеток в пределах данной ткани, но функционируют клетки сами по себе. Если одна из них повредится, ремонтировать ткань не придется – достаточно будет привлечь ресурсы для восстановления одной клетки. Кроме того, если клетка погибнет безвозвратно, ткань все равно будет делать свое дело, поскольку потеря одной независимо работающей клетки обычно остается незамеченной. Но если выйдет из строя ключевой элемент, передающий информацию от одного уровня к другому, эта система, как и любая иная многоуровневая, может оказаться в опасности. Что касается биологической ткани, то – если дефект возникает в белках, связывающих клетки, – может прекратиться передача информации от слоя индивидуальных клеток к слою ткани, и в итоге перестанет работать вся система. Многоуровневая конструкция биологических систем неидеальна, однако у нее есть свои плюсы, так как она минимизирует количество уязвимых мест, повреждение которых влечет за собой глобальную катастрофу, а также ограничивает влияние повреждений в других местах.
Как полагают Киршнер и Герхарт, легко изменяемые признаки мостят дорогу организмам с более сложным развитием, поскольку динамичные системы обычно менее подвержены смертельным мутациям. Благодаря фенотипической изменчивости, которую обеспечивает многоуровневая архитектура, популяции организмов получают шанс эволюционировать. Таким образом, «способность к эволюции» многоуровневых систем, по-видимому, внесла огромный вклад в их долгосрочную успешную выживаемость.
Мы вступаем на тонкий лед. Нам понятно, что сложные биологические системы устроены по многоуровневому иерархическому принципу, но пока неясна общая роль уровней и трудно сказать, каковы их функции и какие в них протекают процессы. Одни системы, например бактерии, изучены лучше, другие – в частности, как вы догадываетесь, мозг – хуже. Фундаментальными составными структурами биологической системы являются самые ранние с точки зрения эволюции композиционные уровни, как их называет Дойл, которые состоят из субатомных частиц, атомов, молекул и прочих элементов, каждый со своим протоколом. Другие уровни могут включать в себя частицы, чьи протоколы описывают внутри- и межмолекулярные взаимодействия, третьи содержат протоколы осуществления динамических взаимодействий, описывающие изменения и развитие, а на контролирующих уровнях протоколы частиц задают обратную связь для настройки отклика системы. Протоколы контроля регулируют поведение системы, когда она сталкивается с различными внутренними и внешними возмущениями. И уж в чем мы точно уверены, так это в том, что системам контроля во взрослеющем человеческом мозге требуется больше времени для полного развития, чем многим другим системам. Если вы в этом сомневаетесь, попробуйте нарушить покой подростка.
Контроль предупреждает случайные действия в системе и тем самым обеспечивает порядок и безошибочную работу. Задумайтесь: если наши нейроны начнут возбуждаться как попало, мы не то что по канату пройти не сможем, а даже ложку до рта не донесем. Системы контроля могут быть настроены как на оптимальный режим для выбора тактики поведения при усредненном, безразличном к риску сценарии, так и на строгий, чувствительный к риску контроль поведения в неблагоприятных условиях. Оптимальные контролирующие системы, как и следует из их названия, – лучший выбор для решения конкретной задачи. Однако при других непредвиденных обстоятельствах они могут оказаться в той или иной степени ненадежными[27]. По этой причине в современных технических системах используется преимущественно строгий контроль – впрочем, скрытый, обнаружить его можно лишь по тому признаку, что в норме не происходит ничего вроде аварий, срыва потока и тому подобных вещей[28]. «Боинг-777» триумфально преодолевает грозовые зоны именно благодаря тому, что его системы управления не оптимизированы для полета в безоблачном небе, а настроены на жесткий контроль при плохой погоде.
Большинство нейробиологов придерживаются той точки зрения, что системы контроля в мозге оптимизированы, однако нейробиолог, инженер и врач Дэниел Уолперт с этим не согласен. По его мнению и мнению его коллег, регуляция моторики у человека лучше всего объясняется строгим контролем[29]. В системах строгого контроля предусмотрены жесткие ограничения по надежности и эффективности[30], в них все время ищется компромисс между скоростью и точностью, скоростью и приспосабливаемостью, приспосабливаемостью и эффективностью, скоростью и затратами и так далее. И все эти компромиссы детально задокументированы в самых разнообразных сознательных и подсознательных процессах обработки информации[31].
Для Уолперта контроль моторики – это основа основ. Один из ярых приверженцев идеи о верховенстве моторики, он принадлежит к славной когорте ученых, в которую входят нобелевский лауреат сэр Чарльз Шеррингтон, автор слов «цель жизни – не размышления, а действие», и Роджер Сперри, который призывал нас «объективно рассматривать мозг как то, чем он и является, – как механизм для управления двигательной активностью»[32]. В конце концов, еда на столе и дети появляются в результате активных действий, а не размышлений. Наши предки выжили и оставили потомство благодаря своим активным действиям. Уолперт – вероятно, лидер в этом направлении на сегодняшний день – утверждает, что мы обладаем мозгом исключительно потому, что способны двигаться, подстраиваясь под внешние условия[33]. Прежде чем сердито возразить, вспомните, что сердце – это мышца, без сокращений которой вы не выживете. Мы добываем пищу, пережевываем и перевариваем ее тоже за счет двигательной активности. Без еды мозг не может функционировать и, безусловно, не может создавать творческое пространство нашей жизни – литературу, искусство и музыку, – ибо без двигательной активности, которая средствами устной и письменной речи, жестов и мимики реализует творческие мысли во внешнем мире, оно в любом случае не вышло бы за пределы внутреннего пространства мозга. Мы должны задуматься о том, на какую позицию выводит нас эта мысль. Если наш мозг эволюционировал как система управления моторикой тела, то мышление, составление планов, память, чувственные восприятия и прочее – все это только инструменты, усложняющие многоуровневую архитектуру, созданную ради ужесточения контроля над моторикой в условиях изменчивой и непредсказуемой среды обитания. То же самое справедливо для обучения и когнитивной деятельности. Как всегда в таких случаях, добавленные в ходе эволюции уровни неизбежно привносят в систему и свои уязвимые точки.
Если вы нечаянно коснетесь раскаленной плиты, автоматический рефлекс вызовет вашу исходящую реакцию – вы отдернете руку раньше, чем осознаете боль. Это регулирование по механизму обратной связи на уровне периферической нервной системы. Быстродействующие, крупные, покрытые оболочкой (следовательно, дорогостоящие) нейроны спинного мозга в тот же миг, без помощи сознательного мозга, побуждают вас отскочить от вызывающего боль раздражителя. Это автоматический рефлекс, быстрый, требующий больших затрат энергии, не подчиняющийся осознанию, но не поддающийся изменчивости. Вы отдергиваете руку одним легким движением, не бывает такого, чтобы рука тихонько затрепетала, словно крылышки бабочки. Однако спустя мгновение подключаются медленные и тонкие специфические нервы и передают информацию о раздражителе: ой-ой-ой, пальцу больно! А что потом? Медленное осознание генерирует различные реакции – что следует сделать, чтобы облегчить страдания сейчас и не испытать их снова в будущем: вы можете сунуть палец в рот, в миску с ледяной водой или смазать соком алоэ. Вы намерены больше никогда не прикасаться к включенной конфорке. Когнитивный процесс – точный, экономичный и изменяемый, но медленный. Иногда можно и не спешить, однако при определенных условиях промедление смерти подобно.
Обучение и когнитивную деятельность можно принять за такие хитроумные уровни контроля, которые развились в попытках просчитать пока еще не возникшие раздражители и выработать устойчивость перед потеницальными потрясениями. Один из способов – использовать обратную связь из прежнего опыта с теми же раздражителями (память), но такая обратная связь может дать больше, чем настройка стимулирующей входной информации. Со временем можно внести изменения в протокол уровня – этот процесс мы называем обучением.
Различные механизмы обучения позволяют людям, животным и некоторым другим организмам подготовиться к будущему. Впервые попробовав невкусную еду, животное научится впредь избегать этого раздражителя. Как известно, факт обучения свершился, если та же самая входная информация («Горячо! Не трогай») по прошествии какого-то времени вызывает другую реакцию организма. Протокол «ешь птиц» изменился на «ешь любых птиц, кроме ворон», а «потрогай, чтобы понять, что это» на «потрогай, чтобы понять, что это, но не трогай плиту».
Хотя нам от рождения свойствен некоторый автоматизм – скажем, врожденный болевой рефлекс, – каким-то автоматическим поведенческим реакциям мы учимся. Благодаря тренировке кое-какие формы поведения можно переместить с замысловатого, но медленного уровня сознательного контроля на более низкий, но быстродействующий уровень автоматических бессознательных действий. Например, когда вы отрабатываете свинг в гольфе, память о предыдущих попытках подсказывает вам, где приземлится мячик. Выполнив замах и удар, вы смотрите, куда упал мяч, – и получаете обратную связь. Да что ж такое! Тогда вы делаете следующую попытку и бьете чуть иначе, чуть более удачно. По длине замах нормальный, но немного шире, чем надо. Ладно, выполним свинг еще раз. Хорошенько потренировавшись, вы будете почти всегда посылать мяч точно в цель – если, конечно, вам не помешают ни внешние возмущения вроде порыва ветра или шуточки, отпущенной под руку вашим приятелем, ни внутренние, такие как чувство жажды, напряжение в мышцах или непрошеные мысли о… да неважно, о чем. Вам больше не надо будет думать о контроле своих движений, вы доведете их до автоматизма.
Устойчивость к будущим возмущениям подразумевает, в частности, и планирование того опыта, которого вы, возможно, еще не испытывали. Мы представляем себе картину будущего, исходя из внутренних моделей. Вспоминаем прошедшие события и перетасовываем воспоминания, пытаясь выработать план действий в той или иной возможной ситуации. Следовательно, протокол моделирования будущего на этом специфическом уровне контроля является ограничивающим и освобождающим одновременно. Именно это вы и делали, когда выбирали экипировку для северной экспедиции по принципу обратного конструирования. Сначала, памятуя о своем прежнем опыте в похожих ситуациях, вы спрогнозировали вероятные трудности и представили себе свои ощущения в будущем. Вы вспомнили, что чувствовали тогда не то, что хотелось бы, и на этот раз, желая приспособиться к внешним условиям, подобрали более устойчивое к холоду и влаге облачение. По мере накопления опыта и сформировавшихся под его влиянием воспоминаний в протокол планирования закачивается больше информации, и она может составить более широкий спектр будущих сценариев. Чем богаче ваш опыт, тем более широкий выбор предоставляет вам мозг.
Применить концепцию уровней к такой невероятно сложной биологической системе, как мы с вами, на деле означает встать на определенную позицию, выработать идеологию для анализа работы нежного биологического организма. Разбиение объектов на уровни подсказывает инженеру принципиальный подход к конструированию мозга. Несмотря на то, что никто еще не приблизился хоть сколько-нибудь к этой цели, нейробиологам, которые неустанно трудятся в своих лабораториях, изучая нейроны и небольшие нейронные цепи, эта концепция помогает понять, как интерпретировать свои открытия. Становится примерно ясно, как организовать сложную, насыщенную локальными структурами систему, чтобы решить грандиозную задачу – например, построить тот самый оперный театр.
Глава 6
Дедушка слабоумный, но в сознании
Неважно, насколько изящна ваша догадка. Неважно, насколько вы умны и находчивы… Если ваша догадка противоречит опыту, значит, вы ошибаетесь.
Ричард Фейнман
Сознание живуче, его не так просто подавить. Я понял это, когда мне посчастливилось несколько лет проработать в неврологических отделениях. Из обследований пациентов с повреждениями разных зон мозга, из разговоров с ними мне стало очевидно, что отключить сознание очень и очень сложно. За исключением тех ситуаций, когда в коматозном или вегетативном состоянии из-за обширного поражения коры нарушается деятельность всего мозга в целом, сознание в той или иной форме сохраняется. Подобные состояния могут возникнуть, если оставить дома велосипедный шлем, когда он абсолютно необходим, либо вследствие образования тромба, разрыва или кровотечения в мозговой артерии, передозировки наркотиков или удаления опухоли, расположенной неблагоприятно для хирургического вмешательства. В любом другом случае можно навсегда утратить какие-нибудь способности, может измениться характер и даже личное восприятие реальности, но сознание никуда не денется. Конечно, для ученых поиски сознания в мозге – своего рода поиски святого грааля, но, уверяю вас, если бы в мозге такая вещь существовала, ее бы уже давно нашли.
Два последних тысячелетия человеческой истории ученые старались отыскать некий источник, общий фактор – духовную сущность, железу в переднем мозге, бессмертную душу, область мозга, – ответственный за такие вещи как язык, память, внимание и сознание. На самом деле мы знаем, в каких частях мозга формируются речь, память и внимание, хотя механизма этих бесценных способностей никто толком не понимает. Но стоит нам заняться поисками главного центра в мозге, связанного с сознанием, как мы начинаем путаться в словах и заходим в тупик, потому что выглядит все так, будто этой области не существует. Клиническая неврология настоятельно рекомендует нам попробовать взглянуть на эту проблему под другим углом.
Хорошо известно, что некоторые поражения ствола головного мозга производят разрушительное действие на сознание, эффект такой силы, что люди впадают в кому и зачастую уже из нее не выходят[11]. Но это совсем другое. Если разорвать контакты аккумулятора в вашей машине, больше она ездить не будет. Вы не сможете завести ее и посмотреть, на что она способна. Точно так же с поражением мозгового ствола – подавляющее большинство отделов мозга больше никогда не заведется. В предельных случаях наблюдать уже нечего и информацию о сознании искать бессмысленно.
Однако, вооружившись теорией о модулях и уровнях, мы можем взяться за решение загадки сознания, устойчивого к разнообразным тяжелым травмам мозга. Мы должны выработать подход к анализу поведения большинства пациентов с нарушениями функций мозга. Мы должны понять, почему сохраняется сознание.
В целом живучесть сознания можно объяснить большим количеством модулей, которые, несмотря на травмы или другие патологии, продолжают функционировать как обычно. В распоряжении мультимодульного мозга имеется великое множество каналов доступа к сознательному опыту. Если один из них выйдет из строя, другие откроют обходные пути. Чтобы отключить сознание, надо заставить замолчать все модули, участвующие в формировании состояния сознания. Пока этого не произойдет, исправные модули будут передавать информацию от одного слоя другому и генерировать субъективное переживание опыта. Вероятно, содержание сознательного опыта будет отличаться от нормального, но само сознание сохранится. В психоневрологической клинике можно увидеть, как разнообразные поражения мозга влияют на сознание, и получить представление об устройстве мозга. Оказывается, непрестанные флуктуации нашей когнитивной деятельности, которыми руководит кора мозга, зависят от великого множества эмоциональных состояний, которые вечно меняются под контролем подкорковых структур.
Наш первый пациент мог бы быть чьим-нибудь дедушкой. Он пожимает мне руку, как своему знакомому, но вот кто я, ему понять трудно. Он не помнит, чтобы в последние два дня мы встречались. Он страдает самой распространенной формой деменции – болезнью Альцгеймера, которую связывают с образованием и скоплениями бета-амилоида в мозге. Иными словами, у него значительное поражение нервной ткани по всему объему мозга. Не так давно появились факты против существующей уже около двадцати лет гипотезы о том, что болезнь Альцгеймера вызывается амилоидами, и сейчас предлагаются другие теории[1]. Так или иначе, эта патология приводит к медленной дегенерации мозга – поначалу в основном к гибели нейронов в энторинальной коре и гиппокампе, что приводит к потере кратковременной памяти. Губительный эффект болезни может быть столь значительным, что характер человека кардинально меняется и жизнерадостный, отзывчивый дедушка превращается в индифферентную оболочку своего бывшего «я». Однако наш пациент, хотя и не узнает меня, не забыл правил вежливости и пожимает мне руку. Он может пытаться поддерживать разговор, но все равно испугается, если собьется и потеряет нить, и рассердится, если не будет знать, что делать дальше. Любые активные, функционирующие нейронные цепи обеспечат ему сознательный опыт, но по мере сокращения функции его сознательный опыт становится все более ограниченным. Скорее всего, этот сознательный опыт содержит странную информацию, совсем не ту, что заключена в здоровом мозге и индивидуальности пациента в прошлом. Отсюда и странное поведение.
Например, ранее общительный дедушка в своей апатичной модификации может все так же воображать себя «душой компании», каким он всегда был. Сиделки и родственники больного часто списывают его неадекватную самоидентификацию на неясную природу недуга. При этом преморбидный тип личности, который рисуют для своего любимого человека его друзья и родные, очень похож на то, что говорит о себе он сам в состоянии болезни[2]. На этом основании можно предположить, что обманчивое представление дедушки о своем нынешнем характере, по-видимому, объясняется его неспособностью к обновлению своих представлений. Из-за деменции дедушка остался с устаревшей самооценкой. Пока бьется его сердце, сознание будет стойко переносить необратимое отмирание его дегенерирующего мозга, пусть и с пробелами в измененном информационном наполнении.
Давайте теперь заглянем к другому пациенту, назовем его мистер Б. Его проблема совсем иного рода. Он уверен, что ФБР проявляет к нему особый интерес и следит за каждым его шагом. Более того, агенты ФБР ведут видеозапись слежки и выкладывают все материалы о нем в открытый доступ в виде шоу. Естественно, это не дает мистеру Б спокойно жить, и он старается вести себя так, чтобы не попадать в неловкое положение. Он принимает душ в костюме для плавания и переодевается под простыней. Он избегает общения с другими людьми – ведь ему известно, что все они актеры и хотят обыграть ситуацию так, чтобы «Шоу мистера Б» стало более захватывающим. Трудно даже представить себе, каково это – оказаться на месте мистера Б. Но вместе с тем при тщательном изучении его истории болезни можно увидеть, что абсолютно здоровая и разумная кора головного мозга стремится извлечь здравый смысл из ненормальных процессов, происходящих в другом отделе мозга – подкорке.
У мистера Б хроническая шизофрения. Среди факторов риска этого заболевания можно назвать генетическую предрасположенность и взаимодействие генотипа с окружающей средой. Внешние факторы, повышающие риск, – детство в «городских джунглях»[3], иммигрантский быт[4], особенно при социальной изоляции (если общение ограничено небольшой группой таких же соотечественников[5]), и пристрастие к марихуане[6]. Какие бы доказательства против ошибочного убеждения ни предъявили мистеру Б, он все равно будет уверен, что за ним постоянно наблюдают миллионы чужих глаз. Ключевой симптом шизофрении заключается в восприятии больным человеком якобы чрезвычайно важных для него сигналов, которых здоровый человек даже не заметит[7], – скажем, кто-то, прикрывшись газетой, смотрит именно на вас, или на дорогу специально подбросили камень, чтобы вам навредить. Смещение акцентов в восприятии важных событий – наиболее значимых для человека и отвлекающих его внимание – явление в расстройствах шизофренического спектра настолько распространенное, что сейчас все чаще звучат предложения отказаться от термина «шизофрения» и переклассифицировать эту патологию в «синдром дизрегуляции салиенса[12]»[8].
Если реакция нейронов, вызванная сенсорным сигналом, сильнее реакции на другие стимулы, такой сигнал становится более значимым и притягивает к себе внимание. Шитидж Капур, психиатр, нейробиолог, профессор Королевского колледжа Лондона, объясняет разницу между галлюцинациями и иллюзиями: «Галлюцинация отражает непосредственное восприятие неверно оцениваемой значимости внутреннего образа», в то время как иллюзия (заблуждение) – это результат «когнитивной деятельности пациента по осмыслению восприятий, ошибочно оцененных как важные»[9]. На процесс восприятия и отображения значимости в мозге влияет количество нейромедиатора дофамина. Проявления шизофрении во время острого психотического состояния связаны с усилением синтеза и выделения дофамина, а также его содержания в синапсах при состоянии покоя[10]. По мнению Капура, при психозе происходит функциональное нарушение регуляции дофамина, что сначала приводит к аномальному возбуждению дофаминовой системы, затем к изменению нормального уровня нейромедиатора и наконец, вследствие этого, к искаженной оценке мотивационной значимости объектов, людей и действий[11]. Эта гипотеза подтверждается исследованиями[12]. Искаженная оценка важности сенсорного стимула порождает сознательный опыт совершенно иного содержания, чем следовало бы ожидать, притом что реальность мистера Б строится именно на этой информации и его сознание должно осмыслить именно этот опыт. Если принять во внимание информацию, содержащуюся в сознательном опыте мистера Б, то его галлюцинации и попытки придать смысл его заблуждениям кажутся не такими уж идиотскими, а вполне возможным, хотя и маловероятным объяснением тех ощущений, которые он испытывает. С учетом этого поведение, обусловленное его когнитивными решениями, выглядит уже разумнее. И, несмотря на патологическое нарушение функции мозга, мистер Б остается в сознании и свою жизнь воспринимает сознательно.
Впрочем, поведение может быть ненормальным и тогда, когда бодрствует лишь часть абсолютно здорового, функционирующего мозга. В многоуровневом мозге одновременно и слаженно происходит множество активных процессов. Но что если процессы рассинхронизируются – если все уровни будут работать, но не в лад? Наш следующий пациент – мистер А, и это, пожалуй, самый жуткий случай.
Мистера А, по отзывам родных и друзей, прекрасного семьянина, разбудили лай собак и незнакомые голоса. Он торопливо спустился по лестнице и увидал внизу нескольких вооруженных полицейских, готовых стрелять[13]. Ошеломленного, ничего не соображающего мистера А в наручниках затолкали на заднее сиденье полицейского автомобиля, и, сидя там, он вслушивался через окно в разговор сотрудников экстренных служб, трясясь от страха и силясь понять, что происходит. Он уловил, что его жена смертельно ранена, и решил, что полиция явилась сюда в поисках виновника преступления. Лишь позже он понял, что злодея уже нашли – и это он сам.
Обессилев от ужаса, мистер А не мог вспомнить ничего, кроме того, что несколько часов назад он спал в своей постели. В полиции ему рассказали о случившейся трагедии. Мистер А жестоко убил свою жену, как потом определили, во время приступа сомнамбулизма. В таком состоянии он встал с кровати и отправился чинить фильтр в бассейне, о чем жена просила его за ужином. Должно быть, она проснулась и спустилась за ним, чтобы отвести его обратно в спальню. Его оторвали от работы, он пришел в ярость и нанес жене сорок пять ударов, после чего убрал инструменты в гараж, пошел назад, обнаружил, что она еще жива, и столкнул ее в бассейн, где она и утонула. Затем он вернулся в спальню. Полицию вызвал сосед, который услышал крики и лай, выглянул из-за забора и увидел, как мистер А, «явно плохо соображая», катит тело в бассейн.
В голове не укладывается, как можно убить собственную любимую жену, будучи в состоянии сомнамбулизма. Но поскольку у мистера А не было явного мотива, он не пытался спрятать тело и орудие убийства и ничего не помнил о произошедшем, суд присяжных решил, что мистер А действовал непреднамеренно и не отдавал себе отчета в том, что делал. Если так, то что же происходило в голове и разуме мистера А, когда его охватило неистовство?
Сомнамбулизм относится к парасомнии, расстройствам сна, это аномальное поведение во время сна. По результатам многолетних исследований с проведением электроэнцефалограмм сомнологи выявили две основные фазы сна – сон быстрых движений глаз и медленно-волновой сон. Приступы сомнамбулизма, превращающие человека в спящего на ходу, обычно наступают после резкого и неполного спонтанного пробуждения в медленной фазе, которая длится в течение первых двух часов ночного сна. Пытаться разбудить лунатика бесполезно и даже опасно, так как физический контакт может быть воспринят им как угроза и он может жестко отреагировать. В норме медленная фаза сменяется быстрой, при этом мышечный тонус падает, что предупреждает движение. В большинстве случаев сомнамбулизм не приносит никакого вреда и нередко дает повод свидетелю рассказать забавную историю, начав ее с такой преамбулы: «Ты не представляешь, что ты вытворял сегодня ночью!» И если человек лунатик, то и впрямь не представляет, потому что ничего не помнит о своих ночных похождениях.
Со стороны, как правило, кажется, что при парасомнии люди ведут себя иррационально и непонятно. Они могут посреди ночи начать пылесосить или возиться в саду, не обращая внимания на то, что их окружает. Порой лунатики затевают весьма сложные и потенциально опасные предприятия – принимаются косить газон, чинить мотоцикл или уезжают на машине. Столь непростые действия заставляют усомниться в том, что в таком состоянии человек и впрямь не сознает, что делает. Хотя и нечасто, но бывает, что подобные случаи заканчиваются насилием. Когда дело доходит до суда, вопрос о преднамеренности таких действий становится решающим, что обостряет споры о сознательном поведении людей, гуляющих во сне.
Картирование активности мозга и электроэнцефалография позволили получить более ясную картину мозговых процессов во время медленно-волнового сна[14], эпизодов сомнамбулизма[15] и при конфузионном пробуждении[16]. Оказывается, мозг наполовину спит, наполовину бодрствует – мозжечок и ствол функционируют при минимальной активности большого мозга (полушарий) и коры. Проводящие пути, участвующие в управлении сложной моторикой и генерированием эмоций, работают в полную силу, а те, что связаны с лобной долей и необходимы для планирования, внимания, оценочных суждений, распознавания выражений лица и управления эмоциями, отключены. Лунатики ничего не помнят о своих выходках, и ни шум, ни крики их не разбудят, потому что части коры мозга, ответственные за обработку сенсорной информации и формирование новых воспоминаний, спят, они отключились на время, отсоединились и никак не участвуют в непрерывном сознательном процессе.
Вероятно, мистер А воспринимал события сознательно, но совсем не так, как он же воспринимал бы их в состоянии бодрствования. Исходя из концепции многослойного мозга, мы можем предположить, что определенные модули «низшего уровня», формирующие сознание, оставались активными, и это позволило мистеру А уверенно двигаться в нужном направлении и испытывать эмоции, в то время как другие, на относительно «высоком уровне», бездействовали, спали, не дав ему шанса понять, что происходит, узнать жену, услышать ее крики и запомнить случившееся. Определенные зоны мозга оказались разъединены и изолированы в масштабе всей системы; за поведение и сознательный опыт отвечали лишь отдельные модули. Погруженная в сон кора мозга, к несчастью, оставалась наглухо закрытой и ко всему безучастной. Когда оковы сна пали, молчавшие модули мистера А очнулись в кошмарной реальности. Те области его здорового мозга, которые во время этого страшного происшествия бодрствовали и которым не мешали процессы обработки информации модулями когнитивного контроля в спящей коре, инициировали поведение, вовсе не свойственное этому человеку, обычно доброму и не склонному к насилию. Именно тот факт, что действия мистера А полностью противоречили его личностным характеристикам и нравственным нормам, дал присяжным основания вынести вердикт «невиновен».
Напротив, одно из самых тяжелых и мучительных поражений мозга – травма его ствола, точнее, переднего отдела моста. Гибель нейронов, соединяющих мозжечок с корой, приводит к параличу при полном сознании. Широкую известность получил случай Жана-Доминика Боби, главного редактора французского журнала Elle, который в сорок три года перенес инсульт именно с такими последствиями. Он вышел из комы спустя несколько месяцев в полном сознании, с сохранившимися когнитивными функциями, но подвижность сохранило только его левое веко[17]. Ему пришлось ждать, пока кто-то не заметил, что он моргает – и явно сознательно. Это называется «синдром запертого человека». Те, кому, с позволения сказать, повезло, способны моргать или вращать глазами по своей воле, пусть это лишь небольшие и довольно утомительные для них движения. Так они могут общаться. Другим и этого не дано.
Нередко проходили месяцы, а то и годы, прежде чем те, кто ухаживал за больным, могли догадаться, что их подопечный все понимает, что медицинские процедуры без обезболивания заставляют его страдать и что он слышит разговоры о себе, но не в силах вмешаться. Когда стало ясно, что Боби в сознании, он воспользовался своей способностью моргать. Свой опыт жизни в параличе он описал в книге. Лежа в кровати, он сочинял и запоминал фразы. Затем его секретарь по четыре часа в день, сидя рядом с ним, перечисляла буквы французского алфавита, и Боби моргал, когда слышал нужную букву. Для книги «Скафандр и бабочка» понадобилось двести тысяч морганий. В прологе Боби описывает состояние человека, который пришел в себя: «Парализованный с головы до ног пациент замурован в собственном теле, он мыслит, но этого не видно, и единственным средством общения становится левый глаз, которым человек может моргать»[18]. Он пишет, что практически не может шевелиться, но чувствует боль, однако далее продолжает:
…разум теперь может порхать как бабочка. Столько всего предстоит сделать. Можно воспарить в пространстве или во времени, отправиться на Огненную Землю или ко двору царя Мидаса. Можно нанести визит любимой женщине, проскользнуть к ней и погладить ее еще сонное лицо. Можно строить воздушные замки, добывать Золотое руно, открывать Атлантиду, воплощать свои детские мечты и взрослые сны[19].
Боби – пример неограниченных адаптационных возможностей человека. Собственно, такие пациенты, по-видимому, должны уметь приспосабливаться, раз 75 % из них и не помышляют о суициде или думают об этом редко[20]. Даже при столь катастрофическом поражении части ствола мозга сознание сохраняется, а вместе с ним – полный спектр чувств, связанных с настоящим и прошлым опытом.
Повреждение модулей и уровней, а также нарушение их функций может привести к отклонениям в поведении. Как широко распространенные повреждения и нарушения в коре мозга при болезни Альцгеймера, так и специфические расстройства при травме ствола постепенно проясняют картину: для того чтобы уловить состояние вечно меняющегося сознательного опыта, необходимо разобраться в процессах, которые протекают и в коре, и в подкорке. Может быть, все эти сиюминутные осознанные мысли рождаются на базе нескольких специфических эмоциональных состояний, отчего эти мысли воспринимаются субъективно? Может быть, это хорошо укладывается в концепцию многоуровневой архитектуры мозга, притом что более древние с точки зрения эволюции системы работают без непосредственного контроля со стороны когнитивных уровней – хотя по-прежнему дают организму команды драться или убегать, искать партнера для спаривания или есть? Не укажет ли нам модель многоуровневой архитектуры путь к пониманию того, какие особенности нашей организации делают нас сознательными?
Существует устоявшееся мнение, что за все формы сознания отвечает кора мозга – без нее мы были бы неспособны к сознательной деятельности на всех уровнях, то есть не просто превратились бы в бессознательных существ, а еще и впали бы в вегетативное состояние[21]. Однако кора может быть просто набором дополнительных узлов (приложений!) для расширения диапазона сознания. Она, конечно, дает нам кое-какие наборы динамических – то есть изменяемых и всегда активных – ментальных навыков, но в наших непосредственных субъективных ощущениях, возможно, не играет важной роли. Кора мозга, словно оболочка, прикрывает несколько подкорковых нейрональных сетей, необходимых для поддержания сознательного состояния. В кому впадают тогда, когда повреждаются подкорковые зоны, при этом человек или животное перестает реагировать на возбудители и со стороны кажется, что он/оно без сознания[22]. Даже сохранившая все свои функции кора мозга не может компенсировать ущерб от подобных травм подкорки.
В былые времена граница между сознательным и бессознательным определялась главным образом как смысловая. Оттого, что трудно дать определение субъективному ощущению реальности, термину «сознание» не хватает объективности. Споры об определении основных признаков сознания не утихают именно по этой причине. Но стоит только перешагнуть порог клиники, как идентификация состояний сознания становится самой что ни на есть насущной задачей – уже не чисто смысловой, а еще и этической. Не давать обезболивающее пациенту, который все чувствует, хотя вы не подозреваете об этом и полагаете, что он без сознания, – значит его мучить. При всей неопределенности, связанной с термином «сознание», есть неопровержимые факты, указывающие на то, что для активизации некоторых форм сознания кора не нужна. Видимо, подкорковым системам хватает собственных ресурсов для создания субъективных ощущений.
Такие факты можно найти в клинической педиатрии. К великому сожалению, иногда дети появляются на свет с анэнцефалией (без коры мозга из-за пороков развития или генетики) или с гидранэнцефалией (с минимально развитой корой, нередко из-за внутриутробной травмы или заболевания). Нейробиолог Бьорн Меркер еще в начале своего профессионального пути заинтересовался подкоркой. Обескураженный крайне скудной информацией по этой теме (при немногочисленных описанных и изученных случаях детской гидранэнцефалии), он вступил в международную группу родителей и опекунов таких ребятишек в интернете, чтобы больше узнать о них и их состоянии. С некоторыми семьями он познакомился поближе и провел с ними неделю в Диснейленде. За эту неделю он увидел, что такие дети «не только ясно сознают, что происходит, и зачастую реагируют довольно быстро, но и демонстрируют неравнодушие к внешним событиям в форме ориентировочных рефлексов и эмоциональных реакций на происходящее… Если им что-то нравится, они улыбаются и смеются, если нет – начинают «суетиться», выгибают спину и плачут (со всеми оттенками плача), и эти эмоциональные состояния отражаются в их мимике. Ориентируясь на их реакцию, сопровождающие детей взрослые могут строить стратегию игры с предсказуемым переходом от улыбки к коротким смешкам, громкому смеху, а иногда и к сильному радостному возбуждению»[23]. Дети испытывали эмоции, переживали субъективный опыт и находились в сознательном состоянии без участия коры мозга и когнитивных функций, которые она обеспечивает. Вы безошибочно отличите их от детей, у которых есть кора, но они осознают реальность и проявляют адекватные эмоциональные реакции на стимулы.
Спустя годы Меркер пришел к выводу, что за базовую способность к субъективному сознательному восприятию отвечает средний мозг. Смысловое содержание опыта, безусловно, вырабатывает кора, но сама эта способность появляется благодаря структурам среднего мозга. Этическое значение этого очевидно. Как пишет Меркер, родители нередко сталкиваются с удивлением медиков, когда просят проводить их детям необходимые инвазивные процедуры с анестезией.
Главный довод против того, что такие дети воспринимают мир посредством подкорковых структур, основан на том факте, что почти у всех них в какой-то степени присутствует кора мозга. Тем не менее, несмотря на значительные различия в немногих сохранившихся частях коры (при сомнительной их работоспособности), дети ведут себя последовательно, причем их поведение асимметрично ассоциированной с ним ткани. Например, обычно сохраняется слух, хотя слуховые ткани коры сохранены мало у кого, а зрение, скорее всего, будет плохое, несмотря на более или менее развитые у многих зрительные зоны коры.
Теорию Меркера подкрепляют исследования эмоциональных реакций животных. Нейробиолог Яаак Панксепп, эстонец по происхождению, посвятил полвека изучению природы эмоций у животных. Он различает два вида сознания – более раннее в плане эволюции аффективное сознание (осознание непосредственных ощущений эмоций) и сформировавшееся позднее когнитивное сознание (то, которое позволяет обдумать ощущения эмоций). В одной из своих лекций он рассказал о том, как в конце курса проводил со своими студентами итоговую лабораторную работу. Каждому студенту предоставили для исследования по паре крыс. У одной крысы кора мозга была удалена с сохранением только подкорки. Другой провели фиктивную операцию – животное прооперировали, но ничего в мозге не тронули. Студентам предстояло за два часа протестировать крыс по различным методикам, освоенным за время курса. По истечении контрольного времени они должны были сказать, у которой из крыс нет коры, и объяснить свое решение. Двенадцать из шестнадцати человек признали здоровыми с точки зрения неврологии крыс без коры мозга!
Студенты наблюдали у этих крыс типичное мотивированное поведение – животные искали пищу, спаривались, противостояли угрозе или спасались бегством, резвились с другими крысами[24]. Такое поведение показалось студентам достаточно обычным для крыс, чтобы можно было счесть их нормальными! Если бы единственным посредником в процессе сознательной деятельности была кора мозга, то после ее удаления крысы не должны были бы реагировать ни на приставания сородичей, ни на что-либо еще. Однако отсутствие коры отнюдь не подавило их основные способности и реакции, и это означает, что для поддержания многих видов поведения, включая эмоциональное и мотивационное (о них пойдет речь ниже), достаточно механизмов, протекающих в верхнем отделе ствола мозга.
Исследования детей с гидранэнцефалией и крыс, лишенных коры мозга, дают основания предположить, что подкорковые структуры могут преобразовывать необработанные нейронные сигналы в некое подобие базовых эмоций. Подкорковым зонам мозга присуща своя динамика, они развивались на ранних этапах эволюции, и у всех известных науке млекопитающих сходны по анатомическим, нейрохимическим и функциональным показателям[25]. Как считал Панксепп, эти отделы мозга, генерирующие эмоции, которые мы испытываем, одинаковы у людей и других животных, а естественный отбор они прошли, потому что повышали выживаемость. Каким образом? Эмоции играют роль внутренней системы кнута и пряника, благодаря ей животное понимает, насколько оно преуспело в борьбе за выживание. Положительные эмоции подбадривают животное, в то время как отрицательные, в зависимости от интенсивности, служат индикатором любых нежелательных ситуаций, от сомнительных до очень страшных. Таким образом, эти внутренние чувства, при всей их относительной примитивности на уровне сознания, позволяют оценить обстановку и являются мощными драйверами поведения.
Того же мнения придерживаются ученые из Калифорнийского технологического института Дэвид Олдерсон и Ральф Адолфс[26]. Они считают, что эмоция – это бессознательное состояние центральной нервной системы, вызванное специфическим стимулом, внешним (например, появление хищника) или внутренним (скажем, воспоминание). Отвечающая за такое состояние нейронная группа при активации запускает множество параллельных процессов, формирующих поведенческую реакцию, ощущения, когнитивные изменения и соматические реакции вроде учащенного сердцебиения и пересохшего рта. Почувствовать что-либо можно и без участия сознания, которое сообщило бы об ощущении.
Как считает Панксепп, можно выделить семь основных эмоциональных и мотивационных состояний, характерных, по-видимому, для сознания как людей, так и животных на поведенческом и нейронном уровне: ПОИСК, СТРАХ, ЯРОСТЬ, ПОЛОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ, ЗАБОТА, ГОРЕ и ИГРИВОСТЬ. Эти ощущения, большей частью связанные с функциями подкорковой лимбической системы, побуждают животных к такому поведению, которое способствует успешным поискам пищи, укрытия и пары, уходу от опасности, защите себя и своего рода, выстраиванию отношений с родней и партнерами. Если мы рассматриваем сознание как субъективное ощущение чего-либо, то эмоции следует считать основополагающим компонентом сознания.
Панксепп сделал следующий вывод: эмоции оказались столь эффективным и жизненно важным инструментом, что в приблизительном виде закодировались в геноме и консервативно сохранялись у всех млекопитающих, а уже на более поздних ступенях эволюции дополнительная структура – кора мозга – создала механизмы обучения и когнитивной деятельности более высокого порядка, позволившие их отшлифовать[27]. Раз такие ощущения появились раньше, чем ткани коры, значит, все необходимое для формирования чувств, сопутствующих сознательному опыту, должно быть заложено в путях передачи информации, специфических для подкорковых нервных сетей. Возможно, если мы изучим многоуровневую структуру подкорковых нервных сетей, то сумеем более правильно оценить важность самой примитивной формы сознания. Эмоции и мотивирующие ощущения животных, как и спровоцированное ими поведение, могут многое поведать нам о том, как модульные системы приводят сознание в действие, и, вероятно, укажут на чисто человеческие особенности сознания[28].
Джозеф Леду из Нью-Йоркского университета, дотошно изучивший нейронные сети тревоги (поначалу он называл их сетями страха), придерживается другой точки зрения. Он опирается на два основных тезиса. Первый – что устраивающего всех, общепринятого определения эмоции до сих пор нет, а второй – что не все согласны с утверждением о единстве базовых эмоций. В таком случае как можно с уверенностью различать эмоции и прочие психологические состояния и как сравнивать эмоции у разных видов? Леду пишет: «Попросту говоря, мы занимаемся подтасовками. Анализ нашего собственного субъективного опыта подсказывает нам, что одни состояния психики связаны с определенными «чувствами», а другие нет». В связи с этим утверждение, что сходное поведение животных говорит о сходстве переживания, вызывает у него сомнения[29]. По его мнению, для эмоциональных ощущений надо иметь кору мозга. Он полагает, что подкорковые сети влияют на эмоциональное поведение и физиологические реакции, но не создают непосредственно субъективные ощущения. Для создания субъективных ощущений, уверен Леду, требуется еще и когнитивная стадия, и это обеспечивается кортикальными сетями более высокого уровня, которые считывают и интерпретируют эмоциональное поведение. Здесь он не одинок. За подобные когнитивные теории «считывания» проголосовало бы большинство специалистов, занимающихся эмоциями. Леду полагает, что сознательные ощущения – это двухстадийный процесс, и возникают они тогда, когда определенные области префронтальной коры, ответственные за кратковременную память, реагируют на физиологическую реакцию.
Пока кипят страсти из-за эмоций, мы можем сохранять нейтралитет, благо концепции многослойной архитектуры мозга согласуется с обоими сценариями. Главное – в создании полноценного сознательного опыта участвуют как подкорка, так и кора мозга. С одной стороны, эмоциональные переживания детей с гидранэнцефалией точно такие же, что и у детей с хорошо развитой корой. Поскольку внешнее поведение одинаково, мы готовы приписать детям с гидранэнцефалией мета-осознание (осознание способности к осознанию) их сознательного опыта в полном объеме. Осознают ли они собственный опыт? Не имея коры мозга с ее необходимыми для когнитивной деятельности функциями, они не в состоянии понять, что осознают свое восприятие. Чтобы вы могли до конца осознать, что у вас есть сознательный опыт, как минимум, должны функционировать оба уровня.
Не слишком ли мы переоцениваем кору, если в подкорке и так есть все необходимое для сознания? Ни в коей мере! Смысл в том, что нельзя недооценивать подкорку. Зная, какую роль в сознании играют подкорковые процессы обработки информации, мы приобретаем более основательную базу для понимания того, почему так трудно избавиться от этого назойливого ощущения чувств. Судя по специфическим отклонениям в поведении, которые часто наблюдаются при повреждении коры мозга, эта область явно важна для смыслового наполнения сознания. Какова же роль коры мозга в формировании сознания? Кора расширяет наши возможности восприятия мира, благодаря чему наши сознательные реакции и переживания становятся бесконечно разнообразными.
Каждый вид обладает корой особенного типа, что гарантирует свое, характерное содержание сознательного опыта. Сознание человека в частности включает в себя язык. Только люди сумели придумать систему удобных значков, определенные сочетания которых сообщают другому человеку конкретное мысленное представление о некоей абстрактной идее. Мы не только способны учить язык – мы еще и биологически устроены так, чтобы усваивать его[30]. Как уже говорилось в 4 главе, различными аспектами обучения языку, понимания и создания его занимаются области всего нашего мозга. Еще раз заглянув в больницу, мы увидим, что повреждение определенной зоны лишает человека способности понимать слова, хотя он по-прежнему способен составлять грамматически верные бессмысленные фразы с правильными просодией и интонацией. Если будет повреждена другая зона, мы поймем фразы, но не сможем их строить. В третьем случае не сможем произнести слова, но будем распознавать и понимать их. Дефекты такого рода порождают разный сознательный опыт, но ни один из них не лишит нас сознания как такового.
Язык делает наш сознательный опыт богаче, но мы и без него сохранили бы сознание, хотя многое стали бы воспринимать иначе. Вспомним французского «маугли» из Аверона по имени Виктор, вошедшего в историю как герой фильма Франсуа Трюффо «Дикий ребенок» 1970 года. Виктор жил в лесу, в полном одиночестве, и до 12 лет, пока его не нашли, не слышал речи, поэтому не научился говорить. Он явно обладал сознанием и имел сознательный опыт, правда, иного наполнения, чем можно было бы ожидать, владей он речью. Если функции одного из модулей не развиваются, в ход идут другие, которые создают альтернативный опыт.
Споры о том, генерируется ли сознание в первую очередь под влиянием подкорковых структур[31] или главную роль в этом процессе играет кора мозга[32], не утихают. Однако если говорить о функционировании мозга, то определенной модульной иерархии, которая позволяет сознанию проявляться тем или иным способом, может и не быть. Модули, каждый своего назначения, работают более или менее независимо, и содержание сознательного опыта не является результатом обработки информации в строго заданной очередности – это продукт своего рода конкуренции, когда в каждый момент времени сознанием завладевают определенные процессы, в то время как другие неактивны. С этой точки зрения сознательный опыт в том или ином виде могут производить модули как коры мозга, так и подкорки, без непременного участия «низших» или «высших» когнитивных систем. Скорее множество генерирующих его модулей просто вносит разнообразие в портфолио сознания. Чтобы наглядно показать, как это бывает, давайте попытаемся выжечь сознание каленым железом.
Один из самых невероятных и широко известных случаев поражения мозга – травма, которую получил на строительстве железной дороги рабочий Финеас Гейдж: тогда произошел взрыв и раскаленный металлический прут пронзил его череп в области левой фронтальной доли. Поразительно, но даже спустя минуты после происшествия Финеас, похоже, не утратил способности к сознательному восприятию. Лично я железному пруту в голову предпочел бы удар от Мухаммеда Али, подобный тому, что поверг на помост Сонни Листона, но – по крайней мере, ненадолго – Али своим нокаутом отключил сознание явно эффективнее. Сонни все-таки пришел в себя, а вот мозг Финеаса Гейджа был поврежден мгновенно и навсегда. Несмотря на потерю половины лобной доли, Финеас по-прежнему мог совершать те же действия, что и до несчастного случая. Однако манера его поведения кардинально изменилась – прежде вежливый рабочий превратился в невоспитанного хама[33]. Он вел себя менее сознательно по отношению к другим людям, но сам не стал ни на йоту менее сознательным. Внешне его прежнее сочувствие к коллегам уступило место агрессии и возбуждению, то есть несколько сократился диапазон доступных ему сознательных переживаний. Финеас Гейдж страдал так называемым синдромом лобной доли – левая половина его лобной доли перестала функционировать. Человеку с травмированной лобной долей трудно контролировать эмоции[34]. Утрату способности к управлению эмоциями можно объяснить «победой» подкорковых модулей, которые в отсутствие конкуренции со стороны сдерживающих модулей лобных тканей чаще захватывают власть над сознательным опытом. Вне зависимости от того, почему именно при синдроме лобной доли теряется эмоциональный контроль, всегда наблюдается один и тот же факт – человек по-прежнему находится в сознании.
Для огромного множества поражений мозга характерна общая картина – нарушение функции в зоне Х приводит к изменениям в поведении типа Y, но сознание почти всегда сохраняется. Благодаря огромному выбору путей, которые ведут к мгновенному акту сознательного восприятия, модульный мозг делает сознание устойчивым. Эти неврологические наблюдения можно объяснить только такой организацией мозга. Гибель модулей приводит к утрате специфических функций, но психика как ни в чем не бывало продолжает производить непрерывный поток сознания. Меняется лишь смысловое наполнение этого потока. Это не только доказывает, что мозг работает по модульной схеме, но и дает основания полагать, что каждый независимый модуль может генерировать собственную форму сознания.
Побывав в неврологической клинике, мы узнали, что само по себе значительное поражение мозга различной локализации не подавляет сознание. Могут пропасть некоторые типы осознаваемого опыта, но не сознание как таковое. Напрашивается вывод, что своего рода «Центрального вокзала», некой единой для всего сознания системы нейронного обеспечения в коре мозга, не существует, но любая зона коры способна продуцировать сознательный опыт при взаимодействии с подкорковыми процессами, а подкорковые процессы могут и сами генерировать сознательный опыт определенного типа. Таким образом, сюжетная часть сознательного опыта, по-видимому, обеспечивается обработкой информации в локальных модульных нейронных сетях.
Несмотря на выраженную независимость этих модульных систем, взаимодействие модулей помогает координировать поток сознания. Благодаря взаимосвязи каждый модуль получает самую свежую информацию о личном опыте человека. Точно так же, как новостные каналы рассказывают гражданам о текущих событиях в мире, взаимодействие модулей координирует информацию, гарантируя их слаженную работу в целом. Мы замечаем лишь такие взаимосвязи, которые срабатывают невпопад. Громкий шорох у вас в саду среди ночи вызовет в подкорке реакцию на опасность, и вы будете готовы позвонить в полицию, но в следующее мгновение включится когнитивный процесс, и вы поймете, что нахальный енот опять роется в вашем мусорном баке. Спасибо лимбической системе за то, что она быстро мобилизовала вас на борьбу с потенциальной опасностью, – впрочем, ничего страшного не произошло, просто добавится хлопот с утренней уборкой.
Вот это непрерывное взаимодействие мысли и чувства – иначе говоря, модулей подкорки и коры мозга – и создает то, что мы называем сознанием. Прилив сильных чувств и отвлеченные размышления, очевидно, ощущаются по-разному, однако любая форма сознания – это опыт, основа уникального восприятия действительности. Наша индивидуальная история жизни определяется закономерностями, по которым разнообразные формы сознательного опыта включаются в процесс осознания и вытекают из него. Лучшее объяснение многообразию форм и вездесущности сознания в мозге – модульная архитектура мозга. Теперь надо составить концепцию – каким образом сотни, если не тысячи встроенных в многослойную структуру модулей (притом что каждый слой способен генерировать формы сознания) в любой момент обеспечивают нам единовременный и обобщенный сознательный опыт, так что один эпизод плавно перетекает во времени в другой без видимых границ. Как мы узнаем в 9 главе, ключевая идея здесь – время. Это бесконечная цепь модулей, срабатывающих в самый благоприятный момент.
Подробности позже, а пока надо разобраться с более насущным и трудным вопросом. Можно строить разные схемы преобразования мозгом нейронных возбуждений в психические события, но в любом случае мы должны постараться понять, каков разрыв между этими двумя явлениями – объективным (связанным с нейронами) и субъективным (психическим) – и возможно ли в принципе его преодолеть. Можно думать, что состояния сознания, как мы их называем, возникают под контролем локальных модулей или центральных сетей мозга – все равно от этого разрыва никуда не денешься. Кое-кто полагает, что это нерешаемая задача.
Прежде чем подступиться к этому фундаментальному вопросу, нам придется вспомнить, о чем размышляли математики и физики последние примерно полторы сотни лет. Все-таки главные для истории человечества теории – относительности и квантовую теорию – создали они. Их мыслительная деятельность достигла запредельных высот человеческого разума, они разгадывали самые непостижимые тайны науки. Биологи, психологи и нейробиологи, можно сказать, пренебрегали плодами трудов математиков и физиков, считая, что это все не имеет отношения к проблемам сознания. Я же думаю, что мы сумеем извлечь пользу из их выводов, ибо физико-математическая идея о дополнительности (комплементарности), предполагающая двойственность описания и существования для одного объекта, осталась недооцененной. Поможет ли она нам разобраться с глубоким разрывом между психикой и мозгом? Позволит ли закрыть «логическую брешь» между реальностью физического мира – нашим материальным мозгом, который состоит из химических веществ, подчиняющихся законам физики, – и реальностью вроде бы нематериального субъективного опыта? Я полагаю, да, но давайте не будем забегать вперед, а познакомимся с физическими основами – возможно, важнейшими для нас.
Часть III
Рождение сознания
Глава 7
Принцип дополнительности: подарок физиков
Те, кто не испытал шока при первом знакомстве с квантовой теорией, вероятно, ничего не поняли.
Нильс Бор
В 1868 году физик, альпинист, просветитель и профессор Королевского института Великобритании Джон Тиндаль выступал на заседании физико-математической секции Британской ассоциации содействию развития науки. В своем докладе он обозначил следующую проблему:
Невозможно представить себе переход от физики мозга к соответствующим проявлениям сознания. Даже если определенная мысль возникает одновременно с определенным молекулярным процессом в мозге; у нас нет органа интеллекта, как нет и какого-либо рудимента подобного органа, который позволял бы нам совершить такой переход посредством рассуждений… «Как связаны эти физические процессы с проявлениями сознания?» Пропасть между этими двумя классами явлений пока еще остается непреодолимой для ума[1].
И вот спустя 150 лет мы не так уж далеко продвинулись, как нам хотелось бы. Мы изучили до известного предела электрические разряды, движение и группировки молекул и даже некоторые соответствующие состояния мозга; особенно это касается исследований зрения. Но, в отличие от Тиндаля, я считаю, что у нас есть орган, способный выполнить эту задачу. Надо только правильно сформулировать основные вопросы для темы о происхождении психики из мозга. Как нам следует трактовать этот крайне неудобный разрыв между нашей биологией и нашим разумом?
То, что провал (или разрыв) представляет собой проблему, признают все. Но только лишь 25 лет назад философ Джозеф Левин придумал для него официальный термин – разрыв в объяснении – и позднее описал его в книге Purple Haze («Лиловый туман»):
Мы понятия не имеем – и я настаиваю на этом, – каким образом объект физического мира мог бы создать субъект опыта, обладающий состояниями с полным набором качественных признаков, а не просто одним из них. Вот я смотрю на свой красный футляр для дискет и получаю зрительный опыт, признак которого – красный цвет. Свет определенного спектра отражается от футляра и определенным путем попадает на мою сетчатку. Далее в результате стимуляции сетчатки передаются импульсы глазному нерву, что в конце концов приводит к различным состояниям нервов в зрительной коре головного мозга. Где здесь события, которые объясняют мое восприятие красного цвета? По-видимому, между физическим и ментальным описанием нет никакой явно выраженной связи, и, следовательно, невозможно объяснить второе в терминах первого[2].
Левин оставляет нас перед пропастью, которая разверзлась между физическим уровнем взаимодействующих нейронов и туманным, как нам кажется, уровнем сознательного опыта. Например, мы понимаем, что боль вызывается возбуждением волокон типа С в нервной системе и почему возникает пауза между нашей двигательной реакцией и ощущением, но объяснение причинных связей ничего не говорит о самом ощущении боли как о субъективном восприятии.
На сегодняшний день проблема психика/тело базируется на двух надежных, но с виду несовместимых тезисах: (1) верна некая форма материализма, или физикализм; (2) физикализм не дает объяснения феноменальному сознанию, то есть непосредственным ощущениям, или квалиа. Выберите первый тезис – и вы материалист, второй – дуалист. Однако Левин без тени сомнения выбирает оба. Он материалист, и он считает, что факты непосредственного чувственного опыта не могут быть следствием фактов физических. Можно ли усидеть на двух стульях? Большинство философов и нейробиологов скажут, что нельзя – как же он это делает?
Левин отвергает интуитивное убеждение в кажущемся отличии физических событий от психических – тех, что в немалой степени знаменуют собой качественные восприятия. Скажем, задержка в ощущении боли – это факт чувственного опыта (феноменальный), который объясняется физическим фактом. Но Левина это не интересует. Признавая, что феноменальный опыт вызывается возбуждением нейронов, а сознание следует считать именно физическим явлением, он утверждает: «У сознательного опыта есть два взаимосвязанных признака – субъективность и качественный характер, – и оба они препятствуют упрощенческому подходу к объяснению на физическом уровне». Раз нельзя объяснить, почему возбуждение нейронов эквивалентно ощущению боли, и таким образом заполнить разрыв, то Левин выдвигает гипотезу: «Надо, чтобы сами термины по разные стороны знака равенства выражали различные вещи»[3]. Как ни странно, это выглядит так, будто Левин обратился к разновидности дуализма.
Впрочем, спустя годы Левин дал понять, что не верит в существование разрыва – пустоты между нейронами и субъективным ощущением. Он говорил лишь о том, что мы не знаем, как закрыть эту брешь. Конечно, пробелы, если подумать, встречаются в истории науки на каждом шагу, но обычно о них говорят как о пробелах в знаниях. В конечном счете, разрыв между психикой и телом Левин трактовал в том же смысле. Если прибегнуть к умным философским выражениям, он считал это вопросом противостояния эпистемологии и метафизики. Он рассматривал это как пробел в существующих представлениях о правильном объяснении подобных вещей. В этом смысле он, безусловно, был прав.
Австралийский философ Дэвид Чалмерс согласен с тем, что «разрыв в объяснении» есть, и настроен еще более решительно. Он твердо стоит на позиции (2): физикализм не дает объяснения феноменальному сознанию, непосредственным ощущениям, или квалиа. То есть Чалмерса можно считать дуалистом, хотя он сам уточнил бы: дуалистом с естественнонаучными взглядами. Он тоже считает, что состояния психики вызываются физическими системами мозга (это натуралистический компонент), но, по его мнению, психические состояния принципиально отличаются от физических и их нельзя объяснить исключительно работой физических систем[4]. Весьма незаурядная позиция для современного философа – но не для тех, кто далек от философии. Большинство ныне живущих на земле людей – дуалисты!
При этом в 1879 году Тиндаль, слегка перефразируя свою речь, произнесенную в 1874 году по поводу вступления в должность президента Британской ассоциации содействию развития науки, и предвосхищая нашу дискуссию, которая развернется в этой же главе чуть дальше, писал: «Будучи глубоко убежден в целостности природы, я не могу резко остановиться там, где уже нет пользы от микроскопа. Здесь на помощь глазам без колебаний приходит мысленный взор. По интеллектуальной необходимости я пересекаю границы экспериментальных фактов и вижу в этом «материале»… надежды и огромный потенциал всей жизни на Земле»[5]. Того же мнения придерживался Уильям Джеймс, который утверждал:
Судя по многим научным работам, условие целостности действительно обладает пророческой силой. Следовательно, мы сами должны добросовестно попытаться постичь процесс зарождения сознания со всех сторон, так чтобы этот процесс не выглядел вторжением новой, до тех пор не существовавшей природы во вселенную[6].
А также:
Как эволюционисты мы должны твердо стоять на том, что любые вновь появляющиеся формы жизни – на самом деле не что иное, как результат перераспределения первичных и неизменяемых материй. Наш мозг образуют те же самые атомы, которые были хаотически рассеяны в туманности, а теперь застыли на какое-то время в определенных позициях, и «эволюция» мозга, если разобраться в ее сути, должна быть просто описанием процесса улавливания и расстановки атомов. В этом процессе ни на одной стадии нет никаких новых сущностей или сил, которых не было бы с самого начала[7].
Похоже, за последние несколько десятилетий мы забыли, что человеческое сознание не возникло невесть откуда, полностью сформированное, в мозге древнего человека такого-то, – нет, оно развивалось постепенно из своих предшественников. «Для плавного хода эволюции сознание в том или ином виде должно было быть в начале всего сущего»[8], – продолжает Джеймс. Да, вот так давно. Если мы хотим постичь смысл разрыва между психикой и мозгом, нам надо глубоко вникнуть в другие важные вопросы, например, в проблему возможности происхождения жизни из неживой материи.
Как мы увидим в этой главе, чтобы понять суть различий между живой и неживой материей, нам придется признать неизбежную двойственность всех способных к развитию сущностей – то есть признать, что все живое может одновременно пребывать в двух разных состояниях. Вы убедитесь в том, что устранить изначально заложенную проблему разрыва между живыми и неживыми системами можно средствами физики и биосемиотики, не призывая в систему призраков. Знания из области этих наук подсказывают подход к решению проблемы подобных пробелов в целом и заполнения их в частных случаях, а также помогают нейробиологам составить дорожную карту, чтобы разобраться с разрывом между психикой и мозгом в рамках многослойной архитектуры и с протоколами, которые описывают взаимодействие слоев. Но сначала займемся физикой.
Эта история начинается с Исаака Ньютона и блестящего старта классической физики в семнадцатом столетии. Той самой физики, с которой большинство из нас мучилось в школе. Оказывается, история с яблоком – это быль. Ньютон сам рассказал об этом своему биографу Уильяму Стьюкли, вспоминая тот день 1666 года, когда он сидел под яблоней, предаваясь раздумьям:
Почему яблоко непременно летит вниз перпендикулярно земле… Почему не вбок или вверх? но всегда к центру земли? причина, конечно же, в том, что земля притягивает его. должно быть, в веществе есть притягивающая сила. и должно быть, притягивающая сила земного вещества сосредоточена в центре земли, а не где-нибудь с краю. следовательно, яблоко падает перпендикулярно, то есть летит к центру. если таким образом вещество притягивает другое вещество, это должно быть соразмерно его количеству. стало быть, земля притягивает яблоко, а яблоко точно так же притягивает землю[9].
Джон Кондитт, муж племянницы Ньютона, рассказывал о том, как рассуждал далее Ньютон – может ли эта сила распространиться за пределы земли: «Почему бы не ввысь, до самой Луны, спрашивал он себя, и если так, то это должно бы оказывать действие на ее движение и, вероятно, удерживать ее на орбите, и тогда он принялся за расчеты, к чему могла бы привести эта гипотеза»[10]. И расчеты были произведены. Результаты исследований «земного» движения, которые проводил Галилей, Ньютон облек в математическую форму, и теперь эти уравнения называются законами механики. Галилей показал, что если на тело не действуют никакие силы, то скорость и направление его движения остаются постоянными; тела обладают свойством сопротивляться изменениям характера движения, и это свойство называется инерцией; и наконец, трение представляет собой силу. Последнее из этих открытий представлено в третьем законе: всякому действию соответствует равное по величине и обратное по направлению противодействие. Размышляя о яблоках и выполнив различные расчеты, Ньютон пришел к закону всемирного тяготения и к пониманию того, что уложенные им в математические формулы законы «земного» движения справедливы и для наблюдений Иоганна Кеплера за движением планет. Неплохой итог трудового дня.
Так было сделано великое открытие. Ньютон предложил ряд понятных и неизменных математических выражений, которые описывали, без преувеличения, механику всех физических объектов во вселенной, – от мячей для игры в бочче до планет. Это универсальные и непреложные законы. Они не зависят ни от самого Ньютона, который их изучал, ни от Кеплера, ни от кого другого. Есть наблюдатели или нет, вселенная и все системы в ней послушно следуют этим законам, управляющим пространством, временем, материей и энергией. Если дерево падает в лесу, где никто этого не видит, звуковые волны все равно распространяются. Услышит кто-нибудь шум или нет – это другой вопрос, и, как мы скоро поймем, это принципиальное отличие прекрасно иллюстрирует суть нашей проблемы происхождения жизни.
Ньютон взбудоражил не только научную мысль. Считалось, что раз его законы универсальны, то теоретически они позволяют при известных начальных условиях предсказать любое событие в материальной вселенной. Следовательно, все предопределено, в том числе и ваши действия, поскольку вы тоже физический объект вселенной. Подставьте в уравнение нужные исходные параметры, и вы узнаете, что произойдет в будущем – даже то, чем вы займетесь вечерком после работы в следующий четверг. Но при таком подходе ускользает от внимания один важный момент. Как мы увидим в скором времени, исходные параметры в формулу подставляет экспериментатор по своему усмотрению, и его субъективный выбор – это что-то вроде волка в овечьей шкуре. Тут все не так уж просто.
Получается, что законы Ньютона идут вразрез со свободной волей и, таким образом, снимают с человека ответственность за его действия. Поначалу детерминизм овладел умами физиков, но довольно быстро под его влияние попали и многие другие. Тем не менее, хотя к ньютоновской точке зрения на мир еще надо было привыкнуть, открытые Ньютоном законы хорошо описывали большинство наблюдаемых в природе событий и в течение следующих двух столетий считались незыблемыми. Однако вскоре ньютоновская физика подверглась серьезному испытанию – ей пришлось иметь дело с новым изобретением, а именно с паровой машиной. В 1698 году военный инженер Томас Севери запатентовал первый промышленный механизм, предназначенный для откачки воды из затопленных угольных шахт. Со временем конструкцию паровых машин усовершенствовали, но у них остался весьма досадный недостаток – их производительность была ничтожно мала по сравнению с количеством сжигаемой в качестве топлива древесины.
Первые паровые машины рассеивали и забирали чересчур много энергии, поэтому работали крайне неэффективно. В полностью детерминированном мире, концепцию которого представил Ньютон, это казалось бессмысленным, и в итоге физики-теоретики столкнулись с загадкой явно потерянной энергии. Так родилась новая область науки – термодинамика, а вместе с ней изменились и представления о природе. Это касалось связи тепла и температуры с энергией и работой. Когда об этом задумались всерьез, физика изменилась навсегда, а детерминистский ньютоновский мир стал выглядеть несколько иначе.
Прошло немного времени, и проблема паровой машины привела к формулировке двух законов термодинамики. Первый из них гласит, что внутренняя энергия изолированной системы всегда постоянна. По сути, это вариант закона сохранения энергии, согласно которому энергию нельзя создать и ликвидировать, но одна ее форма может перейти в другую. Это утверждение полностью соответствует ньютоновскому детерминизму, но применимо в ограниченных условиях, так как справедливо только для закрытых и изолированных систем.
Со вторым законом термодинамики все гораздо интереснее и не так однозначно; в нем участвует новое понятие – энтропия. Второй закон говорит о том, что, скажем, тепло не может самопроизвольно перетекать оттуда, где холодно, туда, где теплее. Помню, как однажды я лично столкнулся с этой проблемой. Был морозный зимний день в Дартмуте, и я ждал у себя в кабинете одного физика, чтобы с ним побеседовать. Он шел ко мне через весь кампус Грин, по открытому всем ветрам пространству, и даже куртка его промерзла. Поздоровавшись, я весело заметил, что от одежды гостя, вошедшего с улицы, всегда веет холодом и мне самому становится холодно. Он посмотрел на меня и сказал: «Давайте-ка разберемся с физикой. Холод вам не передается. Это тепло вашего тела передается мне. Вы начинаете мерзнуть, потому что из вашего тела уходит тепло». Напомнив, что второй закон термодинамики может оказаться весьма кстати даже для объяснения явлений повседневной жизни, коллега добавил, что нам, пожалуй, следует взять на работу еще одного физика-теоретика.
Термин «энтропия» ввел немецкий физик XIX века Рудольф Клаузиус для описания «потерянного тепла». Это мера тепловой энергии, которая не может быть потрачена на полезную работу. Холодная куртка того физика увеличила мою энтропию, а вместе с тем уменьшилось и количество энергии, которая поддерживает тепло моего тела[11]. Второй закон – это область, где пропадает ясность. Если коротко, то теплообмен с участием курток и паровых машин необратим. Поборников ньютоновской теории и детерминизма в физике это известие шокировало. Время вдруг перестало быть обратимым – стрела времени летела только в одну сторону. Таким образом, термодинамика вошла в противоречие с универсальными законами Ньютона, которые гласили, что все в принципе обратимо. И вот эта подрывающая все устои мысль мало-помалу просочилась в другие концепции – даже, как мы увидим, в концепцию многослойной архитектуры и стратегию подхода к проблеме разрыва между психикой и мозгом.
Как ни странно, к середине XIX века химики уже приняли и взяли на вооружение атомную теорию, согласно которой все вещества состоят из атомов, а физики по-прежнему спорили о ней. Среди прочих ломал над этим голову и австрийский физик Людвиг Больцман. Его главной заслугой считается создание кинетической теории, где газ определяется как совокупность множества атомов или молекул, которые находятся в состоянии хаотического, неупорядоченного движения – постоянно перемещаются, сталкиваясь друг с другом и стенками сосуда. Больцман преобразовал идеи Гассенди XVII века в точную науку – сейчас этот раздел называется статистической механикой. С учетом типов и положения молекул кинетическая теория объясняла наблюдаемые макроскопические свойства газов – давление, температуру, объем, вязкость и теплопроводность.
Одним словом, Больцман сделал открытие огромной важности, что позволило впоследствии определить неупорядоченность системы (энтропию) как совокупный результат движения молекул. Он утверждал, что при таком неконтролируемом хаотическом движении атомов второй закон имеет смысл не в прямолинейном детерминистском толковании, в только в статистическом. Иначе говоря, перемещения той или иной частицы предвидеть невозможно. От сближения с той курткой моя система в целом стала менее упорядоченной. Как говорил Майкл Корлеоне, «ничего личного, только бизнес».
Больцман спровоцировал бурные дискуссии в сообществе физиков, по-прежнему полагавших, что во вселенной все предопределено и подчинено законам Ньютона. Они были твердо убеждены в нестатистической природе вселенной, где отлично работают простые прогнозы. В итоге теория Больцмана не раз подвергалась жесткой критике. К большому сожалению, это ввергло его в состояние фрустрации и в депрессию, и в 1906 году, поехав с семьей отдохнуть в окрестностях Триеста, он свел счеты с жизнью – незадолго до того, как его теория получила полное и безоговорочное признание.
Законы статистики по сей день приводят физиков в замешательство. Начать с того, что ньютоновские законы симметричны относительно времени, а стало быть, обратимы. Конечно, в детерминистском мире, описанном Ньютоном, то, что продвинулось вперед, точно так же может вернуться назад. Статистические законы, очевидно, работают иначе. Как событие может быть обратимым, если оно происходит не обязательно, а лишь с некоторой вероятностью? Не может, и на первый взгляд эти две точки зрения на реальность противоречат друг другу. Чтобы урегулировать расхождения, требовалось новое мышление. Атомная физика давалась ученым с трудом, но, проникнувшись ее идеями, они стали развивать эту область науки и активнее изучать открывшийся им новый мир. В 1897 году английский физик Джозеф Джон Томсон, не откладывая дело в долгий ящик, открыл и описал первую элементарную частицу – электрон. Великий физик Томсон был еще и великолепным учителем. Мало того что он сам за свои выдающиеся заслуги удостоился рыцарского звания и Нобелевской премии – лауреатами Нобелевской премии за собственные достижения в науке стали также восемь его учеников, среди которых был не только его сын, но и великий Нильс Бор, который в конце концов выдвинул теорию дополнительности. Но я опережаю события. Прийти в согласие с новым миром удалось лишь после определенных дискуссий.
Мысли об энтропии и втором законе термодинамики не оставляли Макса Планка, немецкого физика-теоретика. Поначалу он верил в абсолютную достоверность, а не в расплывчатую статистическую версию второго закона, которую отстаивал Больцман. Рьяный сторонник ньютоновской механики, Планк тем не менее осознавал сложности, связанные с энтропией, поскольку идея возрастающей энтропии таила в себе весьма неприятный факт необратимости. Собственно, Планк не возражал против необратимости, но хотел, опираясь на классические законы, вывести строгое обоснование закона энтропии, которое оправдывало бы необратимость. Как и большинство физиков, он всячески стремился выстроить цельную физическую теорию, объясняющую все. А ломать устоявшиеся концепции очень нелегко.
Возможность представилась в 1894 году, когда Планку поручили важное задание – оптимизировать лампочки так, чтобы получить максимальный световой поток при минимальных энергозатратах. Для этого ему пришлось заняться отдельной проблемой – излучением черного тела. Мы можем наблюдать это явление у походного костра. Если подержать в огне металлический шампур, его кончик покраснеет. Раскалившись еще сильнее, металл поменяет цвет с красного на желтый, потом побелеет, а затем станет голубым. По мере прогревания внутренних слоев его поверхность начинает испускать электромагнитное излучение в виде света – так называемое тепловое излучение. Чем горячее металл (чем выше его внутренняя энергия), тем короче длина волны (и выше частота излучения), поэтому и меняется его цвет. Вскоре физики сформулировали концепцию «абсолютного» излучателя и поглотителя – некоего идеализированного тела, которое, будучи холодным, полностью поглощает весь попадающий на него свет и потому кажется черным.
Такой идеализированный объект называется черным телом, а исходящее от него излучение – излучением черного тела. Классические законы физики не позволяли точно оценить количество и частоту излучения, испускаемого таким черным телом. Для низких частот (красного света) законы Ньютона работали удовлетворительно, но для волн с более высокими частотами никакие прогнозы не оправдывались. После множества неудачных попыток применить классическую физику Планк скрепя сердце обратился к статистической трактовке энтропии. Когда он ввел понятие «элементов энергии» и установил, что энергия – это «дискретная величина, состоящая из целого числа конечных равных частей»[12], ему удалось составить уравнение, которое хорошо описывало излучение черного тела.
Ни сам Планк, ни кто-либо еще тогда не понимал, что в основе его закона излучения лежит совершенно новая концепция, принципиально иной взгляд на природу. Это была первая попытка заглянуть в квантовый мир. Кроме того, открытие Планка показало, что не существует ни единого фундаментального свода законов, ни единой модели вселенной. Можно сказать, он вбил последний гвоздь в крышку гроба ньютоновской теории о детерминированности всего на свете.
Любопытно, что сам Планк не вполне был доволен точностью своего закона излучения, а идея о квантах энергии, как он выразился, была «чисто формальной гипотезой, на самом деле я не придавал этому большого значения»[13]. Но идеологически новой, попутно возникшей мыслью, которой он сам до конца не осознал, хотя и использовал ее как математический прием, было то, что микро- и макроскопические системы ведут себя по-разному. Вот это да! Планк невольно выбил кирпич из основания своей любимой мечты – найти универсальное объяснение всему. Мало того, что квантовая теория изменила представления людей о вселенной – стало очевидно также, что существуют два слоя реальности, каждый со своей терминологией и жизнеустройством. Как и в любой сложной системе, каждый слой имеет свой протокол – на атомном уровне действуют статистические законы, а более крупные системы функционируют так, как описывал Ньютон. Не располагая теорией многослойной архитектуры, эпистемологи зашли в тупик. Поднялась паника – как все это понимать? Универсальное объяснение всему на свете не годилось. По-видимому, должны быть два объяснения поведения материи – это и есть дополнительность.
Физиков осенило, когда они поняли, что свет может вести себя и как поток частиц, и как волны. Это двойственная природа, когда одно дополняет другое. Споры на эту тему длились десятилетиями, но в конце концов факт был установлен. Недавно исследователи запечатлели невероятную картину: в одно и то же время одна небольшая группа фотонов вела себя как волны, а другая – как частицы[14]. Несмотря на то, что сейчас идея дополнительности уже прочно укоренилась в физике, при попытках объяснить проблему разрыва между психикой и мозгом ее рассматривают редко. А следовало бы почаще, и для начала я предлагаю вспомнить, как именно физики пришли к осознанию самого этого, казалось бы, загадочного факта. Укрепившись в физике, идея дополнительности могла бы оказаться базисной и в решении биологических проблем – особенно в объяснении разрыва между психикой и мозгом.
Получив диплом преподавателя физики и математики, двадцатидвухлетний Эйнштейн в 1901 году стал гражданином Швейцарии и принялся искать работу. Ни в одном образовательном учреждении вакансии не нашлось. В конце концов он сумел получить место «технического эксперта третьего класса» в бернском патентном бюро; кроме того он подрабатывал частными уроками. Вместе с несколькими товарищами Эйнштейн учредил клуб «Академия Олимпия», члены которого собирались в свободное время, чтобы обменяться мыслями.
В 1905-м, звездном для него году, в 26 лет, Эйнштейн выдвинул четыре великие идеи и тем самым вывел физику на совершенно иной уровень. Он создал квантовую теорию света, согласно которой энергия светового луча расфасована – иначе и не скажешь – в крохотные упаковки (позже их назвали фотонами) и может меняться только очень малыми дискретными порциями. В общем, «порция энергии» оказалась не просто математическим фокусом, придуманным Планком и использованным в удобной формуле. Тогда еще не утихли дебаты о том, является ли свет волной или потоком частиц. Волновая природа света, если ее принять, отлично объясняла разного рода наблюдаемые явления, такие как преломление лучей, дифракция, интерференция и поляризация. Но при таком подходе не находилось объяснения фотоэффекту, когда поверхность металла под воздействием светового луча испускает электроны (в данном случае так называемые фотоэлектроны).
Поначалу физики не придавали этому большого значения. Исходя из волновой теории света, они полагали, что чем больше интенсивность света (то есть чем больше амплитуда волны), тем выше энергия электронов, покидающих металл. Однако, как выяснилось, все совсем наоборот. Энергия испускаемых электронов не зависит от интенсивности света – при одной и той же частоте волны яркий и тусклый свет с равной энергией вышибает электроны с металлической поверхности. Энергия, с которой электроны покидали металл, возрастала с увеличением частоты световой волны – и это было неожиданно. Если свет – волна, то выходила бессмыслица. С равным успехом можно было бы утверждать, что мощный океанский прибой и легкая, ласковая волна подбросят надувной мяч на пляже с одинаковой силой. Эйнштейн догадался, что объяснить наблюдаемый эффект можно только в том случае, если свет представляет собой поток частиц, взаимодействующих с электронами на поверхности металла. В его модели свет состоял из отдельных квантов (фотонов, как их назвали впоследствии), которые вступали во взаимодействие с электронами металла. Каждый фотон обладал собственной энергией. С ростом интенсивности света увеличивалось количество фотонов, испускаемых в единицу времени при том же количестве энергии в каждом фотоне. Затем, спустя всего несколько месяцев, Эйнштейн приумножил свои успехи, установив, что свет можно рассматривать и как волну тоже. Свет и в самом деле существовал в двух мирах.
Эйнштейна уже ничто не могло остановить. Представив эмпирические факты, подтверждающие существование атома, он раз и навсегда разрешил спор на эту тему и «санкционировал» применение статистической физики. Вишенкой на торте стала его теория относительности и знаменитое уравнение Е = mc 2. Физикам понадобилось время, чтобы свыкнуться со всеми этими открытиями, так что прославился Эйнштейн не сразу. Единственным быстрым результатом его трудов стало повышение по службе в патентном бюро до технического эксперта второго класса.
Впрочем, как только физики догнали химиков и вдумались в положения атомной теории, они довольно скоро поняли, что все эти микроскопические кирпичики природы – элементарные частицы, атомы и молекулы – не подчиняются законам Ньютона, а нарушают их. Теряя энергию, вращающиеся вокруг ядра электроны не падают на него, как следовало бы ожидать, исходя из законов Ньютона, а остаются на своих орбитах – и это был неоспоримый факт. Но почему?
В 1925 и 1926 годах группа физиков, куда входил Вернер Гейзенберг, работавший в Геттингенском университете и часто посещавший Нильса Бора в его копенгагенском институте, продолжала развивать квантовую теорию, стремясь пролить свет на три великие тайны – излучение черного тела, фотоэлектрический эффект и стабильность движущихся вокруг ядра электронов. Нравилось это физикам или нет (а многим, в том числе и Планку с Эйнштейном, не нравилось), но их выбило из ньютоновского детерминистского мира, унесло с того видимого и осязаемого физического «слоя», где мы все обитаем и где всему есть одно универсальное объяснение, и они попали в более глубокий слой – в тайный, полный парадоксов, статистический, недетерминированный мир квантовой механики. Черно-белый мир четких и ясных ответов сменился миром, где ответы имеют множество оттенков, – параллельно существующим слоем с другим протоколом.
Возьмем для примера отражение света. Отражается всего 4 % попавших на стекло фотонов, а остальные поглощаются. Но какие из них отражаются, от чего это зависит? Многолетние исследования с использованием самых разных методов дали вероятный ответ – все дело в случае. Будет ли фотон отражен или поглощен – чистая случайность. «Значит ли это, что мы дожили до столь кошмарных времен, когда физика сводится к вероятностям, а не к удобным прогнозам. Да, такова нынешняя действительность… Вопреки условию, которое поставили философы: «Наука требует, чтобы при соблюдении одних и тех же условий эксперимента результаты были одинаковы». Ничего подобного. Иногда так и получается, а один раз из двадцати пяти – нет… непредсказуемо, совершенно случайно… вот как это происходит[15]», – говорил Ричард Фейнман. Мир неопределенности. В те времена это злило физиков. Даже Эйнштейн хотел бы захлопнуть дверь в мир без определенности, которую сам же и распахнул. Он много и мучительно размышлял о том, что все это значит для якобы детерминированной вселенной и причинно-следственных закономерностей; тогда-то он и произнес свою крылатую фразу: «Бог не играет в кости со вселенной». Однако если физики претендовали на звание ученых, они должны были расстаться со своими предубеждениями и идти по тому пути, который им указывали их открытия.
Когда мы говорим о ненормальном квантовом мире, нельзя упускать из виду, что сами мы обитаем в макромире ньютоновской физики. Здравый смысл – то есть повседневные физические законы, на которых зиждется макромир, – едва ли поможет нам в квантовой вселенной. Ничего похожего на нее нам раньше не встречалось. Свои интуитивные знания оставьте дома. Они вам не понадобятся и даже помешают. Читая курс физики, Фейнман начал лекцию о квантовом поведении с такого остроумного предупреждения:
До сих пор вы воспринимали все, что видели, неадекватно. Не полностью. Поведение объектов в столь мелком масштабе совершенно иное. Они ведут себя не как частицы. И не как волны… [Электроны] ведут себя отлично от всего, что вы видели раньше. Упрощает дело по крайней мере один факт – в этом отношении поведение электронов и фотонов абсолютно одинаково. То есть и те, и другие сходят с ума одинаково. Поэтому, чтобы оценить их поведение, требуется богатое воображение, ибо нам надо описать нечто, не похожее ни на что нам известное… Это абстракция в том смысле, что это далеко от практического опыта[16].
Далее он говорит, что, если вы хотите понять суть физического закона, важно учитывать этот специфический момент, «так как это характерная особенность всех частиц в природе без исключения».
Субмикроскопический квантовый мир скрыт от наших глаз. Стало быть, узнать что-либо о нем можно только с помощью некоторых измерительных взаимодействий. В частности – кое-каких средств, применяемых в нашем макромире, который, в свою очередь, состоит из атомов, способных реагировать с измеряемыми частицами и вносить возмущения, в то время как эти частицы, ничего не подозревая, заняты собственными делами. Из-за таких возмущений динамика системы будет развиваться совсем по другому пути, чем до того, как было проведено измерение. Короче говоря, явно вырисовывалась неизбежная проблема, связанная с измерениями. Вторжение в квантовый мир сулило немалые трудности и требовало нового мышления.
Итак, приступим: оказывается, как и догадался Эйнштейн, свет ведет себя и как волна, и как поток частиц. Через несколько лет выяснилось, что это справедливо и для вещества – электроны тоже обладают свойствами волн и частиц. Вскоре физики согласились с тем, что объекты макромира (к примеру, обеденный стол), которые мы воспринимаем как сплошные монолиты, а не как огромное множество разделенных атомов, – это всего лишь результат смоделированного усредненного процесса «в по существу своему прерывном мире», как выразился Иоганн фон Нейман, занимавшийся прикладной математикой, физикой и многими другими науками. «Человек обычно сразу апперцепирует только сумму многих квадрильонов элементарных процессов, так что истинная природа единичного процесса оказывается полностью завуалированной все нивелирующим законом больших чисел»[17], – продолжает он. По «нивелирующему закону больших чисел», движение отдельных частиц компенсируется в общей картине, и именно по этой причине стол не приплясывает, а ровно стоит на полу. Однако устойчивый стол, который мы видим, – это иллюзия, условная репрезентация, созданная нашим мозгом для того, чтобы засвидетельствовать существование стола. Это очень качественная иллюзия, она несет верную информацию и позволяет нам нормально жить в этом мире.
Австрийский физик Эрвин Шрёдингер, хозяин знаменитого «кота в ящике», тоже хотел упрочить детерминистский мир, где все всегда чем-то обусловлено. Он составил уравнение, впоследствии получившее название уравнения Шрёдингера, – «закон», описывающий поведение квантовой волны и ее динамического изменения во времени. Несмотря на его обратимость и детерминистский характер, этот «закон» не годится для описания состояния всей системы в целом. В нем не учитывается корпускулярная природа электрона – свойство, которое Шрёдингер пытался обойти. По этому закону нельзя определить точное положение электрона на орбите в любой заданный момент времени. Точные координаты электрона в определенный момент времени – так называемое квантовое состояние – можно только предположить, исходя из вероятности события.
Чтобы узнать, где именно находится электрон, надо провести измерения, и вот тут-то для ортодоксальных детерминистов и начинаются все неприятности. Как только измерение выполнено, квантовое состояние, можно сказать, аннулируется – в том смысле, что все прочие вероятные состояния электрона, которые он мог бы принять (это называется суперпозиция), сведены к одному-единственному. Любые другие варианты отпали. Измерение, безусловно, было необратимо и, вызвав такой коллапс, наложило на систему ограничения. За последующие несколько лет физики поняли, что в масштабе квантовой механики поведение объектов в данный момент времени невозможно описать полностью ни с точки зрения классического представления о частицах, ни в терминах волн. Как шутил Фейнман, «они ведут себя не как волны и не как частицы, это квантово-механическое поведение»[18].
Тогда на помощь пришел нобелевский лауреат из Дании и великий знаток электронов Нильс Бор. Две недели он катался на лыжах в норвежских горах, размышляя в одиночестве о двойственной природе электронов и фотонов, а в итоге привез оттуда принцип дополнительности, для которого корпускулярно-волновой дуализм служит прекрасной иллюстрацией. Согласно этому принципу, квантовые объекты обладают комплементарными свойствами, не поддающимися одновременному измерению, а следовательно, и определению в один и тот же момент времени. Как написал Джим Бэгготт в книге «Квантовая история», Бор
понял, что соотношения неопределенности положение-импульс и энергия-время фактически говорят о дополнительности классических волновой и корпускулярной теорий. Всем квантовым системам, которые изучаются в экспериментах, свойственно как волновое, так и корпускулярное поведение, и мы, выбирая методы эксперимента – волновое или корпускулярное зеркало, – вносим в измеряемые свойства неминуемую неопределенность. Эта неопределенность обусловлена не «топорностью» измерений, как утверждал Гейзенберг, а тем, что наш выбор метода вынуждает квантовую систему более выраженно демонстрировать один из двух типов поведения[19].
Опять-таки, в любой момент времени можно измерить и определить либо положение электрона, либо его импульс, но только не то и другое одновременно; точно так же обстоит дело и с его волновыми и корпускулярными свойствами. Если вы измеряете координаты электрона для данного момента времени, это означает, что в этот самый миг он находится где-то и не движется; следовательно, ставится под сомнение наличие у него еще и импульса, то есть его двойственная природа. Измерить импульс в этот момент времени невозможно. Можно лишь приблизительно, с определенной вероятностью, предположить его величину. При попытке измерить одно из парных свойств в системе проявляется комплементарность. Единую систему можно описать в терминах двух одновременно существующих режимов, и из одного описания нельзя вывести другое.
Бор работал над новой теорией полгода и впервые изложил ее своим именитым коллегам в 1927 году на Сольвеевской конференции, посвященной столетней годовщине смерти Алессандро Вольты. Эйнштейн не приехал и потому узнал о теории Бора лишь через месяц, когда тот вновь представил ее в Брюсселе. Мысль о двойственном описании и неопределенности Эйнштейну пришлась не по душе. Между ним и Бором завязался долгий спор, который длился много лет. Пытаясь развенчать квантовую теорию, Эйнштейн предлагал другой сценарий, однако это привело лишь к тому, что Бор выдвинул согласующийся со своей теорией аргумент, который разбил концепцию его оппонента. С тех пор в поддержку позиции Эйнштейна в том споре было высказано немало гипотез и проведено множество экспериментов[20], но все они оказались несостоятельны. Версию Бора о дополнительности, хотя и непопулярную среди сторонников детерминистского подхода, пока опровергнуть не удается.
По сути, они спорили о том, что считать объективным и чем занимается физика. Что было поставлено на карту, пояснил Роберт Розен:
В физике есть, по меньшей мере, установка на объективность. Это предполагает строгие разграничения между объективным, то есть прямо отвечающим ее требованиям, и необъективным. К тому, что остается за пределами этой области, в физике относятся по-разному. Одни считают, что какие-то вопросы не попадают в зону внимания физики из-за формулировок, и это проблемы технические и устранимые; то есть оставшиеся за бортом вопросы можно «свести» к тем, что уже включены в область физики. По мнению других, такие разграничения абсолютны и непреложны[21].
Бор принадлежал ко второй партии и утверждал, что наше восприятие света как потока частиц или волны зависит не от его свойств, а от выбора методов оценки и наблюдения. И свет, и аппарат измерения входят в систему. Бор считал классический мир слишком маленьким для того, чтобы описать все материальные объекты. По его теории, вселенная и все в ней существующее гораздо сложнее и одного-единственного протокола, составленного из законов классической физики, для нее недостаточно. Как пишет Розен, Бор преобразовал саму концепцию «объективности»: описание собственно материальной системы сменилось описанием всего, что связано с парой система-наблюдатель. У Эйнштейна это в голове не укладывалось, и он сосредоточился на классической физике, которая не принимает в расчет особенности измерения, а его результаты рассматривает как неотъемлемые свойства света. Согласно Эйнштейну, объективно только то, что не зависит от метода измерения и наблюдения. «Эйнштейн был убежден, что существует знание, которое само по себе заключено в чем-либо и не зависит от того, каким образом мы его получаем. Бор считал такую позицию «классической», несовместимой с квантовым подходом к реальности, который всегда требует уточнения условий данного события и несет цельную информацию о данном событии»[22].
Сформулированный Бором принцип дополнительности интересен не только в связи с научной перепалкой между Бором и Эйштейном. Как мы скоро увидим, он имеет огромное значение для решения вопроса о разрыве между психикой и мозгом.
Глава 8
От неживого к живому и от нейронов к психике
Безымянное есть начало неба и земли, обладающее именем – мать всех вещей[13].
Лао-цзы
Приближается важный этап человеческой мысли, когда физиологическое и психологическое, объективное и субъективное действительно сольются.
И. П. Павлов
Стараясь досконально изучить свойства материи, физики открыли феномен дополнительности – возможность одновременного существования материи в двух разных состояниях. Признать это значило больше, чем просто расширить границы физики. Для исследования природы требовалось новое мышление, которое не укладывалось в рамки представлений, основанных на наблюдениях за естественными явлениями. В наши дни те, кто изучает дуализм психики и мозга, нуждаются в новом мышлении и богатом воображении. Нам нужен такой человек, который в своих рассуждениях пойдет дальше накопленного человечеством за двадцать пять веков набора интуитивных знаний и привычных суждений. Кто дотошно изучил все достижения и ошибки современной физики и сознает, насколько важна комплементарность. Кто понимает, что в последние тысячелетия философы совершенно напрасно искали истину там, где ее нет – в высокоразвитом человеческом мозге. Нам нужен такой человек, как Говард Патти, физик, выпускник Стэнфордского университета, многого добившийся в Бингемтонском университете, где он увлекся теоретической биологией. Патти самым внимательным образом изучал человеческое мышление и считает, что к разрыву в понимании связи психики с мозгом философы подобрались не с того края эволюции[1]. Он сам за свою жизнь пришел к поразительному выводу: дуализм – обязательный признак и неотъемлемое свойство любой цельной системы, способной к эволюционному развитию.
Говард Патти не рассматривает разрыв между материальным мозгом и нематериальной психикой. Он копает куда глубже. Подлинный источник проблемы, самый первый разрыв, образовался задолго до мозга. Главная пропасть пролегает между живой и неживой материей. Основные трудности начались вместе с зарождением жизни на Земле. Нельзя все сводить к разрыву между физическим мозгом и бесплотной психикой. Надо понимать разницу между скоплениями вещества, образующими неживое материальное тело и полное жизни существо. Разрыв между психикой и мозгом берет начало в разрыве между живым и неживым – там-то и следует искать подход к решению проблемы дуализма психики и мозга.
К идее Патти надо еще привыкнуть, нельзя забывать о том, что если мы хотим разобраться в сути сознания – некоего свойства, полностью сформировавшегося в развитой живой системе, – то сначала надо понять, почему вообще живая система способна жить и эволюционировать. Что такого произошло, из-за чего все разделилось на два типа – живое и неживое? Большинству из нас первым делом приходит на ум мысль о «возникновении жизни из материи», но мы быстро отбрасываем ее как чересчур сложную и, по своему обыкновению, принимаемся оценивать то, что находится перед глазами. Однако не таков был Патти. Вопросы происхождения жизни начали волновать его в подростковом возрасте, в конце 1930-х, когда он, еще школьником, делал первые шаги в науке. Доктор Пол Лютер Карл Гросс, преподаватель естествознания и директор частной школы, где учился Патти, дал ему на лето книжку. Но не обычную книжку, какие задают читать на каникулах. Это была «Грамматика науки» выдающегося математика и статистика Карла Пирсона (впервые она увидела свет в 1892 году).
Сначала Патти удивился, зачем ему предложили, судя по всему, устаревшую научную работу, написанную еще до появления квантовой теории. Однако в главе «Связь биологии и физики» он обнаружил фразу, которая на много лет стала для него стимулом к раздумьям: «Каким образом… мы отличаем живое от неживого, если и то, и другое можно объяснить, в сущности, движением неорганических частиц?»[2] Логика вопроса была ему понятна, но он понимал также, что применение одних и тех же законов к описанию одушевленной и неодушевленной материи – не самый удовлетворительный ответ. Собственно, это вообще не ответ. Должно быть что-то еще.
Патти невероятно повезло с незаурядным учителем. Доктор Гросс призывал своих учеников думать и водил их на разные интересные научные мероприятия, например, в Калифорнийский технологический институт на вечерние лекции нобелевского лауреата Лайнуса Полинга. В один из таких вечеров Патти узнал от Полинга о знаменитом парадоксе кота Шрёдингера – о том, что кот может быть одновременно и жив, и мертв. Суть этого парадокса заключается в следующем: в стальную камеру поместили кота, маленький кусочек радиоактивного вещества и счетчик Гейгера для измерения уровня радиации, излучаемой этим веществом. Скорость радиоактивного распада вещества такова, что с вероятностью 50 % в течение часа не выделится ни один атом. Однако и вероятность излучения, естественно, тоже составляет 50 %, и в таком случае в счетчике Гейгера произойдет разряд. В этой конструкции разряд в счетчике Гейгера приведет в движение молоток, который разобьет колбочку с синильной кислотой, и кот отравится. При такой хитроумной схеме реализуется сценарий, когда к концу часа кот с вероятностью 50 % будет жив и с такой же – мертв. Вывод верный, хотя и кажется странным. Однако в квантовой механике он представлялся не как вероятность двух исходов. Это было выражено в так называемой волновой функции (пси-функции), описывающей квантовое состояние всей системы. Волновая функция несчастного кота Шрёдингера равномерно распределяла его по мертвому и живому состояниям! Патти слушал Полинга в недоумении. Как квантовая механика, теория, которая прекрасно объясняла всю химию и почти всю физику, могла произвести эту несусветную чушь – парадокс кота Шрёдингера? С того дня Патти посвятил свою жизнь решению этой дилеммы.
Юного Патти озадачила известная проблема измерения. В 7 главе мы говорили о том, что в квантовой системе существуют пары дополнительных свойств и их невозможно измерить одновременно. На квантовом уровне трудно провести измерения по трем причинам. Во-первых, для измерения нужен наблюдатель – сам исследователь или посредник, не имеющий отношения к измеряемому объекту. Во-вторых, поскольку процесс измерения необратим, он не подчиняется законам классической физики. В-третьих, в измерениях есть доля необъективности – выражающие результат символы (сами по себе необъективные), а также время, место и цель измерения выбирает наблюдатель. Измерение – процесс выборочный, и на самом деле большая часть свойств объекта игнорируется. Допустим, я хочу описать вас. Какой параметр мне выбрать, чтобы составить представление о вас? Допустим, можно измерить ваш вес. Я возьму результат одного взвешивания и на его основании составлю ваш портрет на всю вашу жизнь. Но когда я должен измерить ваш вес? Когда вы были ребенком? А может, когда вы уже стали взрослым – в двадцать, тридцать пять или шестьдесят лет? До или после праздничного обеда? Что из этого будет самым репрезентативным результатом? Можно ли считать адекватным параметром для вас один только вес? А что если взять и рост, и вес? Измерение может быть точным и объективным, но процесс измерения субъективен.
Условность процесса измерения означает, что его нельзя описать объективными законами, хоть квантовыми, хоть классическими. Это создает проблемы не только в квантовой физике, но и во всех ее областях. Чтобы сделать предположения о состоянии системы в будущем, физик должен знать начальные условия. Откуда? Начальные параметры системы можно измерить. Вместе с тем, измерения субъективны и, выполняя их, физик вмешивается в начальные условия. Когда детерминисты выдвигают тезис об абсолютной предсказуемости мира, они обычно игнорируют субъективность исходных измерений. Но с этим ничего не поделаешь. Как бы вы ни старались соблюсти объективность, самим фактом измерения вы вносите в систему элемент необъективности. «Проблема измерения» создает массу неприятностей в физике, зато для нейробиологии, возможно, именно это и требуется.
Физики называют неизбежное разделение субъекта (того, кто измеряет) и объекта (того, что измеряют) der Schnitt. Какое емкое слово! Патти называет это «неизбежное концептуальное разделение познающего и познаваемого, или символической записи события и самого события, эпистемологическим разрезом»[3]. На стороне наблюдателя и его записи события существует некая сфера действий. На стороне самого события тоже существует своя собственная сфера действий. Если это не очень понятно, вспомните о разрыве в объяснении между вашим личным переживанием события (бодисерфинг доставил мне массу удовольствия) и самим событием (некто отправился поплавать на океанских волнах). Все это просто варианты дополнительности из физики. Но кто измеряет события? Вот где настоящая путаница. Нужен ли исследователь, чтобы оценить различия между субъективным опытом человека и объективной реальностью? Кто измеряет исследователя?
Как отмечает Патти, ни в классической, ни в квантовой теории нет строгого описания субъекта – то есть наблюдателя или агента, которые определяют, что измеряется. Поэтому в физике ничего не говорится о том, где должен пройти эпистемологический разрез[4]. Но для квантовых измерений физик-наблюдатель не нужен. Патти утверждает, что квантовые измерения могут осуществлять и другие агенты. Например, ферменты (скажем, ДНК-полимераза) производят квантовые измерения в процессе клеточной репликации[5]. Участие живого наблюдателя не требуется.
Абсурдная ситуация с котом Шрёдингера, которая вызвала отторжение у юного Патти, возникла не из-за кота и не из-за счетчика Гейгера, а по воле человека, придумавшего сценарий оригинального опыта. В мысленном эксперименте Шрёдингера кот, живой и мертвый одновременно, описывался как волновая функция. Эта ситуация будет сохраняться до тех пор, пока мы не откроем ящик и не произведем измерение – то есть не посмотрим, жив кот или мертв (но только уже что-нибудь одно). Результат измерительного действия (человек открывает ящик), по-видимому, будет мгновенным и необратимым, а его физическая репрезентация (живой или мертвый кот) – произвольна. Но как такое возможно, если в то же время предполагается, что на микроскопическом уровне все события подчиняются обратимым квантово-динамическим законам (то есть уравнению Шрёдингера)? Патти отмечает, что, пока не произведено наблюдение, о состоянии кота судить нельзя из-за некорректной схемы эксперимента. «Проблема кота Шрёдингера возникла из-за убеждения в том, что человеческое сознание в конце концов разваливает волновую функцию»,[6] – пишет он. В действительности Шрёдингер сочинил свою сценку с котом специально для того, чтобы продемонстрировать нелепость этой идеи. Он хотел показать, что к большим объектам, таким как кот – или собака, или вы, если уж на то пошло, – квантовая суперпозиция не применима.
По Шрёдингеру, в дураках остались мы с вами. Он пытался нам показать, что мы чего-то недопонимаем. Патти это было ясно еще в школе, и он решил разобраться, в чем тут дело. Где пролегает разрыв, где следует провести разрез – der Schnitt? Всецело поглощенный загадками происхождения жизни, он пришел к мысли, что уровень человеческого сознания занимает в архитектуре всех живых организмов слишком высокое положение, для того чтобы эпистемологический разрез между наблюдателем и наблюдаемым, между субъективным восприятием и самим событием мог проходить на этом уровне. Между элементарными частицами и человеческим мозгом есть еще множество уровней. Да и вообще – между элементарными частицами и мозгом (кошки, мышки, мухи или червя) помещается множество уровней. Если бы главный эпистемологический разрез пролегал столь высоко, абсурдная ситуация с котом Шрёдингера могла бы реализоваться как квантовая система. Патти не был расположен к кошачьим играм на крыше: «Моя точка зрения такова, что вопрос о сути наблюдения в квантовой механике должен быть поставлен задолго до того, как будет достигнут сложный уровень мозга. Фактически, я полагаю… что разрыв между квантовым и классическим поведением всегда связан с различиями между неодушевленной и живой материей»[7].
Вот оно! По гипотезе Патти, разрыв стал результатом процесса, аналогичного квантовому измерению и начавшегося еще во времена зарождения жизни с саморепликации с участием простейшего агента – клетки[8]. Все эти разрезы – эпистемологический, между субъектом и объектом, психикой и материей – берут начало от того самого первого разреза, возникшего при образовании жизни. Разрыв между субъективным восприятием и объективными возбуждениями нейронов возник не в связи с развитием мозга. Когда появилась первая живая клетка, он уже был. Два комплементарных типа поведения, два уровня описания присущи самой жизни – они были во времена ее зарождения, сохранились в процессе эволюции и по-прежнему необходимы для разделения события и его субъективного переживания. Эта идея поражает воображение.
По-видимому, живая и неживая материя действуют по совершенно разным правилам, хотя и состоят из одинаковых элементов. Почему живая материя отличается от неживой? Может, тут есть какой-то подвох, и физические законы, которые, как мы уже знаем, управляют неживой материей, просто нарушаются? Патти считает, что живые объекты отличаются от неживых способностью к воспроизводству и к развитию во времени. Но что нужно для воспроизводства и развития?
Гениальный математик венгерского происхождения Иоганн фон Нейман, известный весельчак, обладал колоссальным жизнелюбием, и его вклад в науку был столь же колоссален. Выходец из семьи будапештских евреев-аристократов, умирая, фон Нейман принял последний обряд от католического священника, – извлек урок из пари Паскаля[14], как остроумно успел заметить сам ученый. А до этого он работал в Принстоне, в Институте перспективных исследований, где, по слухам, доводил Эйнштейна до белого каления немецкими маршами, включая свой граммофон на полную громкость.
Интеллектуальная жизнь в те времена била ключом. В 1943 году Шрёдингер прочел в Дублине свою историческую лекцию на тему «Что такое жизнь?», в которой высказал предположение, что в молекулярных механизмах клетки заложен «код программы». К концу 1940-х годов фон Нейман тоже стал задумываться о жизни как о мысленном эксперименте. Что такое жизнь? Или – чем занимаются живые объекты? Например, воспроизводятся. Жизнь порождает еще больше жизни. Однако, как подсказывала ему логика, «то, что происходит, в действительности на порядок выше самовоспроизводства, ибо с течением времени новые организмы становятся более сложными»[9].
Жизнь не только порождала еще больше жизни. Жизнь могла наращивать уровень сложности, могла развиваться. Фон Неймана все больше интересовал вот какой вопрос: что потребовалось бы автономной, способной к развитию и самовоспроизводству «живой машине», окажись она в такой среде, с которой могла бы взаимодействовать? Логическая нить привела его к заключению, что подобной машине надо иметь описание процесса самокопирования и описание копирования этого описания, – чтобы она могла передать его другой, вновь созданной машине. Кроме того, первой машине понадобится механизм для выполнения работ по конструированию и копированию. Нужны информация и конструирование. Однако таким образом обеспечивается только воспроизводство. Фон Нейман разумно рассудил, что для развития и повышения уровня сложности машины чего-то не хватает. Необходимо, решил он, иметь еще и символическое самоописание – генотип, – физическую структуру, независимую от описываемой структуры, то есть фенотипа. Если подыскать код, который связал бы символическое описание с тем, к чему оно относится, машины смогут развиваться. Почему – мы узнаем чуть позже.
Как выяснилось, фон Нейман попал точно в яблочко. Он правильно описал процесс воспроизводства клеток еще до Уотсона с Криком. С самого начала, у истоков жизни, на уровне отдельно взятой молекулы, когда мать-природа едва представляла себе ДНК, способность к самовоспроизводству с развитием зависела от двух факторов: (1) записи и чтения наследуемой информации, существовавшей в виде неких символов; (2) четкого разделения процессов описания и конструирования. После того, как фон Нейман провел свой мысленный эксперимент, перед ним встали другие цели и загадки. Но он не довел дело до конца – не учел физические условия, необходимые для реализации его схемы. Потирая руки, Патти принялся за дело.
Мы привыкли воспринимать символы как нечто абстрактное, чем не занимается наука физика. Но – как физически существующие ученые – мы ищем физические факты, которые согласуются с правилами и законами физики. Символы фон Неймана должны иметь какое-то физическое представление. В физике символов, как называет это Патти, возникают определенные проблемы. Первая связана с информационным описанием – написанием и чтением наследуемых данных. Описание включает в себя процесс записи, а запись, как мы уже выяснили, – это необратимое измерение с обязательным участием того, кто или что проводит измерение. Патти понял, что информационное описание для происхождения жизни напрямую касается проблемы измерения в квантовой механике. Измерения субъективны, то есть не могут быть описаны в терминах объективных законов – ни квантовых, ни физических. Любое живое существо, «записывающее» информацию, вносит в систему элемент субъективности.
Другая проблема кроется в связи генотипа с фенотипом. Например, в случае с ДНК, генотип – это последовательность ДНК, содержащая инструкции для живого организма. Фенотип – это наблюдаемые свойства организма, такие как его анатомия, физиология и поведение. Фенотип создается в результате взаимодействия генотипа с окружающей средой. Можно провести аналогию с нашей реальностью: скажем, чертеж проекта дома – это генотип, а сам дом – фенотип. Строительство дома – это процесс фенотипического воспроизведения с использованием чертежа, который содержит информацию о методах и порядке действий. Фенотип связан с описывающим его генотипом, но между ними – и даже между генотипом и процессом фенотипического воспроизведения – существует великое множество различий. К примеру, генотипу не свойственна динамика, это статичная, одномерная последовательность символов (в ДНК роль символов играют нуклеотиды), не обладающая энергией и не привязанная ко времени. Подобно чертежу, он годами сохраняется в первоначальном виде, как вы, вероятно, знаете по сериалу «CSI: Место преступления». Генотип диктует, что именно должно быть создано (допустим, умная собака), но сама по себе ДНК ни видом, ни действиями не напоминает умную собаку. Фенотип (умная собака), напротив, динамичен и активно тратит энергию, особенно если это бордер-колли.
Процесс фенотипического конструирования также связан с генотипом. Подобно тому, как проект не позволяет строителю водрузить на здание башенки, генотип ограничивает количество хвостов у нашего замечательного пса. Как взаимодействуют фенотип и генотип? Каковы связи между проектом, зданием и промежуточными стадиями заливки раствора и забивания гвоздей? Наследуемая информация говорит не только о том, что надлежит построить, но и предписывает, как строить. Информация о том, что и как, оказалась каким-то образом записана в виде неких символов. Между субъективно записанными символами (генотипом) и процессом фенотипического конструирования, а также фенотипом существует разрыв. Чтобы запустить конструирование, необходимо расшифровать смысл символов. Для многослойной архитектуры это был бы протокол между слоями. Патти полагает, что эпистемологический разрез появился как раз из этой контролирующей области взаимодействия двух слоев. В случае ДНК мостиком между генотипом и фенотипом служит генетический код. Для проекта здания мосты наводятся, когда подрядчик разъясняет строителям чертеж.
Утверждая, что сами символы в инструкциях (в наследуемой информации) должны иметь материальную структуру и что в процессе фенотипического конструирования (создания новой живой машины) эта материальная структура накладывает ограничения в соответствии с законами Ньютона, Патти продолжил логику фон Неймана. Никакие фокусы тут не требуются. Символы – физически существующие структуры, нукледотидные цепочки, которые подчиняются классическим законам физики.
Здесь мы наталкиваемся на неожиданное препятствие: символы – будь то нуклеотиды ДНК, тире и точки азбуки Морзе или последовательность ментальных моделей – произвольны. Субъективность символов хорошо иллюстрируется на примере вечно меняющегося сленга. Например, «бенджаминки», «баксы», «капуста» – все это широко распространенные слова, обозначающие деньги, хотя выбирают их субъективно. И в каждом языке есть свой набор символов, о чем комик Стив Мартин напомнил всем, кто решил прогуляться в Париж: «Шляпа будет chapeau, яйцо – oeuf. Похоже, французы все на свете называют по-своему»[10]. Беда в том, что Ньютон не допускает произвола. Если бы символы подчинялись строгим ньютоновским законам, все люди во всем мире, всегда и во веки веков, говоря о деньгах, употребляли бы одно и то же слово. К большому огорчению для Ньютона, для передачи информации можно выбирать самые разнообразные символы. Они могут иметь разные свойства, свои плюсы и минусы, но однозначного соответствия быть не может, поскольку символы отделены от собственно объекта.
Вы можете возразить, что ДНК субъективна настолько же, насколько субъективен язык, и что существуют физико-химические ограничения. Однако выбор символа зависит от правил, а не от физических законов – отбирается тот символ, который передает самую полезную и надежную (неизменную) для системы информацию. Скоро мы увидим, что и сами компоненты ДНК прошли отбор среди целого ряда конкурентов, чтобы ДНК лучше справлялась с работой по ограничению функционирования системы, в которую она входит. А если символ надежен и неизменен, он может передаваться. О фактически образующих молекулу ДНК компонентах Патти говорит как о замороженных случайностях. Существующие символы воплощают историю своих версий, оказавшихся удачными в разные периоды времени (независимо от времени), а не историю своих нынешних действий. Итак, вернемся к деньгам: если всего несколько человек решат называть их «бетти», это слово не станет устойчивым символом, не пройдет отбор и не будет усвоено следующими поколениями.
Тут возникает небольшая путаница, поскольку в жизни мы частенько путаем «правила» и «законы». Например, о правилах дорожного движения мы говорим как о «законах». Патти объясняет, что в природе между законами и правилами есть фундаментальные и в высшей степени важные различия[11]. Законы – жесткие, то есть неизменяемые, непреложные и неотвратимые. Законы природы нельзя переписать или обойти. Законы природы гласят, что автомобиль будет двигаться до тех пор, пока на него не окажет воздействие равная по величине и противоположно направленная сила или пока не иссякнет его источник энергии. Мы ничего не можем с этим поделать. Законы нематериальны в том смысле, что они работают, не нуждаясь в физическом носителе или структуре: не полицейский как физический объект останавливает автомобиль, лишившийся подачи энергии. Законы еще и универсальны – они остаются в силе всегда и везде. Законы движения применимы к вам и в Шотландии, и в Испании.
Правила, напротив, необъективны и могут быть скорректированы. На Британских островах согласно правилам дорожного движения полагается ехать по левой стороне дороги. В странах континентальной Европы правила велят ехать по правой стороне. Выполнение правил зависит от некоей структуры или ограничений. В данном случае роль такой структуры играет полиция, которая штрафует нарушителей, если те едут не по той стороне. Правила локальны, то есть существуют только там и тогда, где и когда существуют физические структуры, которые обеспечивают следование им. В центре Австралийского материка вам никто не указ. Где захотите, там и поедете. Нет структуры, способной ограничить ваши права! Правила действуют в определенном месте, их можно менять и нарушать. Символы, регулируемые правилами, проходят отбор из целого ряда конкурентов, чтобы более эффективно ограничивалось функционирование системы, в которую они входят, и появился более устойчивый фенотип. Отбор гибок, законы Ньютона – нет. Символы, как участники информационного процесса, не зависят от физических законов, управляющих энергией, временем и коэффициентами изменений. Они не подчиняются ни одному из ньютоновских законов. Они соблюдают правила, но закон им не писан! Отсюда можно сделать вывод, что символы не привязаны к своим значениям.
Символы ведут двойную жизнь – с двумя различными взаимодополняющими системами описания в зависимости от стоящей перед ними текущей задачи. В одной жизни символы представляют собой вещество (ДНК состоит из водорода, кислорода, углерода, азота и фосфатов), которое подчиняется законам Ньютона, и его физическая структура накладывает ограничения на строительный процесс. Но в другой своей ипостаси – как хранилища информации – символы игнорируют эти законы. Двойную жизнь символов, как правило, не принимали во внимание. Те, кто изучал процессы обработки информации, не учитывали объективную материальную составляющую, физическое проявление символа. Молекулярных биологов и детерминистов интересовала только вещественная сторона, и они не рассматривали субъективный символический компонент. Ни те, ни другие, занимаясь только одним из двух аспектов, не изучают символы во всей их полноте с присущей им комплементарностью свойств. Это форменное безобразие и к тому же жалкая пародия на науку, поскольку, как мы уже говорили, способные к самовоспроизводству и развитию формы жизни возможны, только если физические символы выполняют обе свои задачи. Одной из них, неважно какой, недостаточно, убежден Патти. Стоит убрать любую сторону связующего звена – и это звено исчезнет. «Жизнь отличается от неживой физической системы именно природным сочленением символов с материей»[12], – решительно заявляет Патти.
Чтобы лучше понять суть этого сочленения символов с материей и его значение для нашего расследования, давайте более подробно изучим ДНК – самый яркий пример символьно-вещественной структуры в живой системе. Но сначала мы должны понять роль символов в живых системах, а для этого надо ознакомиться с азами биосемиотики. Нашим гидом будет Марчелло Барбьери, биолог-теоретик из Университета Феррары.
Семиотика – это наука о знаках (то есть символах) и их смысловом значении. Эта дисциплина, по определению, основывается на том, что знак всегда связан со своим значением. Как мы уже знаем от Стива Мартина, столкнувшегося в Париже с некоторыми трудностями, детерминированной взаимосвязи между знаком и его значением нет. Яйцо – оно и есть яйцо, в Америке его снесли или во Франции, но называть его можно по-разному. Объект существует отдельно от его символической репрезентации (egg или oeuf) и нашего понимания символа. Барбьери считает, что связь между знаком и его значением устанавливается кодом, согласованным набором правил, которые устанавливают соответствие между знаками и их значениями. Создает код некий агент – кодировщик. Семиотическая система появляется вместе с кодировщиком, который создает код. Таким образом, «семиотическая система – это тройственная система знаков, значений и кода, и все это создается агентом, тем самым шифровальщиком»[13], – пишет Барбьери.
Биосемиотика – это наука о знаках и кодах в живых системах. Ее основополагающий тезис заключается в том, что «существование генетического кода предполагает, что каждая клетка является семиотической системой»[14]. По мнению Барбьери, три ключевые идеи современной биологии не согласуются с этим фундаментальным положением биосемиотики, поэтому его и не учитывают. Первая состоит в аналогии клетки и компьютера. При таком сравнении гены (биологическая информация) рассматриваются как программное обеспечение, а белки – как «железо», аппаратура. Компьютеры имеют коды (программы), но не являются семиотическими системами, потому что коды для них поставляются кодировщиками извне, а мы уже знаем, что для семиотической системы кодировщик – составная часть. Кроме того, согласно концепции клетки-компьютера, генетический код был привнесен внешним кодировщиком – естественным отбором. При таком подходе живые системы нельзя считать семиотическими и «генетический код» превращается в метафору.
Второй конфликт современной биологии и биосемиотики связан с физикализмом – идеей о том, что все можно изучать как физические величины. Биологам необходимо, чтобы все объекты их исследований (ДНК, молекулы, клетки, организмы) подчинялись законам, которые определяют поведение этих объектов. Правила семиотического кода – расплывчатые и нежесткие, это не строгие физические законы, однозначно связывающие символы с их значениями. Третий источник разногласий – убеждение (или отсутствие такового), что все биологические обновления происходят в результате естественного отбора.
Барбьери утверждает, что в своих главных допущениях биологи недооценивают нечто важное – не учитывают происхождение жизни. Эволюция под влиянием естественного отбора требует копирования генетической информации и конструирования белков, однако эти процессы сами должны были где-то зародиться. Гены и белки в живых системах, указывает Барбьери, принципиально отличаются от других молекул, прежде всего – совершенно иным путем образования.
Строение неорганических молекул в неживом мире – в том, который составляют объекты вроде компьютеров и горных пород, – определяется спонтанно образовавшимися межатомными связями. В свою очередь, эти связи образуются в зависимости от внутренних факторов – присущих атомам физических и химических свойств. Все полностью детерминировано.
В живых системах дело обстоит иначе. Гены представляют собой причудливые цепочки нуклеотидов, а белки – причудливые цепочки аминокислот. Эти цепочки не возникают в клетке спонтанно. Не любовь с первого взгляда с ее химией свела их вместе. Отнюдь нет – их слепили молекулы, принадлежащие к особому классу и образующие целую систему из рибонуклеиновых кислот (РНК) и вспомогательных белков-посредников. Это чрезвычайно важно для понимания их роли в происхождении жизни, указывает Барбьери.
Примитивные «связеобразующие» молекулы – предшественники системы РНК, соединявшие нуклеотиды друг с другом, – появились задолго до первых клеток. Как и «копировальщики» – связующие молекулы, научившиеся соединять нуклеотиды по шаблону. «Связеобразователи» и «копировальщики» появились в результате случайных молекулярных перетасовок. Процесс эволюции пошел благодаря наличию молекул-копировальщиков. Все живое вышло из-под резца естественного отбора, но вспомогательные молекулы – инструменты эволюции, способствовавшие образованию связей и копированию, – существовали до зарождения жизни.
Барбьери сердито замечает, что «естественный отбор – это отложенное последствие молекулярного копирования, и он мог бы стать единственным механизмом эволюции, если бы единственным базовым механизмом жизни было бы копирование»[15]. Но оно таковым не является. Хотя гены и могут служить сами себе шаблонами и таким образом воспроизводиться, у белков подобной возможности нет. Хитрость в том, что наследуются только те молекулы, которые могут быть скопированы, поэтому информация о том, как создать белок, должна поступать из генов. Как пишет Барбьери, первые производители белков обязаны своим блестящим будущим «способности устанавливать точное соответствие между генами и белками, ибо без этого не было бы биологической специфичности, а без специфичности не было бы наследственности и воспроизводства. Не будь специфического соответствия между генами и белками, не было бы и жизни в том виде, в каком мы ее знаем»[16]. Специфическое соответствие, о котором он говорит, – это и есть код. Прежде чем мог начаться естественный отбор, должен был появиться код.
Для нас же важно вот что: если бы соответствие не было кодом, а определялось стереохимией, как предполагалось сначала, оно устанавливалось бы автоматически – то есть было бы предопределено. Но не механизм стал сюрпризом для биологов. Мостик между генами и кодируемыми последовательностями аминокислот, образующими белки, строят молекулы транспортной РНК. В этих молекулах есть участки (последовательности) распознавания двух типов – для кодона (группы из трех нуклеотидов) и для аминокислоты, что позволяет связывать кодон с аминокислотой. Кроме того, если бы участок распознавания работал детерминированно, соответствие кодона определенной аминокислоте могло бы устанавливаться автоматически, чего не происходит. Оба участка разделены физически и работают независимо друг от друга. «Обязательной связи кодона с аминокислотой нет, а специфическое соответствие между ними может быть следствием только установившихся правил. Иными словами, биологическую специфичность гарантирует только действующий код, а значит, ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов генетический код как лингвистическую метафору», – пишет Барбьери. Он подводит нас к следующему выводу: «Клетка является самой что ни на есть семиотической системой, так как содержит все главные признаки таких систем – знаки, значения и коды, – созданные одним и тем же кодировщиком»[17].
В литературе то и дело появляются сообщения о подобных биосемиотических системах, противоречащие фундаментальным теориям современной биологии. Недавно ученые выяснили, что головоногие (к этому классу моллюсков принадлежат осьминоги) могут перекодировать свои РНК. Молекулы РНК обладают способностью создавать коды с ДНК (в той части, которая распознает триплеты кодонов ДНК) и с белками (в другой части РНК, которая распознает аминокислоты). Перекодировка РНК предполагает, что могут быть созданы новые белки при той же последовательности символов ДНК. Итоговый результат – нарушение взаимно однозначного соответствия генов и белков[18]. Это очень важно. Это аргумент против всех трех концепций биологии, недооценивающих семиотические системы в живых организмах. Система способна менять свой код. В системе есть внутренний кодировщик для биологических обновлений – создания новых белков, – осуществляемых иным путем, нежели через естественный отбор. Это говорит о произвольности связи символа с его смыслом в живой системе.
Если символы в живых системах произвольны и в роли кодировщика выступает РНК, то с чем связан такой интерес к ДНК? Почему именно ДНК вот уже несколько сотен миллионов лет держит монополию на молекулярную символику? Как физический объект, ДНК – в отличие от РНК – имеет невероятно стабильную структуру. Благодаря этому она на протяжении всей эволюции остается основной символьной структурой. Однако, при всей нынешней стабильности ДНК в клетках нашего и прочих живых организмов, в эру зарождения жизни дела обстояли иначе. Случайные перемещения и перегруппировки молекул в необратимых и вероятностных процессах естественного отбора привели к формированию молекул, напоминающих основания нуклеотидов. В ходе дальнейших перетасовок сохранились и воспроизвелись самые успешные компоненты и последовательности ДНК.
Но что мы подразумеваем под словом «успешные» по отношению к ДНК? В состав ДНК входят четыре разных нуклеотида. Гены – это цепочки нуклеотидов, соединенных в определенном порядке, которые служат символическими прописями (инструкциями) для создания белков. Чем обусловлен успех последовательности ДНК? Что вкладывается в понятие «успех» – физическая стабильность на протяжении всей жизни организма? Или имеется в виду надежное кодирование информации для успешного воспроизводства организма? Мы подразумеваем оба эти условия. Как структура наследуемой памяти, накладывающей ограничения на построение ДНК, сама ДНК вследствие свойств входящих в ее состав нуклеотидных оснований термодинамически стабильна в водной среде клетки и подчиняется законам Ньютона. Но как информационная (субъективная) единица, ДНК следует не законам, а правилам: отбирает информацию, наиболее надежную и полезную для выживания и воспроизводства организма. Были отобраны те нуклеотиды, что составляют ДНК и несут выраженную в символах информацию, и, несмотря на субъективность, по ходу эволюции они сохранились в устойчивой форме, чтобы и впредь добросовестно выполнять свои обязанности, – в отличие от профессоров, которые, получив штатную должность, могут работать ни шатко ни валко.
В процессе репликации, выстроенной по определенным правилам, эти нуклеотиды считываются и транслируются в линейные цепочки аминокислот, образующих ферменты и белки. Набор правил называется генетическим кодом. Последовательность задается в ДНК, а работают с кодом молекулы РНК. Конкретные последовательности трех нуклеотидов – кодоны – служат символьным отображением конкретных последовательностей аминокислот. Разночтений тут быть не может, но каждой аминокислоте не обязательно отвечает единственный кодон. Например, аргинин символизируется шестью разными кодонами, а триптофан – только одним. Однако компоненты последовательности ДНК (символ) – не то же самое, что компоненты аминокислотной последовательности (его значение), точно так же, как слова, обозначающие компоненты рецепта, – не то же самое, что сами компоненты.
После того как выполнен процесс трансляции последовательности ДНК в цепочку аминокислот, инструкторская функция ДНК приостанавливается – на время. Но это не значит, что данная цепочка символов больше не накладывает ограничений на материальную структуру тех же аминокислот. Вновь сформированная цепь аминокислот (учтите, что аминокислоты связываются друг с другом не спонтанно) складывается с образованием новых химических связей между молекулами, которые действуют наподобие слабых магнитов. Где именно образуются связи и как складывается цепочка, зависит от типа имеющихся аминокислот, а происходит все это согласно символьному предписанию. Здесь есть один очень тонкий момент. Как только аминокислоты займут свои места, образующиеся связи будут подчиняться физическим законам. Одни аминокислоты любят воду, другие стараются держаться от нее подальше; некоторые аминокислоты хорошо – порой даже очень крепко – связываются друг с другом. Взаимодействие аминокислоты с ближайшими соседями приводит к тому, что цепь укладывается в объемную структуру – белок[19]. В процессе укладки линейная последовательность аминокислот, регулируемая правилами, превращается в законопослушную объемную, динамичную, контролирующую функцию структуру (белок).
Безусловно, белки подчиняются причинным законам физики и химии. И материальный состав, и биохимическая роль белков определяются информацией, записанной, необъективными символами, в последовательностях ДНК. Это очень интересно. ДНК – это древнейший пример записанной символами информации (последовательностей нуклеотидов), от которой зависит физическое функционирование (действие ферментов) при ограничениях, наложенных подчиняющимся определенным правилам кодом, – то есть в точности так, как в случае развивающихся, самовоспроизводящихся автоматов в гипотезах фон Неймана. Но постойте-ка: а что создало белок? В ДНК содержалась информация о том, как конструировать белок, и она была расшифрована, но что конкретно инициировало этот процесс? А вот что: другой белок. Чтобы начался собственно процесс репликации, фермент (белок) должен был разъединить нитки ДНК. И сделал это вновь отштампованный фермент. Извечный вопрос о курице и яйце: ДНК, пока ферменты-катализаторы не разъединят ее цепочки, остается просто бездействующей информационной записью, которую невозможно ни скопировать, ни расшифровать, ни транслировать, однако без ДНК не было бы и ферментов-катализаторов. Дополнительность Бора – две взаимодополняющие части, два формата описания, составляющие единую систему.
Обдумывая свой мысленный эксперимент с самовоспроизводством, фон Нейман писал, что уклонился от «наиболее интригующего, волнующего и важного вопроса о том, почему вообще единичные и связанные молекулы, существующие в природе… получились такими, а не другими, почему в одних случаях образовались собственно очень крупные молекулы, а в других – крупные агломераты молекул»[20]. Патти предположил, что квантовый и классический миры согласуются благодаря малому размеру молекул: «Ферменты достаточно малы, чтобы, используя преимущества квантовой когерентности, развивать огромную каталитическую активность, от которой зависит жизнь, и при этом достаточно велики, чтобы обеспечивать высокую специфичность и произвольность в образовании практически некогерентных продуктов, способных функционировать как классические структуры»[21]. В общих чертах квантовая когерентность означает, что элементарные частицы синхронизируют свою активность, чтобы сообща образовать некогерентные продукты – частицы без квантовых свойств. Современные исследования, пишет Патти, подтверждают его идею о необходимости квантовых эффектов для ферментов[22] и невозможности жизни в исключительно квантовом мире[23]. Нужны оба слоя – и квантовой физики, и классической.
Фон Нейман четко объяснил, что его автоматам надо было воспроизводиться. Для самовоспроизводства необходимо уточнить границы себя. Чтобы воссоздать самое себя, надо иметь компоненты, которые выполнят описание, трансляцию и конструирование. Чтобы создать еще одно «себя», надо описать, транслировать и сконструировать компоненты, которые выполнят описание, трансляцию и конструирование. Самореферентная петля – не просто труднопроходимое место. Это равносильно логическому замыканию, которое на самом деле и определяет, что здесь «само».
Физические условия, необходимые для уникальной взаимозависимости в системе символ-вещество-функция, Патти называет семиотическим замыканием. Чтобы это замыкание произошло, подчеркивает он, символьные инструкции должны обладать материальной структурой. В системе не может быть ничего потустороннего, и физическая структура должна ограничивать допустимые динамические процессы конструирования согласно ньютоновским законам. Границы субъекта – «само» в «самовоспроизводстве» – определяются замыканием семиотической петли, физическим связыванием молекул. Никакие сторонние структуры не участвуют в процессе; ограничения установлены. Это не значит, что клетка каким-то образом осознает себя. Но если нет «самости», нет и самоосознания. Прежде всего необходимо установить предельные параметры для «сáмо». И лишь потом можно переходить к самоосознанию, самоконтролю, самоощущению, самосознанию и погружению в себя.
Во всех самовоспроизводящихся клетках должно иметь место семиотическое замыкание. Конечно, в ходе эволюции понятие «самости» обросло многими деталями, но клетка следует рекомендации Грязного Гарри и «знает, что можно, а что нет». Мосты через разрыв в понимании – обозначенный физиками Schnitt, провал между субъектом и объектом – наводят сложные процессы, замыкающие петлю символ-вещество, какими бы они ни были. Это протоколы между квантовым и ньютоновским слоями. Процессы, замыкающие петлю символ-материя, объединяют два типа описания и латают образовавшуюся у истоков жизни прореху. Это означает, что точно такой же цикл процессов может закрыть и разрыв между двумя способами описания – субъективным сознательным опытом и объективными возбуждениями нейронов, которые происходят в физическом мозге, – и возможно даже, что эти процессы реализуются внутри клеток.
Когда квантовая физика только начинала развиваться, Нильс Бор, можно сказать, выкинул белый флаг – предложил принцип дополнительности, пытаясь объяснить двойственную природу света (корпускулярно-волновой дуализм). Принцип дополнительности приемлет оба фундаментальных объяснения этого явления – объективные законы причинности и субъективные правила измерения. Бор сделал упор на том, что, несмотря на необходимость обоих форматов описания, это не говорит о дуализме наблюдаемой системы. Сама система едина. Это было совмещение двух ее характеристик. Две стороны одной медали.
Эта идея плохо укладывается в голове, если она вообще доступна нашему пониманию. В самом деле, Ричард Фейнман говорил: «Думаю, можно смело утверждать, что квантовую механику не понимает никто». В своей лекции на Сольвеевской конференции 1927 года Бор провел аналогию с различием между субъектом и объектом, распространив ее и на психику с материей: «Надеюсь… идея дополнительности годится для описания такой ситуации, в которой прослеживается глубокая аналогия с главной трудностью в формировании человеческих идей, всегда сопровождающей различение субъекта и объекта»[24].
Однако Патти выступает более решительно. Он находит не только аналогию. Он рассматривает дополнительность как эпистемологическую необходимость, которая возникла на заре жизни и простирается на все развившиеся уровни. Суть ее не только в признании разрыва между субъектом и объектом, но и в «кажущемся парадоксальным соединении двух подходов к познанию»[25]. Из-за этого парадокса дуалистская кутерьма захватила философов и ученых более чем на две тысячи лет. Если они будут продолжать в том же духе, споры продлятся еще пару тысяч лет, если не больше. Две системы исследования, два открытых ими явления не могут быть описаны одним и тем же набором физических законов. Как иронизирует Патти, объективный подход привел к тому, что «редукционисты утверждают, будто жизнь – это всего лишь обычная физика, и это справедливо, если нет желания учитывать субъективные проблемы измерений и описаний… Даже физику нельзя сводить к одной объективной системе описания, если использовать только ее, – вот о чем говорит принцип дополнительности!»[26]
Ученым и философам пришлось примириться с неоднозначностью мира – вот и мы, решая проблемы психики и мозга, должны учитывать принцип дополнительности. Он все равно противоречив, так как конфликтует с убеждением, что лучшим объяснением чему-либо является единственно существующее. Впрочем, сто лет назад, когда в физике был открыт квантовый мир, этот миф был развенчан. В микромире действуют иные законы, нежели в макромире. Они наполняют другие слои описания и не сводятся один к другому.
Сторонники золотого стандарта единственного объяснения просто игнорируют реалии физики. Патти сетует, что «в квантовой механике принцип дополнительности приняли исключительно потому, что все прочие интерпретации не имели успеха»[27]. Примерно то же самое говорил Шерлок Холмс: «Когда вы исключите все, чего не может быть, то, что останется, и следует считать истиной, пусть и самой невероятной». Патти опасается, как бы та же злая судьба не постигла принцип дополнительности, если он будет внедрен в биологические и социологические теории. «Не нравится – идите еще куда-нибудь… Отправляйтесь в другую вселенную, более удобную психологически, где правила проще, а философия приятнее»[28], – съязвил однажды Ричард Фейнман. Если та или иная идея вам не нравится, это не значит, что она неверна.
Живая материя прошла совсем иной путь, нежели неживая, и в этом отличие между ними. Неодушевленная материя подчиняется физическим законам. Жизнь с самого первого вздоха неразлучна с правилами, кодами и произвольностью символьной информации. Благодаря отличиям – и взаимосвязи – символьной информации и материи стал возможным бесконечный процесс эволюции, что привело к созданию жизни в том виде, в каком мы ее знаем. Информация об уже состоявшихся и завершившихся успехом событиях была сохранена на будущее в выраженных символами записях. Эти записи тоже являются результатом измерений – по сути своей всегда вероятностными оценками. Тем не менее от этих произвольных, вероятностных символов зависит жизнь и ее материальное воплощение в физическом мире. В неизбежной произвольности символов и измерений кроется некая изюминка, элемент непредсказуемости, а произвольность сочетается с предсказуемым набором законов физики, так что со временем жизнь становится более упорядоченной и вместе с тем более многоплановой.
Различия между субъектом и объектом – не просто любопытная загадка. Все начинается на уровне физики, с различий между вероятностным характером символьных измерений и четкостью физических законов. Позже эти различия проявляются в разнице между генотипом – последовательностью нуклеотидных символов, образующей ДНК организма, – и фенотипом, то есть заданной этими символами реальной физической структурой того же организма. Вместе с нами эти различия поднимаются по эволюционной лестнице к разнице между психикой и мозгом.
В последние две с половиной тысячи лет в центре дискуссии о мышлении и сознании был человек и, с недавнего времени, полноценно развитый человеческий мозг. При этом мы продвинулись до разрыва в объяснении, но не дальше. Пора исследовать разрыв между живой и неживой материей, на который указал Говард Патти. Если мы поймем, как была залатана эта прореха, как жизнь достигла семиотического замыкания, нам, возможно, удастся придумать, как перекинуть мостик через пропасть в понимании между психикой и мозгом. Даже Уильям Джеймс поддерживает нашу идею! Джеймс, который дошел аж до так называемой теории полизоизма: «Каждая клетка мозга обладает собственным индивидуальным сознанием, неведомым другим клеткам, и все индивидуальные сознания «извергаются» одно на другое»[29]. В отдельно взятой клетке идет некий примитивный процесс, связывающий субъективную «самость» с объективной механикой. Во всех клетках есть звено, восполняющее пробел между живой и неживой материей – семиотическое замыкание. Усвоив эту мысль и постаравшись разобраться в сопутствующих процессах, мы сможем поискать новые пути к решению проблемы сознания. Я вовсе не хочу сказать, что отдельно взятые клетки обладают сознанием. Я полагаю, что, возможно, в них обрабатывается информация и что эти процессы сходны с теми, которые формируют сознательный опыт и необходимы для выполнения этой функции.
Очень трудно объяснить субъективный психический опыт всего-навсего возбуждением нейронов в веществе мозга, поэтому мы и споткнулись на разрыве в объяснении. Видимо, оба эти комплементарные и не поддающиеся упрощенческой трактовке свойства присущи единой системе. Мы знаем, что сторонние объективные наблюдатели могут многое выяснить о строении, функциях и деятельности мозга, а также о возбуждении нейронов, однако субъективное переживание этого возбуждения никак не связано с наблюдениями за ним. Подробности возбуждения нейронов и даже сам факт существования возбуждающихся нейронов не имеют отношения к переживаниям субъекта и его непосредственным восприятиям. Когда человек думает и воспринимает информацию, у него нет доступа к объективным процессам мышления и восприятия информации. Как мы уже говорили в главе о многослойных системах, человеку не нужны эти подробности, они скрыты от него, он их не видит. Кроме того, не узнав ничего заранее о функции нейронов, нельзя судить о ней по их строению, как нельзя судить об их строении по их функции. Если вы знаете все об одном свойстве, это ничего не говорит вам о другом. Это два отдельных слоя со своими протоколами, и ни один из них нельзя свести к другому. Патти считает, что в этом суть принципа дополнительности и что невозможно выстроить одну модель для объяснения как объективной структуры, так и субъективной функции. На уровне человеческого мозга никуда не деться от эпистемологического разрыва в системе субъект/объект. Патти утверждает, что «в наших моделях живых организмов никогда не исчезнет дистанция между индивидуальностью и вселенной, ибо с этого разделения началась жизнь и этого требует эволюция[30]».
Следовательно, не стоит удивляться двум комплементарным режимам поведения, двум уровням описания в нашем мышлении. Вопрос о разрыве между субъективным и объективным встает в любом крупном философском споре – о случайном и предсказуемом, о переживании и наблюдении, о личном и общественном, о воспитании и природе, о психике и мозге. По мнению Патти, ни одна теория, связывающая субъективную и объективную модели переживания, не обойдется без двух взаимодополняющих форматов. Две модели свойственны жизни, они существовали изначально, и эволюция их сохранила. «Это универсальная комплементарность, ее нельзя сократить. Невозможно ни вывести одну модель из другой, ни свести одну к другой. Подробное объективное описание измерительного устройства не может выполнить измерение субъекта, и по той же самой логике подробное объективное описание материального мозга не может породить субъективную мысль»[31], – пишет Патти.
Если не уделить должного внимания одной из сторон, то порвется связь между обеими сторонами. Чтобы их соединить, надо признать двойственную, комплементарную природу символов. Даже если образующие связь механизмы поддаются описанию в терминах физики, объяснение может оказаться отнюдь не удобным и успокаивающим, а психологически некомфортным как для детерминистов, так и для идеалистов. Возможно, не понятным никому, как квантовая механика, не укладывающимся в рамки нашего воображения и интуитивных представлений. «Нельзя же диктовать природе, какой ей быть. Вот что мы выяснили. Каждый раз, когда мы высказываем догадки о том, какой она должна быть, и проводим измерения, она оказывается хитрее. Ее воображение всегда превосходит наше, и она находит более разумные пути, о которых мы и не думали»[32], – сердито говорил Фейнман.
Глава 9
Журчащие ручьи и индивидуальное сознание
Алиса: «Было бы прекрасно, если бы для разнообразия хоть что-нибудь имело смысл».
Льюис Кэрролл.«Алиса в стране чудес»
Все мы пребываем в том состоянии, которое называем сознательным, – мы отдаем себе отчет в наших мыслях, стремлениях, чувствах и отношении к миру, к другим людям и к самим себе. Это глобальное явление имеет еще и личностное, определяющее и ограничительное значение. От этого зависит восприятие жизненного опыта. Видимо, сознание занимает более высокие позиции относительно физического мозга со всеми его уровнями и модулями. Наверное, без него мы были бы просто роботами вроде тех, что встречались Декарту в парижских садах. Машинами. Так что же можно предложить в качестве объяснения этому феномену?
Как вы, наверное, догадываетесь, деталями пазла, который, на мой взгляд, мог бы дать нам некое новое представление о природе сознательного опыта, послужит все то, о чем мы уже говорили: модули, слои, принцип дополнительности и семиотическое замыкание по теории Говарда Патти. Эти идеи помогут нам распознать в нейронных сетях объекты с двоякой природой – они несут в себе символьную информацию, выстраиваемую по произвольным правилам, но вместе с тем обладают материальной структурой и подчиняются законам физики. Если рассмотреть оба подхода в совокупности, можно составить историю мозга. Мозг – это орган, искусно созданный естественным отбором и уложенный в локальные модули, функционирующие по многослойной схеме так, что в основном узлы не осведомлены о деятельности друг друга. Это история о том, как благодаря хорошо согласованной организации кучка маленьких старательных сетей создает более крупную функциональную единицу, подобно тому, как граждане, действуя по своему разумению и более или менее самостоятельно, создают некую структуру – общество. Чтобы разобраться в проблеме, надо понять, каким образом ежеминутно проявляют себя неустанно работающие части.
Если разрывы, модули и слои могут оказаться полезными для изучения процесса формирования психики мозгом, то и некоторые неоспоримые факты о мозге надо объяснять с тех же позиций. Отвлекитесь на минутку от чтения и попробуйте осмыслить во всей полноте следующий факт и его последствия, неожиданные для вашего самоощущения: нейрохирург способен разъединить два полушария вашего мозга, так что в голове у вас будет сразу два разума – два разума с разным наполнением, хотя и с одними и теми же эмоциональными стимулами и ощущениями. Затем вспомните: да, повреждение мозга может вызвать то или иное патологическое состояние, однако полностью отключить сознание почти невозможно. И последнее: несмотря на то, что сознательный опыт кажется нам цельным и единым, создается он в слаженной работе множества систем, функционирующих параллельно, так что каждая из них впрыскивает в процесс свой продукт независимо от других. Таким образом, хотя сознание и напоминает правдоподобное, хорошо срежиссированное и безупречно отредактированное кино, на самом деле это поток отдельных эпизодов, которые всплывают, словно пузырьки в кипящей воде, объединенные временем рождения. Сознание – это переменчивый поток, и, как однажды сказал Уильям Джеймс, «если состояние уже прошло, оно никогда не повторится и не возникнет вновь в той же форме, в какой было»[1]. Позвольте мне подготовить почву для этой идеи.
Я должен еще раз вернуться к самому первому сделанному мной научному наблюдению. Это было во время работы с пациентом У. Дж., так жестоко страдавшим от эпилепсии, что он мог жить нормально лишь два-три дня в неделю. Молодой нейрохирург Джозеф Боген провел глубокое исследование и предположил, что этому человеку могла бы помочь мало распространенная операция, в ходе которой рассекается крупный пучок нервов, соединяющих полушария мозга. За двадцать лет до этого такую операцию сделали группе пациентов в Рочестере, штат Нью-Йорк. В итоге приступы у них или прекратились вовсе, или стали проходить легче. Как ни странно, все пациенты из той группы говорили, что прекрасно чувствуют себя с разделенным надвое мозгом, и единственное, что они заметили, – так это прекращение припадков.
Ветеран Второй мировой войны, У. Дж. прошел немало боев. Взвесив свои шансы на победу в этой битве, он согласился на операцию. Я, тогда молодой студент магистратуры, разрабатывал для него послеоперационные тесты, чтобы понять, сказалось ли расщепление мозга на его функциях и если да, то как именно. Мы не ожидали эффекта, поскольку у рочестерских пациентов его не было. У. Дж. был приветливым и общительным человеком, а оба его полушария вроде бы отлично работали вместе, хотя и были лишены непосредственного контакта. Одно из них могло говорить, другое – нет. С учетом схемы связей в мозге это означало, что говорящее полушарие видело то, что можно было увидеть справа от фиксированной точки, а правое, немое, воспринимало зрительную информацию в области слева от той же точки. Принимая во внимание послеоперационное состояние, я задался вопросом, подтвердит ли У. Дж., что он видит вспышку света, если я зажгу лампочку справа? Свет должен попасть в левое полушарие, а оно владело речью; все должно быть просто. Так и оказалось: У. Дж. уверенно заявил, что видел вспышку.
Чуть позже я включил ту же самую лампочку в левой части пространства и стал ждать реакции пациента. Ее не последовало. Я настойчиво потребовал ответа на вопрос, видел ли он что-нибудь, и тогда он сказал: «Нет». Он ослеп на эту сторону? Или способное говорить полушарие уже не воспринимало простое световое пятно? Понимало ли правое полушарие, по нашим представлениям, не владеющее речью, что оно смотрело на свет? Было ли оно сознательным? Что вообще происходило?
Как выяснилось позже, в той же серии экспериментов, немое правое полушарие свет заметило, потому что оно верно и без затруднений указало на него с помощью левой руки пациента. Это был первый экспериментальный факт, доказывавший, что разделенным оказался не только мозг, но и разум. Это дало старт шести десятилетиям исследований природы разума и его физической подоплеки. Кроме того, наше исследование привело к удивительным результатам. Судя по всему, левое говорящее полушарие не страдало без правого, и наоборот. Мало того что не страдало – оно даже не помнило о нем и о его деятельности, словно правого полушария никогда и не было. На мой взгляд, этот феномен является важнейшим фактом, который должны усвоить студенты, занимающиеся исследованиями связей психики и мозга.
Почему же левое полушарие нимало не огорчено тем, что больше не осознает событий в левой части пространства? Представьте себе, что ваш мозг рассекли. На следующий день вы просыпаетесь в больничной палате, к вам входит ваш хирург, но вы видите только половину его лица. Вам кажется, что вы заметили бы отсутствие правой половины? Так вот нет, не заметили бы. На самом деле ваше левое полушарие даже не отдавало бы себе отчета в существовании еще и левой половины пространства. Но здесь вот какая путаница: я описал все так, будто новая, расщепленная, версия вас ограничилась вашим левым полушарием, а это не так. Правое полушарие осталось при вас. У новых «вас» есть два разума с двумя независимыми объемами перцептивной и когнитивной информации. Просто речь легко дается лишь одному из разумов. Другой изначально говорить не умеет. Возможно, спустя годы и он будет в состоянии произнести несколько слов.
Еще более поражает то, что в первые месяцы после операции, пока оба полушария не привыкнут уживаться в одном организме, между ними наблюдается конкуренция. Например, надо выполнить несложное задание – уложить цветные детали так, чтобы получилась показанная на карточке картинка. Легкая прогулка для левой руки, благо правое полушарие обладает необходимыми зрительно-моторными навыками. Левое полушарие, напротив, не в состоянии справиться с поставленной задачей. Когда пациент, недавно перенесший операцию по расщеплению мозга, пытается выполнить такое задание, его левая рука справляется моментально, но если ту же задачу пробует решить правая рука, левая вмешивается и сбивает ее с толку, стремясь сделать все сама. В одном из таких экспериментов нам пришлось попросить пациента сесть на свою порывавшуюся командовать левую руку, чтобы дать шанс правой, которая так и не смогла выполнить задание! Для левого полушария это оказалось за гранью возможного.
Если прервано сообщение между полушариями, каждое из них перестает понимать, что известно другому, и функционирует независимо, исходя из полученной информации. Оба стараются решить задачу самостоятельно, что приводит к перетягиванию каната. Эта нехитрая задачка выявила ошибочность идеи унифицированного сознания. Если бы у сознания был один локальный источник, пациент с расщепленным мозгом, очевидно, не мог бы одновременно испытывать два переживания!
Но и это еще не все. Все мы видели фильм о простой иллюзии, возникающей, когда два шарика, как нам кажется, соударяются и тот шарик, о который вроде бы ударился другой, отскакивает после ложного столкновения. В профессиональных психологических дискуссиях это называется эффектом запуска, или эффектом Мишотта, по имени бельгийского психолога Альбера Мишотта, поставившего свой эксперимент, чтобы посмотреть, как мы воспринимаем причинно-следственные связи и какие выводы при этом делаем. Физического действия, которое заставило бы второй шарик отскочить, не было, поскольку первый шар остановился рядом с ним и на самом деле с ним не столкнулся. Но мы видим происходящее иначе. Шар А ударяется о шар В, и тот отлетает – и точка. Есть причинно-следственная связь!
А как представляется это простое задание пациентам с расщепленным мозгом? Видит ли левое полушарие с его особенностями сознания то же самое, что и, возможно, правое? Впервые это проверил опытным путем Мэтью Роузер, который приехал учиться из Новой Зеландии, потом работал в Дартмуте, у меня в лаборатории, а ныне трудится в Англии, в Плимутском университете[2]. Чрезвычайно одаренный ученый, Мэтт, вместе с коллегами, изучал реакцию обоих полушарий, лишенных связи друг с другом и функционировавших независимо, на кажущиеся соударения шаров. Результаты оказались поразительными. Правое полушарие мгновенно поддалось иллюзии, в то время как левое ее не воспринимало. Это подтвердил второй эксперимент, когда немного увеличивали расстояние между шариками в момент ложного столкновения или интервал времени до начала движения второго шара. При таких условиях для правого полушария иллюзия пропадает, и больше оно ее не видит. Левое, на чью долю выпадает самая трудная когнитивная работа, вовсе не замечает иллюзию ни при каких обстоятельствах. Любопытно, что левое полушарие видит взаимосвязи, которые правое, похоже, распознать не в силах. Судя по этим тестам, левое полушарие обратило внимание на другую задачу, требовавшую логического подхода, что правому оказалось не по силам. Если коротко, правое полушарие могло демонстрировать такие реакции, как непосредственное восприятие причинности, но лишь левое обладало способностью логически выводить причинную связь.
Если мы смотрим, как здоровый мозг с ненарушенными связями воспринимает обе задачи, то неожиданно выясняется, что нейронный аппарат для оценки иллюзии, которую видит мозг, принадлежит правому полушарию. А обрабатывает информацию, когда решается задача логического вывода, левое. То есть в нерасщепленном мозге правое полушарие видит тест с движением мяча в момент А и говорит: «Ага, сейчас мяч А ударился о мяч В», но момент В, когда мозг смотрит на вариант теста с логическим выводом, считывает не правое полушарие, а левое. Это напоминает игровой автомат, где надо прихлопнуть крота. Мы осознаем – иначе говоря, сознательно воспринимаем – обработанную информацию, всплывающую после того, как она пройдет обработку в нужном полушарии. Но почему так происходит – из-за того, что каждый нейронный процесс активирует «сеть осознавай-это» (которая должна присутствовать в обоих полушариях)? Или каждому отдельно взятому процессу достаточно нейронных мощностей, чтобы он казался осознанным?
Я за второй вариант. Размышляя на эту тему, я подумал, что получить представление о том, как формируется сознание, поможет сравнение с кипящей водой. Сознание не производится специальной нервной сетью, которая позволяет нам осознавать все эпизоды нашего психического опыта. Наоборот, каждый эпизод психического опыта контролируется модулями мозга, способными заставить нас осознать результаты их деятельности. Эти результаты всплывают из разных модулей, словно пузырьки в котле с кипящей водой. Один за другим, каждый – конечный продукт обработки информации одним или несколькими модулями, они вызревают и поднимаются на мгновение лишь затем, чтобы тут же, в непрерывном движении, их сменили другие пузырьки. Единичные вспышки обработки информации следуют сплошным потоком, без заметных интервалов. Надо отметить, что такая метафора годится при генерировании пузырьков с частотой 12 кадров в секунду и быстрее; можно еще представить себе книжку-мультфильм, где движения персонажей тем более плавные, чем быстрее мы листаем страницы.
Старейшина нейробиологии сэр Чарльз Шеррингтон описывал свои наблюдения примерно так же:
Насколько можно считать психику набором квазинезависимых перцептивных психик, физически объединенных в немалой степени благодаря временному согласованию переживаний? Автономные резервы, если можно так выразиться, суб-перцептивного и перцептивного мозга могли бы способствовать более легкому течению психических нарушений, возникающих при некоторых повреждениях мозга… Простое совпадение во времени многое может состыковать[3].
Верится с трудом, что каждому пузырьку хватает ресурсов вызывать ощущение осознания: эта мысль противоречит нашим интуитивным представлениям о цельности индивидуального сознательного опыта. Что ускользает от нас и нашего интуитивного знания? Мы упускаем иллюзорный компонент, тот самый, который человек – с его развитым левополушарным механизмом логических умозаключений – так хорошо умеет игнорировать. Вообще-то мы упускаем не иллюзию, а тот факт, что наш непрерывный, плавный поток сознания – сам по себе иллюзия. В действительности он состоит из когнитивных пузырьков, связанных с «чувственными» подкорковыми пузырьками, и в нашем мозге они сшиты во времени.
В биологии известен классический факт, актуальный для всех ее разделов. Он касается того, как реагируют организмы на внешнюю среду – учатся, получая инструкции извне, или их поведение управляется уже имеющимися в них системами. Ожесточенные споры на тему «отбор или обучение», особенно бурные в иммунологии, длились годами. Проще говоря, если в организм попадает чужеродный объект и это вызывает иммунный ответ, то происходит ли локальное образование антител, которые затем начинают размножаться (обучение)? Или антитела уже есть, а скорость иммунного ответа определяется временем, необходимым для обнаружения существующего антитела (отбор) и запуска его реакции? В прошлом столетии биологи выяснили, что реализуется второй сценарий, и это открытие подтверждает, что масса всего поставляется нам в комплекте – наш организм и мозг оснащены стандартным «оборудованием».
В 1967 году датский иммунолог Нильс Ерне выдвинул довольно смелую для своего времени гипотезу: то, что справедливо для иммунной системы, вероятно, применимо и к мозгу. Он предположил, что среда отбирает уже существующие в мозге нервные сети и использует их в процессе, который мы могли бы трактовать как «обучение»[4]. При таком выраженно натуралистическом подходе обучение эквивалентно времени, необходимому мозгу для сортировки огромного множества сетей и поиска единственно подходящего для решения данной задачи.
Хотя точка в этом принципиальном споре еще не поставлена, ни у кого нет сомнений в наличии нейронных сетей для выполнения специфических функций – предустановленного в мозге «стандартного оборудования». Например, уже в полгода дети демонстрируют способность делать выводы о причинных связах[5]. А деятельность подкорковых сетей становится явной, когда новорожденный впервые плачем потребует его покормить. В метафоре с кипением пузырьки – это конечный результат обработки информации в тех сетях, непрекращающаяся работа которых направлена на разруливание и преодоление бесконечных проблем, создаваемых внешней средой. Это и кортикальные, и подкорковые процессы. Прежде чем перейти к подкорковым пузырькам, давайте рассмотрим еще один весьма показательный эксперимент.
Хорошо это или плохо, но вопрос Томаса Нагеля «Каково быть летучей мышью?»[6] сорок лет будоражил философские умы. Вообще-то его следовало бы сформулировать так: «Пузырьки какого типа есть у летучей мыши?» Иными словами, что происходит в сознании летучей мыши? Наверное, мы никогда в полной мере не испытаем сознательный опыт, подобный опыту летучей мыши, но мы можем посмотреть, что творится в одном отдельно взятом полушарии человеческого мозга. В мозге теснятся пузырьки, и в каждом полушарии расщепленного мозга кипение происходит с образованием собственного набора пузырьков. Раз нам теперь известно, что каждому полушарию присущи свои уникальные пузырьки, так, может, и сознательный опыт в каждом полушарии таится свой? Чтобы усвоить эту мысль, подумайте, каких пузырьков у вас нет. Скажем, я признаю, что лишен пузырька абстрактной математики; по этой причине я могу сказать, что обилие математических формул в лекции повергает меня в ступор. При всем желании я не смог бы объяснить, каково это – постичь высшую теоретическую математику, но готов поспорить, что это здорово!
Ребекка Сакс из Массачусетского технологического института провела интересные исследования и обнаружила, что в правом полушарии человеческого мозга имеются особые структуры, роль которых, по-видимому, заключается в определении предположительных намерений другого человека[7]. Взаимодействуя с другими людьми, мы постоянно и машинально оцениваем их психическое состояние и намерения. Это происходит буквально автоматически. У детей с аутизмом такая способность, скорее всего, развита очень плохо, из-за чего они испытывают трудности в общении. Как я уже писал, на профессиональном языке психологии это называется моделью психического. Сакс, использовав современные методы визуализации активности мозга, выяснила, что за данную способность отвечает правое полушарие. Как вы, должно быть, догадываетесь, этот факт ставит перед нами новые вопросы. Открытие Сакс могло бы навести на мысль о том, что у пациентов с расщепленным мозгом левое полушарие не имеет доступа к тому модулю, который вносит в сознание модель психического. Как поведет себя левое полушарие, не имея возможности использовать эту способность?
Мой бывший студент, а ныне сотрудник Майкл Миллер и выдающийся философ Уолтер Синнотт-Армстронг скооперировались и стали изучать проявления результатов Сакс у пациентов с расщепленным мозгом[8]. Их интересовало, будут ли разъединенные полушария по-разному относиться к моральным проблемам. Учтите, что, согласно выводам Сакс, в одном (правом) полушарии расщепленного мозга должен быть модуль, принимающий во внимание психику и намерения других людей, а в другом (левом) – нет. Начнет ли левое полушарие после операции, уже не располагая модулем для оценки психических состояний и намерений других людей, действовать не так, как правое?
В этике философы любят рассматривать нравственные дилеммы либо с позиций деонотологии, либо с практической точки зрения. В переводе на понятный всем язык вопрос звучит так: мы решаем проблему, памятуя о моральном долге и заведомо правильном выборе, – или решение сводится к поиску максимальной пользы для всех? Формулировки этой дилеммы могут быть различны, и выяснить, как мыслит человек – с нравственной или практической точки зрения, – можно разными способами. В серии тонко спланированных экспериментов пациентам рассказывали истории, главные герои которых совершали дурные поступки, хотя кончалось все хорошо. Пример: секретарша, желая извести босса, задумала подсыпать яд ему в кофе, но порошок оказался сахаром, о чем она не знает; босс пьет кофе и остается жив-здоров – допустимо ли это? Действующее лицо другой истории вроде бы ничего плохого не делает, но позже его поступок приводит к чьей-то смерти: если секретарша уверена, что добавила в кофе для босса сахар, однако это оказался яд, случайно оставленный химиком, а босс выпивает кофе и умирает, это допустимое деяние? Пациент, которому рассказали эти истории, должен дать простой ответ на вопрос, были ли действия героини «допустимыми» или «недопустимыми».
Обычно люди, безусловно, оценивают злонамеренное поведение как недопустимое при любом исходе. В этом смысле они руководствуются этикой. Поступок человека, не имевшего дурных намерений, большинство оценило бы как допустимый (впрочем, не всегда), даже если он мог стать причиной трагедии. Но пациенты с расщепленным мозгом действуют особым образом. По-видимому, левое, говорящее, полушарие поначалу предлагало практичное решение для любого сценария. То есть если злонамеренное деяние все же не принесло никому вреда, его оценивали как «допустимое». А если никто не замышлял ничего дурного, но кончилось все плохо, то поступок считался «недопустимым». Несколько обескураживающий результат для столь незамысловатых сюжетов. В чем же дело? Отделенное левое полушарие не может учесть намерения действующих лиц и ведет себя так, будто у него нет модели психического.
Кроме того, пациентам часто хотелось объяснить, почему они отдали предпочтение прагматичности, а не очевидно верному – с точки зрения морали – выбору. Складывалось впечатление, что они «чувствовали» некоторую порочность своих выводов и нередко пытались логически обосновать их, хотя их об этом и не просили. Не забывайте об интерпретаторе в левом полушарии – модуле, который старается объяснять наблюдаемое поведение, вызванное как самим организмом, так и переживаемыми им эмоциями. Учтите, что эмоциональную реакцию на событие, которое воспринимается одной половиной мозга, ощущают оба полушария. Если в результате опыта, переживаемого правым полушарием, возникла эмоция, левое не знает, почему эта эмоция испытывается, но так или иначе объясняет ее. Поэтому правое полушарие, услышав ответ левого (при всех его ограниченных речевых способностях что-то оно все же способно осмыслить), точно так же удивлялось, как и мы, что вызывало эмоциональную реакцию, не соответствующую разумному, с точки зрения левого полушария, ответу. Неудивительно, что в обстановке серьезного конфликта специализированный модуль левого полушария (интерпретатор – тот, что всегда готов объяснить поведение, вызванное немым, отделенным правым полушарием) активизировался и постарался дать свою трактовку событий. Например, в одном из сюжетов официантка подала клиенту блюдо с семенами кунжута, хотя и считала (ошибочно), что кунжут дает сильные аллергические реакции. Пациент Дж. У. счел действия официантки «допустимыми». Чуть помедлив, он вдруг добавил: «Семена кунжута очень мелкие. Они не могут никому навредить».
В моей метафоре пузырек символизирует итог обработки информации модулем или группой модулей в многослойной системе. У пациентов с расщепленным мозгом особый модуль, который оценивает намерения других людей, отсоединен и изолирован от говорящего левого полушария. Вследствие этого результат его работы не выходит на поверхность, дабы внести свой вклад или стать доминирующим в процессе принятия решения левым полушарием. Если его фактически нет в левом полушарии (в числе пузырьков, имеющих доступ к языку и речи), он не может принять участие в процессе кипения. Поэтому нет и понимания намерений другого человека, что тревожно. Тем не менее пузырьки обработки эмоциональной информации в среднем мозге делают это для обоих полушарий. Левое полушарие видит несоответствие лишь тогда, когда правое слышит его отклик и эмоциональные ощущения испытывают оба полушария. В таком случае запускается процесс вынесения суждения. Кроме того, в левом полушарии хранится накопленная за время жизни память о нравственных нормах, принятых в той культурной среде, где оно развивалось, и при оценке событий левое полушарие может использовать эту информацию.
Оказывается, тонкими различиями в нашей психологической жизни управляют специфические модули мозга. С другой стороны, левое полушарие с его преимуществами в виде модулей, способных к абстрактному мышлению, вербальному кодированию и много чему еще, лишено модулей для понимания чужих намерений. Хотя при этом у него прекрасно развита способность делать логические выводы. Если результат верен, значит, средства подошли. То есть при счастливом исходе действие допустимо. Если же конец плохой, действие недопустимо. Хорошо то, что оптимально для всех. Возможно, человек не научится думать о других людях, если у него нет нужного модуля, который обеспечивает эту способность, – вот самый поразительный, почти невероятный аспект этих открытий.
А если вы вдруг лишились левого полушария? Каким станет ваш сознательный опыт? Только имейте в виду, что на самом деле вы не заметите видимых изменений, так как не почувствуете отсутствия модулей левого полушария. Так и будет. Когда речевой центр пропадает, резко ухудшаются способности к взаимодействию с людьми и пониманию происходящего. Правое полушарие обладает ограниченным словарным запасом и может контролировать процессы понимания лишь в ограниченном объеме. Но самым существенным фактором вашего нового сознательного опыта будет потеря способности делать логические умозаключения. Этой опцией левого полушария вы пользовались постоянно, и нехватка ее кардинально изменит ваше восприятие мира. Хотя вы и будете знать, что у других людей есть свои намерения, убеждения, желания, и сможете попытаться представить себе, как это выглядит, вам не удастся уловить причинно-следственные связи. Вы не сумеете сделать логический вывод о том, почему кто-то сердится и думает так, а не иначе. Ваши социальные взаимодействия будут чреваты недоразумениями, и скорее всего и вам, и вашему собеседнику в конце концов станет неловко. Однако потеря способности к логическому мышлению важна не только в социуме. Вы вообще перестанете замечать причинные связи. Вы не поймете не только того, что ваша соседка рассердилась, так как вы не закрыли ворота и ее собака убежала – вы не поймете, что собака убежала, так как вы не закрыли ворота. Вам же не придет в голову, что машина не заводится, так как вы не выключили радио.
Несмотря на способность адекватно оценивать пространственные связи, вы не сумеете правильно расставить причины и следствия в контексте физики. Вы не сделаете выводов о действии невидимых причинных факторов, будь то сила тяжести или духа. Например, вы не сделаете выводов о причинах движения шара, к которому была приложена сила в момент удара другим шаром, но вместе с тем неспособность делать логические умозаключения могла бы пригодиться вам в казино. Вы бы делали ставки, полагаясь только на случай и не пытаясь вывести какие-либо закономерности в выигрышах и проигрышах. Счастливый галстук или носки, поворот головы – все это ни при чем. Вы не будете сочинять невнятную историю о том, почему вы сделали или почувствовали то-то и то-то, не потому, что плохо владеете языком, а опять-таки потому, что не видите связи между причиной и следствием. Вы не станете ни притворяться, ни пытаться обосновать свои действия. Также вы не сделаете выводов о сути чего-либо, а воспримете все буквально. Вы не поймете смысла метафор и отвлеченных идей. Не делая логических выводов, вы будете лишены предубеждений, но учиться, не понимая причинно-следственных связей, вам будет труднее. Содержание сознательного опыта в том или ином полушарии зависит от кипящих в нем процессов.
Всем нам доводилось испытывать сильное желание вернуться в те места, где однажды нам было хорошо, в тот райский уголок, который мы вспоминаем теперь с такой теплотой, что просто обязаны посетить его снова и еще раз поймать мгновение счастья. Но когда мы приезжаем туда во второй раз, все выглядит не совсем так, как прежде. Ощущения другие. Не то чтобы хуже или лучше. Просто другие.
Недавно мы с женой вновь съездили в Равелло – ранее это место показалось нам волшебным. Его природная красота никуда не делась. Оно по-прежнему хранило свою историю и культуру, а самое главное – люди там были те же. Однако мы воспринимали его иначе. Все в Равелло не отвечало нашим впечатлениям, основанным на предыдущем опыте. Может, мы что-то не так запомнили? А может, изменилось наше отношение к жизни вообще и эти другие ощущения придали иной оттенок нашему новому опыту?
Здравый смысл подсказывает, что все имеют некий прошлый опыт и что связанные с ним ощущения специфичны для конкретного, интересующего нас в данный момент события. Возникающие ощущения, в свою очередь, связаны с испытываемым опытом, и нам кажется, что, повторив опыт, мы сможем воспроизвести те же чувства. Вы отлично провели отпуск на некоем курорте; если вы вернетесь туда, вам опять будет весело и вы почувствуете себя счастливым. Возможно, именно по этой причине люди покупают таймшер. Съездить куда-то впервые очень приятно, но еще и еще раз?.. Мы ждем, что прежние ощущения вернутся автоматически, стоит лишь снова отправиться в знакомое место. Полагаю, нет, не вернутся. Давайте взглянем на это с другой стороны.
Тот волшебный момент, который в прошлом доставил нам столько удовольствия, теперь хранится в виде информации о давнем событии. Мы до сих пор не понимаем, каким образом эта информация откладывается в памяти, но это такая же строгая и объективная символьная информация, как ДНК, – и, подобно ДНК, она имеет физическую структуру. В этой информационной структуре может скрываться тот факт, что событие ассоциируется с положительными эмоциями, но самих эмоций в хранилище нет – только информация о них. Когда на поверхность вырываются пузырьки памяти, вместе с ними поднимаются и те, что исторгают наши нынешние чувства, связанные с воспоминаниями. Чувства берутся из другой системы с собственными процессинговыми пузырьками, функционирующей отдельно от системы памяти. Одним словом, я думаю, что разделение эмоциональных сфер показывает, что разные системы синхронизируются и создают связанное с воспоминанием ощущение. Можно провести аналогию с саундтреком к драматичному эпизоду фильма. Музыка и кино существуют отдельно друг от друга, но если их объединить, саундтрек добавит сцене эмоциональности. По мере того как один пузырек быстро добегает до следующего, у нас возникает иллюзия, что наши ощущения связаны с воспоминаниями.
Итак, у нас есть пузырьки воспоминаний и пузырьки ощущений. Когда мы думаем о минувшем событии, наши чувства по отношению к нему на самом деле с ним не связаны – это наши нынешние чувства, которые мы проецируем на событие из прошлого. Обычно они тоже приятны, но сами по себе к настоящим воспоминаниям не привязаны. Это становится более очевидным, если текущее ощущение противоположно первому. Допустим, вы вспоминаете тот момент, когда получили неудовлетворительную отметку на экзамене. Память подсказывает вам, что тогда было паршиво, верно? Но, допустим, неудача заставила вас отправиться в кабинет профессора и попросить его помочь вам; он согласился, и вы здорово подтянулись по его предмету, благодаря чему сделали карьеру в этой области. Сейчас, вспоминая тот эпизод с плохой оценкой, вы знаете финал истории и можете относиться к прошлому только позитивно. Умом вы понимаете, что тогда вам было плохо, но вы просто не в состоянии воспроизвести те же чувства. Чувство смущения, пожалуй, более устойчиво к искажению. Может статься, вы до сих пор заливаетесь краской при воспоминании о каком-нибудь своем давнишнем грешке. Впрочем, бывает, что вы, покачав головой, лишь рассмеетесь над тем, чего стеснялись в юности или в подростковые годы, – например, над тем, как вы сползали на пол с заднего сиденья машины, чтобы друзья не засекли вас с родителями. Неужто я и правда так себя вел? Сейчас вы уже не краснеете – или краснеете, но совсем по другой причине.
Свежие ощущения генерируются иными модулями, нежели мысли, воспоминания, решения и прочее подобное. То, что мы ощущаем в момент совершения события, становится компонентом воспоминания об этом событии, координатой, кусочком информации, которую мы можем пометить, закодировать в нейронной системе и поместить в нашу память.
Однако источник настоящего ощущения – другой, совершенно независимый действующий агент мозга. При повторной поездке его неврологические настройки могут оказаться совсем не теми, что во время первого визита. В обоих случаях ваши впечатления от поездки формировались под влиянием этих настроек. Первому путешествию интереса добавляют неизвестность, любопытство, приключения, зачастую молодость и иногда адреналин. Потом вы возвращаетесь в знакомые уже места, став старше и накопив больше жизненного опыта; вам легче освоиться, любопытство притупилось, вы примерно знаете, чего следует ожидать, адреналин уже так не скачет. Ваши ощущения другие – не обязательно более приятные или неприятные, просто другие. Так происходит не только, когда вы куда-то возвращаетесь, но и когда пытаетесь заново пережить былой опыт. Это хорошо описывает Нил Янг: «Я все еще стараюсь оставаться прежним, но вы же понимаете, мне не двадцать один и не двадцать два… Не уверен, что смог бы воспроизвести то ощущение… это связано с тем, сколько мне было лет, что тогда творилось в мире, что я только что сделал, что хотел бы делать дальше, с кем я жил, с кем дружил, какая была погода»[9].
Стивен Пинкер заметил несколько лет назад: «Что-то в теме сознания заставляет людей, как и Белую королеву из «Алисы в Зазеркалье», еще до завтрака шесть раз поверить в то, чего не может быть. Возможно ли такое, что животные в большинстве своем – действительно бессознательные существа, ничего не соображающие лунатики, зомби, роботы? Разве собакам неведомы страсть, любовь и волнение? Разве они не чувствуют боли, когда их мучают?»[10] Яаак Панксепп был согласен с Пинкером в том, что отрицать это – значит поверить в невозможное, и упрекал Декарта в неуважении к животным, которым тот отказывал в сознании. Кроме того, Панксепп полагал, что если бы Декарт в ответ на вопрос «Кто такой этот «я», которого «я» знаю?» сказал бы: «Я чувствую, следовательно, я существую» – и исключил когнитивные процессы из формулы субъективного опыта, он избавил бы нас от многих проблем. Панксепп поддержал бы Патти в том, что со времен Декарта чуть ли не все, желая понять, как нервным системам удается генерировать субъективные аффективные переживания, лезли слишком высоко на дерево эволюции[11].
Панксепп предположил, что субъективный аффективный опыт возник, когда древние с точки зрения эволюции системы чувств оказались связаны с примитивной разновидностью нейронной «карты тела организма», которая определяет границу между «я» и внешним миром[12]. Чтобы составить карту тела, достаточно нанести на страницы соответствующих нейронов мозга ощущения, полученные изнутри и извне организма. Далее Панксепп утверждает, что для субъективного опыта необходимы два компонента: информация (записанная символами) о внутреннем и внешнем состояниях агента и конструирование объединенной нейронной модели агента в пространстве – модели, построенной на скорую руку, исходя из возбуждений нейронов. Информация и конструирование – такую же комплементарность мы видели в ДНК. Познание на более высоком уровне, или знание, что у вас есть «я» (оно же «самоосознание»), не входит в первоначальный рецепт. Чтобы передвигаться в окружающей среде без риска для здоровья и в нужном направлении, чтобы есть, когда вы голодны, и так далее, вам не надо понимать, что вы осознаете себя, но необходимо понимать ограничения для вашего тела в том пространстве, где вы находитесь. Не зная их, вы будете обречены вечно натыкаться на препятствия и принимать ошибочные решения по всем вопросам – от выбора надежного убежища до шансов перепрыгнуть с одной скалы на другую. Кроме того, у вас должна быть мотивация действовать так, чтобы это способствовало выживанию и размножению. Иными словами, чтобы сознавать субъективный опыт, не нужны пузырьки, поднимающиеся из высокоразвитой коры мозга. Декарту для ощущения своей «самости» хватало сигналов из подкорки, думать об этом ему нужды не было.
Вообще-то даже насекомым для уверенного и безопасного передвижения требуется информация о собственном теле в пространстве. Мухи не раз обыгрывали меня, заставляя без толку размахивать мухобойкой. Эндрю Баррон и Колин Клейн из австралийского Университета Маккуори решили исследовать миры мозга насекомых и обнаружили, что так называемый центральный комплекс играет у них ту же роль, что и определенные части среднего мозга позвоночных, а именно генерирует «единую пространственную модель состояния и положения насекомого в окружающей среде»[13]. То есть в мозге тараканов и сверчков, саранчи и бабочек, дрозофил и домашних пчел, как и в среднем мозге позвоночных, предусмотрена функция для определения их местонахождения в пространстве. Короче говоря, обширному классу сложных организмов свойственно решать биологическую задачу упорядочивания многих систем, необходимых для осуществления действия. Это свойство, присущее букашкам, присуще и нам. Соглашаясь с Панксеппом и Меркером, Баррон и Клейн делают вывод: «Для субъективного опыта достаточно цельной и эгоцентричной репрезентации мира с точки зрения животного». Они также считают, что насекомым, которых они изучали, хватает осознания тела в пространстве, и высказывают предположение, что эти насекомые обладают субъективным опытом, имевшимся у общего предка позвоночных и беспозвоночных еще в эпоху кембрийского взрыва, около 550 миллионов лет назад.
Так думают не только они. Нейробиологи Николас Стросфилд из Аризонского университета и Фрэнк Хёрт из Королевского колледжа Лондона решили изучить другую ветку эволюционного древа. Они составили всеобъемлющий обзор анатомических, эволюционных, поведенческих и генетических особенностей базальных ганглий позвоночных и сравнили их с аналогичными узлами центрального комплекса членистоногих (к тому же типу принадлежит и класс насекомых). Стросфилд и Хёрт выявили массу общего и на этом основании сделали вывод, что у центрального комплекса членистоногих и нейронных сетей базальных ганглий позвоночных был общий предшественник[14]. Фактически эти органы являются продуктами генетической программы, сохранившейся в ходе эволюции. То есть нейронные сети, играющие ключевую роль в выборе поведения, имеют древнее происхождение в эволюции. Наш общий с членистоногими предок уже бегал по земле с нейронной сетью такого рода, и его действия уже контролировались вызревающими пузырьками обработанной информации о его местонахождении и чувственных восприятиях. Стросфилд и Хёрт даже предположили, что мозгового аппарата этого общего предка хватало для создания феномена переживания опыта. Возможно, они и преувеличивают, но их работа говорит о том, сколь глубоко в историю эволюции уходят корни основных механизмов, которые мы обнаруживаем у людей. В этом и есть красота эволюционных и сравнительных исследований. Те особенные свойства нашего внутреннего психического мира, которые мы относим к уникальным конструктивным элементам человеческого мозга, на самом деле сформировались очень и очень давно, а вот развивал их в основном уже наш мозг.
Наш сознательный опыт – это непрерывный и плавный поток мыслей и ощущений. Как это возможно при постоянной конкуренции пузырьков за лидерство? Вызревают ли они в произвольном порядке или являются продуктом динамичной системы управления? Существует ли слой контроля, который одни пузырьки пропускает вперед, а другие придерживает?
Управлять процессом обработки информации в модуле можно, в частности, за счет входящего сигнала. Допустим, вы попробовали шоколадный трюфель без сахара. Вкусовые клетки, реагирующие на сладость, не активируют ни один афферентный нерв (то есть входящий в мозг с периферии), не активируется ни один модуль, обрабатывающий ощущения такого рода, поэтому вы не чувствуете сладкого вкуса и информация о сладости не обрабатывается. Вместо этого активируются вкусовые клетки, реагирующие на горечь, и у вас во рту остается горький привкус. Обрабатывается информация о горечи. Замените несладкий шоколад на точно такой же с виду, но молочный, и в работу включится модуль для сладости, мгновенно наполняя ваше сознание пузырьками сладости, которые решительно вытеснят чувство горечи. Горечь словно осталась в далеких воспоминаниях, а все внимание направлено на сладость – до тех пор, пока не появится следующий пузырек. Никакого когнитивного процесса здесь не требуется. На фестивале пузырьков сигнал о сладости каким-то образом стал главным. Этому помогли некие дополнительные факторы?
В том или ином виде селективное усиление входного сигнала наблюдается у разных животных, от крабов[15] до птиц[16] и приматов[17], что наводит на мысль о таком же свойстве нашего последнего общего предка, обитавшего на земле около 550 миллионов лет назад. Самым ранним проявлением способности «управлять данными» была примитивная форма внимания – этот процесс помогал справиться с интенсивным потоком сенсорной информации, которую должен был обработать кластер клеток. Процесс усиления сигнала развился на первых этапах эволюции: он помогал организмам выбрать среди всех атакующих их стимулов те, что имели непосредственное отношение к выживанию (чем получать информацию о чем попало, лучше знать о близкой угрозе, еде и паре для совокупления), и сохранился во всех формах жизни, которые произошли от того первого организма.
Стивен Уидерман и Дэвид О’Кэрролл из Университета Аделаиды (Австралия) обнаружили, что в мозге современной стрекозы имеется один зрительный нейрон, который высматривает единственную похожую на жертву цель и преследует только ее, игнорируя все остальные[18]. Этот факт интересен не только тем, что подтверждает наличие у стрекоз формы конкурентной селекции, необходимой для зрительного внимания, но и потому, что процесс селективного внимания осуществляется отдельной клеткой. У позвоночных селективное усиление сигнала вылилось в то, что мы стали называть вниманием – в тонкий механизм управления входящими данными, а посредством этого и нашим разумом. Так, мы можем обо всем забыть, когда смотрим интересный фильм, но как только завоет пожарная тревога, наша система «управления данными» моментально усилит этот пронзительный сигнал, отвлечет наши умы от кино и заставит действовать.
Тем не менее, несмотря на некоторый контроль селективного усиления сигнала над психикой, последняя тоже в известной степени управляет нашим вниманием. Я хочу сказать, что во внимании можно выделить два компонента – «снизу вверх» (восходящий) и «сверху вниз» (нисходящий)[15]. Если вы идете на свидание с незнакомкой, а у нее должен быть алый цветок в волосах, ваш взгляд будет направлен только на прически и ни на что другое. Внимание, следуя вашим намерениям найти незнакомку, будет нисходящим. В этой игре на выживание восходящее внимание не слишком вам поможет. Преимущество получили те организмы, которые развили восходящее внимание, и это стало непреложным правилом. Способность к нисходящему вниманию в высшей степени развилась как у птиц, так и у млекопитающих, чей общий предок жил примерно 350 миллионов лет назад, так что ей, как минимум, примерно столько лет, но, с точки зрения эволюции, это более позднее достижение, чем восходящее внимание. Новый слой – дополнительное приложение.
И снова Патти выдвинул неплохую гипотезу о развитии такого слоя. Основным фактором и движущей силой для появления нового слоя может быть отказ какого-то другого:
Если система не может создать адекватную картину или трактовать ситуацию, чтобы с ней справиться, возникает, так сказать, безвластие, или зона отсутствия решений. Я бы назвал это своего рода нестабильностью – решение принять необходимо, но нет процедуры принятия решения. В таком случае из-за неопределенности любая мелочь может привести к серьезным последствиям. По сути, система испытывает кризис, и тогда может сформироваться новый тип поведения[19].
Таким образом, по мере того как системы становились более сложными, для управления множеством независимых стимулов и результирующим поведением требовалось что-то вроде слоя контроля. Усиление стимулов – это прекрасно, но чтобы нестройный хор модулей стал более гармоничным, нужен был слой контроля.
Как я уже говорил, люди с поражением правой теменной доли могут игнорировать левую половину поля зрения даже в воображаемых картинах и воспоминаниях. Впервые данный получивший широкую известность факт обнаружил выдающийся итальянский нейропсихолог Эдоардо Бизьяк[20], когда попросил таких пациентов описать по памяти миланскую Пьяцца-дель-Дуомо с двух позиций. По двум сторонам этой красивой площади стоят здания оригинальной архитектуры, а в конце расположен кафедральный собор. В Милане все хорошо представляют себе, как это выглядит.
Когда пациентам предложили описать картину, «встав» лицом к собору, задание не вызвало у них затруднений, но говорили они только о домах на правой (северной) стороне площади. О том, что было слева (на южной стороне), они не упоминали вообще. Затем Бизьяк попросил их как бы повернуться на 180 градусов и описать площадь, «глядя» на нее с главной лестницы собора. Тогда те же самые пациенты без труда рассказали о зданиях, расположенных справа (к югу) от собора, но даже не упомянули о стоящих на левой (северной) стороне – тех самых, которые они только что описали с другой, противоположной, позиции!
Этот эффектный пример из клинической практики указывает на существование двух совершенно разных комплексов модулей. Модули, генерирующие мысленный образ, очевидно, сохранились полностью (информация не потеряна), но управляет ими дополнительный модуль, который оценивает, в каком ракурсе будет представлена картина, – вот его-то функция и нарушена. Спустя годы, в нью-йоркском госпитале, нам с неврологом Дениз Барбат представилась возможность проанализировать похожий случай повреждения правой теменной доли и воспроизвести открытия Бизьяка[21].
Говоря о сознании, мы будто забыли о том, что наш мозг в процессе развития становился сложнее. Со временем, по ходу эволюции, добавлялись модули и слои для преодоления возникающих одно за другим новых препятствий, так что сознательный опыт менялся и становился богаче. Каждый слой содержит некий набор правил обработки информации и передает результаты своей работы, свой процессинговый пузырек, следующему слою. Хотя в слоях внутри одного модуля информация может обрабатываться последовательно, одновременно работают много модулей и с каждого из них на финальный этап поднимаются пузырьки.
В этой аналогии с пузырьками продукты функционирования разных модулей прорываются в наши сознательные ощущения через короткие промежутки времени. Скорее всего, контролирующий слой с протоколом, составленным из произвольных правил – таких, которые обеспечивали сознанию наиболее достоверную и релевантную для данного случая информацию и за это были отобраны, – продвигает один из пузырьков вперед. Появляется новое правило, уточненное и заслуживающее больше доверия, и протокол может измениться. Для примера рассмотрим попавший в сознание пузырек убеждения. Предположим, вы считаете, что насыщенные жиры вредны для организма и от них можно растолстеть. По вашему мнению, те же калории полезнее получать из углеводов. Вы убеждены в этом, потому что так говорят официальные лица в системе здравоохранения, диетологи и ваш доктор. Когда вы покупаете продукты, пузырьки всплывают и велят вам держаться подальше от насыщенных жиров. Но потом вы кое-что замечаете. Ваш личный опыт расходится с официальным мнением. Чем больше жиров вы исключаете из рациона, заменяя их на углеводы, тем больше набираете вес. Тогда вы берете в руки книгу, автор которой описывает и анализирует исследования на эту тему, и оказывается, что большинство подобных исследований не отвечает стандартам серьезной научной работы; мало того – те немногие ученые, которые занимались этим вопросом, не смогли подтвердить данный расхожий тезис. Фактически они даже опровергают его[22]. В конце концов вас удалось убедить. Вы покупаете и начинаете есть сливки и сливочное масло. Вы худеете. В продуктовом магазине командуют сливочные пузырьки. Появилось уточненное и заслуживающее большего доверия правило, и протокол поменялся. Заодно и кофе стал вкуснее.
Что немаловажно, идеи разрыва в объяснении, модулей и слоев могут прояснить для нас картину поведения людей с различными поражениями мозга. Если лишиться части нервной ткани, обрабатывающей специфическую информацию, то такая информация исключается из коллекции пузырьков и уже не влияет на содержание сознательного опыта. Это справедливо и для разъединения правого и левого полушарий: ни одно из них не получает из другого те пузырьки, которые обогащают сознательный опыт, поэтому каждое полушарие довольствуется неполным сознательным опытом.
Глава 10
Сознание – это инстинкт
Кому-то волшебство, а кому-то – дело техники.
Роберт А. Хайнлайн
В молодости, когда моя, еще студенческая, научная работа только начиналась в Калтехе, я подружился с Уилмуром Кендаллом, специалистом по политической философии. Этот незаурядный, склонный к революционным переменам человек так всех раздражал, что в Йеле ему хорошо приплатили, лишь бы он ушел. Кендалл оспорил все, во что там верили, после чего направился на Запад США. Для него, сына слепого священника из города Конава, штат Оклахома, Запад не был чужбиной. Кончилось тем, что после Йельского университета он осел в Далласе, в небольшом Иезуитском колледже. Его неукротимое жизнелюбие подпитывалось безмерной уверенностью в себе. В тот день, когда в Далласе убили Джона Кеннеди, Кендалл позвонил мне. «Я впервые оказался на обеде, где выступал президент Соединенных Штатов. Что-то должно было случиться, мне следовало бы это понимать», – заявил он.
Во мне Кендалл видел жертву современного редукционистского безумия и постоянно подталкивал к размышлениям. Я был и по сей день остаюсь приверженцем идеи, что почти все на свете можно объяснить физическими процессами и что так будет всегда. На ученого-экспериментатора философские рассуждения о фундаментальных вопросах мышления, как правило, нагоняют скуку. Кендалл воевал с теми, кто не был готов к битве и вообще едва ли догадывался о существовании проблемы. Поскольку я предоставлял ему свою квартиру, когда он ненадолго приезжал в Пасадину, он счел себя обязанным отплатить мне добром и расширить мой кругозор. Кендалл велел мне почитать ставшую классической книгу «Личностное знание», которую Майкл Полани написал на основе своих Гиффордских лекций 1951 года. Я ее прочел. С тех пор эта книжка хранится в запасниках моего мозга и моей домашней библиотеки и не раз переезжала со мной с места на место.
Полани, говорил мне Кендалл, был подлинным ученым-энциклопедистом. Основные положения своей диссертации по химии он написал, когда в 1916 году служил врачом на сербском фронте и получил отпуск по болезни. В Манчестерском университете он руководил кафедрой физической химии, но его обширные познания в области экономики, политики и философии дали университетскому начальству повод открыть для него кафедру общественных наук. «Знаете, – заметил Кендалл, – он каждый день отвечает на письма на двенадцати языках». Полани, истинная звезда своей эпохи, регулярно приезжал в Чикагский университет читать лекции, хотя и жил в Англии. Об этой непростой проблеме – о том, что не всегда удается составить представление о чем-либо в целом, если известны детали, – я задумался, читая его книгу. Что-то упущено, что-то может еще произойти… думаю, именно такой подход лег в основу того, что я называю чикагской школой мышления, то есть особой точкой зрения на мозговые процессы.
В этом упущении «виновна» идея машин (сохранившаяся еще со времен Декарта), в которую биологи наивно и свято уверовали. Ученые в Чикаго поняли, что традиционная детерминистская аналогия между жизнью и машинами неверна. Мозг не подобен машине; наоборот, это машина подобна мозгу, но ей кое-чего не хватает. Как писал Полани, люди появились в ходе естественного отбора, а машины создал человек. Машины существуют лишь как продукт высокоразвитой живой материи – не первый, а конечный продукт эволюции.
В чикагской концепции также начала развиваться идея о зависимости происхождения жизни не от классических физических законов, которые так хорошо подходят для описания машин, а от двух взаимодополняющих моделей описания. Вот как это подытожил Патти: «Если бы жизнь зависела от таких классических описаний или от выполнения своих собственных внутренних процессов записи информации классическим способом, ее существование было бы невозможно[1]». Это согласуется с более ранним, острым вопросом Розена: «Почему бы не допустить, что «универсалии» физики применимы только к небольшой и специфической, хотя и чрезмерно выделяющейся категории материальных систем, для которой организмы – чересчур общее понятие? Что если физика – это частное, в то время как общее – это биология, а вовсе не наоборот?»[2]
Вместе с Полани поход против чистого редукционизма затеял и профессор Чикагского университета Николас Рашевский – отец математической биофизики и теоретической биологии, – что было для него довольно неожиданно. Однажды он взялся за поиски общих материальных основ главных биологических явлений, возмутившись из-за слов некоего биолога, который заявил на каком-то светском мероприятии, что никто не понимает и не сможет понять, как делятся клетки, потому что это биология и физика тут не властна. Проделав в 1930-х и 1940-х годах гигантскую работу, Рашевский на этом не успокоился. Розен, его ученик, пишет: «Он поставил перед собой ключевой вопрос, что такое жизнь, и, как все современные молекулярные биологи, в сущности, стал искать ответ с точки зрения редукционизма. Загвоздка оказалась в том, что, рассматривая отдельные функции организмов, он в какой-то момент упустил из виду сами организмы и уже не смог к ним вернуться»[3]. Рашевский понял, что «невозможно собрать в единое целое никакой, пусть самый полный, набор отдельных описаний (иначе говоря, моделей) организмов, чтобы охарактеризовать сами организмы… Если мы хотим достичь этой цели, нужен некий новый принцип»[4]. Подход к поискам нового принципа Рашевский назвал реляционной биологией. Подобными исследованиями занимался и мой наставник Роджер Сперри, прошедший стажировку в Чикагском университете. И, как вы видели, те же идеи оказали большое влияние на Говарда Патти, благодаря которому эта научная позиция существует в наши дни.
Та давняя чикагская история преподает нам важный урок: изучая организм, мы должны учитывать еще кое-какие обстоятельства. Механистический подход, безусловно, хорош – он дает нам представление обо всех частях и слоях автоматических процессов, без устали обеспечивающих организму возможность существования. Но есть еще кое-что – отнюдь не призрак в системе! – и этот фактор тоже необходимо изучить. Его порождает система, сам организм, способный преобразовывать нижние слои. Именно здесь надо искать ответы на вопрос, что такое жизнь.
Как утверждает Розен, наука всегда использует заменитель (модель) реального объекта изучения. Имея модель, ученые могут задействовать в работе любые методы редукционистской науки и понять, как работают элементы системы. Предполагается, что модель может заменить настоящую систему. Но когда они, поработав с заменителем, возвращаются к настоящей системе и пытаются внедрить свои открытия, у них, как правило, ничего не выходит. Например, одно дело – проводить исследование поджелудочной железы отдельно в чашке Петри под микроскопом или в пробирке. Это позволяет определить ее функции в местном масштабе. Но если вы не изучите все это в организме, вам не понять, как она на самом деле функционирует, как работает вместе со сторонней системой и как эта система – в данном случае, отдел кишечника – ее преобразует. До тех пор, пока хирурги не начали лечить ожирение путем лапароскопического бандажирования желудка и не заметили, что при этом очень быстро уходит диабет, тот факт, что функции поджелудочной железы и кишечника тесно связаны, оставался без внимания. В нейробиологии заменителем мозга, его аналогом, служил «робот». А поскольку ученые рассматривали мозг как машину, идея комплементарности со всем, что она дает для разгадки его секретов, неизбежно должна была остаться вне зоны их внимания.
Сперри изменил ход мысли. Как мы видели в главе 3, его предположение о физической сущности наших ментальных способностей и включенности их в цепь событий, которыми обусловлено поведение, вызвало переполох в рядах редукционистов. Вместе с тем такие психические явления, как мысли, он тоже не считал нефизическими явлениями или призраками в системе. Он рассматривал явления психики как следствия конфигурационных свойств соответствующего нервного субстрата, обладающего как физической, так и символьной структурой. Субстрат контролирует то, что конструирует – психическое явление; физические символы Патти контролируют конструирование. Иными словами, полагал Сперри, организм играет роль в собственной судьбе. С этой точки зрения вы, даже зная все до мелочей о состоянии собственного мозга в настоящий момент – то есть зная исходные условия, – не можете знать, как в будущем ваши психические состояния повлияют на обработку информации снизу вверх. Исходные условия ничего не скажут вам о том, что, где и с кем вы будете есть за ужином через год, считая с нынешнего четверга. Зная все о состоянии мозга новорожденного, вы не можете знать, что будет делать этот ребенок во вторник днем спустя сорок пять лет, хотя самые детерминированные детерминисты именно так и полагают. На самом деле такого рода детерминистский экстремизм столь же неразумен, как и вывод, который вытекает из мысленного эксперимента с котом Шрёдингера.
В нашем очерке об истории человеческого мышления и исследований сознания мы обнаружили немало неясных моментов. Непоколебимая приверженность редукционизму окончательно укрепилась лишь после того, как Декарт сформулировал идею о том, что «мозг – это машина, устройство которой можно понять, если разобрать ее на части» (непременное условие научного подхода к любой проблеме), и такие настроения по сей день преобладают в современной нейробиологии. С другой стороны, чикагская школа, как я стал ее называть, выступила против этого направления и предложила изменить формулировку, с учетом эволюционной природы организма и того факта, что машины являются одним из продуктов человеческого мозга – а не мозг является одним из продуктов машин. Живой материи присуще нечто совсем другое. Проще говоря, она не ждет послушно указаний от классических физических взаимодействий, а обладает собственной, врожденной способностью к произвольным действиям, обеспеченной физической, путь и произвольной, символьной информацией, которая хранится на хорошо освещенной стороне «разрыва в объяснении».
Как только были получены и подтверждены первые результаты исследований расщепленного мозга, возник насущный вопрос: что это нам дает в плане изучения сознания? Психолог-экспериментатор Уильям Эстез, когда меня отрекомендовали ему как человека, который открыл феномен расщепленного мозга, саркастически заметил: «Отлично, теперь у нас уже два непонятных объекта». Однако эта головоломка, а также мысль Полани о том, что перечень деталей не дает ключа к принципу работы целого, по-прежнему занимают меня. Обе эти проблемы – описание частей и их совместная работа ради осуществления определенной функции – вынуждают глубже вникать в то, каким образом полученные результаты проясняют проблему сознания.
За последние тридцать лет на изучение роли разных отделов мозга и их взаимодействий потрачены миллиарды долларов. И все же, несмотря на то что современная наука о мозге показывает, что специфические анатомические зоны связаны с различными психическими возможностями, локализация не даст внятного и исчерпывающего объяснения сознания. Хотя в ходе таких исследований была получена масса новых сведений о мозге, они не объясняют, да и не смогут объяснить, процессы его функционирования, которые среди прочего приводят и к формированию сознания. Подход, основанный на изучении связи структуры и функции, позволяет получить достоверные знания о том, как мозг распределяет многочисленные конкретные задачи, но не дает адекватного объяснения преобразованию электрохимических сигналов в жизненный опыт. Мы уже поняли, что структура и функция – свойства комплементарные, то есть ни одно из них в отрыве от другого ничего вам не объяснит. Если вы не представляете, какова функция нейрона, то один только его вид вам такого представления не даст. И наоборот – если функция нейрона вам известна, вы все равно ничего не сможете сказать о нем самом. Без предварительно накопленных знаний нельзя судить ни о функции нейрона по его структуре, ни о структуре по функции. Это два отдельных слоя с разными протоколами, которые невозможно свести один к другому.
Если мы хотим больше знать о базовых структурах мозга, надо расширить проблематику и обратить внимание также на конструкцию нервной системы. Попытавшись просто определить местонахождение генерирующей сознание структуры, как это делали Декарт и многие до него, вы не завладеете святым граалем, ибо сознание присуще всему мозгу. Отсечение кусков коры не приводит к полному разрушению сознания – лишь к изменению его содержания. В отличие от многих других психических процессов, таких как речь и обработка зрительной информации, оно не приписано к определенным отделам мозга, но является ключевым элементом для всех прочих возможностей. При этом, как я уже говорил, самые убедительные аргументы в пользу дробления сознания предоставляют исследования разума пациентов с расщепленным мозгом – если прервется сообщение между полушариями, каждое из них будет по-прежнему пользоваться собственным сознательным опытом.
Хотя мысль о том, что сознание порождается несколькими независимыми источниками, кажется не слишком простой и понятной, видимо, именно так мозг и устроен. Когда же эта идея уляжется в голове, останется самое трудное – понять, как законы устройства мозга позволяют сознанию формироваться таким путем. Решение этой непростой задачи у науки о мозге еще впереди.
Когда я начинал эту книгу, кое-какие мысли, о которых я в итоге написал, даже не приходили мне в голову. Между строк всегда оставался один вопрос: можно ли и впрямь считать сознание инстинктом?
Стивен Пинкер в своей ставшей классической книге «Язык как инстинкт» дает научному сообществу важный толчок: как так получается, что и психика, и мозг имеют биологическую природу и при этом модифицируются опытом? Пинкер предложил принципиальную схему для размышлений о пределах обучения и физической сущности частей мозга, развившихся в ходе естественного отбора. Кроме того, он очень метко высказался по поводу раздражающей концепции о том, что человеческие свойства высшего порядка (способность к речи, например) – это инстинкты.
Причисление феномена сознания к группе инстинктов – а именно в него входят злость, застенчивость, склонность к чему-либо, ревность, зависть, соперничество, общительность и так далее – тоже сбивает с толку. Как известно, инстинкты появляются в эволюции постепенно и помогают нам приспосабливаться к внешней среде. Если сознание вносится в перечень инстинктов, значит, предполагается, что это ценное свойство, столь дорогое нам, людям, вовсе не обретено чудесным образом вместе с присущим нашему виду особым набором качеств. Соглашаясь считать сознание инстинктом, мы отправляем его в бескрайний биологический мир со всей его историей, разнообразием, изменчивостью и непрерывностью. Откуда взялось сознание? Как оно развивалось? Какие еще виды обладают признаками сознания?
Давайте прервемся ненадолго ради фундаментального вопроса: что такое вообще инстинкт? Это слово мелькает тут и там. Список инстинктов пополняется год за годом. Кажется уже, будто, вскрыв черепную коробку, можно увидеть пучок маркированных линий, соответствующих этим пресловутым инстинктам. Человеческий мозг и в самом деле должен представлять собой плотный клубок проводов, соединенных таким образом, чтобы они работали эффективно. Но попросите нейробиолога показать нейронную сеть для того или иного инстинкта, скажем, для соперничества или общительности, и выяснится, что сделать этого никто не сможет – по крайней мере, пока. Тогда что дает нам основания считать что-либо инстинктом?
Когда вы теряетесь в море толкований и определений, связанных с психикой и мозгом, всегда полезно вновь обратиться к Уильяму Джеймсу. Более 125 лет назад Джеймс написал знаменательную статью с немудреным заголовком «Что такое инстинкт?» Не тратя попусту время, он сформулировал следующую идею:
Обычно инстинкт определяют как умение действовать таким образом, чтобы добиться нужных результатов, не зная прогноза и не имея предварительной подготовки для осуществления этих действий… [Инстинкты] – это функциональные корреляты структуры. Можно сказать, тому или иному органу почти всегда сопутствует врожденная склонность к его использованию. «У птицы есть железа для секреции жира? Инстинкт подсказывает ей, как выдавить жир из железы и смазать им перья»[5].
Определение вроде бы достаточно четкое, и вместе с тем в нем кроется тонкий дуализм. Чтобы инстинкт сработал, нужна некая физическая структура. В то же время использование структуры требует «склонности», которая, по-видимому, дается организму даром. Найти физические корреляты физического аппарата инстинкта – задача выполнимая, но как узнать, когда и почему все это начинает работать? Просто работает – и все? Не совсем научное объяснение. Сначала птица рефлекторно сжимает железу, а спустя какое-то время усваивает, что вследствие этого все становится лучше? Очевидно, без сальной железы жир не выделялся бы и не было бы шанса научиться ее использовать, чтобы лучше летать. Наблюдается замыкание естественного отбора и опыта, которые сообща формируют то, что мы назвали бы инстинктом.
Поведение птицы – одно дело, но применимо ли это к когнитивным процессам и сознанию человека? Джеймс предлагает возможную рабочую схему:
Одно сложное инстинктивное действие может включать в себя последовательное возбуждение импульсов… Так, когда у голодного льва пробуждается воображение в сочетании с желанием, он начинает выискивать жертву; когда, используя свои глаза, уши и нос, он получает представление о том, что жертва где-то рядом, он начинает ее преследовать; когда добыча чует опасность и убегает, или когда лев подходит к ней достаточно близко, он прыгает на нее; в ту минуту, когда он чувствует, что прикоснулся к ней лапами и клыками, он принимается терзать и пожирать ее. Поиск, преследование, прыжок и пожирание – это просто сокращение мышц по тому или иному типу, и ни одно из них не вызывается стимулом, соответствующим другому типу[6].
Сейчас я узнаю в статье Джеймса схему, отвечающую идеям модульности и многослойной системы. Джеймс будто предполагает, что структурные компоненты инстинктов – это модули, встроенные в многослойную архитектуру. В простых видах поведения каждый инстинкт может проявляться независимо, но иногда они срабатывают вместе. В более сложных ситуациях отдельные инстинкты могут выстраиваться по скоординированной схеме, что создает весьма достоверную картину инстинктов высшего порядка. Вот эту скоординированную схему мы и называем сознанием. Джеймс утверждает, что конкурентная динамика, которая выстраивает основные инстинкты в последовательную схему, по-видимому, может привести к более сложному поведению, порожденному сложным внутренним состоянием. Он даже описывает опыт животного, испытывающего давление инстинкта: «Каждый импульс и каждая стадия каждого инстинкта испускает собственное достаточно яркое свечение, и в данный момент времени это несомненно кажется единственно верным и возможным действием. Оно производится просто потому, что так надо». Похоже на то, как множество пузырьков, сбитых в кучу стрелой времени, производит нечто вроде того, что мы называем сознанием.
Опыт и обучение, безусловно, влияют на динамику этого процесса – на очередность и порядок подъема пузырьков. Однако опыт, обучение и сознание должны быть изоморфны, то есть действовать и эксплуатироваться в одной и той же системе. Как только мы начнем изучать это явление с такой точки зрения, сознательный опыт станет для нас тем, чем он и является – хитроумной игрой природы. Концепция сознания как развившегося инстинкта (или целого ряда инстинктов) подсказывает нам, где искать объяснение его истокам в бездушном неживом мире. Такой подход открывает нам глаза на тот факт, что любой аспект сознательного опыта – это развертка других человеческих инстинктов и что ощущаемое состояние сознательного опыта рождается механизмами и способностями, связанными с этими инстинктами и предназначенными для этого природой. Примечательно, что в последние несколько лет биологи самого широкого круга интересов сумели объединить усилия в умопомрачительном проекте и идентифицировали двадцать девять специфических нейронных сетей в мозге мухи, каждая из которых управляет специфическим поведением. Отдельные виды поведения могут комбинироваться разными способами в более сложные схемы. Да-да, кое-что о сознании можно узнать и от дрозофилы! Поиски смысла физической компоненты инстинктов продолжаются[7].
Однако многим отвратительна сама идея описания феноменального сознательного опыта с точки зрения инстинкта. Есть мнение, что такое определение лишает людей их особого статуса в царстве животных – дескать, только мы несем моральную ответственность за свои действия. Люди способны сами решать, как им поступить, а стало быть, мы способны выбрать «хорошую» линию поведения. Если сознание – это инстинкт, говорят сторонники этой теории, то люди должны быть роботами, безмозглыми зомби. Впрочем, если ненадолго оставить в стороне физическую сущность квантовой механики и «разрыва в объяснении» с их снимающим ограничения символьным функционированием, можно утверждать, что, принимая идею о доступном для познания механизме столь сложной единой системы, как мозг/организм/психика, мы вовсе не погружаемся в столь безрадостный детерминизм. Сам Джеймс писал об этом всеобъемлющем вопросе:
Здесь наше простое физиологическое представление о сущности инстинкта сразу дает добрые плоды. Если это импульс, стимулирующий двигательную активность, постольку-поскольку в нервных центрах живого существа уже имеется определенная «рефлекторная дуга», то, безусловно, он должен подчиняться законам всех таких рефлекторных дуг. В частности, на активность этих дуг налагают «запреты» другие процессы, протекающие в то же время. Неважно, врожденная ли это дуга, формируется ли позже спонтанно или благодаря приобретенной привычке, она должна взаимодействовать со всеми прочими дугами – иногда успешно, иногда нет… При мистическом взгляде на инстинкт вариантов нет. При физиологическом подходе у любого животного с множеством независимых инстинктов и возможным включением одних и тех же стимулов в несколько инстинктов должны проявляться случайные отклонения. И у всех высших животных таких отклонений найдется сколько угодно[8].
Джеймс еще много о чем пишет, и его концепция инстинктов требует времени на осмысление. Я настоятельно рекомендую вам почитать его статью, чтобы понять его четкую логику, ясное изложение и проникнуться непоколебимым прагматизмом в этих непростых вопросах. Джеймс решительно не согласен с пессимистичной карикатурой на человечество, всегда послушное рефлекторным реакциям, и указывает путь вперед. По его мнению, сложное поведение может быть результатом действия различных комбинаций простых, независимых модулей, подобно тому, как разные короткие движения прыгуна с шестом создают его сложное поведение, когда он взмывает ввысь над перекладиной. Даже простые системы при согласованных действиях могут убедить наблюдателей в существовании других сил. Джеймс выразил свою позицию со всей ясностью: «Моим первым актом свободной воли станет вера в свободную волю». Это заявление согласуется с идеей о том, что вера, идеи и мысли могут быть частью системы психики. Символические репрезентации в этой системе, при всей их гибкости и произвольности, тесно связаны с физическими механизмами мозга. Даже в мозге, имеющем физические ограничения, идеи имеют последствия. Не стоит отчаиваться – ментальные состояния оказывают влияние на физические действия по нисходящему принципу!
Пока я работал над этой книгой, гибкость моих собственных символьных представлений служила для меня источником не отчаяния, а радости и удивления. Пожалуй, самым поразительным открытием стало то, что теперь я знаю: нам никогда не сконструировать машину, которая имитировала бы наше сознание. Кремниевые машины устроены принципиально иначе, нежели живые углеродные системы. Одни работают с детерминистским набором инструкций, а другие – с символами, которые всегда подразумевают неопределенность в той или иной степени. Отсюда следует, что все попытки имитировать интеллектуальную деятельность человека и сознание в машинах, к чему упорно стремятся разработчики ИИ, обречены на провал. Если живые системы функционируют по принципу дополнительности – на основании идеи о том, что физическая сторона зеркально дополняется символьной и символы являются продуктом естественного отбора, – то чисто детерминистские модели создания жизни никогда не будут состоятельны. В модели ИИ память о событии сосредоточена в одном месте и может быть стерта одним нажатием клавиши. В живой же, многослойной системе символов любой элемент механизма может быть замещен другим символом, лишь бы каждый адекватно выполнял свою задачу. Именно так, ибо сама жизнь разрешает дополнительность – и даже требует ее.
Кто приблизит науку ко всем этим идеям? Какое будущее ждет нейробиологию? На мой взгляд, в процесс поиска достоверных ответов должны включиться нейроинженеры, которые умеют использовать фундаментальные принципы конструирования. Эта революция еще только разгорается, но уже ясно, на какие позиции она нас выведет. Многослойная архитектура, позволяющая добавлять новые слои, дает основу для концепции усложнения мозга в процессе естественного отбора при сохранении его самых полезных основных свойств. Нам предстоит понять, что происходит в многочисленных слоях обработки информации, а также решить еще более сложную задачу – взломать протоколы, по которым один слой интерпретирует информацию, полученную с соседних слоев. Для этого придется преодолеть эпистемологический разрыв – тот самый Schnitt – между субъективным опытом и объективной обработкой информации, образовавшийся вместе с самой первой клеткой на земле. В терминах идеи дополнительности можно будет объяснить, как физическая сторона разрыва (нейроны) работает с символьной стороной (проявлением психики).
Итак, мы должны признать, что сознание – это инстинкт. Сознание – это часть жизни организма. Нам не надо учиться тому, как его производить и как им распоряжаться. Недавно, приехав в Чарлстон, мы с женой отправились на прогулку за город и решили поискать уютное местечко, где можно съесть хорошую жареную курочку с кукурузным хлебом. Нашли небольшое придорожное кафе, сделали заказ. Когда официантка уже уходила, я попросил: «Да – и добавьте еще кукурузную кашу». Она обернулась и с улыбкой ответила: «Кашу само собой, милый». Кукурузная каша входит в заказ – и то, что мы называем сознанием, тоже непременно прилагается. Так что нам повезло – мы получаем и то, и другое.
Примечания
1 Zan Boag. «Searle: It upsets me when I read the nonsense written by my contemporaries», NewPhilosopher 2, January 25, 2014, http://www.newphilosopher.com/articles/john-searle-it-upsets-me-when-i-read-the-nonsense-written-by-my-contemporaries/.
2 Henri Frankfort et al. The Intellectual Adventure of Ancient Man: An Essay of Speculative Thought in the Ancient Near East // Chicago: University of Chicago Press, 1977. В русском переводе: Г. Франкфорт, Г. А. Франкфорт, Дж. А. Уилсон, Т. Якобсен. В ПРЕДДВЕРИИ ФИЛОСОФИИ Духовные искания древнего человека // М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1984.
3 Robert Rosen. Life Itself: A Comprehensive Inquiry into the Nature, Origin, and Fabrication of Life // New York: Columbia University Press, 1991; 20.
4 Rene Descartes. Discourse on Method (1637), in Robert Hutchins, Mortimer J. Adler, and Wallace Brockway, eds. Great Books of the Western World, vol. 31, Descartes/Spinoza // Chicago: Encyclopaedia Britannica, 1952; 51. В русском переводе: Декарт Р. Рассуждения о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науке. Сочинения в двух томах, т. 1 // М.: Мысль, 1989.
5 Gary Hatfield. Rene Descartes // Stanford Encyclopedia of Philosophy Archive, 2014. http://plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/descartes/.
6 Rene Descartes. The Philosophical Writings of Descartes, vol. 3, The Correspondence, ed. and trans. John Cottingham, Robert Stoothoff, Dugald Murdoch, and Anthony Kenny // Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 1984; 19–20.
1 John Locke. An Essay Concerning Human Understanding, in Hutchins, Adler, and Brockway, Great Books of the Western World, vol. 35 // Locke/Berkeley/Hume, 2.1.19. В русском переводе: Локк Д. Сочинения в 3 томах, т.1, с. 165 // М.: Мысль, 1985. Также в процессе цитирования автор использует сс. 155 и 387.
2 David Hume. A Letter to a Physician (1734), in Life and Correspondence of David Hume, ed. John Hill Burton // Edinburgh: William Tait, 1846; 35.
3 Robert G. Brown. Philosophy Is Bullshit: David Hume in Axioms as the Basis for All Understanding, 2003, retrieved February 10, 2016, from https://www.phy.duke.edu/rgb /Beowulf/axioms/axioms/node4.html.
4 David Hume. A Treatise of Human Nature: Being an Attempt to Introduce the Experimental Method of Reasoning into Moral Subjects, vol. 1, Of the Understanding // London: John Noon, 1739, T intro.4, SBN xv, http://www.davidhume.org/texts/thn.html. В русском переводе: Юм Д. Сочинения в двух томах, т.1, 2-е, дополненное и исправленное издание // М.: Мысль, 1996.
5 Ibid., T 1.1.1.7, SBN 4. Там же, с. 64.
6 David Hume. An Abstract of A Book Lately Published; Entituled, A Treatise of Human Nature, &c. // London: C. Borbet, 1740, SBN 662, http://www.davidhume. org/texts/abs.html. Там же, с. 673.
7 David Hume. An Enquiry Concerning Human Understanding (1748), in Hutchins, Adler, and Brockway, eds. // Great Books of the Western World, vol. 35, Locke/Berkeley/Hume, 458. В русском переводе: Юм Д. Исследование о человеческом разумении // М.: Прогресс, 1995, гл 4, часть 1.
8 David Hume, to John Stewart (1754), letter 91 in The Letters of David Hume, vol. 1, 1727–1765 // ed. J. Y. T. Greig 1932; repr. Oxford and New York: Oxford University Press, 2011, 187. В русском переводе: Юм Д. Сочинения в двух томах, т.2, 2-е, дополненное и исправленное издание, с. 739 // М.: Мысль, 1996.
9 Hume. Treatise of Human Nature, T 1.4.6.3. В русском переводе: Юм Д. Сочинения в двух томах, т.2, 2-е, дополненное и исправленное издание, с. 208 // М.: Мысль, 1996.
10 Ibid., T 1.4.6.6, SBN 254. Там же, с.300.
11 Ibid., T 1.4.6.4, SBN 253. Там же, с. 298.
12 Arthur Schopenhauer. Essays and Aphorisms // trans. R. J. Hollingdale, 1851; repr. London: Penguin Group, 2004, 223. В русском переводе: Шопенгауэр А. Собрание сочинений в 6 томах, т.5, с. 348 // М.: ТЕРРА – Книжный клуб, изд-во «Республика», 2001.
13 Arthur Schopenhauer. The World as Will and Representation (1818) // trans. E. F. J. Payne 1958; repr. New York: Dover, 1996, 2:209, https://digital- seance.files.wordpress.com/2010/07/32288614-schopenhauer-the-world-as-will-and-representation-v2.pdf. Там же, т.2, с. 171.
14 Arthur Schopenhauer. The World as Will and Idea (1818) // trans. R. B. Haldane and J. Kemp; London: Routledge and Kegan Paul Ltd., 1883, 3:127. Там же, т.2, с. 308.
15 Cubie King and David Von Drehle. Encounters with the Arch-Genius, David Gelernter // Time, February 25, 2016, http://time.com /4236974/encounters-with-the-archgenius/.
16 Schopenhauer. World as Will and Representation, 2:136. Там же, с. 112.
17 Hermann von Helmholtz. Treatise on Physiological Optics (1867) // ed. James P. C. Southall (1924; repr. New York: Dover, 1962, 2005), vol. 3.
18 Henry Maudsley. The Physiology and Pathology of Mind // (New York: D. Appleton and Company, 1867), 15, https://archive.org/stream/physiologypathol00maudiala# page/14/mode/2up/search/unconscious+mental+activity.
19 Ibid., 120.
20 Francis Galton. Psychometric Experiments // Brain 2 (1879), 149–162.
21 Owen Flanagan. The Science of the Mind // Cambridge, Mass.: MIT Press, 1984, 60.
22 Franz Brentano. Psychology from an Empirical Standpoint (1874) // ed. Oskar Kraus, (Eng.) Linda L. McAlister, trans. Antos C. Rancurello, D. B. Terrell, and Linda L. McAlister, International Library of Philosophy (London and New York: Routledge, 1995), 68, http://14.139.206.50:8080/jspui/bitstream/1/1432/1/Brentano,%20Franz%20 – %20Psychology%20from%20an%20Empirical%20Standpoint.pdf.
23 Flanagan. Science of the Mind, 62.
24 Drew Westen. «The Scientific Legacy of Sigmund Freud: Toward a Psychodynamically Informed Psychological Science,» Psychological Bulletin 124 (1998), 333.
25 Charles Darwin. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life // First American edition, fourth printing, revised and augmented. New York: D. Appleton, 1860; 424. В русском переводе: Дарвин Ч. Сочинения, т.3 // М.: Изд-во АН СССР, 1939.
26 Darwin. The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, in Hutchins, Adler, and Brockway // Great Books of the Western World, vol. 49, Darwin, 319. В русском переводе: Дарвин Ч. Сочинения, т.5 // М.: Изд-во АН СССР, 1953.
27 Darwin. Origin of Species, 425. В русском переводе: Дарвин Ч. Сочинения, т.3 // М.: Изд-во АН СССР, 1939.
1 William James. Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking, Lecture 1 // New York: Longmans, Green, and Co., 1907; 6–7, https://archive.org / stream/157unkngoog#page /n26/mode/2up/search/clash+of+human+tempera- ments. В русском переводе: Джеймс У. Воля к вере // М.: Республика, 1997, ISBN 5-250-02658-3, с. 210.
2 Ibid., 13–14. Там же, с. 213.
3 Ibid., 15. Там же, с. 214.
4 Ibid., 65–66. Там же, Лекция II, с. 225.
5 Michael I. Posner. Chronometric Explorations of Mind // Hillsdale, N. J.: Lawrence Erlbaum Associates, 1978.
6 Wilder Penfield. «Speech, Perception and the Uncommitted Cortex,» in John C. Eccles, ed., Brain and Conscious Experience // New York: Springer-Verlag, 1966; 234.
7 Ibid., 235.
8 George A. Miller. Psychology: The Science of Mental Life // New York: Harper and Row, 1962; 25.
9 David R. Curtis and Per Andersen. «Sir John Carew Eccles, A. C. 27 January 1903–2 May 1997» // Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society 47 (2001), 160–187, https://www.science.org.au/fellowship/fellows/biographical-memoirs/john-carew-eccles-1903-1997#2.
10 Karl R. Popper and John C. Eccles. The Self and Its Brain: An Argument for Interactionism // Berlin: Springer-Verlag, 1977.
11 Henry H. Dale. «The Beginnings and the Prospects of Neurohumoral Transmission», Pharmacological Reviews 6 (1954), 7–13.
12 John C. Eccles. «Hypotheses Relating to the Brain-Mind Problem», Nature 168 (1951), 53–57.
13 E. G. Walsh. " [Review of] Brain and Conscious Experience: Study Week September 28 to October 4, 1964 of the Pontificia Academia Scientiarum // Edited by Sir John C. Eccles. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag…». Quarterly Journal of Experimental Physiology and Cognate Medical Sciences 52 (1967), 330.
14 William H. Thorpe. «Ethology and Consciousness,» in Eccles, Brain and Conscious Experience, 44.
15 John C. Eccles. «Conscious Experience and Memory,» in Eccles, Brain and Conscious Experience, 326.
16 Roger W. Sperry. «Brain Bisection and Mechanisms of Consciousness,» in Eccles, Brain and Conscious Experience, 299.
17 Roger W. Sperry. «Mind-Brain Interaction: Mentalism, Yes; Dualism, No,» Neuroscience 5 (1980), 196.
18 Sperry. «Brain Bisection,» 308.
19 Ibid.
20 Eccles. Brain and Conscious Experience, 250.
21 Ibid., 248.
22 Charles G. Gross. «Hans-Lukas Teuber: A Tribute,» Cerebral Cortex 4 (1994), 451–454.
23 Eccles. Brain and Conscious Experience, 582.
24 Roger W. Sperry. «Mind, Brain, and Humanist Values,» Bulletin of the Atomic Scientists 22 (1966), 2–6.
25 Roger W. Sperry. «Perception in the Absence of the Neocortical Commissures,» in David A. Hamburg, Karl H. Pribram, and Albert J. Stunkard, eds., Perception and Its Disorders, vol. 48 // Baltimore: Williams and Wilkins, 1970; 123–128.
26 Donald M. MacKay. «Soul, Brain Science and the» entry in R. L. Gregory, ed., The Oxford Companion to the Mind // Oxford: Oxford University Press, 1987; 724–725.
27 P. M. S. Hacker. «The Sad and Sorry History of Consciousness: Being, among Other Things, a Challenge to the ‘Consciousness-Studies Community’» // Royal Institute of Philosophy Supplement 70 (2012), 149–168.
28 Thomas Nagel. «The Psychophysical Nexus,» in Paul Boghossian and Christopher Peacocke, eds., New Essays on the A Priori // Oxford: Oxford University Press, 2000; 432–471.
29 Douglas R. Hofstadter and Daniel C. Dennett. The Mind’s I: Fantasies and Reflections on Self and Soul // New York: Basic Books, 1981, 2000; 409.
30 Owen Flanagan. The Problem of the Soul: Two Visions of Mind and How to Reconcile Them // New York: Basic Books, 2002; 87.
31 Francis H. Crick. «Thinking About the Brain» // Scientific American 241 (1979), 219–232.
32 Michael I. Posner and Mary K. Rothbart. «Attentional Mechanisms and Conscious Experience,» in A. D. Milner and M. D. Rugg, eds., The Neuropsychology of Conscious Experience // London: Academic Press, 1992; 97–117.
33 Michael S. Gazzaniga. The Bisected Brain // New York: Appleton Century Crofts, 1970.
34 Crick. «Thinking About the Brain.»
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Francis Crick and Christof Koch. «Towards a Neurobiological Theory of Consciousness» // Seminars in the Neurosciences 2 (1990), 263–275.
38 Christof Koch. The Quest for Consciousness: A Neurobiological Approach // Englewood, Colo.: Roberts and Company, 2004; 17.
39 Ibid., 15.
1 Charles S. Sherrington. Man on His Nature: The Gifford Lectures, 1937–1938 (1940) // repr. Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 2009.
2 Michael S. Gazzaniga. «Brain Mechanisms and Conscious Experience,» Experimental and Theoretical Studies of Consciousness, CIBA Foundation Symposium 174 // Chichester, U. K.: John Wiley and Sons, 1993; 247–262.
3 Edoardo Bisiach and Claudio Luzzatti. «Unilateral Neglect of Representational Space,» Cortex 14 (1978), 129–133.
4 Patrik Vuilleumier. «Mapping the Functional Neuroanatomy of Spatial Neglect and Human Parietal Lobe Functions: Progress and Challenges,» Annals of the New York Academy of Sciences 1296 (2013), 50–74.
5 Bruce T. Volpe, Joseph E. Ledoux, and Michael Gazzaniga. «Information Processing of Visual Stimuli in an ‘Extinguished’ Field,» Nature 282 (1979), 722–724.
6 Reinhold Messner. The Naked Mountain // Seattle: The Mountaineers Books, 2003; 299.
7 W. Dewi Rees. «The Hallucinations of Widowhood,» British Medical Journal 4 (1971), 37.
8 Shahar Arzy et al. «Induction of an Illusory Shadow Person,» Nature 443 (2006), 287.
9 Olaf Blanke et al. «Neurological and Robot-Controlled Induction of an Apparition,» Current Biology 24 (2014), 2681–2686.
10 Ibid.
11 Frederico A. C. Azevedo et al. «Equal Numbers of Neuronal and Nonneuronal Cells Make the Human Brain an Isometrically Scaled-up Primate Brain,» Journal of Comparative Neurology 513 (2009), 532–541.
12 Suzana Herculano-Houzel. «The Human Brain in Numbers: A Linearly Scaled-up Primate Brain,» Frontiers in Human Neuroscience 3 (2009), 31.
13 Mark E. Nelson and James M. Bower. «Brain Maps and Parallel Computers,» Trends in Neurosciences 13 (1990), 403–8.
14 Donald D. Clarke and Louis Sokoloff. «Circulation and Energy Metabolism of the Brain,» in George J. Siegel et al., eds., Basic Neurochemistry: Molecular, Cellular and Medical Aspects, 6th ed. // Philadelphia: Lippincott-Raven, 1999; 637–670.
15 Georg F. Striedter. Principles of Brain Evolution // Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, 2005.
16 David Meunier, Renaud Lambiotte, and Edward T. Bullmore. «Modular and Hierarchically Modular Organization of Brain Networks,» Frontiers in Neuroscience 4 (2010), 200.
17 Ibid.
18 Dmitri B. Chklovskii, Thomas Schikorski, and Charles F. Stevens. «Wiring Optimization in Cortical Circuits,» Neuron 34 (2002), 341–347.
19 Danielle S. Bassett et al. «Dynamic Reconfiguration of Human Brain Networks during Learning,» Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 108 (2011), 7641–7646; Danielle S. Bassett et al. «Robust Detection of Dynamic Community Structure in Networks,» Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 23 (2013), 013142.
20 Olaf Sporns and Richard F. Betzel. «Modular Brain Networks,» Annual Review of Psychology 67 (2016), 613–640.
21 Striedter. Principles of Brain Evolution, 248.
22 Beth L. Chen, David H. Hall, and Dmitri B. Chklovskii. «Wiring Optimization Can Relate Neuronal Structure and Function,» PNAS 103 (2006), 4723–4728; Christopher Cherniak et al., «Global Optimization of Cerebral Cortex Layout,» PNAS 101 (2004), 1081–1086; Yong-Yeol Ahn, Hawoong Jeong, and Beom Jun Kim. «Wiring Cost in the Organization of a Biological Neuronal Network,» Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications 367 (2006), 531–537.
23 Jeff Clune, Jean-Baptiste Mouret, and Hod Lipson. «The Evolutionary Origins of Modularity,» Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences 280 (2013), 20122863.
24 Peter Carruthers. The Architecture of the Mind: Massive Modularity and the Flexibility of Thought // Oxford: Oxford University Press, 2006.
25 Sporns and Betzel. «Modular Brain Networks.»
26 Nicola Clayton and Nathan Emery. «Corvid Cognition,» Current Biology 15 (2005), R80 – R81.
27 Alex H. Taylor et al. «Complex Cognition and Behavioural Innovation in New Caledonian Crows,» Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences 277 (2010), 2637–2643.
28 Jennifer C. Holzhaider, Gavin R. Hunt, and Russell D. Gray. «Social Learning in New Caledonian Crows,» Learning and Behavior 38 (2010), 206–219.
29 Gavin R. Hunt, C. Lambert, and Russell D. Gray. «Cognitive Requirements for Tool Use by New Caledonian Crows (Corvus moneduloides),» New Zealand Journal of Zoology 34 (2007), 1–7.
30 Andrew Whiten et al. «Emulation, Imitation, Over-Imitation and the Scope of Culture for Child and Chimpanzee,» Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences 364 (2009), 2417–2428.
31 Wolfgang Kohler, trans. Ella Winter. The Mentality of Apes // London: Kegan Paul, Trench, Trubner and Company, 1925.
32 Kristin Liebal et al. «Infants Use Shared Experience to Interpret Pointing Gestures,» Developmental Science 12 (2009), 264–271.
33 David Premack. «Why Humans Are Unique: Three Theories,» Perspectives on Psychological Science 5 (2010), 22–32.
34 Carruthers. Architecture of the Mind.
35 David Premack and Guy Woodruff. «Does the Chimpanzee Have a Theory of Mind?» Behavioral and Brain Sciences 1 (1978), 515–526.
36 Josep Call and Michael Tomasello. «Does the Chimpanzee Have a Theory of Mind? 30 Years Later,» Trends in Cognitive Sciences 12 (2008), 187–192.
37 Zijing He, Matthias Bolz, and Renee Baillargeon. «Understanding of False Belief in 2.5-year-olds in a Violation-of-Expectation Test,» paper presented at the Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development, Boston, March 2007.
38 Christopher Krupenye et al. «Great Apes Anticipate That Other Individuals Will Act According to False Beliefs,» Science 354 (2016), 110–114.
39 John W. Pilley and Alliston K. Reid. «Border Collie Comprehends Object Names as Verbal Referents,» Behavioural Processes 86 (2011), 184–195; John W. Pilley. «Border Collie Comprehends Sentences Containing a Prepositional Object, Verb, and Direct Object,» Learning and Motivation 44 (2013), 229–240.
40 Katharina C. Kirchhofer et al. «Dogs (Canis familiaris), but Not Chimpanzees (Pan troglodytes), Understand Imperative Pointing,» PloS One 7 (2012), e30913.
41 Michelle E. Maginnity and Randolph C. Grace. «Visual Perspective Taking by Dogs (Canis familiaris) in a Guesser – Knower Task: Evidence for a Canine Theory of Mind?» Animal Cognition 17 (2014), 1375–1392.
42 Brian Hare and Michael Tomasello. «Human-like Social Skills in Dogs?» Trends in Cognitive Sciences 9 (2005), 439–444.
43 Muhammad A. Spocter et al. «Neuropil Distribution in the Cerebral Cortex Differs between Humans and Chimpanzees,» Journal of Comparative Neurology 520 (2012), 2917–2929.
44 Julia Mehlhorn et al. «Tool-Making New Caledonian Crows Have Large Associative Brain Areas,» Brain, Behavior and Evolution 75 (2010), 63–70.
45 Justin S. Feinstein et al. «The Human Amygdala and the Induction and Experience of Fear,» Current Biology 21 (2011), 34–38.
1 Robert Rosen. Dynamical System Theory in Biology // New York: Wiley, 1970.
2 Michael Polanyi. «Life’s Irreducible Structure,» Science 160 (1968), 1308.
3 Ibid.
4 Marie E. Csete and John C. Doyle. «Reverse Engineering of Biological Complexity,» Science 295 (2002), 1664–1669.
5 John C. Doyle and Marie E. Csete. «Architecture, Constraints, and Behavior,» PNAS 108, Supplement 3 (2011), 15624–15630.
6 Polanyi. «Life’s Irreducible Structure.»
7 Doyle and Csete. «Architecture, Constraints, and Behavior.»
8 David L. Alderson and John C. Doyle. «Contrasting Views of Complexity and Their Implications for Network-Centric Infrastructures,» IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics – Part A: Systems and Humans 40 (2010), 840.
9 Ibid.
10 Doyle and Csete. «Architecture, Constraints, and Behavior.»
11 Jerzy Wegiel et al. «The Neuropathology of Autism: Defects of Neurogenesis and Neuronal Migration, and Dysplastic Changes,» Acta Neuropathologica 119 (2010), 755–770.
12 Aswin Sekar et al. «Schizophrenia Risk from Complex Variation of Complement Component 4,» Nature 530 (2016), 177–183.
13 Alderson and Doyle. «Contrasting Views of Complexity.»
14 Mung Chiang et al. «Layering as Optimization Decomposition: A Mathematical Theory of Network Architectures,» Proceedings of the IEEE 95 (2007), 255–312.
15 Harold Pashler. Encyclopedia of the Mind, vol. 1 // Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2013; 465.
16 Tony J. Prescott, Peter Redgrave, and Kevin Gurney. «Layered Control Architectures in Robots and Vertebrates,» Adaptive Behavior 7 (1999), 99–127.
17 Ibid., 101.
18 Marc Kirschner and John Gerhart. «Evolvability,» PNAS 95 (1998), 8420–8427.
19 Peter T. Boag and Peter R. Grant. «Intense Natural Selection in a Population of Darwin’s Finches (Geospizinae) in the Galapagos,» Science 214 (1981), 82–85.
20 John Gerhart and Marc Kirschner. «The Theory of Facilitated Variation,» PNAS 104, supplement 1 (2007), 8582–8589.
21 Alderson and Doyle. «Contrasting Views of Complexity.»
22 Doyle and Csete. «Architecture, Constraints, and Behavior.»
23 Ibid.
24 Christopher W. Johnson. «What Are Emergent Properties and How Do They Affect the Engineering of Complex Systems?» Reliability Engineering and System Safety 91 (2006), 1475–1481.
25 Eve Marder. «Variability, Compensation and Modulation in Neurons and Circuits,» PNAS 108, supplement 3 (2011), 15542–15548.
26 Tamar Friedlander et al. «Evolution of Bow-Tie Architectures in Biology,» PLoS Computational Biology 11 (2015), e1004055.
27 John C. Doyle. «Guaranteed Margins for LQG Regulators,» IEEE Transactions on Automatic Control 23 (1978), 756–757.
28 Alderson and Doyle. «Contrasting Views of Complexity.»
29 Arne J. Nagengast, Daniel A. Braun, and Daniel M. Wolpert. «Risk-Sensitive Optimal Feedback Control Accounts for Sensorimotor Behavior Under Uncertainty,» PLoS Computational Biology 6 (2010), e1000857.
30 Fiona A. Chandra, Gentian Buzi, and John C. Doyle. «Glycolytic Oscillations and Limits on Robust Efficiency,» Science 333 (2011), 187–192.
31 Daniel Kahneman. Thinking, Fast and Slow // New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.
32 Roger W. Sperry. «Neurology and the Mind-Brain Problem,» American Scientist 40 (1952), 291–312.
33 Hear him do it at https://www.ted.com/talks/Daniel_wolpert_the_real_reason_for_brains?language=en.
1 David A. Drachman. «The Amyloid Hypothesis, Time to Move On: Amyloid Is the Downstream Result, Not Cause, of Alzheimer’s Disease,» Alzheimer’s and Dementia 10 (2014), 372–380; Jessica Freiherr et al. «Intranasal Insulin as a Treatment for Alzheimer’s Disease: A Review of Basic Research and Clinical Evidence,» CNS Drugs 27 (2013), 505–514.
2 Stanley B. Klein, Leda Cosmides, and Kristi A. Costabile. «Preserved Knowledge of Self in a Case of Alzheimer’s Dementia,» Social Cognition 21 (2003), 157–165.
3 Lydia Krabbendam and Jim van Os. «Schizophrenia and Urbanicity: A Major Environmental Influence – Conditional on Genetic Risk,» Schizophrenia Bulletin 31 (2005), 795–799.
4 Elizabeth Cantor-Graae and Jean-Paul Selten. «Schizophrenia and Migration: A Meta-Analysis and Review,» American Journal of Psychiatry 162 (2005), 12–24.
5 Wim Veling et al. «Ethnic Density of Neighborhoods and Incidence of Psychotic Disorders among Immigrants,» American Journal of Psychiatry 165 (2008), 66–73.
6 Theresa H. M. Moore et al. «Cannabis Use and Risk of Psychotic or Affective Mental Health Outcomes: A Systematic Review,» The Lancet 370 (2007), 319–328; Robin M. Murray et al. «Cannabis, the Mind and Society: The Hash Realities,» Nature Reviews Neuroscience 8 (2007), 885–895.
7 Kurt Schneider. Clinical Psychopathology, trans. M. W. Hamilton // New York: Grune and Stratton, 1959.
8 Jim van Os and Shitij Kapur. «Schizophrenia,» The Lancet 374 (2009), 635–645; Jim van Os. «‘Salience Syndrome’ Replaces ‘Schizophrenia’ in DSM – V and ICD-11: Psychiatry’s Evidence-Based Entry into the 21st Century?» Acta Psychiatrica Scandinavica 120 (2009), 363–372.
9 Shitij Kapur. «Psychosis as a State of Aberrant Salience: A Framework Linking Biology, Phenomenology, and Pharmacology in Schizophrenia,» American Journal of Psychiatry 160 (2003), 13–23.
10 Marc Laruelle. «Imaging Dopamine Transmission in Schizophrenia: A Review and Meta-Analysis,» Quarterly Journal of Nuclear Medicine 42 (1998), 211–221; Oliver Guillin, Anissa Abi-Dargham, and Marc Laruelle. «Neurobiology of Dopamine in Schizophrenia,» International Review of Neurobiology 78 (2007), 1–39.
11 Kapur. «Psychosis as a State of Aberrant Salience.»
12 Jimmy Jensen et al. «The Formation of Abnormal Associations in Schizophrenia: Neural and Behavioral Evidence,» Neuropsychopharmacology 33 (2008), 473–479; J. P. Roiser et al. «Do Patients with Schizophrenia Exhibit Aberrant Salience?» Psychological Medicine 39 (2009), 199–209.
13 Rosalind Cartwright. «Sleepwalking Violence: A Sleep Disorder, a Legal Dilemma, and a Psychological Challenge,» American Journal of Psychiatry 161 (2004), 1149–1158.
14 Pierre Maquet et al. «Functional Neuroanatomy of Human Slow Wave Sleep,» Journal of Neuroscience 17 (1997), 2807–2812; A. R. Braun et al. «Regional Cerebral Blood Flow throughout the Sleep-Wake Cycle: An H215O PET Study,» Brain 120 (1997), 1173–1197; Jesper L. R. Andersson et al. «Brain Networks Affected by Synchronized Sleep Visualized by Positron Emission Tomography,» Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 18 (1998), 701–715; C. Kaufmann et al. «Brain Activation and Hypothalamic Functional Connectivity During Human Non – Rapid Eye Movement Sleep: An EEG/fMRI Study,» Brain 129 (2006), 655–667.
15 Claudio Bassetti et al. «SPECT During Sleepwalking,» The Lancet 356 (2000), 484–485.
16 Michele Terzaghi et al. «Evidence of Dissociated Arousal States during NREM Parasomnia from an Intracerebral Neurophysiological Study,» Sleep 32 (2009), 409–412.
17 Steven Laureys et al. «The Locked-in Syndrome: What Is It Like to Be Conscious but Paralyzed and Voiceless?» Progress in Brain Research 150 (2005), 495–511.
18 Jean-Dominique Bauby. The Diving Bell and the Butterfly: A Memoir of Life in Death // New York: Alfred A. Knopf, 1997. В русском переводе: Боби Ж.-Д. Скафандр и бабочка // М.: Рипол-Классик, 2009. Перевод Н. Световидовой.
19 Ibid.
20 Sofiane Ghorbel. «Statut fonctionnel et qualite de vie chez le locked-in syndrome a domicile,» DEA Motricitй Humaine et Handicap // Saint-Etienne, Montpellier, France: Laboratory of Biostatistics, Epidemiology and Clinical Research, Universite Jean Monnet, 2002.
21 Ronald E. Cranford. «The Persistent Vegetative State: The Medical Reality (Getting the Facts Straight),» Hastings Center Report 18 (1988), 27–32.
22 Steven Laureys, Olivia Gosseries, and Giulio Tononi, eds. The Neurology of Consciousness: Cognitive Neuroscience and Neuropathology, 2nd ed. // Amsterdam: Academic Press, 2016.
23 Bjorn Merker. «Consciousness Without a Cerebral Cortex: A Challenge for Neuroscience and Medicine,» Behavioral and Brain Sciences 30 (2007), 63–81.
24 Jaak Panksepp et al. «Effects of Neonatal Decortication on the Social Play of Juvenile Rats,» Physiology and Behavior 56 (1994), 429–443.
25 Jaak Panksepp. «Affective Consciousness: Core Emotional Feelings in Animals and Humans,» Consciousness and Cognition 14 (2005), 30–80.
26 David J. Anderson and Ralph Adolphs. «A Framework for Studying Emotions across Species,» Cell 157 (2014), 187–200.
27 Jaak Panksepp, Thomas Fuchs, and Paolo Iacobucci. «The Basic Neuroscience of Emotional Experiences in Mammals: The Case of Subcortical FEAR Circuitry and Implications for Clinical Anxiety,» Applied Animal Behaviour Science 129 (2011), 1–17; Jaak Panksepp. «Affective Neuroscience of the Emotional BrainMind: Evolutionary Perspectives and Implications for Understanding Depression,» Dialogues in Clinical Neuroscience 12 (2010), 533–545.
28 Jaak Panksepp and Jules B. Panksepp. «The Seven Sins of Evolutionary Psychology,» Evolution and Cognition 6 (2000), 108–131.
29 Joseph LeDoux. «Rethinking the Emotional Brain,» Neuron 73 (2012), 653–676.
30 Steven Pinker. The Language Instinct: How the Mind Creates Language // New York: William Morrow, 1994.
31 Panksepp. «Affective Consciousness.»
32 Bernard J. Baars. A Cognitive Theory of Consciousness // Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 1988.
33 L. F. Haas. «Phineas Gage and the Science of Brain Localisation,» Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 71 (2001), 761.
34 Sergio Paradiso et al. «Frontal Lobe Syndrome Reassessed: Comparison of Patients with Lateral or Medial Frontal Brain Damage,» Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 67 (1999), 664–667.
1 John Tyndall. Fragments of Science for Unscientific People: A Series of Detached Essays, Lectures, and Reviews, vol. 1 // New York: D. Appleton and Company, 1871; 119.
2 Joseph Levine. Purple Haze: The Puzzle of Consciousness (Oxford: Oxford University Press, 2001), 6.
3 Ibid., 87.
4 David J. Chalmers. «Facing Up to the Problem of Consciousness,» Journal of Consciousness Studies 2 (1995), 200–219.
5 John Tyndall. «The Belfast Address,» in Tyndall, Fragments of Science, vol. 2 // London: Longmans, Green, and Co., 1879, http://www.gutenberg.org/files/24527/ 24527-h/24527-h.htm#Toc158391647.
6 William James. The Principles of Psychology (1890), in Hutchins, Adler, and Brockway, Great Books of the Western World, vol. 53, William James, 97.
7 Ibid., 95.
8 Ibid.
9 William Stukeley. Memoirs of Sir Isaac Newton’s Life (manuscript, 1752; facsimile, Royal Society, 2010), retrieved June 26, 2016, from http://ttp.royalsociety.org/ttp/ttp.html?id=1807da00-909a-4abf-b9c1-0279a08e4bf2&type=book.
10 John Conduitt. Draft account of Newton’s life at Cambridge (1727–1728), Keynes Ms. 130.04. // Cambridge, U. K.: King’s College; retrieved June 26, 2016, from http://www.newtonproject.sussex.ac.uk/catalogue/record/THEM00167.
11 Rudolf Clausius. The Mechanical Theory of Heat – with its Applications to the Steam-engine and to the Physical Properties of Bodies // London: John van Voorst, 1867.
12 Max Planck. «On the Law of Distribution of Energy in the Normal Spectrum,» Annalen der Physik 4 (1901), 553. В русском переводе: Планк М. О законе распределения энергии в нормальном спектре, «Избранные труды». М.: Наука, 1975.
13 Helge Kragh. «Max Planck: The Reluctant Revolutionary,» Physics World 13 (2000), 31.
14 L. Piazza et al. «Simultaneous Observation of the Quantization and the Interference Pattern of a Plasmonic Near-Field,» Nature Communications 6 (2015), 6407.
15 Richard Feynman. Sir Douglas Robb Memorial Lecture // University of Auckland, 1979; retrieved September 2, 2016, from https://www.youtube.com/watch?v= xdZMXWmlp9g.
16 Richard Feynman. Messenger Lecture: «The Quantum View of Physical Nature» // Cornell University, 1964; retrieved October 3, 2016, from https://www.youtube.com/watch?v=x5RQ3QF9GGI.
17 John von Neumann. Mathematical Foundations of Quantum Mechanics, trans. Robert T. Beyer // Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1955. В русском переводе: Иоганн фон Нейман. Математические основы квантовой механики. М.: Наука, 1964.
18 Feynman. Messenger Lecture.
19 Jim Baggott. The Quantum Story: A History in 40 Moments // Oxford: Oxford University Press, 2011; 100.
20 Ibid.
21 Robert Rosen. «On the Limitations of Scientific Knowledge,» in John L. Casti and Anders Karlqvist, eds., Boundaries and Barriers: On the Limits to Scientific Knowledge // Reading, Mass.: Perseus Books, 1996; 203.
22 Ibid.
1 Howard Hunt Pattee. «Physical and Functional Conditions for Symbols, Codes, and Languages,» Biosemiotics 1 (2008), 147–168.
2 Howard Hunt Pattee and Joanna Rączaszek-Leonardi. Laws, Language and Life: Howard Pattee’s Classic Papers on the Physics of Symbols with Contemporary Commentary // Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2012; 7.
3 Ibid., 8.
4 Pattee. «Physical and Functional Conditions for Symbols, Codes, and Languages.»
5 Howard Hunt Pattee. «The Physical Basis of Coding and Reliability in Biological Evolution,» in Pattee and Rączaszek-Leonardi, Laws, Language and Life, 33–54; repr. from Towards a Theoretical Biology 1, Prolegomena, Proceedings of an International Union of Biological Sciences symposium, Bellagio, Italy August – September 1966, ed. C. H. Waddington // Edinburgh: Edinburgh University Press, 1968; 67–93.
6 Pattee and Rączaszek-Leonardi. Laws, Language and Life, 10.
7 Howard Hunt Pattee. «Physical Problems of Decision-Making Constraints,» in Pattee and Rączaszek-Leonardi, Laws, Language and Life, 70; repr. from International Journal of Neuroscience 3 (1972), 99–106.
8 Pattee. «Physical Basis of Coding and Reliability.»
9 John von Neumann. Theory of Self-Reproducing Automata // Urbana: University of Illinois Press, 1966; Erwin Schrodinger. What Is Life? The Physical Aspect of the Living Cell // 1944; repr. Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 2012.
10 Steve Martin. https://www.youtube.com/watch?v=q_8amMzGAx4.
11 Howard Hunt Pattee. «The Complementarity Principle in Biological and Social Structures,» in Pattee and Rączaszek-Leonardi, Laws, Language and Life, 143–154; repr. from Journal of Social Biology Structures 1 (1978), 191–200.
12 Howard Hunt Pattee. «Cell Psychology: An Evolutionary Approach to the Symbol-Matter Problem,» in Pattee and Rączaszek-Leonardi, Laws, Language and Life, 170, repr. from Cognition and Brain Theory 5 (1982), 325–341.
13 Marcello Barbieri. «Biosemiotics: A New Understanding of Life,» Naturwissenschaften 95 (2008), 579.
14 Ibid., 597.
15 Ibid.
16 Ibid., 580.
17 Ibid., 596.
18 Noa Liscovitch-Brauer et al. «Trade-off between Transcriptome Plasticity and Genome Evolution in Cephalopods,» Cell 169 (2017), 191–202.
19 Christian B. Anfinsen. «Principles That Govern the Folding of Protein Chains,» Science 181 (1973), 223–230.
20 Von Neumann. Theory of Self-Reproducing Automata, 77.
21 Pattee and Rączaszek-Leonardi. Laws, Language and Life, 13.
22 Rudolf K. Allemann and Nigel S. Scrutton, eds. Quantum Tunneling in Enzyme Catalyzed Reactions // Cambridge, U. K.: Royal Society of Chemistry Publishing, 2009.
23 Indranil Chakrabarty and Prashant Prashant. «Non Existence of Quantum Mechanical Self Replicating Machine,» arXiv: quant-ph/0510221v6, 2007.
24 Niels Bohr. «The Quantum Postulate and the Recent Development of Atomic Theory,» Nature 121 (1928), 580.
25 Pattee. «The Complementarity Principle,» 144.
26 Ibid., 149.
27 Ibid., 153.
28 Feynman. Robb Memorial Lecture.
29 James. Principles of Psychology, in Hutchins, Adler, and Brockway, Great Books of the Western World, vol. 53, William James, 117.
30 Pattee and Rączaszek-Leonardi. Laws, Language and Life, 28.
31 Ibid., 11.
32 Feynman. Robb Memorial Lecture.
1 James. Principles of Psychology, in Hutchins, Adler, and Brockway, Great Books of the Western World, vol. 53, William James, 149.
2 Matthew E. Roser et al. «Dissociating Processes Supporting Causal Perception and Causal Inference in the Brain,» Neuropsychology 19 (2005), 591.
3 Sherrington. Man on His Nature, 275.
4 Niels Kaj Jerne. «Antibodies and Learning: Selection versus Instruction,» in The Neurosciences: A Study Program, eds. Gardner C. Quarton, Theodore Melnechuk, and Francis O. Schmitt, pp. 200–205 // New York: Rockefeller University Press, 1967.
5 Alan M. Leslie and Stephanie Keeble. «Do Six-Month-Old Infants Perceive Causality?» Cognition 25 (1987), 265–288.
6 Thomas Nagel. «What Is It Like to Be a Bat?» Philosophical Review 83 (1974), 435–450.
7 Liane Young and Rebecca Saxe. «Innocent Intentions: A Correlation between Forgiveness for Accidental Harm and Neural Activity,» Neuropsychologia 47 (2009), 2065–2072.
8 Michael B. Miller et al. «Abnormal Moral Reasoning in Complete and Partial Callosotomy Patients,» Neuropsychologia 48 (2010), 2215–2220.
9 Neil Young documentary, part 2, retrieved August 27, 2016, from https://www. youtube.com/watch?v=Lslh6hG9EVQ.
10 Steven Pinker. How the Mind Works // New York: W. W. Norton, 1997; 133.
11 Jaak Panksepp and Lucy Biven. The Archaeology of Mind: Neuroevolutionary Origins of Human Emotions // New York: W. W. Norton, 2012.
12 Jaack Panksepp. «The Periconscious Substrates of Consciousness: Affective States and the Evolutionary Origins of the SELF,» Journal of Consciousness Studies 5 (1998), 566–582.
13 Andrew R. Barron and Colin Klein. «What Insects Can Tell Us about the Origins of Consciousness,» PNAS 113 (2016), 4900–8.
14 Nicholas J. Strausfeld and Frank Hirth. «Deep Homology of Arthropod Central Complex and Vertebrate Basal Ganglia,» Science 340 (2013), 157–161.
15 Robert B. Barlow Jr. and Anthony J. Fraioli. «Inhibition in the Limulus Lateral Eye In Situ,» Journal of General Physiology 71 (1978), 699–720.
16 Shreesh P. Mysore and Eric I. Knudsen. «A Shared Inhibitory Circuit for Both Exogenous and Endogenous Control of Stimulus Selection,» Nature Neuroscience 16 (2013), 473–478.
17 Diane M. Beck and Sabine Kastner. «Top-down and Bottom-up Mechanisms in Biasing Competition in the Human Brain,» Vision Research 49 (2009), 1154–1165.
18 Steven D. Wiederman and David C. O’Carroll. «Selective Attention in an Insect Visual Neuron,» Current Biology 23 (2013), 156–161.
19 Paul Buckley and F. David Peat. Glimpsing Reality: Ideas in Physics and the Link to Biology, rev. ed. // New York: Routledge, 2009; 134.
20 Bisiach and Luzzatti. «Unilateral Neglect of Representational Space.»
21 Denise Barbut and Michael S. Gazzaniga. «Disturbances in Conceptual Space Involving Language and Speech,» Brain 110 (1987), 1487–1496.
22 Gary Taubes. Good Calories, Bad Calories: Fats, Carbs, and the Controversial Science of Diet and Health // New York: Anchor Books, 2007.
1 Howard Hunt Pattee. «Can Life Explain Quantum Mechanics?» in Ted Bastin, ed., Quantum Theory and Beyond: Essays and Discussions Arising from a Colloquium // Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 1971; 307–319.
2 Rosen. Life Itself, 13.
3 Ibid., 111.
4 Ibid., 112.
5 William James. «What Is an Instinct?» Scribner’s Magazine 1 (1887), 355.
6 Ibid., 356.
7 Joshua T. Vogelstein et al. «Discovery of Brainwide Neural-Behavioral Maps via Multiscale Unsurpervised Structure Learning,» Science 344 (2014), 386–392.
8 James. «What Is an Instinct?» 359.
Благодарности
Один из моих любимых анекдотов – о молодом и амбициозном оперном певце, впервые выступавшем на сцене миланской «Ла Скала». После первого номера зал кричит: Ancora, ancora! Улыбаясь про себя, он снова затягивает ту же арию. Публика снова требует: Ancora! Так его вызывают на бис четыре-пять раз, и наконец он обращается к зрителям: «Послушайте, я спел эту арию пять раз. Чего еще вы хотите?» И кто-то с балкона ему отвечает: «Вы будете исполнять ее до тех пор, пока не споете правильно».
Закончив предыдущую книгу – нечто вроде научных мемуаров об исследованиях расщепленного мозга, – я решил, что покончил с книгами вообще. Работать над ней было приятно, потому что это был обзор личного научного опыта, перемежавшийся историями, которые составляли существенную часть моей жизни. Но оказалось, что в той книге было заложено начало другой, нынешней. Как сказал мне один читатель, «теперь, когда вы уже рассказали о себе, напишите собственно о сознании». Это совсем другая задача, новая работа, и она требует упорного труда и серьезной помощи.
Хочу назвать одного человека, помогавшего мне как никто другой: это моя сестра Ребекка, отчасти врач, отчасти ботаник, отчасти автор книг на научные темы и – на постоянной основе – жизнелюбивый человек. Все, к чему она прикасается, становится лучше. Она начала работать со мной над моими книгами сразу после того, как в 2006 году я перенес серьезную операцию, – тогда она помогала мне с редактированием. Нейробиология быстро очаровала Ребекку, и вскоре она стала помогать мне и в исследованиях. С тех пор ясность ее ума, жажда новых знаний обо всем на свете и добрый нрав играют важнейшую роль во всех моих делах, и я остаюсь у нее в долгу.
Когда в нашем университете появилась Бриджет Куинан с намерением, так сказать, подстегнуть наши инициативы по мозгу, я понял, что нашу повседневную, рутинную научную жизнь ждут перемены к лучшему. Ее несгибаемое трезвомыслие, драйв и ум в сочетании с феноменальными редакторскими способностями оказались весьма кстати. Рядом со мной были и другие люди. Безусловно, я всегда стараюсь превратить университетские семинары в научную лабораторию для своих проектов. В первый год магистратуры студенты предлагают новые темы для исследований, и один из них, Эван Лэр, оказался особенно продуктивен в этом отношении. В течение второго года студенты нового курса выступают в роли критиков и редакторов глав, над которыми я работаю.
С годами сложилась группка профессионалов из числа коллег, которые фактически вычитывают и подробно комментируют черновики, как настоящие друзья, но при этом не жалея розог. Я многим обязан Уолтеру Синнотт-Армстронгу, старавшемуся удержать меня в русле моих философских рассуждений, Майклу Познеру, Стивену Хилльярду, Лео Чалупе, Джону Дойлу, Маркусу Райклу и многим другим, кто не жалел сил, чтобы помочь мне рассказать о мозге все по порядку. И наконец, я благодарен моей жене Шарлотте, которая не дает мне сбиться с пути истинного. Без ее участия не делается ничего.
После всех внутренних проверок книга поступает к издателю в Нью-Йорк. Это моя первая – и надеюсь, не последняя – работа с FSG. Редакторы Эрик Чински и Лэйрд Галлахер подбадривали и критиковали меня деловито и с напористостью. После первого рабочего этапа я нашел их замечания столь интересными, что попросил их о втором туре. Я не знал, что оба они обладали хорошей философской подготовкой: логично, что мой труд вызвал у них повышенный интерес. Они читали книгу со знанием дела и помогли мне прояснить великое множество вопросов. А затем настала очередь корректора Энни Готтлиб. Каждая строчка прошла через ее строгий разум, дабы стать точной и внятной. Я в долгу перед всеми и каждым – и, надо добавить, перед теми, кто сочтет нужным прочесть мой труд.