Суровая Родина. Нехороший путеводитель по Кемерово бесплатное чтение
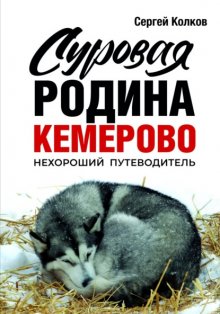
Предисловие
Есть города большие и малые, «все флаги в гости к нам» и закрытые на тяжёлый замок, озорные и тихие, а есть просто – особенные.
С первого взгляда, ничего примечательного в таком уездном городе К. вовсе нет, а приглядишься – там такие «вилы в сене»…
Все, кто никогда не бывал в Кемерово, считают его типичным сибирским захолустьем, а те, кто заезжал мимоходом, бывает, даже оскорбительно называют «тупик». Другое дело – Красноярск, Новосибирск или Иркутск, а Кемерово… ну что тут особенного? А вот ведь и к нему может приключиться любовь. Всё как в жизни, когда самая видная девка на деревне влюбляется в щербатого доходягу-гармониста и всё подруги наперебой отговаривают её: «Ну что ты в нём нашла?», а она с осоловелыми от любви глазами вторит словно заколдованная: «Колька. Он у меня такой особенный!»
Ну что делать, сердцу не прикажешь: особенный – значит, особенный.
Как потом выяснится, девичье сердце действительно не ошибалось, и Николай окажется парень-то не промах, но вернёмся к Кемерово.
Где это видано, чтобы за звание «главного горожанина» или «человека из Кемерово» соперничали такие «глыбы», как Тулеев, Гребенщиков и Гришковец? И кто же «он» такой на самом деле? Есть версии!
Кемерово – как сундук в старой сказке: висит себе на столетней сосне, никого не трогает. Откроешь его из чистого любопытства, а там – АИК Кузбасс и шекспировская история «с любовью до гроба», где в конце короткой страсти в огне советской «сказки» сгорают все мечты о «рабочем рае», а бывший страстный любовник подсыпает в бокал с вином вчерашней возлюбленной смертельного яду. Посмотришь на дно сундука – а там заяц. Приглядишься – оказывается, это памятник «Пушкин и зайцы», посвящённый духовной связи сквозь толщу времён Александра Сергеевича и Николая Некрасова, который вполне мог бы украсить нашу одноимённую площадь вместо сувенирной скульптуры «солнца русской поэзии», отлитой из сэкономленных материалов.
Куда пропал заяц? Вместо него уже крякает утка. И где же она плавает? В великой кемеровской реке Искитимке, которая время от времени принимает пурпурный цвет, откровенно намекая жителям, что «нет, вы не правы, ещё кое-что работает в промзоне и работает на полную мощность. А вы говорили: Кемерово – город судов и спорта. Ошибаетесь, граждане!»
Мы отвлеклись, озираясь на берега Искитимки, а утка тем временем удрала. Но… теперь у нас есть яйцо!
На наших глазах из него вылупляется Йети. Если посмотреть на него слева, то он сильно похож на бывшего главу таштагольского района Владимира Макуту, а если справа – вылитый Тулеев, но это случайное сходство.
Скорлупа выскальзывает из рук, разбивается, и в её осколках отыскивается тонкая стальная игла с соотношением ушка к телу 0,62 : 0,38. Странная какая-то, не правда ли? Не простая, а гармоничная. О том, что с ней можно и что категорически нельзя делать, нам поведает Великий Гармонист Кемерово.
Остались ли после всего этого ещё воинствующие невежды, которые смеют утверждать, что Кемерово – не особенный город?
Думаете, вот и сказочке конец? Если бы…
С топонимом «Кемерово» тоже всё неоднозначно. Кемеровчане, помимо деления на живущих в самом Кемерово и на Лесной поляне, разошлись ещё на две непримиримые группы – тех, кто не склоняет слово Кемерово ни при каких условиях, и тех, кто «из Кемерова».
Лингвистика утверждает, что русские названия городов с финалью -ино, -ово, -ево следует склонять, если рядом не употребляется родовое наименование (в Кемерове, но в городе Кемерово). Несклоняемым формам (живу в Кемерово) учёные-лингвисты отводят место в устной речи. Многочисленные опросы горожан говорят о том, что «восхищен Кемеровом» и «благодарен Кемерову» звучат коряво и режут слух. Для сохранения исторической идентичности все цитаты, включенные в текст Путеводителя, сохраняют склонение Кемерово согласно приводимым источникам.
Автор путеводителя, как и группа консервативных горожан, придерживается лагеря «человек из Кемерово».
Пытливые критики после выхода первого издания неоднократно спрашивали: «А почему у Вас название “Суровая Родина”? На что вы намекаете?» Откровенно говоря, никаких особых намёков на какие-либо исключительные обстоятельства оно не несёт. Хотя нет, позвольте… Вспомнил! «Красоты нет, если она не отражает некоей суровости жизни», – так говорила Марлен Дюма, голландская художница южноафриканского происхождения. И в этом он с ней согласен.
А ещё он жмёт руку Стендалю, который обоснованно утверждал: «Даже суровость любимой женщины полна бесконечного очарования, которого мы не находим в самые счастливые для нас минуты в других женщинах».
Так всё и сходится, что горькая ягода нам слаще самой сладкой – русский характер.
Автор благодарит и бьёт низкие поклоны всем неравнодушным соавторам, которые приняли живое участие в судьбе нехорошего путеводителя словом и делом и помогли птенцу пережить второе рождение, которое представляем вашему вниманию, любезный читатель:
Дмитрию Сагаре,
Дмитрию Петину,
Владимиру Сухацкому,
Ирине Захаровой,
Екатерине Комаровой,
Галине Пановой,
Станиславу Оленеву,
Василию Лякину,
Виктору Богораду.
Остаётся лишь добавить, что всё нижеописанное – это сказки и легенды нашего города, и, если что-то вам покажется до боли знакомым или похожим на правду, это действительно неумышленное совпадение.
Все персонажи данного произведения являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или когда-либо жившими людьми случайно.
Реальный – только автор, который бродит среди воспоминаний и ищет Кемерово, которого давно уже нет.
Сергей Колков,
Кемерово, 2023
Человек из Кемерово
У меня были проблемы,
Я зашел чересчур далеко:
Нижнее днище нижнего ада
Мне казалось не так глубоко.
Я позвонил своей маме,
И мама была права –
Она сказала: «Немедля звони
Человеку из Кемерова».
Борис Гребенщиков
Святочный рассказ
ДК «Москва», ул. Дзержинского, 2
Дом кино «Москва» открыт 15 июня 1937 г. Площадь – 4809,5 м2. Впервые в истории города выбор имени кинотеатра был вынесен на обсуждение обывателей. Общественность предложила варианты: «Буревестник», «Гигант», имени А. С. Пушкина, М. Горького и другие. Президиум городского Совета решением от 23 июля 1937 года присвоил кинотеатру название «Москва».
Кинотеатр располагал зрительным залом на 1000 мест, читальным залом, шахматным клубом и тиром. В его стенах была успешно реализована прогрессивная советская концепция «дома колхозника». А как иначе? В городе в предвоенные и даже в послевоенные годы сохранялся острый дефицит на общественные площади. В фойе и вестибюлях проходили художественные выставки, танцевальные вечера, торжественные сборы пионерских дружин и заседания партийно-хозяйственного актива, на которые собиралось до полутора тысяч человек.
С 1 июля 2005 года ДК «Москва» заброшен. Запутанная ситуация с «чемоданом без ручки», от участия в судьбе которого отказались собственники, долгие годы удивляет горожан, когда на их глазах медленно, но верно разрушается великолепное здание эпохи сталинского ампира. Никому не надо?
Глава 1
Ашот Вазгенович Торосян, владелец и основатель известного ресторана армянской кухни «Торосян», никогда и подумать не мог, что станет кемеровчанином. Отслужив в армии, он вернулся домой в Ереван и собирался начать трудовой путь в ресторане, которым руководил его отец – Вазген Аразович Торосян, но тот решил по-другому: «Ашот, сынок, если останешься под моим крылом, всегда будешь в тени большого дерева. А что там растёт? Правильно – мелкий кустарник. Ты же у меня – “надежда этого мира” (прим. – так переводится с армянского имя Ашот). Найди в себе смелость начать всё с чистого листа! Хочешь – поезжай к дяде Арену в Кемерово, получи там образование и прозвучи так, чтобы я гордился тобой!»
Сказано – сделано. Ашот уехал к дяде, поступил в КемТИПП, блестяще его окончил и, когда прогремели 90-е, открыл на берегу Томи настоящий армянский ресторан. Пока всё коллеги-рестораторы «сходили с ума» по итальянской кухне, Ашот твёрдо решил, что не будет мешать армянскую кухню ни с какой другой в угоду моде. Он просто попробовал придать некоторым устаревшим блюдам армянской кухни новый оттенок – современности в сочетании с той заботой, которую можно встретить только среди родных людей.
Реформатор древних традиций считал, что если взялся за дело, то делать его нужно так, чтобы каждый мог сказать: «О, какой молодец Ашот-джан! Так вкусно накормил, как будто в Ереване побывали!» В его ресторане не готовили еду, а сочиняли музыку вкусов, словно клиент – шах и весь мир дышит и живёт только ради его услады. Меланхолические звуки дудука сопровождали здесь и деловые встречи, и дружеские застолья. Последние длились по нескольку часов: в армянских традициях заказывать много еды, делить её со всем столом, а потом снова повторять заказ. Поэтому долгих поисков, как назвать свой первый и любимый ресторан, у него не было: «Назову своей фамилией, чтобы каждый знал – здесь за всё лично я отвечаю. Ашот сказал – Ашот сделал!»
Ашот Вазгенович, а для друзей – просто Ашотик, искренне считал, что ни одно важное событие в истории человечества не произошло без участия армян. «Вот взять хотя бы “всемирный потоп”. Каждый армянин знает, что Ноев ковчег причалил у горы Арарат. И голубь, который принёс Ною масличный лист, сорвал его на армянской земле. Значит, можно с уверенность сказать, что коньяк “Арарат” – это священный напиток! Сегодняшний вечер – божественный, но безбожно короткий. За наши новые встречи!» Поэтому, когда он впервые услышал песню Бориса Гребенщикова «Город золотой», то воскликнул: «Бан, это же песня про Ереван! Вы только послушайте: “под небом голубым есть город золотой, с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы; гуляют там животные невиданной красы”. Борис Борисович-джан поёт точно про Ереван! Вам каждый армянин это подтвердит!»
Все попытки объяснить ему, что песня совсем не про это, были обречены на полный провал. Он начинал волноваться, нервничал и, показывая собеседнику какую-то затейливую комбинацию из пальцев, грозно рычал: «Вы ничего не понимаете! Вы вообще были в Ереване? Нет! Тогда молчите, слушайте эту великую песню и восторгайтесь!»
Шли годы, и желание привезти на свою вторую родину – в Кемерово – великого «армянского» певца Бориса Гребенщикова только крепло. «Повелитель толмы» мечтал подарить своему второму дому «маленькое чудо» – концерт БГ.
Деньги на воплощение мечты у него имелись. И с площадкой – ДК «Москва» – он тоже уже давно договорился. Осталась только одна загвоздка – БГ. Вернее, даже не сам артист, а его концертный директор Таточка, которая всякий раз, когда Ашот интересовался, не появилось ли гастрольное окно у пионера русского рока, говорила однозначно:
– Ну, Кемерово пока пусть дозреет. У нас тут Москва в очереди стоит, потом Владивосток, а дальше мы в Америку!
С Америкой Кемерово тягаться, конечно, не мог. Хотя доллары и здесь тоже были, но далеко не в тех количествах, как там. Собственно, Ашот Вазгенович уже и не надеялся на чудо, но однажды в августе 1998 года зазвонил серый, слышавший немало всякого телефон и сообщил неожиданно сладким голосом Таточки:
– У нас тут Самара слетела, а вы всё ещё хотите концерт БГ в Кемерово?
«Гений лаваша» даже встал со стула и зачем-то поправил галстук:
– Конечно, ждём!
– Хорошо, вечером пришлю райдер1, – быстро попрощалась Таточка и первой повесила трубку.
Не до конца осознавший только что услышанное, он тут же позвонил любимой жене и, потея всеми частями своего идеально сложенного тела греческого бога, сообщил ей неожиданное:
– Греточка, тут у нас такое происходит…
– Что, налоговая наехала?
– Нет, наехал БГ, точнее, скоро к нам наедет, то есть приедет с концертом.
– Милый, ты шутишь?
– Да какие шутки! Только что звонила Таточка – у них дырка в Самаре, через три дня он у нас.
Весь остаток дня коньяк и шашлыки уже не шли ему в голову. Он мечтал.
Вечером, как и обещала Таточка, факс выдавил из себя недлинный райдер БГ.
Из него стало ясно, что БГ приедет один, без «Аквариума», и даст единственный концерт. Далее следовал список требований для принимающей стороны: гостиница, трансфер, питание, гонорар, концертная аппаратура…
Ашот вызвал Рюшу, для всех других – Андрея Ростиславовича, главного по разным очень ответственным поручениям, и вручил ему райдер:
– Рюша, чтобы всё от сих до сих, ну ты понимаешь, как для себя и даже лучше!
Рюша пробежал взглядом по скрученному свитку и спросил:
– А «это» где будем брать?
– Что «это»? Там же всё ясно написано!
– Ашот, тут в конце райдера стоит «настоящий сибирский самогон».
– Ну-ка, покажи, – шеф не поверил, что такое может быть напечатано в факсе «чёрным по белому».
– М-да… Действительно…