Мозг: биография. Извилистый путь к пониманию того, как работает наш разум, где хранится память и формируются мысли бесплатное чтение
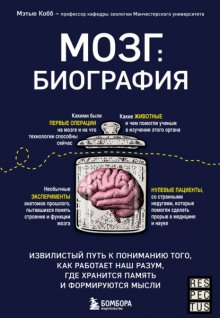
Copyright © Matthew Cobb, 2020, 2021
Во внутреннем оформлении использована иллюстрация: Alexander_P / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com
© А.П. Шустова, перевод на русский язык, 2021
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022
В память о Кевине Коннолли (1937–2015), профессоре психологии Шеффилдского университета, который направил меня сюда
Поскольку мозг действительно является машиной, мы не должны надеяться обнаружить его хитрость устройства иными способами, кроме тех, что используются для обнаружения разгадки механизма других машин. Таким образом, остается сделать то, что мы сделали бы для любой другой машины: разобрать ее на части и посмотреть, что эти составляющие могут делать по отдельности и вместе.
Нильс Стенсен. «О мозге», 1669 год
Ключевые области человеческого мозга
Введение
В 1665 году датский анатом Нильс Стенсен обратился к небольшой группе мыслителей, собравшихся в Исси-ле-Мулино, на южной окраине Парижа. Фактически эта неофициальная встреча в дальнейшем положила начало Французской академии наук[1]; на данном собрании также был сформулирован современный подход к пониманию мозга. В своей лекции Стенсен смело утверждал, что если мы хотим понять, что делает мозг и как он это делает, а не просто описать его составляющие, то должны рассматривать мозг как машину и разобрать его на части, чтобы увидеть принципы данного органа.
Выдвинутая идея была революционной, и более 350 лет мы следуем предложению Стенсена: заглядываем в мертвый мозг, извлекаем кусочки из живого, регистрируем электрическую активность нервных клеток (нейронов) и – с недавнего времени – изменяем функцию нейронов с самыми удивительными последствиями. Хотя большинство нейробиологов никогда не слышало о Стенсене, его видение веками господствовало в науке о мозге и лежит в основе нашего замечательного прогресса в понимании, пожалуй, самого необычного органа.
Ученые могут заставить мышь думать, что она находится в другом месте.
Теперь мы можем заставить мышь думать, что она находится в другом месте, превратить плохую мышиную память в хорошую и даже использовать всплеск электричества, чтобы изменить то, как люди воспринимают лица. Мы составляем все более подробные и сложные функциональные карты мозга человека и других представителей животного царства. У некоторых видов мы можем трансформировать саму структуру мозга по своему желанию, изменяя в результате поведение животного. Некоторые из наиболее выдающихся последствий роста нейробиологической науки можно увидеть в способности парализованного человека управлять роботизированной рукой силой разума.
Ученые не всесильны: по крайней мере, на данный момент нельзя искусственно создать точный сенсорный опыт в человеческом мозге (галлюциногенные препараты делают это неконтролируемым образом), хотя, похоже, мы обладаем удивительной степенью контроля, необходимой для проведения такого эксперимента на мышах. Две группы исследователей недавно обучили грызунов лизать бутылку с водой, когда животные видели набор полос, а машины записывали, как небольшое количество клеток в зрительных центрах мозга реагирует на изображение. Затем ученые использовали сложную оптогенетическую[2] технологию, чтобы искусственно воссоздать выявленный паттерн нейронной активности в соответствующих клетках мозга. Когда это произошло, животное отреагировало так, будто увидело полосы, хотя и находилось в полной темноте. Одно из объяснений состоит в том, что для мыши паттерн нейронной активности был тем же самым, что и при зрительном восприятии. Для решения данной проблемы необходимы более сложные эксперименты, но мы стоим на пороге понимания того, как паттерны активности в сетях нейронов создают восприятие.
На данный момент нельзя искусственно создать точный сенсорный опыт в человеческом мозге.
Эта книга рассказывает многовековую историю изучения головного мозга, демонстрируя, как блестящие умы, отдельные из которых теперь забыты, сначала определили, что мозг является органом, рождающим мысли, а затем начали показывать, что он может делать. На страницах книги описываются необыкновенные открытия, совершенные нами в поисках знания, на что способен мозг, и я восхищаюсь кропотливыми экспериментами, что привели к значимым научным прорывам.
Но в рассказе об удивительном прогрессе есть существенный изъян, который редко признается во многих работах, претендующих на объяснение того, как работает мозг. Несмотря на солидный фундамент накопленной информации, у нас нет четкого представления о том, как миллиарды, миллионы, тысячи или даже десятки нейронов работают вместе, вызвая активность мозга.
Мы знаем в общих чертах, что происходит: мозг взаимодействует с окружающим миром, с остальными частями нашего тела, обрабатывая стимулы с помощью как врожденных, так и приобретенных нейронных сетей. Мозг прогнозирует, как эти стимулы могут изменяться, чтобы быть готовым к ответу, и, будучи частью организма, стимулы влияют на общее функционирование тела. Все это достигается нейронами и их сложными взаимосвязями, включая множество химических сигналов, в которых они «купаются». Независимо от того, насколько научное описание может идти вразрез с вашими глубочайшими чувствами, нет никакого «бестелесного человека», обитающего у вас в голове и присматривающего за активностью мозга, – все это просто нейроны, их связь и химические вещества, которые наполняют нейронные сети.
Однако, когда дело доходит до реального понимания того, что происходит в мозге на уровне нейронных сетей и составляющих их клеток или до способности предсказать, что произойдет, когда активность конкретной сети изменится, мы все еще находимся в самом начале. Мы в состоянии искусственно вызвать зрительный образ в мозге мыши, скопировав очень точный паттерн нейронной активности, но не до конца понимаем, как и почему зрительное восприятие производит данный паттерн в первую очередь.
Как вышло, что мы достигли столь поразительного научного прогресса и все же едва коснулись тайн удивительного органа в нашей голове? Ключ к понимаю этого парадокса можно найти в идее Стенсена, предложившего рассматривать мозг в качестве машины. Слово «машина» на протяжении веков означало очень разные вещи, и каждое из его значений влияло на то, как мы относимся к мозгу. Во времена Стенсена существовали только устройства, работающие либо на основе гидравлики, либо на часовом механизме. Знания, которые они могли дать о структуре и функциях мозга, вскоре оказались ограниченными, и теперь никто не рассматривает его таким образом. С открытием электростимуляции нервов в XIX веке мозг начали представлять в виде своего рода телеграфной сети, а затем, после обнаружения нейронов и синапсов, как телефонную станцию, позволяющую гибко организовывать и выводить данные (эта метафора до сих пор иногда используется в научных статьях). Начиная с 1950-х годов, в умах исследователей господствовали концепции, пришедшие в биологию из области вычислительной техники: цепи обратной связи, информация, коды и вычисления. Но, хотя многие из мозговых функций, которые мы определили, обычно связаны с каким-то видом вычислений, есть только несколько полностью понятных примеров. И некоторые из самых блестящих и значимых теоретических прозрений о том, как нервные системы могут «вычислять», оказались ошибочными.
Прежде всего, как вскоре поняли ученые середины XX века, впервые использовавшие параллель между мозгом и компьютером, мозг не является аналогом цифровых технологий. Даже простейший мозг животного – это не компьютер, подобный какому-либо из уже созданных человеком или тому, что мы пока не можем себе представить. Мозг – не компьютер, но он похож больше на компьютер, чем на часы.
Мозг больше похож на компьютер, чем на часы.
И, размышляя о параллелях между компьютером и мозгом, мы можем получить представление о том, что происходит и в наших головах, и в головах животных.
Изучение представлений о мозге – то, с какой машиной мы его соотносим, – показывает, что, хотя человечество все еще далеко от полного понимания, способов думать о мозге гораздо больше, чем в прошлом, не только из-за обнаруженных нами удивительных фактов, но прежде всего из-за того, как мы их интерпретируем.
Эти изменения имеют большое значение. На протяжении столетий каждый «слой» технологической метафоры добавлял что-то к нашему пониманию, позволяя проводить новые эксперименты и переосмысливать старые открытия. Но, крепко держась за метафоры, мы в итоге ограничиваем собственное мышление. Многие ученые сейчас осознают, что, рассматривая мозг как компьютер, пассивно реагирующий на вводимые данные и обрабатывающий их, мы забываем, что он является активным органом, частью тела, которая вмешивается в мир и имеет эволюционное прошлое, сформировавшее его структуру и функции. Мы упускаем из виду ключевые моменты мозговой деятельности. Другими словами, метафоры формируют наши идеи не всегда полезным образом.
Многообещающая связь технологии и науки о мозге говорит о том, что завтра, с появлением новых и пока еще не предвиденных достижений, наши представления снова изменятся. По мере формирования нового понимания мы будем переосмысливать нынешние убеждения, отбрасывать некоторые ошибочные предположения и разрабатывать иные теории и способы понимания. Когда ученые осознают, что их мышление – включая вопросы, которые они могут задавать, и эксперименты, которые они могут себе представить, – частично обрамлено и ограничено технологическими метафорами, они часто приходят в восторг от перспективы будущего и хотят знать, каким будет Следующее Большое Открытие и как они смогут применить его в своих исследованиях. Если бы я имел хоть малейшее представление об этом, то был бы очень богат.
Данная книга не является ни историей нейробиологии, ни историей анатомии и физиологии мозга, ни историей изучения сознания, ни историей психологии. Я обращаюсь ко всем перечисленным областям, но мой рассказ несколько отличается – по двум причинам. Во-первых, сосредоточившись на экспериментальных доказательствах, я хочу исследовать богатое разнообразие способов осмысления того, что и как делает мозг. Это немного непохоже на историю академической дисциплины. Вот почему в книге говорится не только о человеческом мозге – мозг других животных, причем не всегда млекопитающих, сыграл существенную роль в изучении того, что же происходит в наших собственных головах.
История понимания мозга содержит повторяющиеся темы и аргументы, некоторые из них до сих пор вызывают интенсивные дискуссии. Один из примеров – вечный спор о том, в какой степени функции локализованы в отдельных областях мозга. Эта идея уходит в прошлое на тысячи лет, и до сегодняшнего дня неоднократно утверждалось, что конкретные участки мозга отвечают за строго определенные навыки, такие как ощущение в руке, способность понимать синтаксис или проявлять самоконтроль. Зачастую подобные гипотезы вскоре бывали уточнены открытием, что другие части мозга могут влиять на эту деятельность или дополнять ее и что рассматриваемая область также участвует в других процессах.
Зачастую идея локализации не отвергалась полностью, но становилась гораздо более размытой, чем первоначально предполагалось. Причина проста. Мозг, в отличие от любой машины, не был сконструирован намеренно, с четким замыслом. Это орган, который эволюционировал более пятисот миллионов лет, поэтому нет никаких оснований ожидать, что он действительно функционирует как механизмы, создаваемые человеком.
Таким образом, несмотря на то что концепция Стенсена – понимание мозга как машины – была невероятно продуктивной, она никогда не даст удовлетворительного и полного объяснения того, как работает мозг.
Взаимодействие технологии и науки о мозге – сквозная мысль данной книги – подчеркивает тот факт, что научное знание встроено в культуру. Следовательно, здесь мы частично затрагиваем вопрос о том, как данные идеи отразились в произведениях Шекспира, Мэри Шелли, Филипа К. Дика и других.
История культуры демонстрирует любопытный факт: метафоры могут работать в обоих направлениях. В XIX веке мозг и нервная система считались телеграфной сетью, а поток сообщений на азбуке Морзе, переданных по телеграфным проводам, описывался в терминах нервной деятельности. Точно так же изобретение компьютера стало очередной аналогией мозга – биологические открытия использовались для обоснования планов Джона фон Неймана[3] по созданию первого цифрового компьютера, а не наоборот.
Вторую причину, почему это не просто история, можно обнаружить на странице содержания. Книга разделена на три части: Прошлое, Настоящее и Будущее. Раздел «Настоящее» описывает развитие наших представлений о мозге на протяжении последних семидесяти лет под эгидой компьютерной метафоры. Вывод данной части заключается в том, что некоторые исследователи чувствуют, как мы приближаемся к тупику в понимании мозга.
Подобное заявление может показаться парадоксальным – мы накапливаем огромное количество данных о структуре и функциях огромного количества мозгов, от самых крошечных до наших собственных. Десятки тысяч исследователей посвящают невообразимое количество времени и энергии размышлениям о том, что делает мозг. А удивительная современная техника позволяет нам описывать мозговую деятельность и манипулировать ей. Каждый день мы слышим о новых открытиях, проливающих свет на работу мозга, наряду с обещанием – или угрозой, – что грядет новая технология, которая позволит совершать нечто невероятное: читать мысли, обнаруживать преступников или даже загружать сознание в компьютер.
Мозг – орган, который эволюционирует более 500 миллионов лет, поэтому не стоит ожидать, что он функционирует как механизмы, создаваемые человеком.
Несмотря на столь многообещающие темпы, у некоторых нейробиологов есть ощущение – судя по публикациям в научных изданиях за последнее десятилетие, – что будущий путь неясен. Трудно понять, что мы должны делать, кроме как просто собирать больше данных или рассчитывать на новейший захватывающий экспериментальный подход. Это не означает, что все настроены пессимистично, – некоторые уверенно утверждают, что применение новых математических методов позволит понять мириады взаимосвязей в человеческом мозге. Другие предпочитают изучать животных, которые совсем на нас не похожи, сосредоточивая внимание на крошечном мозге червя или личинки и используя хорошо зарекомендовавшие себя пути исследования. Они стремятся понять, как работает простая система, а затем применить полученные результаты к более сложным. Многие нейробиологи, если они вообще задумаваются о данной проблеме, просто полагают, что прогресс в любом случае будет постепенным и медленным, потому что нет Никакой Великой Единой Теории Мозга, поджидающей за углом.
Ученые до сих пор не понимают, как образуется наше сознание.
Проблема двоякая. Во-первых, мозг умопомрачительно сложен. Мозг – любой мозг, а не только человеческий, который был центром большей части размышлений, описанных здесь, – является самым сложным объектом в известной нам Вселенной. Астрофизик Мартин Джон Рис заявил, что насекомое сложнее звезды. А для Дарвина мозг муравья, крошечный, но способный порождать такое разнообразное поведение, был «одним из самых удивительных атомов материи в мире, возможно, даже более удивительным, чем мозг человека». Таков масштаб стоящей перед нами задачи.
Отсюда следует второй аспект. Несмотря на шквал данных о мозге, производимых лабораториями по всему миру, наука столкнулась с кризисом идей и сложнейшим вопросом: что делать со всей получаемой информацией и как ее трактовать? Я думаю, это свидетельствует о том, что компьютерная метафора, которая так хорошо служила нам более полувека, возможно, достигла своего предела. Представление о мозге как о телеграфной сети в конечном счете исчерпало себя в XIX веке. Ряд ученых теперь открыто оспаривают эффективность некоторых из наиболее важных технологических метафор мозга и нервной системы, таких как идея о том, что нейронные сети обрабатывают данные из внешнего мира через нейронный код. Судя по всему, научное понимание желает выйти за рамки давно устоявшейся парадигмы.
Может оказаться, что даже в отсутствие новых технологий достижения в области вычислительной техники, в частности связанные с искусственным интеллектом и нейронными сетями – которые частично вдохновлены тем, как работает мозг, – вернутся в наши представления о нем, давая компьютерной метафоре новую жизнь. Возможно. Но, как вы увидите, ведущие исследователи в области глубокого обучения[4] – самой модной и удивительной части современной информатики – радостно признают, что не знают, как их программы выполняют свои задачи. Я не уверен, что вычислительная техника даст нам понимание работы мозга.
Большинство крупных фармацевтических компаний отказались от поиска новых лекарств для лечения депрессии и тревожного расстройства из-за высоких затрат и рисков.
Одним из наиболее трагических признаков нашей исходной неопределенности в отношении мозга является самый настоящий кризис в исследовании психического здоровья.
С 1950-х годов наука и медицина приняли химические подходы к лечению психических заболеваний. Миллиарды долларов были потрачены на создание лекарств, но до сих пор неясно, как работают (и работают ли вообще) многие из широко распространенных препаратов. И фармацевтика пока не может предложить обнадеживающих перспектив.
Большинство крупных фармацевтических компаний отказались от поиска новых лекарств для лечения таких состояний, как депрессия или тревожное расстройство, считая, что и затраты, и риски слишком велики. Ситуация неудивительна: если мы еще не до конца понимаем функционирование мозга даже простейших животных, то вряд ли сможем эффективно реагировать на то, что происходит в голове человека.
Огромное количество энергии и ресурсов тратится на описание мириад связей между нейронами в мозге, создание так называемых коннектомов или, выражаясь более грубо и образно, картирование электрических схем. В настоящее время нет никакой перспективы создания коннектома на клеточном уровне мозга млекопитающих – они слишком сложны, – но карты более низкой четкости уже производятся. Такие усилия необходимы – нам нужно выяснить, как взаимосвязаны части мозга, – но сами по себе они не дадут понимания того, что делает мозг. Не следует также недооценивать, сколько времени это может занять. В настоящее время исследователи разрабатывают функциональный коннектом, который включает в себя все 10 000 клеток мозга личинки. Но я был бы поражен, если бы через пятьдесят лет мы полностью поняли, на что способны эти клетки и их взаимосвязи. С такой точки зрения правильное понимание человеческого мозга, с его десятками миллиардов клеток и невероятной, даже жуткой способностью порождать разум, может показаться недостижимой мечтой. Но наука – единственный способ достижения данной цели, и она в конце концов ее достигнет.
В прошлом было много подобных моментов, когда исследователи мозга не понимали, как действовать дальше. В 1870-х годах, когда сравнение с телеграфом стало менее популярным, в науке о мозге появились сомнения. И многие ученые пришли к выводу, что объяснить природу сознания, вероятно, не удастся никогда. Сто пятьдесят лет спустя мы все еще не понимаем, как возникает сознание, но ученые более уверены, что однажды это станет возможным, даже если предстоят огромные трудности.
Рассматривая, как мыслители прошлого упорно пытались понять функции мозга, мы формируем собственное представление о том, что должны делать сейчас, чтобы достичь той же цели. Нынешнюю неосведомленность следует считать не признаком поражения, а вызовом, способом сосредоточить внимание и ресурсы на том, что необходимо открыть и как разработать программу исследований для поиска ответов. Это тема заключительного, умозрительного раздела, посвященного будущему. Некоторые читатели сочтут его провокационным, но таково мое намерение – спровоцировать размышления о том, что такое мозг, что и как он делает, и, прежде всего, побудить задуматься о том, каким может быть наш следующий шаг даже при отсутствии новых технологических метафор. Это одна из причин, по которой данная книга больше, чем история, и она подчеркивает, почему три самых важных слова в науке – «Мы не знаем».
Манчестер, декабрь 2019 года
Прошлое
История науки довольно сильно отличается от других видов истории, потому что наука в целом прогрессивна – каждая стадия строится на предыдущих открытиях, интегрируя, отвергая или трансформируя их. Безостановочное развитие приводит к ощущению, что мы обладаем все более точным пониманием мира, хотя научное знание никогда не бывает полным и будущие открытия могут развенчать то, что когда-то считалось истиной. Этот основополагающий прогрессивный аспект заставляет многих ученых изображать историю своего предмета как шествие великих людей (и, как правило, мужчин), каждого из которых одобряют, если считают правым, и критикуют – или игнорируют – в противоположном случае. На самом деле история науки – это не череда блестящих теорий и открытий: она полна случайных событий, ошибок и путаницы.
Чтобы правильно понять прошлое, дать полное представление о сегодняшних теориях и концепциях и даже представить себе, что ждет нас в будущем, мы должны помнить, что предшествующие идеи не рассматривались как шаги на пути к нынешней картине мира. Это были полноценные взгляды сами по себе, во всей их сложности и неясности. Каждая идея, какой бы устаревшей она ни казалась, когда-то была современной, захватывающей и новой. Нас могут забавлять странные идеи из прошлого, но снисходительность недопустима. То, что теперь выглядит очевидным, является таким только потому, что предыдущие ошибки, которые обычно трудно обнаружить, в итоге были преодолены с помощью напряженной работы и еще более напряженного мышления.
История науки – это не череда блестящих теорий и открытий, а бесконечное число случайных событий и ошибок.
Мы должны понять не только, где наши предшественники выдвигали ошибочные или, наоборот, кажущиеся теперь невероятными идеи, но и то, почему это происходило. Зачастую двусмысленность, отсутствие ясности в подходе или ряде гипотез на самом деле объясняет причины, по которым они были приняты. Такие неточные теории могут позволить ученым с различными взглядами прийти к общей концепции в ожидании решающих экспериментальных данных.
Мы никогда не должны отвергать прошлые идеи – или людей – как глупые. Когда-нибудь мы сами станем прошлым, и наши идеи, несомненно, покажутся потомкам удивительными и забавными. Мы просто делаем все, что в наших силах, как и наши предшественники. И, как и у предыдущих поколений, выдвигаемые нами идеи находятся под влиянием не только обособленного мира научных данных, но и общего социального и технологического контекста, в котором они развиваются. То, в чем наши теории и интерпретации ошибочны или неадекватны, будет выяснено в ходе будущих экспериментов, и мы все продолжим двигаться дальше. В этом сила науки.
1
Сердце с древнейших времен до XVII века
Научный консенсус состоит в том, что каким-то непонятным для нас образом мысль порождается деятельностью миллиардов клеток самой сложной структуры в изученной Вселенной – человеческом мозге. Как ни удивительно, акцент на мозге, по-видимому, появился относительно недавно. Факты, известные нам из истории, говорят о том, что на протяжении большей части прошлого в качестве основного органа мышления и чувств мы рассматривали сердце, а не мозг. Силу этих старых, донаучных взглядов можно увидеть в повседневном языке – в таких словах и фразах, как «сердце кровью обливается», «разбитое сердце», «от всего сердца» и так далее (подобные примеры можно найти во многих других языках). Устойчивые выражения все еще несут эмоциональный заряд старого мировоззрения, от которого мы якобы отказались, – попробуйте заменить слово «сердце» на «мозг» и посмотрите, что получится.
Самые ранние письменные источники показывают важность данной идеи для древнейших культур. В «Эпосе о Гильгамеше», истории, которой больше 4000 лет, написанной на территории современного Ирака, эмоции и чувства явно жили в сердце. А в индийской «Ригведе», сборнике ведических санскритских гимнов, написанных около 3200 лет назад, сердце является местом зарождения мысли [1]. Камень Шабаки[5], блестящая серая базальтовая плита из Древнего Египта, ныне находящаяся в Британском музее, покрыта иероглифами, рассказывающими древнеегипетский миф возрастом более 3000 лет, сосредоточенный на важной роли сердца в мышлении [2][6]. Ветхий Завет показывает, что примерно в то же время, когда был высечен камень Шабаки, евреи считали сердце источником мысли как у людей, так и у Бога [3].
На протяжении многих веков сердце считалось основным органом мышления и чувств.
Представления о центральной роли сердца существовали также в Америке, где великие империи Центральной Америки – майя (250–900 гг. н. э.) и ацтеки (1400–1500 н. э.) – сосредоточились на сердце как на источнике эмоций и мыслей. Мы также имеем некоторые сведения о верованиях народов Северной и Центральной Америки, не создавших обширных городских культур. В начале XX века американские этнографы работали с коренными жителями, документируя их традиции и верования. Хотя мы не можем быть уверены, что записанные взгляды были типичны для культур, существовавших до прихода европейцев, большинство народов, которые внесли свой вклад в данные исследования, считали, что нечто вроде «души жизни» или эмоционального сознания было связано с сердцем и дыханием. Эта точка зрения была широко распространена от Гренландии до Никарагуа, и ее придерживались народы, живущие в самых разнообразных местах: эскимосы, прибрежные салиши северо-запада Тихого океана и хопи из Аризоны [4].
Подобные взгляды удивительно совпадают с воззрениями швейцарского психоаналитика Карла Юнга, который в начале XX века путешествовал по Нью-Мексико. На крыше одного из белых глинобитных зданий, построенных жителями индейской деревни на высоком плато Таос, Юнг разговаривал со старейшиной Очивай Бьяно из Таос-Пуэбло[7]. Бьяно сказал, что не понимает белых людей и считает их жестокими, беспокойными и тревожными.
– Мы думаем, они сумасшедшие, – сказал старейшина. Заинтригованный Юнг спросил Бьяно, почему он так думает.
– Они говорят, что думают головой, – ответил тот.
– Ну, конечно, а чем вы думаете? – с удивлением поинтересовался Юнг.
– Мы думаем этим, – произнес старейшина, указывая на сердце [5].
Не все культуры разделяют широко распространенную идею о важности сердца. Например, ключевым аспектом мировоззрения аборигенов и жителей островов Торресова пролива в Австралии была (и остается) связь с землей, которая распространяется на представления о разуме и духе. Поиск местозарождения мысли в теле, по-видимому, не является частью их восприятия мира [6].
Точно так же традиционный китайский подход к медицине и анатомии был в основном сосредоточен на взаимодействии ряда сил, а не на локализации функций. Однако когда китайские мыслители пытались определить роль отдельных органов, сердцу отводилась ключевая роль [7]. В «Гуань-цзы», документе, написанном в VII веке до нашей эры, утверждалось, что сердце является главным вместилищем для всех функций тела, включая чувства.
Такие взгляды соответствуют нашему повседневному опыту. Сердце меняет свой ритм вслед за сменой эмоций. А сильные чувства, такие как гнев, похоть или страх, кажется, сосредоточены на одном или нескольких внутренних органах. Эмоции ощущаются во всем теле и преобразуют мысли, как будто переносятся кровью. Вот почему сохранились эти старые выражения о том, что нужно «заглянуть в сердце» и так далее, – они соответствуют тому, как мы воспринимаем важную часть своей внутренней жизни. Так же как и с «очевидностью» факта, что Солнце вращается вокруг Земли, повседневный опыт человеческого существования нашел простое объяснение тому, что мысль рождается в сердце. Люди верили в эту идею, потому что она дарила смысл.
Несмотря на то что сердце часто рассматривалось как центр внутренней жизни, некоторые культуры все же признавали и функциональную роль мозга, даже если это можно обнаружить в результате его травмы. Например, в Древнем Египте несколько писцов создали медицинский документ, известный как «Папирус Эдвина Смита», или «Хирургический папирус» [8]. Рукопись содержит краткое описание извилин мозга и признание того, что повреждение одной стороны головы может сопровождаться параличом противоположной стороны тела. Но для этих писателей, как и для всех древних египтян, сердце все же оставалось вместилищем души и умственной деятельности.
Древние греки первыми распространили взгляды о главенствующей роли сердца.
Известно, что впервые вызов повсеместно распространенным взглядам о главенствующей роли сердца бросили древние греки. В течение трех с половиной столетий, между 600 и 250 годами до н. э., греческие философы сформировали фундамент современного восприятия множества вещей, включая мозг. Древние греки, как и другие народы, полагали, что сердце есть источник чувств и мыслей. Это можно увидеть в эпических устных поэмах, ныне приписываемых Гомеру, которые были созданы между XII и VIII веками до н. э. Точно так же самые ранние зафиксированные идеи философов были сосредоточены на сердце [9]. В V веке до н. э. философ Алкмеон Кротонский не согласился с общепринятой точкой зрения. Алкмеон жил в Кротоне[8], греческом городе близ Италии, и иногда его представляют как врача и отца неврологии, хотя все, что мы знаем о нем и его работе, известно лишь из пересказов. Ни одно из его сочинений не сохранилось: все, что осталось, – это фрагменты, процитированные более поздними мыслителями.
Алкмеона интересовали органы чувств, и это, естественно, заставило его сосредоточиться на голове, где сгруппированы ключевые из них. По словам последующих авторов, философ показал, что глаза и, следовательно, другие органы чувств соединены с мозгом тем, что он называл каналами. По имеющимся сведениям, Аэций, живший через 300 лет после него, сказал, что для Алкмеона «управляющим средством интеллекта является мозг». Неясно, как именно Алкмеон пришел к такому выводу. Позднее предполагали, что он основывал свои идеи не только на самоанализе и философских размышлениях, но и на непосредственном исследовании, хотя доказательств этому нет. Он мог рассечь глазное яблоко (не обязательно человеческое), наблюдать приготовление головы животного или просто использовать свои пальцы, чтобы выяснить, как глаза, язык и нос соединены с внутренними частями черепа животного [10].
Несмотря на эти прозрения, самые ранние недвусмысленные утверждения о центральной роли мозга были записаны через несколько десятилетий после смерти Алкмеона. Они пришли из медицинской школы на острове Кос, самым известным представителем которой был Гиппократ. Многие из работ, созданных Косской медицинской школой, приписываются Гиппократу, хотя настоящие авторы неизвестны. Один из самых значительных документов – трактат «О священной болезни». Он был создан около 400 года до н. э. для неспециалистов и касался эпилепсии. Почему эпилепсия считалась священной или божественной болезнью, неясно [11]. Автор(ы) пишет(ут):
«Всем должно быть известно, что источником удовольствия, веселья, смеха и радости, как и горя, боли, беспокойства и слез, является не что иное, как мозг. Именно этот орган позволяет нам мыслить, видеть и слышать, различать безобразное и прекрасное, плохое и хорошее, приятное и неприятное. …Именно мозг является вместилищем безумия и бреда, страхов и фобий, которые нападают на нас, часто ночью, но иногда даже днем, именно там лежит причина бессонницы и хождения во сне, мыслей, которые не удается ухватить, позабытых обязанностей и эксцентричных поступков» [12].
Приведенный в трактате аргумент был частично основан на какой-то новаторской, но примитивной анатомии («мозг человека, как и у всех других животных, двойной, и тонкая мембрана разделяет его посередине», – утверждал(и) автор(ы)), но он также выявил большую путаницу. Например, в документе утверждалось, что «когда человек втягивает воздух ртом и ноздрями, дыхание идет сначала к мозгу». Предполагалось, что вены транспортируют воздух по всему телу. Причину эпилепсии объясняли так: гумор или жидкость, называемая мокротой, проникает в вены, препятствуя попаданию воздуха в мозг, и таким образом вызывает припадок.
Некоторые люди очень серьезно относились к последствиям локализации эпилепсии в мозге. Аретей из Каппадокии, греческий врач, живший около 150 года до н. э., лечил ее трепанацией – сверлением отверстий в черепе. Данная процедура значилась в европейских медицинских руководствах вплоть до XVIII века [13]. Аретей не изобретал эту операцию. Самые ранние следы медицинского вмешательства, встречающиеся повсеместно, – отверстия, просверленные или выскобленные в черепах людей, возраст которых порой достигает более 10 000 лет [14]. Хотя заманчиво рассматривать доисторическую трепанацию как раннюю форму психохирургии (часто высказывается предположение, что трепанация проводилась с целью выпустить «злых духов»), глобальное господство представлений о сердце как об органе, порождающем мысли, говорит, что это маловероятно. Существуют более убедительные обоснования для такой опасной операции, включая облегчение болезненного внутричерепного кровотечения или удаление костных фрагментов после травмы головы.
Несмотря на доводы Алкмеона и Косской школы, в отсутствие каких-либо доказательств, что мозг действительно является местом зарождения мыслей и чувств, не было никаких оснований предпочесть данное утверждение очевидному объяснению, что все это происходит в сердце. Так, например, один из самых влиятельных греческих философов, Аристотель, отверг идею о том, что мозг играет какую-либо значительную роль в мышлении или движении. Вот что он писал в трактате «О частях животных»:
«Никаких ощущений причиной он [мозг] не служит, как и сам лишен чувствительности. …Источником ощущений является место около сердца… два чувства явно связаны с сердцем – чувство осязания и чувство вкуса»[9].
Аргумент Аристотеля в пользу сердца основывался на очевидных принципах, таких как связь между движением, теплом и мыслью. Философ отмечал, что сердце явно изменяет свою деятельность, когда человек испытывает эмоции, в отличие от мозга, который, по-видимому, ничего не делает. Мыслитель также говорил, что сердце является источником крови, необходимой для ощущений, в то время как мозг собственной крови не содержит. Более того, у всех крупных животных есть сердце, тогда как, – утверждал он, – только у высших животных есть мозг.
Раньше причиной эпилепсии считалась мокрота, которая проникала в вены и препятствовала попаданию воздуха в мозг и таким образом вызывала припадок.
В качестве заключительного доказательства Аристотель указывал на то, что сердце теплое и находится в движении, оба этих свойства рассматривались как существенные признаки жизни; напротив, мозг неподвижен и холоден [15]. Поскольку не было никаких фактических доказательств связи между мышлением и мозгом, логические аргументы Аристотеля казались столь же обоснованными, как и те, что можно найти в трудах мыслителей Косской школы. Выбора между ними не было. В других частях планеты все шло по-прежнему: для подавляющего большинства людей главным органом оставалось сердце.
После смерти Аристотеля новое понимание роли мозга пришло из Александрии, расположенной на западном краю дельты Нила, в Египте, управляемом греками. С сетью улиц, подземным водопроводом и многокультурным населением этот город был одним из самых значительных центров греко-римского мира. Среди тех, кто извлекал пользу из цветущей интеллектуальной атмосферы города, были два ведущих грека-анатома того времени – Герофил из Халкидона и Эрасистрат из Кеоса [16]. Оба они работали в Александрии.
Ни одно из сочинений Герофила и Эрасистрата не сохранилось, но последующие авторы утверждали, что они совершили важные открытия, касавшиеся структуры мозга. Причина научных прорывов в Александрии заключалась в том, что в течение короткого периода времени и, по-видимому, впервые в истории там было разрешено вскрытие человеческих тел. Говорят даже, что преступники, приговоренные к смерти, подвергались вивисекции[10] при ужасающих обстоятельствах[11].
Почему именно в Александрии было разрешено вскрытие, а не где-либо еще, неясно, но, как бы то ни было, врачи в городе добились значительных анатомических успехов в вопросах изучения строения и функционирования печени, глаза и кровеносной системы. Они даже описывали сердце как насос. Непосредственное изучение анатомии человека позволило Герофилу и Эрасистрату значительно продвинуться в области познания мозга и нервной системы. Герофил предполжительно описал анатомию двух ключевых составляющих человеческого мозга: коры (двух больших долей мозга) и мозжечка, находящегося под затылочными долями больших полушарий, – его древнегреческий анатом считал местом зарождения разума. Герофил также оставил сведения о спинном мозге и о том, как ветвятся нервы. Говорят, что он различал сенсорные нервы, связанные с органами чувств, и двигательные нервы, управляющие поведением. Герофил также развивал теорию ощущений, полагая, что зрительный нерв имеет внутри полость, через которую движется воздух [17]. Эрасистрат, по-видимому, придерживался другого подхода и, сравнивая человеческий мозг с мозгом оленя и зайца, пришел к выводу, что своим выдающимся интеллектом человек обязан большей усложненности мозговой структуры, о чем свидетельствуют извилины больших полушарий.
Предполагают, что в Александрии впервые в истории было разрешено вскрытие человеческих тел.
Медицинские труды Герофила и Эрасистрата хоть и были удивительно точны, но так и не разрешили вопроса о том, что является местом мысли и чувств: сердце или мозг. Они лишь продемонстрировали, что мозг сложен. Взгляд Аристотеля на сердце оставался чрезвычайно влиятельным, отчасти из-за сильного авторитета философа, но прежде всего потому, что эта гипотеза соответствовала повседневному опыту.
Прошло еще 400 лет, прежде чем были получены решающие доказательства главенствующей роли мозга благодаря работе одного из самых выдающихся мыслителей в истории западной цивилизации – Галена. Римлянин Гален родился в 129 году н. э. в богатой семье в городе Пергам, на территории современной западной Турции [18]. Хотя сегодня он известен главным образом как писатель по медицинским вопросам – его идеи формировали западную медицину и культуру в течение 1500 лет, – на самом деле Гален был одним из крупнейших древнеримских мыслителей, создавшим огромное количество философских трактатов и написавшим много томов поэзии и прозы [19].
Гален путешествовал по всему восточному Средиземноморью и учился в разных местах, включая Александрию, но важнейшие годы жизни провел в Риме. Он прибыл туда в 162 году н. э., в возрасте тридцати двух лет, после четырехлетней службы в качестве врача гладиаторов в Пергаме. Излечивая бойцов, Гален успел многое узнать о человеческом теле. Вскоре он стал модным римским врачом, посещал некоторых влиятельных лиц города, включая императора Марка Аврелия, и приобрел репутацию блестящего анатома, который имел вкус к полемическим спорам. Для демонстрации своих открытий Гален использовал лекции-комментарии, на которых он одновременно давал анатомические сведения и показывал все на животном. Слушатели на таких лекциях становились свидетелями-очевидцами выступления Галена и тем самым подтверждали правоту его заявлений – непосредственный опыт в процессе достижения понимания, по мнению мыслителя, крайне важен. (Ниже представлено довольно мрачное объяснение того, как Гален пришел к некоторым из своих выводов. Если вы брезгливы, то можете пропустить следующие три абзаца.)
Гален советовал не использовать обезьян в анатомических экспериментах, так как в процессе выражение их морд было очень отпугивающим.
Одним из ключевых вопросов, интересовавших врача, была роль мозга и локализация мысли и души – ученый уверенно полагал, что мозг имеет важнейшее значение для поведения и мышления и что это можно доказать экспериментами на животных. Соответственно никакой анестезии в то время не было. Гален не был равнодушен к тем ужасам, которые сам же и учинял, – он советовал не использовать обезьян, так как выражение их морды во время эксперимента было слишком страшным. Хотя ученый не соглашался с теми, кто утверждал, что животным недостает части души, связанной с гневом и желанием, он ничего не говорил о боли – боль не встречается в описаниях его работ [20].
Пожалуй, самый решительный эксперимент Галена был посвящен изучению роли нервов в порождении звуков. Опыт проводился на свинье, потому что «животное, которое визжит громче всех, наиболее удобно для экспериментов, в которых голосу причиняется вред» [21]. Гален разрезал плоть бедной свиньи, привязанной спиной к столу и с крепко замотанной мордой, и обнажил возвратные гортанные нервы, идущие вдоль шеи, по обе стороны от сонной артерии. Если он туго обвязывал нервы ниткой, приглушенный визг животного прекращался; если ослаблял ее, звук возвращался. Хотя визг явно производился гортанью, что-то, казалось, двигалось от мозга по нервам вниз.
Это понимание подкрепило одно из наиболее зрелищных выступлений Галена, во время которого он обосновал важность мозга, непосредственно бросив вызов оппонентам и последствиям их взглядов о центральной роли сердца. Вскрыв живое подопытное животное, Гален заставил своего противника сжать сердце зверя и не давать ему биться. Даже когда сердце остановилось, бедное создание продолжало приглушенно скулить, демонстрируя, что движение сердца не обязательно для того, чтобы животное издавало звуки. Но когда Гален вскрыл череп и заставил своего соперника надавить на мозг, животное немедленно перестало шуметь и потеряло сознание. Ослабив давление, Гален доложил: «Животное приходит в сознание и снова может двигаться». Это, должно быть, очень удивило зрителей. Как выразилась историк Мод Глисон, «анатомические выступления Галена все меньше и меньше напоминали интеллектуальные споры и больше – магическое шоу» [22].
На основании полученных данных – подтвержденных многочисленными анатомическими описаниями и хирургическими вмешательствами, в том числе и на пациентах, – Гален убедился, что мозг – это центр мысли. Он утверждал, что мозг вырабатывает особый вид воздуха, или пневмы, который просачивается наружу, если мозг поврежден, и вызывает обморок. Когда накапливается достаточное количество этого воздуха, сознание возвращается. По словам Галена, движение тела является следствием движения воздуха, производимого мозгом и двигающегося по полым нервам. Его анатомические исследования – в основном на животных, а не на людях – показали, что все нервы берут начало в мозге, а не в сердце, как утверждал Аристотель.
Несмотря на доказательства, представленные Галеном, авторитет таких мыслителей, как Аристотель, и сила повседневного опыта не позволили взглядам о центральной роли мозга вытеснить старые идеи даже в Риме. Гален оставил огромный объем работ – около 400 трактатов, из которых сохранилось более 170, охватывающих весь спектр медицины и естественных наук. Но падение Римской империи привело к разрушению интеллектуальной среды, в которой могли бы осуществиться дальнейшие открытия. Просто раздумья о том, откуда происходит мысль, никогда не решат проблему. Как видно из работ Галена, это потребует анатомического и экспериментального исследования, которое, в свою очередь, возможно только при условии интеллектуальной открытости и учета уже достигнутых успехов и неудач в масштабном круговороте идей. Подобных условий не создадут еще несколько столетий.
Значительная часть культурного наследия Рима и Греции была сохранена в библиотеках Восточной Римской империи с центром в Византии (современный Стамбул). Начиная с VII века появление различных халифатов, связанных с подъемом ислама, привело к созданию культуры, которая распространилась во Францию на западе, в Болгарию на севере и в Туркменистан и Афганистан на востоке. Исламское общество высоко ценило знания и технические навыки, и для удовлетворения аппетитов новых господствующих классов и правящих групп строились мосты и каналы, составлялись гороскопы, изготавливались бумага и стекло. Все это требовало повторного открытия старой мудрости или развития новых идей [23].
Сначала грянула волна переводов греческих и римских текстов, которые можно было найти в персидских или византийских библиотеках, – эти усилия были сосредоточены в Багдаде и спонсировались халифами и богатыми купцами. Идеи, содержащиеся в переведенных документах, были вскоре расширены, поскольку восточные мыслители разработали совершенно новые области знаний, такие как алгебра, астрономия, оптика и химия. Но медицина и анатомия оставались прочно укорененными в греческих и римских воззрениях и привязанными к переводимым текстам. В частности, рассуждения о роли сердца и мозга, существовавшие со времен Аристотеля и Гиппократа, передавались из поколения в поколение более или менее в неизменном виде.
Одним из ведущих врачей и философов этого периода был Абу Али Хусейн ибн Абдуллах ибн аль-Хасан ибн Али ибн Сина, известный на Западе как Авиценна. Родившийся в 980 году в небольшом селении Афшана (сейчас относится к Бухарской области в Узбекистане), Авиценна жил на территории современного Ирана и написал сотни книг. Его творчество сочетало греческое и арабское мышление наряду с методами лечения и диагностики из таких далеких мест, как Индия. Труды Авиценны, переведенные на латынь в XII веке, оказывали глубокое влияние на западную медицину в течение 500 лет. Авиценна согласился с утверждением Галена, что нервы происходят из головного или спинного мозга, но настаивал, подобно Аристотелю, что первоисточником всех движений и ощущений тем не менее является сердце [24]. Эта точка зрения также согласуется с Кораном, который часто ссылается на сердце как на источник понимания и, как и Библия, вообще не содержит никакого упоминания о мозге.
Другой путь, по которому идеи Галена передавались в рассматриваемый период, был связан с работой врача X века Али ибн аль-Аббас аль-Маджуси, известного на Западе как Али Аббас. Историк описал его как «перса, взявшего арабское имя и писавшего на языке Корана, зороастрийца, воспитанного греческими традициями, мыслителя из исламского мира, принятого западной латинской общиной менее чем через столетие после его смерти». Дабы подчеркнуть космополитическую «смесь» этого периода, добавлю, что работу Али Аббаса впоследствии перевел на латынь в Италии христианский монах, который был беженцем-мусульманином из Северной Африки [25].
Теория локализации желудочков, проиллюстрированная Грегором Райшем в 1504 году. Восприятие и воображение расположены спереди, мышление – в центре, а память – сзади
Среди трудов Галена, переведенных Али Аббасом, были работы, касавшиеся структуры и роли мозга: «Мозг является главным органом психических членов. Ибо в мозгу заключены память, разум и интеллект, а из мозга распределяются сила, ощущение и произвольное движение» [26].
Али Аббас также выдвинул идею, не встречавшуюся у Галена, – он утверждал, что три полости или желудочки мозга полны «животных духов»[12], которые были созданы в сердце и перенесены в кровь. Каждый из желудочков, по его словам, имеет свою психологическую функцию: «Животный дух в передних желудочках создает ощущение и воображение, животный дух в среднем желудочке становится интеллектом или разумом, а животный дух, передаваемый в задний желудочек, производит движение и память».
Несмотря на отсутствие доказательств, данная идея активно распространялась по всей Европе и Ближнему Востоку на протяжении более тысячи лет [27]. Впервые она появилась в IV веке в трудах епископа Немесия Эмесского[13] из Сирии, а несколько десятилетий спустя была кратко упомянута Аврелием Августином[14]. Таким образом, идея получила религиозное одобрение, что помогло сохранить ее популярность [28]. На протяжении более 1200 лет предположение о желудочковой локализации сохраняло свои позиции и воспринималось как само собой разумеющееся сведение. Между IV и XVI веками были выдвинуты по меньшей мере двадцать четыре различные версии этой концепции [29]. Среди тех, кто безоговорочно принял ее, были некоторые из величайших мыслителей Европы и арабского мира, включая Леонардо да Винчи, Роджера Бэкона, Фому Аквинского, Ибн Рушда (Аверроэс) и Авиценну.
К началу XIII века латинские переводы сочинений Авиценны (в том числе его непростая теория желудочковой локализации и происхождения всех мыслей и эмоций из сердца) доминировали в новых университетах Европы. Хотя Салернская врачебная школа[15] распространяла версию Али Абасса, основанную на идеях Галена о центральной роли мозга, в конце концов одобрили все же идеи Авиценны, потому что они основывались на философии Аристотеля. Представления Аристотеля главенствовали в европейском мышлении отчасти благодаря трудам доминиканского монаха Фомы Аквинского, который на протяжении столетий являлся ключевой фигурой западной интеллектуальной жизни. Фома Аквинский стремился синтезировать идеи Аристотеля с христианством, сплавляя религиозную догму с противоречивыми воззрениями древних язычников. Области научного понимания, которые должны были находиться в центре эмпирических исследований (к примеру, анатомия), оказались окутаны туманом религиозности, причем теологи играли решающую роль в передаче знаний и определении границ приемлемого.
Читатели новых переводных текстов хорошо знали разницу между позицией Авиценны и Аристотеля, отводящих центральную роль сердцу, и ориентированными на мозг концепциями Салернской школы и Галена, а также были знакомы с различными попытками мыслителей найти в этом вопросе золотую середину. В XIII веке, например, Альберт Великий[16] пытался добиться невозможного, доказывая, что Гален был неправ и что все нервы действительно происходят из сердца, как сказал Аристотель [30]. Современный ответ на столь противоречивые утверждения состоял бы в прямых наблюдениях. Решение в Средние века было схоластическим и теоретическим: мыслители стремились примирить противоположные взгляды своих почитаемых предшественников путем тщательного текстологического анализа, а не экспериментов.
Но в начале XIV века власть средневековой схоластики над анатомическим знанием несколько ослабла в Болонской медицинской школе, где Мондино де Луцци был профессором медицины и анатомии. Мондино создал рукопись под названием Anatomia Mundini («Анатомия Мондино»), в основу которой лег его опыт вскрытия человеческого тела – первый подобный отчет со времен Эрасистрата и Герофила, работавших в Александрии более 1500 лет назад.
Изменения моральных и социальных норм начала XIV века, позволившие Мондино проводить вскрытия, не вполне ясны. Трупы, которые он препарировал, по-видимому, принадлежали преступникам. Инструкции по вскрытию начинаются так: «Труп человека, убитого путем обезглавливания или повешения, помещают в лежачее положение» [31]. Стоит сказать, что были и прецеденты: в XII веке в Салерно проводились вскрытия животных, а в Болонье в предыдущие десятилетия имели место посмертные исследования, позволявшие установить причину смерти. Таким образом, включение Anatomia Mundini в подготовку врачей, возможно, в большей степени воспринималось как очевидное развитие, а не как смелое новшество [32]. Это привело к разрыву с религиозным учением – препарирование не было запрещено ни христианской, ни исламской теологией. Некоторые арабские тексты IX и XII веков порицают расчленение. Но в целом кажется, что ученые, которые открыли и перевели труды Галена и Аристотеля, были удовлетворены содержащимися в этих работах знаниями и не стремились сравнивать взгляды древних предшественников с собственными наблюдениями [33.] Теперь все начало меняться. И в отличие от короткого периода в Александрии более 1500 лет назад, отношение к вскрытию поменялось окончательно, по крайней мере в Западной Европе.
В XII веке в Салерно проводились вскрытия животных, а в Болонье исследовали трупы для установления причины смерти.
Решающим стал не сам факт, что Мондино заглянул внутрь мертвого тела, а то, что этим он показал важность самостоятельного изучения. Представления о человеческом теле можно проверить, а знания можно получить независимо, не копируя слепо древние трактаты, – данная мысль в конечном счете окажется революционной. Однако, хотя метод Мондино и был радикальным, его наблюдения таковыми не являлись – ученый просто повторил взгляды Галена относительно анатомических структур и добавил аристотелевскую интерпретацию их функции, согласно которой сердце было источником движения, включая голос [34].
«Анатомия Мондино» показала, что препарирование – это потенциальный инструмент для понимания человеческого тела, но работа самого ученого существенно на науку не повлияла. В мире до изобретения печати мысли распространялись медленно. Текстуальные свидетельства древних считались решающими – начиная с Библии и заканчивая текстами, которые Фома Аквинский и другие церковные лидеры включили в свою теологию. Вера, а не факт все еще оставалась сущностью знания и формировала основу европейской интеллектуальной жизни.
Начиная с XV века темпы культурных и технологических изменений в Европе внезапно ускорились. Этот период традиционно называют Ренессансом и первой научной революцией. Историки до сих пор спорят о том, что могло вызвать эти изменения и произошли ли они вообще. Европейское изобретение книгопечатания (через несколько сотен лет после китайского изобретения подвижного шрифта) изменило распределение знаний[17]. Переводы Библии на национальные языки и развитие протестантизма поощряли идею о том, что знание о мире доступно непосредственно отдельным людям, а не обязательно закреплено за неким авторитетом. Революции в Нидерландах и Англии свергли старую аристократическую власть, освободив политическое, социальное и экономическое пространство для новых классов с более радикальными взглядами на мир. Между тем открытие Америки европейцами и появление новых болезней, таких как сифилис, подорвали веру в древние тексты, которые были малополезны в попытках понять бурную смену событий. Наконец, изобретение телескопа и микроскопа открыло невообразимые до сих пор миры, в то время как технологические разработки, наподобие поршневого насоса и часового механизма, подарили человеку новые убедительные метафоры, которые, казалось, объясняли все: от движения звезд до человеческого тела.
В 1543 году были опубликованы две книги, в совершенно разных масштабах изменившие наш взгляд на Вселенную и ее обитателей. В первой книге – работе Николая Коперника «О вращении небесных сфер» (De Revolutionibus Orbium Coelestium) – излагалась математическая модель, согласно которой Земля вращается вокруг Солнца. Для расчетов ученый использовал теоремы, разработанные арабскими астрономами более двух веков назад. Второй книгой был научный труд Андреаса Везалия «О строении человеческого тела» (De Humani Corporis Fabrica). Семитомная и семисотстраничная работа объединила знания и эстетику, представив читателям самое точное из существовавших на тот момент описание анатомии человека. Везалий в полной мере использовал мощь книгопечатания, обогатив текст более чем 200 поразительными иллюстрациями в технике ксилографии[18], основанными на вскрытии человеческих тел. Везалий, профессор медицины в Падуе, создал поистине революционную работу. И она стала таковой не только из-за знаний, которые в ней содержались, но и из-за того, как эти знания были получены и представлены читателю.
«Анатомия Мондино» показала, что препарирование – это потенциальный инструмент для понимания человеческого тела.
В предыдущие десятилетия другие авторы, такие как Якопо Беренгарио да Карпи, опубликовали иллюстрированные описания анатомии человека на основе вскрытий, но пособие не отличалось ни особым графическим мастерством, ни анатомически точным изображеним деталей [35]. Были даже прецеденты вскрытия мозга: в 1517 году немецкий военный хирург Ганс фон Герсдорф подготовил лист с шестью небольшими рисунками коры головного мозга на разных стадиях рассечения. А в 1538 году Иоганн Дрюандер из Марбурга опубликовал одиннадцать гравюр, изображающих вскрытие мозга, правда, в относительно упрощенном виде [36]. Шедевр Везалия 1543 года был совершенно иного качества. Ничего подобного никто раньше не видел.
Каждая из книг в трактате «О строении человеческого тела» была посвящена различным системам организма (костям, мышцам, внутренним органам и так далее). Последняя книга объемом в шестьдесят страниц рассказывала о мозге и содержала одиннадцать рисунков открытого черепа. По-видимому, «натурой» для изображений послужили головы по меньшей мере шести человек [37]. Хотя гравюры мозга кажутся невероятно натуралистичными и точными, как и остальная часть работы, они очень избирательны и представляют лишь то, что можно увидеть невооруженным глазом [38]. Тем не менее трактат ознаменовал собой огромный прорыв в анатомическом знании. Например, Везалий сообщал, что не может наблюдать rete mirabile – сеть кровеносных сосудов, которая, как утверждал Гален, позволяла «животным духам» проникать в мозг. Везалий дерзко – и точно – пришел к выводу, что Гален ошибался и данной структуры в человеческом организме нет [39]. Студенты, утверждал он, должны присутствовать на вскрытии, внимательно смотреть «и в будущем меньше верить в книги по анатомии» [40]. Свое опровержение идеи Галена Везалий превратил в призыв к новому способу изучения тела.
Везалий также бился над разгадкой того, что все это может означать, как на самом деле функционирует человеческий организм, и в особенности мозг. В тот же момент скальпель, по понятным причинам, подвел ученого. Тщательное вскрытие человеческого тела могло выявить структуры, но, кроме тривиальных случаев (кости, сухожилия и нервы), не давало никакого реального понимания функций. Трудности интерпретации были особенно велики, когда дело доходило до поиска истоков поведения людей и наших различий с животными. Проблема, объяснял Везалий, заключалась в том, что при анализе образцов не обнаружилось «никакой разницы между структурой мозга животных и человеческим мозгом в тех частях, которые [он] препарировал у овцы, козы, коровы, кошки, обезьяны, собаки и птицы» [41].
Вскрытие человеческого мозга Везалием
Хотя Везалий отметил, что мозг человека пропорционально был намного больше, чем у других животных, ученый не смог найти качественного различия между строением мозга человека и других позвоночных. Что бы ни вызывало очевидные поведенческие и психологические различия между человеком и животными – Везалий этого не увидел. Хотя его вскрытия не могли дать объяснения того, как работает мозг, они позволили предположить, что доминирующая желудочковая теория может быть ошибочной – желудочки, казалось, были «не более чем полостями или проходами». Не имея лучшего объяснения принципов работы мозга, Везалий заключил, что «ничего не следует говорить о расположении в мозгу аспектов высшего духа», и набросился на теологов, которые осмелились локализовать их. Он описывал подобные идеи как «ложь и чудовищную фальшь». Мозг – крепкий орешек.
Все исследования Везалия основывались на мысли, что именно мозг, а не сердце является источником мысли и движения.
Везалий считал, что именно мозг, а не сердце является источником мысли и движения.
Доказательства этого предположения на самом деле были довольно скудными – единственное экспериментальное подтверждение получил Гален более 1200 лет назад. Спустя три десятилетия после смерти Везалия Андре дю Лоренс, профессор Университета Монпелье и врач Генриха IV, французского короля, не мог сделать ничего, кроме как утвердить свою веру в роль мозга:
«Следовательно, я утверждаю, что главное вместилище души находится в мозге, потому что там живут самые добрые силы и наиболее ясно проявляются самые достойные действия. Все инструменты движения, чувства, воображения, речи и памяти находятся в мозге или непосредственно зависят от него»[19] [42].
Что же касается роли желудочков, то дю Лоренс осторожно обошел данный вопрос, просто заявив, что он «не вполне решен».
Все эти робкие шаги к пониманию роли мозга в порождении мысли показывают, что не было ни одного «мозгоцентрического момента», когда мыслители осознали, что мозг, а не сердце является ключевым органом. Очевидная сложность мозга по сравнению с сердцем ясно указывала, где могут располагаться мысли и эмоции. Но из-за влиятельности традиции и силы повседневного опыта некоторые из величайших мыслителей XVI и XVII веков придерживались противоречивых взглядов. Замешательство, которое чувствовали многие, было прекрасно подытожено Шекспиром в одной из песен из третьего акта «Венецианского купца»:
- Скажи мне, где любви начало?
- Ум, сердце ль жизнь ей даровало?[20]
2
Силы. XVII–XVIII века
В течение XVII столетия европейские мыслители все больше убеждались в том, что ответ на вопрос Шекспира определенно находился «в голове», а точнее, в мозге. Изменение отношения шло медленно и сложно – не было ни одного эксперимента или вскрытия, которые разрешили бы вопрос в пользу мозга. Вместо этого постепенно накапливались знания и концепции, и все они отводили мозгу определенную роль, хотя старые и новые идеи продолжали сосуществовать. Например, в 1620-х годах Уильям Гарвей показал, что «сердце – это просто мышца», как несколько десятилетий спустя выразился датский анатом Нильс Стенсен [1]. Хотя Гарвей признавал сложность мозга, называя его «органом ощущений» и «богатейшим членом тела», он также чувствовал, что Аристотель был прав и что кровь несет в себе некий таинственный дух, порождаемый сердцем. Неопределенность взглядов Гарвея свидетельствует об отсутствии решающих доказательств в то время.
Философ решил не публиковать свои идеи, после того как католическая церковь в 1633 году осудила Галилея[21].
Достоянием общественности работы Декарта стали посмертно – в 1662 году [2]. Как и многие другие мыслители, Декарт отверг предположение, что сердце было вместилищем страстей, как «не стоящее серьезного рассмотрения» [3]. Его взгляд на мозг был гораздо более современным. Согласно Декарту, тела животных функционируют так, как будто они являются машинами.
В 1620-х годах Уильям Гарвей показал, что «сердце – это просто мышца».
Он даже рассматривал животных как bêtes machines («животные машины» или еще драматичнее – «машины-звери») – и отводил главную роль мозгу [4]. Люди отличаются от других животных прежде всего тем, что обладают душой и пользуются языком. А основное анатомическое различие между мозгом человека и обезьяны, скажем, связано с шишковидной железой, структурой размером с горошину в основании мозга.
Декарт утверждал, что шишковидная железа есть только у человека и что она порождает «животные духи» из крови, которая поступает к ней через сердце, тем самым обеспечивая взаимодействие между разумом и телом. Это было место, где, согласно Декарту, взаимодействовали две фундаментальные части Вселенной: res extensa (вещь материальная, материя) и res cogitans (вещь мыслящая, разум или дух).
Этот акцент на шишковидной железе был основан на смеси утверждений и сомнительных анатомических свидетельств. Декарт полагал, что нервы, проецирующие сигналы вверх, в кору головного мозга, позволяют шишковидной железе раскачиваться и таким образом реагировать на восприятие различных объектов, двигаясь «настолько различными способами, сколько существует воспринимаемых различий в объектах» [5]. Таких нервов не существует, и, как только в 1660-х годах стало известно об ошибке, анатомы без труда показали, что эта якобы уникальная человеческая структура встречается у всех позвоночных.
Одной из идей Декарта, ставшей общепринятой на длительное время, было объяснение того, как «животные духи» движутся по нервам.
Люди отличаются от животных прежде всего тем, что обладают душой и используют речь.
Как и многие другие, философ полагал, что они текучи и двигаются быстро. Но в отличие от предыдущих мыслителей Декарт нашел объяснение тому, как «животные духи» могли вызывать разное поведение: он обнаружил сходные процессы в действии гидравлических автоматов, модных во французских королевских садах в то время. Эти движущиеся статуи зловеще появлялись из растительности, играли на инструментах или даже говорили, когда вода и воздух проходили через их металлические тела. Декарт провел явную параллель между такими автоматами и поведением людей и животных:
«Действительно, можно сравнить нервы машины, которую я описываю, с трубами этих фонтанов, мышцы и сухожилия – с различными устройствами и пружинами, приводящими их в движение, животный дух – с водой, которая заставляет их двигаться, сердце – с источником воды, а полости мозга – с резервуарами для хранения» [6].
Взгляд Декарта на то, как происходит движение
Декарт использовал эту модель для описания происхождения простых форм поведения – того, что мы назвали бы рефлексами[22] [7]. Он изобразил фигуру, похожую на гигантского ребенка, убирающего ногу от огня, потому что духи переместились от ступни по нерву вверх, в мозг, а затем снова вниз, к мышцам ноги. Это был решительный шаг вперед по сравнению с предыдущими, довольно туманными объяснениями поведения человека и функций нервов. На протяжении тысячелетий мыслители предполагали, что «духи» движутся подобно жидкости или ветру – быстрота и неосязаемость этих форм движения делали их привлекательными аналогиями.
Организация гидравлической энергии в автоматах была гораздо более убедительной метафорой, но, несмотря на ее важность, все еще существовали широко распространенные разногласия относительно того, из чего состоят «духи» в нервах, и сбивающие с толку идеи Галена о нервном воздухе, или пневме, не очень помогли[23]. Стенсен указывает на данную проблему в 1665 году:
«Может быть, это особая субстанция, отделенная от… желез? Не могут ли серозные вещества быть их источником? Некоторые сравнивают их с винным спиртом и подозревают, что на самом деле они состоят из вещества, подобного свету. Короче говоря, стандартные вскрытия не могут прояснить ни одной из упомянутых трудностей, связанных с животными духами» [8].
Уверенный отказ Стенсена от всех существующих описаний функционирования нервов был частично основан на работе с использованием новейшей технологии – микроскопа. Его друг, голландский микроскопист Ян Сваммердам, и итальянский анатом Марчелло Мальпиги изучали содержимое нервов и согласились, что в них нет ни жидкости, ни воздуха. Сваммердам считал такие идеи бесполезными и абсурдными [9].
Экспериментальные доказательства, опровергающие «гидравлическую» гипотезу Декарта, появились, когда Сваммердам показал, что, если он погладит ножницами наружную сторону рассеченного нерва лягушки, прикрепленная мышца сократится. Этот результат, как утверждал ученый, «применим ко всем движениям мышц у людей и животных». Что бы ни происходило в нервах при ответной реакции, это было совсем не похоже на движущуюся воду в гидравлических автоматах Декарта. То же самое наблюдалось, даже если конец нерва перереза́ли, тем самым позволяя любому жидкому или газообразному «духу» вырваться. Сваммердам писал: «Чтобы побудить мышцу к действию, достаточно лишь простого и естественного движения или раздражения нерва, независимо от того, где он берет начало: в головном, костном мозге или где-либо еще».
Хотя Сваммердам был убежден, что истинное объяснение функционирования нервов «погребено в непроницаемой тьме», он был открыт к размышлениям, построенным вокруг новой метафоры:
«Экспериментально нельзя доказать, что какая-либо материя разумного или понятного объема течет по нервам к мышцам. И ничто другое не проходит от нервов к мышцам: все это суть очень стремительное движение, настолько быстрое, что правильнее назвать его мгновенным. Поэтому дух, как его именуют, или ту тонкую материю, что в один миг пролетает по нервам в мышцы, можно по праву сравнить с молниеносным движением, которое, когда по одному концу длинной балки или доски ударяют пальцем, бежит с такой скоростью по дереву, что почти тотчас же воспринимается на другом конце».
Эксперимент Сваммердама, показывающий, что прикосновение к нерву лягушки (с) металлическими ножницами заставляет мышцу (а) сокращаться, переводя булавки (b) в определенное положение (d)
Вместо этого, казалось, было задействовано какое-то неосязаемое движение – раздражение нерва вызывало практически мгновенную мышечную реакцию, подобную вибрации. Сваммердам нащупывал подходящие метафоры, но главное, что он обнаружил ошибочность предыдущих объяснений и выяснил, что можно производить движение искусственно, путем физической стимуляции нерва.
Одновременно с изучением функционирования нервов проводились новые исследования мозга, поскольку анатомы откликнулись на идеи Декарта. Вероятно, наиболее значительный вклад внес Томас Уиллис[24], известный врач из Оксфорда. Его любящий посплетничать современник Джон Обри обрисовал Уиллиса в двух словах: «Среднего роста, похож на рыжую свинью, сильно заикается» [10]. Под влиянием Роберта Бойля, интеллектуального лидера недавно основанного Лондонского королевского общества[25], в начале 1660-х годов Уиллис начал набрасывать материалистические объяснения проблем психического здоровья, которые, по его мнению, берут начало в мозге [11].
В 1664 году Уиллис опубликовал книгу на латыни с описанием анатомии мозга, которую прекрасно проиллюстрировал его друг Кристофер Рен[26]. В течение следующих двух десятилетий книга выдержала восемь изданий и была опубликована в Амстердаме, Женеве, а также в Лондоне. Английский перевод 1684 года оказался неудобопонятным, во-первых, из-за архаичного языка, а во-вторых, в силу латыни Уиллиса, которая, по мнению требовательного специалиста по истории сравнительной анатомии Ф. Дж. Коула, была «элегантной, но запутанной». Коул полагает, что Уиллис не обладал даром «выражаться четко и ясно» и был склонен к «тонкостям спекулятивного диспута» [12]. Откровенно говоря, Уиллис и сам не вполне понимал, что именно он думает.
Уиллис описал результаты масштабной программы вскрытия, которая намного превзошла декартовскую. Помимо человеческого мозга, его исследования включали «гекатомбы»[27] животных: лошадей, овец, телят, коз, свиней, кошек, лис, зайцев, гусей, индеек, рыб и обезьян [13].
В результате многочисленных вскрытий и использования чернил, вводимых в кровеносные сосуды для выявления связи между областями мозга, Уиллис сделал вывод, что именно вещество самого мозга дает возможность мыслить, а не желудочки, которые являются просто «пустотой, возникающей в результате смыкания его внешней границы» [14]. Как и предполагал Везалий, они были не более чем заполненными жидкостью пространствами.
Для Уиллиса структурная сложность материи мозга, которую он беспомощно описывал как извилистый или причудливо изогнутый кривошипный механизм, отражала его функциональную организацию. Память можно было найти в извилинах коры головного мозга, утверждал он, а мозжечок отвечал за непроизвольные действия, такие как сердцебиение, и встречался у большинства позвоночных.
Уиллис пришел к таким выводам главным образом на основе обширной сравнительной анатомии и наблюдаемых связей между областями мозга и различными частями тела. У людей поверхность мозга очень сложна, с множеством извилин, в то время как у кошек она проще, а у рыб и птиц – тем более.
Уиллис соотнес обнаруженные особенности с различными умственными способностями: «У человека этих складок и извилин гораздо больше, чем у любого другого живого существа; они нужны человеку для различных и разнообразных проявлений высших пособностей».
Уиллис утверждал, что в случае зрительного восприятия «чувственное впечатление»[28], созданное в глазу, будет перенесено «волновым движением или колебанием воды» в головной мозг, где «возникнет» восприятие. Память об образе будет локализована во внешних слоях или коре головного мозга, а воображение по неопределенным причинам – в мозолистом теле[29]. «Животные духи», согласно Уиллису, рождались в коре головного мозга, которая превращала в дух что-то в крови. Он полагал, что кровь и сердце являются источниками основных признаков жизни, как это утверждали мыслители на протяжении тысячелетий. Что касается того, как «духи» формируют поведение, ученый выражался туманно. Они «вступают в другие движения и различные способы эманаций[30]», писал Уиллис, и «разворачиваются», «рассеиваются», «идут вперед», а в итоге «производят акты Воображения, Памяти, Аппетита и другие высшие способности Души».
Известный врач Уиллис полагал, что кровь и сердце являются источниками основных признаков жизни.
Несмотря на анатомическую точность Уиллиса, его представления о том, как работает мозг, были чистыми домыслами. Спустя несколько месяцев после выхода книги Уиллиса Нильс Стенсен посетил Париж, прибыв по приглашению своего покровителя – богатого, влиятельного французского библиофила и бывшего шпиона Мельхиседека Тевено [15]. В начале 1665 года блестящий, но напряженный 27-летний датчанин читал лекцию о мозге в загородном доме Тевено в Исси-ле-Мулино, к югу от Парижа. Он обратился к небольшому кругу друзей-интеллектуалов, часть из которых впоследствии основала Французскую академию наук, и откровенно описывал современное невежество в отношении мозга: «Вместо обещаний удовлетворить ваше любопытство касаемо анатомии мозга я здесь искренне и публично признаюсь, что совершенно не разбираюсь в этом вопросе» [16].
Для Стенсена, как и для Уиллиса, организация мозга должна была отражать его функции, и все же, как подчеркивал датский анатом, эта организация оставалась непостижимой. Стенсен не только отрицал теорию локализации желудочков, но и с презрением относился к беспричинному отождествлению различных участков мозга с определенными видами деятельности, что было характерно для Уиллиса. В отношении мозолистого тела, которое, как утверждал Уиллис, порождало воображение, Стенсен отметил, что об этой структуре известно так мало, что о ней каждый может «говорить все что заблагорассудится» [17]. Как неоднократно подчеркивал Стенсен, большая часть написанного о мозге характеризовалась «очень расплывчатыми терминами, метафорами и неуместными сравнениями».
В отличие от Декарта Стенсена не интересовала локализация души, кроме признания того факта, что мозг «безусловно является главным органом души и инструментом, с помощью которого она выполняет замечательные задачи». Стенсен был глубоко религиозным человеком – он скоро обратится в католичество, откажется от науки и станет епископом, – но его исследования свидетельствовали о расположении души в мозге, поэтому он не строил догадок.
Стенсен утверждал, что мыслители должны сначала точно охарактеризовать составляющие мозга – описание должно включать точные рисунки и сравнительные исследования мозга животных, в том числе на разных стадиях развития. Затем он выдвинул смелое (и весьма драматичное) предложение не только о том, как следует думать о мозге, но и о том, как его исследовать:
«Поскольку мозг действительно является машиной, мы не должны надеяться обнаружить его хитрость устройства иными способами, кроме тех, что используются для обнаружения разгадки механизма других машин. Таким образом, остается сделать то, что мы сделали бы для любой машины: разобрать ее на части и посмотреть, что они могут делать по отдельности и вместе» [18].
Сам Стенсен не занялся заявленной исследовательской программой – вскоре он уехал в Тоскану, где, прежде чем стать священником в 1675 году, успел за короткий промежуток времени основать геологию, объявить, что у женщин есть яйцеклетки, и выяснить, как работают мышцы.
Тем не менее понимание Стенсеном пути исследования мозга было фундаментальным аналитическим подходом. Его в той или иной степени мы и придерживаемся до сих пор.
Концепция Стенсена, согласно которой мозг не просто подобен машине, а фактически представляет собой некое устройство, стала частью общего сдвига в научных представлениях, произошедшего в Европе XVII века.
Концепция Стенсена о мозге как о некоем устройстве стала сдвигом в научных представлениях в Европе в XVII веке.
Философы и врачи, размышляя о теле, привыкли использовать механические метафоры. Тот же взгляд распространялся на Вселенную в целом, причем закономерность небесной механики рассматривалась в терминах некоего космического часового механизма [19]. Например, в 1641 году философ Томас Гоббс задал риторический вопрос: «В самом деле, что такое сердце, как не пружина? Что такое нервы, как не такие же нити, а суставы – как не такие же колеса, сообщающие движение всему телу так, как этого хотел мастер?»[31] [20]
Аналогии, которые Гоббс проводил между техникой и анатомией, достаточно хорошо соответствовали физическим функциям многих частей тела – сердце действительно является насосом (или пружиной) и так далее. Мозг несколько отличался, как из-за очевидного отсутствия понятной внутренней организации, которую можно было бы описать в терминах физических компонентов, так и из-за неимения какого-либо механизма, кроме часов, которое могло бы обеспечить соответствующую метафору. Вследствие недостатка каких-либо убедительных экспериментальных данных о функционировании мозга споры о связи между мозгом и разумом, что велись на протяжении XVII и XVIII веков, были сосредоточены на метафизических аспектах существования этой связи, а не на использовании современных машин в качестве разъясняющих метафор или предоставлении каких-либо конкретных доказательств. Эти философские дискуссии заложили основу для большинства последующих взглядов на связь между мозгом и разумом.
Многие философы выступали против материалистических объяснений разума.
Гоббс представил строго материалистический подход, отвергнул противоречивые идеи Декарта о душе как «нематериальной субстанции» и вместо этого утверждал, что мышление должно состоять из материи. Мыслящей материи. Подход Гоббса разделяла и необыкновенная Маргарет Кавендиш, герцогиня Ньюкасла[32] [21]. В 1664 году она писала, что «чувствительная и рациональная материя… создает не только Мозг, но и все Мысли, Представления, Воображение, Фантазию, Понимание, Память и любые движения в Голове или Мозге». Она продолжала бросать вызов тем, кто верил в нематериальный разум:
«Я хотела бы спросить тех, кто заявляет, что Мозг не имеет ни чувства, ни разума, ни самодвижения и, следовательно, никакого Восприятия; но что все происходит от Нематериального Начала и Бесплотного Духа, отличного от тела, который управляет вещественной материей и побуждает ее к действию. Хотелось бы спросить их, говорю я, где находятся их Нематериальные Идеи, в какой части или месте Тела?» [22]
Принцесса Елизавета Богемская точно так же выразила свое непонимание взглядов Декарта в личном письме, написанном в 1643 году: «Я должна сказать, что мне легче признать наличие у души материи и протяженности, нежели допустить, будто нечто нематериальное может двигаться и перемещаться в теле» [23].
Елизавете было проще представить существование мыслящей материи, чем согласиться с предположением Декарта о том, что нематериальная субстанция – чем бы она ни была – каким-то образом взаимодействует с физическим миром.
Несколько десятилетий спустя радикальный голландский философ Бенедикт (урожденный Барух) Спиноза твердо полагал, что «ум и тело есть одно и то же», но при этом признавал, что, учитывая знания того времени, данное тождество невозможно доказать:
«Никто не знает, далее, каким образом и какими средствами душа двигает тело, какую степень движения может она сообщить телу и с какой скоростью способна его двигать. Отсюда следует, что, когда люди говорят, что то или другое действие тела берет свое начало от души, имеющей власть над телом, они не знают, что говорят, и лишь в красивых словах сознаются, что истинная причина этого действия им неизвестна, и они нисколько этому не удивляются»[33] [24].
Многие светила философии выступали против материалистических объяснений разума. В одной из своих последних работ, в 1712 году, Готфрид Лейбниц[34] выразил общепринятое мнение, что не существует такой вещи, как мыслящая материя, потому что невозможно представить, как она может действовать:
«Если мы вообразим себе машину, устройство которой производит мысль и чувство восприятия, то можно будет представить ее себе в увеличенном виде с сохранением тех же отношений, так что можно будет входить в нее, как в мельницу. Принимая это допущение, мы при осмотре мельницы не найдем ничего внутри, кроме частей, толкающих одна другую, и никогда не обнаружим ничего такого, чем бы можно было объяснить суть восприятия»[35] [25].
Этот аргумент стал известен под названием «мельница Лейбница», а его усовершенствованные и обновленные версии использовались на протяжении веков и используются до сих пор в рамках современных дискуссий о том, как работает мозг.
Философские прения о возможном существовании мыслящей материи усилились после того, как в 1689 году Джон Локк опубликовал эссе «Опыт о человеческом разумении» [26]. Локк, известный ныне преимущественно как философ, учился на врача и был близким другом Ричарда Лоуэра – физиолога, помогавшего Уиллису проводить вскрытия в начале 1660-х годов. Джон Локк также являлся членом Королевского общества (Бойль был его покровителем). Хотя поначалу «Опыт» восприняли положительно – вскоре его стали преподавать в Оксфорде, – к концу столетия эссе подвергалось все большему числу нападок из-за того, как Локк рассматривал вопрос о мыслящей материи. Взгляды мыслителя или то, что люди принимали за них (философы до сих пор спорят о том, что именно Локк имел в виду), сформировали большую часть западных воззрений XVIII века о разуме, душе и самости[36].
Удивительно, но, учитывая это долгосрочное влияние, прямой вклад Локка в дискуссию о мыслящей материи был минимальным. В третьей части «Опыта» он кратко изложил два возможных объяснения происхождения мысли, которые считал одинаково вероятными. Либо Бог мог создать материю такой, чтобы она была способна мыслить, либо он мог бы зафиксировать на инертной материи некую незрелую субстанцию, которая являлась бы мыслью. Как объяснил Локк в своей типично неясной прозе[37]:
«У нас есть идеи квадрата, круга и равенства; и все-таки, вероятно, мы никогда не будем в состоянии найти круг, равный квадрату, и знать достоверно, что они равны. У нас есть идеи материи и мышления; но возможно, что мы никогда не будем в состоянии узнать, мыслит ли какой-нибудь чисто материальный предмет или нет. Без откровения, путем созерцания своих собственных идей, мы не можем обнаружить, дал ли всемогущий Бог некоторым системам материи, соответственно устроенным, способность воспринимать и мыслить, или же он присоединил и прикрепил к материи, таким образом устроенной, мыслящую нематериальную субстанцию. Представить себе, что Бог при желании может присоединить к материи способность мышления, по нашим понятиям, нисколько не труднее для нашего разумения, чем представить себе, что он может присоединить к материи другую субстанцию со способностью мышления[38]» [27].
По сравнению с аргументами Гоббса или Кавендиш размышление Локка было гораздо менее напористым, однако его аккуратное предположение о возможном существовании мыслящей материи возмутило многих консервативных философов, которые усмотрели в такой трактовке следующую кощунственную цепочку аргументов. Если материя способна мыслить, значит, душа материальна, и в этом случае логика предполагает, что она не может быть бессмертной. Один ирландский богослов обвинил работу Локка в том, что она «по всей вероятности, является последним великим ухищрением дьявола против христианства» [28].
Другой фронт возражений против мыслящей материи сформировался вокруг растущего убеждения, что Вселенная состоит из мелких частиц. Аргумент был таков: если вся материя строится из атомов, то атомы мыслящей материи должны обладать каким-то особым качеством. Но все атомы должны быть принципиально идентичны, поэтому вещество, из которого состоит мозг, никак не может быть особенным. Этот парадокс рассматривался многими как убийственный контраргумент в споре о возможности существования мыслящей материи – либо вся материя может мыслить, либо никакая. По мнению Ричарда Бентли[39], прочитавшего в 1692 году в Королевском обществе лекцию «Материя и движение не могут мыслить», вера в мыслящую материю приводила к «чудовищным нелепостям»: «Каждый Камень был бы воспринимающим и разумным Существом… каждый Атом нашего Тела являлся бы отдельным живым Организмом, наделенным собственным самосознанием и личными чувствами» [29].
Некоторые мыслители все же приняли идею о потенциальном существовании мыслящей материи.
Английский врач Фрэнсис Глиссон утверждал, что фундаментальной чертой всей материи является раздражимость (современный синоним – «ответная реакция»), которая также является основой восприятия и подразумевает, что вся Вселенная в некотором роде разумна. Этот взгляд известен как панпсихизм и продолжает отражаться в некоторых современных нейробиологических дискуссиях о природе и происхождении сознания [30].
Некоторые мыслители говорили о потенциальном существовании мыслящей материи.
Для Бентли существование мыслящей материи любого рода было просто невозможным. Он был даже готов отрицать всемогущество Творца, отвергая предположение Локка о том, что Бог мог создать мыслящую материю: «Всемогущество само по себе не может создать мыслящее тело, и это не какое-либо несовершенство в Силе Бога, а неспособность Субъекта: идея Материи и Мысли абсолютно несовместимы» [31]. Один из защитников Локка, теолог Мэттью Смит, сделал справедливое замечание насчет аргументации Бентли: «По сути, все его доводы сводятся лишь к одному: мы не можем понять, каким образом материя и движение производят ощущение» [32].
После смерти Локка спор о мыслящей материи был обобщен в публикации ряда писем, написанных в 1706–1708 годах Энтони Коллинзом, богатым английским вольнодумцем и другом Локка, и философом Сэмюелом Кларком, который яростно восставал против идей последнего.
Для Кларка, как и для Ричарда Бентли десятилетием ранее, сознательность одной части человеческого тела должна отражаться в каждой ее частице, потому что любое качество некоей материальной системы непременно присуще всем ее составляющим [33]. Коллинз ответил попыткой объяснить, как организация частиц в мозге может привести к возникновению сознания посредством того, что мы назвали бы эмерджентностью[40]:
«Можно предположить, что у частиц, составляющих мозг, есть сила, способная внести свой вклад в акт мышления, прежде чем они объединятся в единой форме; хотя, будучи разобщенными, [частицы] обладают сознанием не больше, чем любое другое существо, которое способно вызывать в нас доброту… имеет силу вызывать в нас доброту, когда его части разъединены и разделены» [34].
В конечном счете дискуссия вращалась вокруг природы самой материи и, в частности, возможности, как объяснил Коллинз, что целое характеризуется чем-то, чем не обладает каждая из его частей [35]. Это были серьезные вопросы, которые нельзя было решить просто бесконечными спорами.
Параллели между людьми и машинами считались аморальными, потому что вызывали сомнения в свободе воли человека.
Одно из предположений о мыслящей материи, особенно раздражавшее многих мыслителей, подразумевало отсутствие фундаментальной разницы между людьми и машинами. Параллели между людьми и машинами обычно считались в высшей степени аморальными, потому что вызывали сомнения в свободе воли. Если бы человеческий выбор каким-то образом диктовался глубинным материальным процессом, а не духом, то морали не было бы, продолжали рассуждать они. Многие критики подозревали, что материалисты используют аналогию с машиной, чтобы склонить наивных подростков к безудержному сексуальному поведению. По словам некоего Джона Уитти, хитроумный план материалистов состоял в том, чтобы «сначала превратить себя в простые Машины, а затем в письмах к леди разубедить их (нетрудно догадаться, для каких целей) в существовании Нематериальных и Бессмертных Душ» [36]. Это запутанное убеждение было широко распространено – материализм считался реальной угрозой сексуальной морали. Например, английский математик Хамфри Диттон ясно чувствовал, что мир катится в тартарары и что все это сводится к вере в мыслящую материю, которая, по его убеждению, имела цель подорвать «самые основы христианства» и стояла за «Всей Системой Современной Неверности» [37]. Если признать факт существования мыслящей материи, это повлечет за собой грозные последствия, которые так драматично описал Диттон, крайне остро относившийся к данному вопросу: «Они [материалисты] лишили человека всех Интеллектуальных Сил и подменили наши Души Колесами и Пружинами, так что мы всего лишь Набор Движущихся Болтающих Машин» [38].
Во Франции, как и следовало ожидать, о последствиях существования мыслящей материи в отношении морали, сексуальной или иной, заботились меньше. Поэтому предварительные идеи Локка по ту сторону Ла-Манша обычно воспринимались лучше. Например, в первые десятилетия XVIII века появилась анонимная рукопись под названием «Материальная душа» (L’Ame matériel), распространившаяся во французских интеллектуальных кругах. В этом собрании текстов содержалось утверждение, что «именно материя, из которой состоит мозг, мыслит, рассуждает, желает, чувствует и так далее» [39]. Тот факт, что рукопись так и не была опубликована, свидетельствует об официальном неодобрении подобных идей, но желание интеллектуалов обсуждать их было вполне реальным.
В то время как философы занимались метафизикой разума, врачи и другие исследователи обращались к более простому на первый взгляд вопросу о том, как происходит восприятие и движение [40]. Даже Исаак Ньютон не остался в стороне. В конце третьей книги второго издания «Математических начал натуральной философии»[41] 1713 года Ньютон предположил, что «некий тончайший эфир» может быть найден во «всех сплошных телах». Телесное движение происходило через его «колебания, возбуждаемые в мозге силой воли и распространяющиеся оттуда через твердые, прозрачные и однородные капилляры нервов в мышцы для их сокращения и расширения» [41].
Взгляды Ньютона основывались не на конкретных физиологических знаниях, а скорее на его предположениях об устройстве Вселенной. В отсутствие каких-либо экспериментальных данных они оставались не более чем допущением.
Многие из наиболее влиятельных идей XVIII века о связи между мозгом и движением тела получили распространение благодаря учению Германа Бургаве, профессора медицины в Лейденском университете. Бургаве был, вероятно, самым выдающимся врачом своего времени.
Между 1715 и 1776 годами только в Англии было опубликовано около сотни его работ или комментариев к ним, а ученики Бургаве стали одними из ведущих анатомов и физиологов той эпохи. Хотя Бургаве знал, что работы Сваммердама и Глиссона показали отсутствие нервной жидкости – в последние годы жизни он собрал для публикации шедевр Сваммердама – «Книгу природы». Ученый продолжал утверждать, что нервы содержат «сок», «самый быстрый и легкий из всех» [42]. Эта «едва уловимая жидкость» образовалась из крови, как утверждал Бургаве и как считали со времен Галена. Он отверг эксперименты Сваммердама на лягушках как малозначимые для понимания человека:
«На самом деле нет возражений против существования нервной жидкости, так как первые два эксперимента ни о чем не свидетельствуют, а остальные лишь показывают, что нервная ткань у хладнокровных земноводных животных отличается от нервной ткани у четвероногих и теплокровных животных, поэтому никакие доводы не могут быть взяты отсюда, чтобы прийти к каким-либо умозаключениям относительно человеческого тела».
Концепция движения и нервной функции Бургаве была усовершенствованной версией гидравлического взгляда Декарта и, возможно, подтвердилась работой Джорджо Бальиви[42], который в 1702 году утверждал, что пульсации мозга производят циркуляцию нервной жидкости (на самом деле эти движения мозга являются следствием артериальной активности) [43].
В 1752 году один из учеников Бургаве, строгий швейцарский кальвинист[43] Альбрехт фон Галлер, изложил новый взгляд на функционирование нервов и мозга. Ученый описал два основных свойства живых тканей – раздражительность и чувствительность. Он считал, что движение вызывается раздражительностью (он взял этот термин у Глиссона), которая может наблюдаться при сокращении мышц и переносится тем, что он назвал vis insita («сократительная сила»), продолжающей существовать после смерти, как это видно из опытов с лапками лягушек у Сваммердама. Нервы, с другой стороны, проявляли чувствительность, которую несла vis nervosa («нервная сила»). Она прекращается со смертью, сказал Галлер, и его опыты показали, что нервную силу можно подавить, перевязав нерв, повредив мозг или леча пациента опиумом. Масштабные эксперименты продемонстрировали, что эти две фундаментальные силы полностью разделены: «Наиболее раздражимые части совсем не чувствительны, и, наоборот, наиболее чувствительные не раздражимы», – писал Галлер [44].
Позже он уже заявлял, что нервы должны содержать какую-то жидкость, вырабатываемую в коре головного мозга, которая движется вниз по «маленьким трубочкам нервов». Эта «нервная жидкость», по словам ученого, «является инструментом чувства и движения и должна быть чрезвычайно подвижной, чтобы переносить впечатления или команды воли к местам их назначения без какой-либо заметной задержки» [45]. Несмотря на утверждение Галлера, что знание должно основываться скорее на экспериментах, чем на аналогии, в конце концов его понимание функции нервов не отличалось от идеи, что господствовала на протяжении веков, – жидкость Галлера ничем не отличалась от «животных духов» Галена.
Ученый Альбрехт фон Галлер описал два основных свойства живых тканей – раздражительность и чувствительность.
Другие мыслители были смелее. В 1749 году йоркширский врач Дэвид Гартли[44] опубликовал работу, в которой предположил, что вибрации проходят по нервам, «как звук по водной глади рек». Этому взгляду противостоял Александр Монро, профессор Эдинбургского университета и еще один ученик Бургаве, убежденный, что в нервах есть жидкости и что «нервы не способны к вибрациям, потому что их окончания… довольно мягкие и нежные» [46]. Гартли возразил, что не верит, будто «сами нервы должны вибрировать, как музыкальные струны» – ведь они не натянуты. Но все же сам он при этом не может объяснить, как именно вибрация движется вниз по мягкому и нежному нерву [47].
Несмотря на имевшиеся затруднения, Гартли расширил свою вибрационную гипотезу, чтобы охватить весь мозг. Восприятие, полагал он, каким-то образом вызывает в мозге вибрации, которые по существу идентичны у разных людей. Кроме того, расположение таких вибраций может объяснить процесс обучения:
«Когда два или более объекта представляются одновременно, чувственные впечатления, вызванные ими, располагаются так близко друг к другу, что, обращаясь к этой части чувственного, ум не может видеть один объект без другого, и поэтому идеи, отвечающие данным объектам, всегда неотделимы друг от друга» [48].
Идея Гартли, позже названная ассоцианизмом, подразумевала, что ощущения, физически связанные в мозге, могут формировать память [49]. Ученый также различал «автоматические движения» вроде тех, что происходят в сердце и кишечнике, и произвольные [50].
Против позиции Галлера и Гартли выступил Роберт Уитт, шотландский врач из Эдинбурга и еще один ученик Бургаве. Уитт утверждал, что существует нематериальный «разумный принцип», действующий через нервы и мозг и позволяющий телам двигаться. В 1751 году он ополчился на предположение Галлера о существовании силы, приводящей к мышечному сокращению, и назвал его идею «не более чем прибежищем невежества». В противоположность Уитт заявил, что раздражительность – это просто сила души [51]. Раздосадованный Галлер ответил, что Уитт не может объяснить, почему мышца, удаленная из тела, все еще сокращается при стимуляции, если только он не воображает, будто душа каким-то образом присутствует в каждой части тела [52].
Эти двое продолжали спорить в печати вплоть до смерти Уитта в 1766 году и даже после: Галлер преследовал своего умершего оппонента более десяти лет [53].
Врач Дэвид Гартли полагал, что восприятие вызывает в мозге вибрации, которые идентичны у разных людей.
Уитт был настолько враждебно настроен к предположению о возможной материальной основе поведения, что не использовал термин «автоматический» для описания непроизвольных движений. Как он предупреждал, это может означать, что тело – «просто неодушевленная машина, производящая такие движения исключительно из-за своей механической конструкции» [54]. Однако Уитт проницательно заметил, что ум действительно может влиять на некоторые непроизвольные движения, показывая, что подобные реакции не являлись полностью механическими: «Таким образом, вид или даже воспоминание о пище вызывает непрерывный поток слюны во рту голодного человека».
Работа Уитта строилась на идеях Жана Астрюка, профессора медицины, работавшего в Монпелье и Париже. Астрюк был выдающимся ученым: помимо того, что он написал первую книгу по венерологии, Астрюк также стал одним из первопроходцев в применении текстологического анализа к Библии, предположившим, что Книга Бытия была написана более чем одним автором. Астрюк утверждал, что непроизвольное поведение, такое как моргание, семяизвержение и дыхание, вызывается «животными духами», которые текут вверх по нервам, достигают мозга и затем, согласно идее Декарта, «отражаются» обратно, чтобы произвести соответствующее движение в конкретном органе. Так, Астрюк ввел в научный оборот понятие «рефлекс» [55]. Почти через сотню лет после того, как Декарт впервые описал этот феномен, у рефлекса появилось название.
Ключевой вклад Уитта состоял в изучении физических основ рефлекторных движений. Он показал, что для их осуществления необходим спинной мозг и специфические рефлексы связаны с его различными частями – движение нижних конечностей вызывается нижней частью спинного мозга и т. д. [56].
Подобно Астрюку, Уитт интерпретировал полученные факты в терминах связи между стимулируемыми нервами и теми, что вовлечены в движение. Они, по-видимому, располагались в месте, где встречались в спинном или головном мозге [57].
Хотя взгляд Уитта на основу мшления был решительно антиматериалистическим, его работа предполагала, что определенное поведение может быть объяснено некоей нервной связью между различными частями тела.
Наиболее известный вклад в дискуссию XVIII века о мыслящей материи внес другой ученик Бургаве, француз Жюльен Офре де Ламетри.
В 1747 году Ламетри опубликовал сочинение «Человек-машина» (L’homme machine), манифест нового взгляда на человеческий ум и тело, согласно которому функционирование тела и ума может быть полностью объяснено материей [58]. Мыслитель писал: «Все способности души настолько зависят от специфической организации мозга и всего тела, что они, очевидно, являются не чем иным, как самой этой организацией» [59]. Мыслящая материя существует, утверждал Ламетри, и это мозг.
Ключевой вклад Уитта состоял в изучении физических основ рефлекторных движений.
По словам его покровителя, прусского короля Фридриха II, понимание Ламетри того, что «способность мыслить есть лишь следствие организации машины», пришло во время лихорадки в 1744 году. В 1746 году Ламетри предварительно изложил эту идею в печати. Его работа была немедленно осуждена французскими властями, и он предусмотрительно бежал в Нидерланды.
Неустрашимый ученый еще серьезнее задумался о материальной основе разума. Результатом его изысканий стала книга «Человек-машина», которая была написана и опубликована – анонимно – в Лейдене в 1747 году. Труд Ламетри обладал всем необходимым, чтобы стать бестселлером: он строился вокруг дерзкой идеи, но был написан в легком разговорном стиле, шутливо высмеивал сильных мира сего и содержал непристойные намеки. Книгу немедленно запретили во Франции, что неизбежно способствовало тайному распространению печатных и рукописных версий. Даже в якобы терпимом Амстердаме книга была запрещена и публично сожжена палачом. Несмотря на или, скорее, из-за ее скандальной репутации, предприимчивый лейденский издатель Ламетри быстро выпустил еще два издания [60].
Многие идеи мыслителя звучат очень современно. Например, он предположил, что мы могли бы научить больших обезьян использовать язык жестов, потому что «нет резкого перехода животных к человеку… Кем был человек до того, как изобрел слова и выучил языки? Животным конкретного вида» [61]. Более чем за сто лет до Дарвина Ламетри также заявил, что «форма и состав мозга четвероногих более или менее совпадают с человеческим… Человек в точности подобен животным как по своему происхождению, так и по всем пунктам сравнения».
В 1788 году у английского короля Георга III диагностировали безумие.
Интересно, что в качестве отправной точки в «Человеке-машине» Ламетри выбрал психическое здоровье и то, как на него влияет состояние тела. Некоторые из симптомов, выявленных им, сегодня выглядят странно – «те, кто воображает, что они превратились в оборотней, петухов или вампиров», – но он с явным сочувствием описал различные формы эмоционального потрясения, ужасные последствия бессонницы или трагедию фантомного болевого синдрома у людей, переживших ампутацию. Это было характерно для медленного изменения отношения к психическим заболеваниям, происходившего в Европе во второй половине XVIII века и усиленного безумием английского короля Георга III, которое диагностировали в 1788 году. Но, хотя некоторые врачи стремились проявлять больше участия к пациентам с психическими заболеваниями, они плохо представляли себе, как лечить даже физические недуги, не говоря уже о ментальных и психических проблемах [62]. Ламетри, несмотря на свою страсть и современные идеи, ничем не отличался от них.
За кажущейся новизной Ламетри скрывались некоторые довольно старые идеи. Его объяснение работы мозга основывалось на непроизвольных движениях. Ламетри называл их «пружинами человеческой машины» и описывал весьма туманно, используя аналогию с часами [63]. Будучи не в силах узнать, как материя может мыслить, Ламетри вернулся к предположению, что это следствие какой-то неизвестной силы, специфичной для жизни: «Организованная материя наделена движущим принципом, и один он отличает ее от неорганизованной материи… этого достаточно, чтобы решить загадку субстанций и человека». В результате у Ламетри родилась замечательная метафора человеческого мозга и тела: «машина, которая заводит собственные пружины – живой образ вечного двигателя… человек есть совокупность пружин, взаимно активируемых друг другом» [64]. По наблюдениям современных комментаторов, подобные виталистические[45] взгляды ученого говорят о том, что, несмотря на драматическое название своей книги, Ламетри не полностью принял материалистический подход.
В феврале 1748 года, когда стало ясно, что «Человек-машина» приведет к большим проблемам в Нидерландах, ученый перебрался в Берлин, приняв приглашение Фридриха Великого, прусского монарха. Ламетри стал врачом короля и присоединился к Вольтеру и другим радикальным мыслителям при дворе. Фридрих, который был чрезвычайно либерален, когда дело касалось философских вопросов, разделял взгляды Ламетри на мыслящую материю. «Мысль и движение… являются атрибутами одушевленной машины, созданной и организованной как человек», – писал король Вольтеру [65].
Ламетри был веселым, жизнерадостным человеком – на портрете он похож на парня, с которым вы хотели бы поболтать в пабе, – и прославился своим презрением к придворным условностям. Он падал ничком и засыпал прямо на дворцовых кушетках; когда было жарко, Ламетри швырял парик на пол, снимал воротник и расстегивал пиджак [66]. На его современников благоприятного впечатления это не производило – консервативный Галлер отрекся от Ламетри, а французский философ Дени Дидро назвал его «сумасшедшим», «распутным, дерзким, глупым, льстецом» [67]. В ноябре 1751 года, в возрасте всего сорока двух лет, Ламетри внезапно и таинственно умер. По словам Вольтера, причиной послужила еда: «паштет из орла, замаскированный под фазана… хорошо смешанный с плохим салом, рубленой свининой и имбирем» [68].
В первой половине XIX века Ламетри был забыт, и недавнее возрождение интереса к его работам обусловлено скорее параллелями с современными представлениями о мозге и поведении, а не каким-либо влиянием на последующую науку [69]. Однако работа мыслителя была значимой в более широком смысле. Его предположение о том, что люди являются машинами, вскоре просочилось в массовую культуру тем самым образом, о котором предупреждали некоторые критики Локка, – через порнографию.
Одна из самых скандальных книг, когда-либо издававшихся на английском языке, – «Мемуары женщины для утех», в народе известная как «Фанни Хилл», по имени ее главной героини. Книга была опубликована спустя год после «Человека-машины», а еще через год ее автора Джона Клеланда обвинили в развращении подданных короля, и «Фанни Хилл» запретили.
Содержание было настолько порнографическим, что версию без цензуры опубликовали в Великобритании только в 1970 году. В книге молодая Фанни неоднократно использует термин «машина» для описания различных пенисов, с которыми сталкивается (их много), в то время как эрекция часто называется «раздражением». Некоторые персонажи описываются как «машины» или «люди-машины», когда они участвуют в половых актах. А центральная тема книги – связь между телом и умом, рассматриваемая сквозь вездесущую призму сексуального желания [70]. Возможно, Клеланд читал труд Ламетри и был впечатлен «Человеком-машиной» или цинично добавил изюминку запрещенной философии, чтобы оживить свой эротический роман. Как бы то ни было, культурное воздействие нового, «механистического» взгляда на устройство человеческого организма было реальным.