Отрочество 2 бесплатное чтение
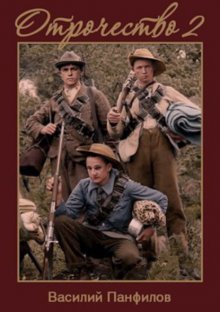
Пролог
— Здравствуйте, Сергей Алекс… — начал было Трепов, зайдя в кабинет, и тут взгляд Московского обер-полицмейстера прикипел к знакомой папке из красной кожи с золотым тиснением, — … верой и правдой, Ваше Высочество… Императорское…
Он рванул ворот мундира, ставшего внезапно тесным, и залепетал в своё оправдание какие-то совершеннейшие нелепицы, пристойные разве что мелкому чиновнику, выслужившемуся из поповичей, и пойманному на взятке самым подлым образом. Полицмейстер и сам понимал неуместную отвратность своих слов, но не находил сил остановиться.
— Ваше… отслужу, Ваше Императорское Высочество! Верой и правой всю жизнь, как отчичи с дедичами… бес попутал… лукавый…
Сергей Александрович неспешно курил тонкую пахитоску, наблюдая за былым любимцем и фаворитом взглядом энтомолога, узревшего интересного жучка. Взгляд этот, полный задумчивого интереса к будущему экспонату коллекции незадолго до уморения эфиром, был страшнее любого разноса.
«— Мене, текел, фарес[1]» — дурным мотыльком билось в черепной коробке Московского обер-полицмейстера.
— … верой и правдой, Ваше Императорское Высочество, — вытянулся Трепов, не обращая внимания на тягучую боль в груди, — не корысти ради…
Несколько минут спустя он вышел из кабинета на ватных, подгибающихся ногах, постаревший разом на десяток лет.
— Мне бы воды, голубчик — прошамкал Дмитрий Фёдорович обезвоженным ртом, просительно повернув голову к секретарю Великого Князя.
Секретарь, красивый молодой человек, затянутый в мундир от лучшего портного, сидящий на нём, как лайковая перчатка, ожёг полицмейстера брезгливым взглядом, и лишь скривил красивые полные губы, оторвавшись на миг от полировки безупречных ногтей. Еле уловимое движение подбородком в сторону графина…
… и Дмитрий Фёдорович, собрав остатки гордости и самоуважения, вышел из приёмной. Стараясь не глядеть ни на кого из опасения встретить ещё раз эту брезгливость, он сел в экипаж, погрузившись в нерадостные мысли.
«— Чортов мальчишка, — простонал он мысленно, — а так ведь всё хорошо начиналось, так славно! Полномочия, фонды, доверие… не оправдал. А ещё — папочка, название которой несколько…
Трепов застонал сквозь зубы. Вот что? Что заставило его собственноручно (!) подписать её, как „Дело о повешенном Императоре“!?
Тонкий английский юмор, вот только у нас не Англия, а самодержавие! И нет бы после исправить начертанное, но положение фаворита Великого Князя казалось незыблемым. Этакая лёгкая фронда человека, которому дозволено больше прочих. Как это сейчас не к месту…»
В управлении Дмитрий Фёдорович заперся в кабинете, распахнул окно, и жадно вдохнув полной грудью холодный воздух, провалился в обтянутое тонкой кожей кресло, распластавшись выброшенной на берег Чёрного моря медузой. Боль в груди не проходила, а в голове снова и снова эти унизительные минуты. Жалкие попытки оправдания перед Великим Князем, брезгливый взгляд секретаря, этого надушенного лощёного юнца…
Обер-полицмейстер резко пресёк свои мысли, принявшие вовсе уж не верноподданническое направление. Он потёр виски в попытке прогнать начинающуюся мигрень и бесконечные сцены, где раз за разом… но попытка оказалась неудачной.
В открытое окно влетела поздняя осенняя муха, вяло жужжа и бестолково тыкаясь в прозрачное стекло. Прекратив попытки, она направилась вглубь кабинета, хозяин которого следил за полётом насекомого с болезненным любопытством.
Встряхнув головой, отчего мигрень отозвалась басовитым ударом колокола, уверенно поселившись в костях черепа, Трепов нашарил в ящике стола кокаинницу, и втянул ноздрями щедрую понюшку. Сугубо для стимуляции мыслительного процесса!
Головная боль отпустила, отступила тревожность. Подумав, Дмитрий Фёдорович сделал ещё одну понюшку, и в голове стало совсем легко и кристально ясно.
Отдав несколько распоряжений, он сел в кресло, и…
— … разрыв сердца, — констатировал медик, стараясь не косится на открытую кокаинницу, — на почве переутомления.
Распоряжения, отданные обер-полицмейстером, пусть даже и ныне покойным, обязательны к исполнению. В меру своей компетентности и служебного рвения, чиновники Департамента МВД начали свою работу.
Одни — не раздумывая и не пытаясь ухватить мысленно саму суть задания, выполняя приказ с точностью до запятой. Другие — с инициативой, способной в период междувластия как вознести на самый верх, так и низринуть в пропасть. Третьи просто замерли, не торопясь исполнять приказ и прикрывая бездеятельность бюрократией.
Винтики Государственной Карательной Машины начали свою работу, сдвинув с места надсадно чадящий механизм, слепо завертевшийся на месте. Бюрократический Молох затоптался на месте, поводя невидящими глазами и трясясь в эпилептическом припадке из-за противоречивых действий отдельных винтиков.
Не понимая происходящего и остро чувствуя отсутствие Вожака в седле, Молох яростно ревел пастями распоряжений, постановлений, служебных инструкций и полномочий. Химера МВД не понимала, что происходит, но отчаянно пыталась быть полезной своим создателям.
Глава 1
Падаю в облака лицом вниз, раскинув руки крестом и не сдерживая восторженного длинного вопля. Несколько бесконечных, восхитительных секунд туманного безвременья, я пробиваю их, и передо мной — Земля во всём великолепии!
Облепленный каплями влаги, срывающейся вверх, я наслаждаюсь каждой секундой свободного падения и потрясающим видом. Наркотики? Алкоголь?? Секс?!
Небо! Иссиня-синее вечное небо, и я в нём, несущийся к Земле метеором. Бесконечные секунды единения с миром и собой. Секунды, когда ты понимаешь так много о себе и о жизни. Вот они, моменты просветления! Йога, медитации, молитвы… всё тлен по сравнению с полётом.
Рву за кольцо, хлопок, и меня дёргает вверх, раскрывается крыло параплана, которое ощущается продолжением собственного тела. Огромное тканевое крыло за спиной распахиваются во всю ширь. Ощущаю себя ангелом, спускающимся с Небес на грешную, но такую прекрасную Землю.
Бесконечные минуты управляемого парения, и этот необыкновенный вид на поля, леса, ленточки дорог и ниточки мостов, а вдали скорее угадывается, чем виднеется Бордо. Ни одна передача, ни одна камера мира не передаст этого чуда в полной мере. Только так, шагнув с Небес.
Вертя головой с закреплённой камерой, не забываю и о стропах параплана. Сделав несколько кругов, приземляюсь неподалёку от условленного места, и начинаю собирать крыло.
Напоследок я ещё раз оглядываюсь на строения аэродрома, последний взгляд в Небо…
… и я клянусь себе, что когда-нибудь оно станет моим — полностью и безоговорочно. Пока — крыло параплана, потом придёт черёд и уроков пилотирования. А потом, может быть не очень скоро…
— … Небо будет нашим! — говорю я вслух, садясь на постели. В голове угасают обрывки сна, в памяти остаётся только вид Земли с высоты, да тоска по Небу. И твёрдая уверенность, что я — смогу!
— Сорбонна, университет Париж-юг, факультет механики и автоматизации! Я могу! Смогу…
Сжимаю яростно кулаки, убеждая сам себя… пока глухо. Тренированный ещё в прошлой жизни мозг… или сознание? Не знаю… Я не вспоминаю науки, к сожалению — просто легче даётся. А ещё память, в которой занозой сидит, что однажды — было!
Встав с постели, прошёл босыми ногами по дешёвому гостиничному ковру, вытертому ступнями тысяч и тысяч постояльцев, остановившись у окна, на котором ещё виднелись следы ночного дождя. Раздёрнув плотные шторы, бездумно глядел несколько минут с высоты третьего этажа на улицы Нижнего Новгорода, потихонечку просыпаясь.
Посетив клозет, приоткрыл форточку, и в номер ворвался свежий воздух, принеся с собой звуки и запахи улицы. Грохот тележных колёс по булыжной мостовой, цоканье копыт, шорканье дворницкой метлы, окрики разносчиков и свист городового. Городская симфония как есть.
Продышавшись, начал неспешно суставную гимнастику, пробуждая и прогревая организм. Затем повторил комплекс более энергично, и как завершение разминки — бой с тенью, с упором на технику, а не резкость.
Разогревшись окончательно и порозовев, сделал два десятка берпи, и встал на руки, касаясь стены босыми ногами. И — р-раз… голова коснулась ковра, руки начали выпрямляться. И… — два…
Часом позже, закончив упражняться в калистенике[2], влез под душ, подставив лицо упругим струям воды. Ополоснувшись, сделал воду почти кипятковой, на грани нетерпёжки, а потом ледяной. И снова, снова… Вылез бодрый и голодный, так што даже и не шибко вкусный гостиничный завтрак встречен был моим желудком «на ура».
За минувшее лето я как следует прочувствовал профессию репортёра, объездив с десяток городов по поручению редакции. Интересно, но…
… уверенно могу сказать, что это не профессия мой мечты. К сожалению. Есть толика таланта… да, именно толика, я не люблю обманываться, раздувая собственную мнимую значимость.
Статьи мои интересны скорее новизной и необычностью подачи, чем блистательной журналистикой. Перехватят, скопируют стиль, и што останется? Умение перескочить через забор, пробраться в охраняемое… куда-то-там, да на равных говорить с мутными личностями? Полезные навыки, и как довесок к репортёрству вполне значимы, но и не более, чем довесок.
В чистом виде я состоялся разве что как фельетонист и карикатурист, што как бы и здорово для четырнадцатилетнего парня, но всё же не верх карьерных мечтаний.
За спиной моей виднеются доброжелательные тени дяди Гиляя, Чехова, Посникова и других гигантов. Такой себе удачливый сорняк, выросший под сенью могучих деревьев.
Возможно, я слишком критичен к себе, да и если рассуждать здраво — на добротный средний уровень мастерства я таки вышел. Нужно только совершенствоваться, оттачивать навыки…
… но особо не хочется. Не моё. Получается, и буду стараться ради самоуважения, но не моё. Альтернативы же — нет, ну или возможно — я её не вижу.
С некоторой снисходительностью меня воспринимают как репортёра, подразумевая тени за спиной. Я — продолжение дяди Гиля и прочих Настоящих. Половинчатая эмансипация, проклятый возраст!
Пока в профессии, я взрослый. Почти. Шаг в сторону, и просто — странноватый подросток. Заработанные деньги и связи в расчёт берутся, но… возраст.
Репортёрские корочки будто добавляют мне года этак два-три в глазах собеседника. Много больше дают, чем серьёзные не по годам глаза, высокий для моих лет рост и неплохой разворот плеч.
Меня где-то там признали серьёзные и уважаемые люди, и пока это признание есть, со мной можно разговаривать всерьёз. Почти.
Мало кто способен говорить, отринув условности указанных в документах годков, без ноток снисходительности — настоящей или вынужденной, принятой под давлением общества. Есть оглядочка, есть…
Наверное, именно поэтому я так легко сошёлся с жидами, у которых под налётом цивилизованности остался прочный фундамент ветхозаветности. А потом, в Палестине — с арабами, друзами, курдами. У народов сих в подкорке прописаны другие параметры взрослости. Не возраст, а умение зарабатывать, содержать семью, сражаться.
После Палестины особенно тяжко такое принимать. В тех диких местах честнее всё, и даже европейцы смотрят не на бумаги, а на человека. А здесь душно. Как плитой могильной придавили, и дышится через силу затхлым воздухом.
Встряхнувшись, выбросил из головы упаднические мысли, да и пошёл собираться. Грех жаловаться-то, Егор Кузьмич! Три годочка тому думал, што б пожрать, да не шибко тухлово, а ныне — эвона, ремесло репортёрское не для тебя! Зажралси!
Хучь ково из Сенцово спроси, так не глядя поменяется со мной, и рад-радёхонек будет, Богу молиться до конца живота своево. Жрать сытно да вкусно, спать мягко, одеваться по-господски, уважение от обчества иметь, да не думать о дне завтрашнем, аки птахи небесные. И счётец в банке такой, што и детям на не думать останется, даже и не один! А? Не щастье ли?!
А тут — мысли упаднические! Скушно, душно, уважения не хватает.
Ничево, Егор Кузьмич, ничево… Живы будем, не помрём, а там — на тебе университеты Сорбонские, и Небо… Небо будет нашим!
Сойдя на Ярославском вокзале, сходу выглядываю носильщика, завертев полтину в поднятых над головой пальцах.
— Куды изволите велеть, сударь? — материализовался рядышком степенный носильщик в чистом холщовом фартуке, при окладистой бороде, и как полагается на столь ответственной должности — тверёзый.
Не успев ничего сказать, замечаю троицу полицейских, возглавляемую ажно цельным участковым приставом[3], и понимаю — за мной. С учётом немалого чина пристава с самой што ни на есть канцелярской бледной рожей, всё очень серьёзно.
— Егор Панкратов? — торжествующе произносит запыханный пристав, явно пренебрегающий в последние годы любыми видами физической нагрузки.
Помощник околоточного надзирателя[4] и городовой старшего оклада[5], пребывающие при нём, держат верноподданнически-дуболомные выражения широких лиц. Сугубо в рамках инструкций.
— Егор Кузьмич Панкратов, — поправляю его снисходительно, отчего на лице полицейского пробегает нескрываемое раздражение[6], а в глазах фельдфебеля, вот ей-ей — смешинка мелькнула!
— С кем имею… — пауза, и ярко выраженная игра интонациями и лицом, — честь?
На лице запыханного пристава катнулись желваки, и выражение из торжествующего стало болезненно-задумчивым. Фельдфебель же, не поменяв верноподданного выражения лица, и не сменив положение членов ни на миллиметр, ухитрился показать, што он прикомандирован при сём… с кем честь имеют. Но отдельно!
«— Высокие отношения!» — мелькает в подсознании.
На лице носильщика тоскливая досада от потерянного времени, и неизбежной почти свидетельской нудоты. Я ему даже немного сочувствую… но себе больше.
В пролетке меня стискивают с боков едва не вываливающиеся унтер с фельдфебелем, што значит — я опасен и склонен к побегу. Фыркаю нервно… да, знать бы сейчас — за что именно арест, что инкриминируют?
Может — ерунда, какую дельный адвокат развалит прямо в участке, а может, и серьёзно всё. Гляжу задумчиво на сидящего напротив пристава, да примеряюсь этак… и чево он потеет-то?
— … всю Палестину пешочком, — токовал Евграф в избе у старосты, наливая утробу самонастоящим чаем, да вприкуску с сахарком, — всю земелюшку святую.
— Вот этими вот самыми ноженьками, — вытянул он ноги в истоптанных, многократно зашитых ботинках из-под лавки, и полюбовался на них, шевеля носами обуви, — к каждой святыне приложился, да не по разу единому.
— Погодь, — остановил ево староста, — што за земляк-то?
— Ась? — паломник заморгал растерянно, непонимающе глядя на мужика, — Земляк-то? Да Егорка! Важный стал, барин как есть! Если б не окликнул, так и не узнал бы!
— Охти… — старостиха осела квашнёй, едва нащупав руками лавку, и подтянув туда дебелый зад, — а мы-то…
— Погодь, — повторил мигом вспотевший староста, обтирая полившийся со лба пот рукавом, не глядя на подготовленное для чаепития полотенце, — ты тово… этово… не попутал? Егорка? Подпасок придурошный? Который фотографии…
— Охти, — повторил староста вслед за супружницей, — а мы-то… В люди вышел, значица. Фотографии-то, из Москвы ишшо… охти!
— Вышел! — закивал головой Евграф, щурясь умильно, — к самому патриарху вхож. И миня, значица, по-свойски в монастырь ночевать пристроил, к монасям грецким, дай ему Бог здоровьичка!
Паломник широко закрестился, и снова начал бесконечный и бессвязный разговор о Палестине, Сирии, посещении святых мест в Константинополе и своих ноженьках, истоптавших всю земельку.
— Так это, — начала разговор старостиха, — получается, што он и школу нам? А мы-то…
— Дык… выходит, што и так, — мужик запотел ещё больше, растерявшись окончательно.
— Тятя, — наморщив лоб, подал голос старший из сынов, допущенный до серьёзной беседы, — так может, написать ему? Письмецо?
— У-у… — промычал староста, зажевав бороду, и глядя вперёд невидящими глазами человека, с размаху сиганувшего в ямину с говном.
— Я так думаю, — продолжил ковать железо старостёнок, — што за спрос не бьют, и если это он наш…
Он замялся, но всё-таки выговорил, выплёвывая слова:
— … благодетель, то… А, тять?
Глава 2
— Имя, фамилие, прозванье? — скучным голосом интересуется полицейский писарь у стоящего передо мной побродяжки в пахучих завшивленных лохмотьях и опорках на босу ногу.
— Ась? — тот заморгал красными глазками с воспалёнными опухшими веками без ресниц, пока до его пропитово мозга пробирались слова служителя.
— Так ето… Пантелеймон, в честь святителя, — собрался наконец с мыслями мой духовитый сосед, — а фамилия нет, да и откуда? Из простых мы, вашество. Из тех ворот, што и весь народ, хе-хе! Толька шта я из тех, што настеж с самово малолетству как распахнулися, так никогда щеколды и не имали, хе-хе!
— Прозванье, — повторил писарь равнодушно, не поднимая аккуратно стриженой головы, щедро смазанной бриолином.
— Ето… так когда выпить зовут, на любое откликнусь, хе-хе-хе! — смешок дребезжащий, будто в баранье блеянье вплёлся перезвон сделанного детишками колокольчика из треснутой жести.
— Прозванье, — повторил писарь, поведя глазами на сторону. Городовой, стоявший в сторонке, сделал шаг, и с равнодушным выражением кирпичного цвета лица, всадил пудовый кулак в бок бродяжке. Кхекнув, тот начал было заваливаться, скривившись, но могучая рука дебелого служителя порядка подхватила за засаленный ворот, вздёрнув наверх.
— Так бы и сразу… х-хе… по-людски, — просипел побродяжка, держась за пострадавший бок, — Жжонкой люди кличут, а когда и Опитым, на всё отзываюсь. Пью, стал быть, всё што горит, к-ха!
— Имя, фамилие, прозванье, — писарь подымает на меня равнодушные выцветшие глаза с красноватыми прожилками.
— Панкратов Егор Кузьмич, мещанин города Трубчевска, што в Орловской губернии.
— Прозванье? — не поднимая головы.
— Нет, или я о них не знаю, — вру, и полицейские знают, што я вру, но облегчать им задачу не собираюсь.
Усадив меня на стуле и грозно шевельнув усами для острастки, городовой встаёт чуть в стороне, делая вид свирепый и не пущательный.
— На фотоаппарат… — певуче просит полицейский фотограф, — не моргать, сидеть смирно. Та-ак… снято! Теперь стоя фотографию.
Послушно встаю к ростомеру, после чего следуют фотографии — в шляпе и без. А сидя почему-то одна, без шляпы.
— Пять футов, два дюйма[7], — диктует служитель писарю, прикрывая зевоту рукой.
Бертильонаж[8], с прикосновениями нечистых пальцев к голове и лицу, замер аршином размаха членов.
— На тумбу пжалте, — тыкает пальцем-сосиской городовой в нужную сторону, обдав меня выхлопом копчёностей и водки, и я заступаю одной ногой на тумбу, изображая циркового слона, пока меряют мой размер обуви. Отпечатки пальцев, а точнее даже — ладоней. Прижать к пропитанной чернилами губке, прижать к бумаге… Служитель надавливает сверху на ладони, дабы отпечатки вышли возможно более чёткие. Ему откровенно скушно, казённая деловитость человека, навидавшегося всего и вся, не удивить ничем. Зево-ок…
Поданная тряпка, смоченная в пахнущей скипидаром жидкости, помогает решить вопрос с чернилами на руках, и вежливо-равнодушные полицейские сопровождают меня в камеру. Широкий коридор, щедро выкрашенный шаровой краской, обитые железом массивные двери с маленькими окошечками, забранными решёткой. Лязганье замков и беззлобный — для порядка — толчок в спину, и снова лязг засова, в этот раз за спиной.
Камера довольно-таки просторная, и неожиданно светлая. Напротив входа большое, давно не мытое окно под самым потолком, забранное частым переплётом и защищенное толстыми прутьями в клеточку. От двери до окна с обоих сторон широкие нары в один этаж, у самой двери параша без запаха — што значит, недавно вынесенная и отмытая. С другой стороны от двери — умывальник, ведро с чистой водой и эмалированная кружка — одна на всех.
А вообще — пахнет, и крепенько, несмотря на ощутимый сквозняк от окна. Немытыми телами, больными зубами и желудками, нестиранной давно одеждой и перегаром, вонючими босыми ногами и сохнущими на решётке портянками. Запах трущоб и нищеты. Запах Российской Империи.
— А хто ето такой в моём красивом пинджаке нарисовался? — радостно оскалился гнилыми зубами опухший от беспрестанного пьянства здоровенный детина с длинными сальными волосами, свободно лежащими на жирных плечах. Привстав, он развёл руки…
— Никшни, утырок! — пинок в поясницу опухлому, и тот, сделав несколько коротеньких шажочков, ушибается о соседние нары. А пинатель, улыбаясь искренне и дружески, уже соскакивает, протягивая мне руку.
— Здаров, Конёк!
— Здаров, Котяра!
Чуть вздёрнутая бровь, и ближайшие постояльцы спешно отодвигаются, освобождая место. Намётанным взглядом вижу, што самые серьёзные щуки в этом пруду — мы с Котярой. Прочие — вовсе уж шушера мелкая, даром што арестов за каждым, как блох на худой собаке.
Усаживаюсь, не чинясь, смирившись внутренне с неизбежными вошками-блошками. А куда деваться?
— Дык пошутил же, — бубнит тихохонько забившийся в угол детина, потирая поясницу, — так-то я смирён! Хто же знал…
— Никшни! — прилетает ему лёгонький, такой себе воспитательный тычок в бок, — Щитай, заново родился! Конёк, ён…
Привычно абстрагируюсь от тихого шипенья в паре метров от меня. Личность моя на Хитровке по неведомой для меня причине легендировалась, обросла странноватыми слухами и стала совершенно самостоятельным явлением. Такие байки иногда слышу об самом себе, што глаза сами пучатся.
— Херота какая-то, — повернувшись спиной к прочим, отвечаю одними губами на немой вопрос друга, — не успел с поезда сойти, как прямо на вокзале арестовали. Без объяснений — за што, собственно.
— Однако! — на грани слышимости, но эмоциональный посыл такой, што чуть не литаврами гремит. Чуть сощурившись, Котяра погружается в размышления, поглаживая подбородок с редкой юношеской щетинкой.
— Не, — произносит он наконец, — в душе не ебу… Ах ты ж… политика, ебёна мать! Ну точно, она!
— Ага…
Загрузившись основательно, обдумываю слова Котяры. А похоже ведь на правду, мать его ети! А это очень серьёзно, и очень для меня опасно.
В голову полезла вовсе уж чернота и пессимизм, што мне никак не нужно.
— Сам-то каким ветром в здешние Палестины?
— А… — Котяра поскучнел, — наладили на переговоры меж нашими и вашими об небольшой, но интересной панаме, а там кипеж с поножовщиной.
— Порезал ково?
— А… так! — он дёрнул плечами, не желая углубляться в подробности, ну да я не настаиваю. Захочет выговориться, так и да, а на нет и спроса нет.
Сбив щелчком наглово таракана, взобравшевося на ногу, начал рассказывать о палестинских приключениях, щедро разбавляя быть байками на восточный лад. Поскольку дела эти ни разочка не тайные, то говорю в полный голос за ради развлечения обчества.
— Живут же люди, — воспользовавшись паузой в рассказе, мечтательно проговорил тщедушный молоденький фабричный, заметённый в участок за очередную драчку после запоя.
— А тебе кто мешает? — резонно заметил Котяра, — Дети мал-мала дома сидят, аль старушка-мать плачет у окна, сыночку своево дожидаючись?
— Скажешь тоже, — робко улыбнулся фабричный, — я из приютских, кто ж мине ждёт?
— Тем более, — хмыкнул Котяра.
— Ага, — фабричный нахмурился и явно задумался, кусая тонкие воспалённые губы мелкими острыми зубами, — так значица, тёплышко?
— Вся зима — как наш сентябрь, — подтвердил я.
— Ага, — повторил паренёк, и замолк, жадно прислушиваясь к моим рассказам, покусывая губы и грызя костяшки пальцев.
Залязгала дверь, и на пороге появился рослый полицейский унтер, за которым в коридоре маячил мордатый ефрейтор с лицом, не искажённым самомалейшими признаками интеллекта.
— Панкратов Егор, на выход!
— … а может, и действительно? — услышал я, выходя, — за-ради чево корячусь, если можно просто — как птаха небесная, по южным краям?
Давешний коллежский секретарь рассматривал меня с нарочито равнодушным видом, постукивая карандашом по столу и надувая щёки. В углу кабинета разместился вытянувшийся в струнку зверообразный городовой низшего оклада — из новичков, судя по излишней манекенности и пученью глаз в мою сторону.
— Ну-с… — полицейский офицер вперил в меня рыбий взгляд, приподняв правую бровь, — будем говорить?
— Говорите, — снисходительно разрешил я, перекинув ногу на ногу, и рыбеглазый надул щёки, сдерживая гнев. Выпустив воздух, он откинулся на спинку скрипнувшего под ним стула.
— Н-да… — постукиванье карандаша, — упорствуем? Запираемся?
Он полез в ящики письменного стола и замешкался.
«— Не родной, — выдало тотчас напрягшееся подсознание, — не родной кабинет!»
Мысленно отметил это как нечто важное. Пока не понимаю, но подсознательно жду подвоха.
— Панкратов Егор… Кузьмич, — вытащив папку, начал он зачитывать, — он же Конёк, Шломо, Два Процента…
— Происхождение этих прозвищ не расскажите? — осведомился он многозначительно, вперив в меня суровый взгляд. Улыбаюсь ему безмятежно, хотя внутри далеко не… сильно не…
— Итак… — он отложил бумаги, поставил руки на стол и сцепил кисти, опёршись о них подбородком. Короткая игра в молчанку, и полицейский поменял метод.
— Что же вы, голубчик? Напрасно, напрасно… — он нацепил пенсне с простыми стёклышками, и стал похож на земского врача или учителя, под которых, очевидно, и решил мимикрировать, — полиция, голубчик, призвана оберегать покой граждан!
Сделав интересующийся вид, услышал прямо-таки воркованье голубя перед голубкой, и…
… — лишнево не наговорили, и слава Богу, — флегматично сказал пожилой Иосиф Филиппович, грузно усаживаясь в пролётку напротив меня, — дразнить полицию не следует, но помалкивать, покуда не приедет адвокат — тактика самая правильная.
— Владимир Алексеевич спохватился? — поинтересовался я.
— Да-с… — заулыбался адвокат, — есть, знаете ли…
Покосившись на извозчика, он замолк, и молчал так до самой редакции.
— Слава Богу! — обнял меня дядя Гиляй, крепко притиснув к животу, — Мне когда сказали, што тебя полиция арестовала прямо на вокзале, я места себе…
— … вошки, — запоздало пискнул я.
— А? Пустое, — отмахнулся опекун, обнимая ещё раз, — Всё равно в баню с дороги, там и поговорим.
В Сандунах взяли семейный нумер для спокойного разговора, и после помывки, в перерывах между заходами в парную, я с подробностями рассказывал об аресте. Владимир Алексеевич, знающий в лицо едва ли не всех полицейских Москвы, только хмурился, мрачнел, да дёргал себя за усы.
— Дела, — наконец сказал он тягуче, и замолк.
— Это по закону у нас тишь, гладь и Божья благодать, — отдуваясь после выпитого залпом квасу, сказал закутавшийся в простыню Иосиф Филиппович, погрузившись в воспоминания, — Сравнить ежели с Британией, так мёд и мед — по законам ежели. Смертная казнь — событие такое себе редкое, што… Ну, не по пальцам, но десятки в год.
— А вспомнить ежели, што у нас есть и репрессии внесудебные, то на Британию с её жестокостями уже и не шибко покиваешь, — продолжил он после мрачной паузы, — Для репрессий политических никаких законодательных основ у нас и нетути. А репрессии есть.
— Сплошная натяжка законов на начальственное хотение, — закончил за него дядя Гиляй, помрачневший и будто бы даже постаревший, — самодержавное.
Вспомнились мне рассказы деревенских о том, как с артиллерией подавляют даже и не бунты, а просто волнения крестьянские. Как берут в штыки деревни, не оставляя в живых никого. Как стреляют, вешают… без суда, даже упрощённого, неправедного, военно-полевого.
И никакой потом статистики, никаких циферок в отчётах. Просто — умиротворение. Подавили волнение.
Вспомнилось… и до озноба, до скрипа зубов, до…
… ненавижу!
Глава 3
Проводив Саньку в Училище, а Наденьку в гимназию, пошатался бесцельно по квартире, да и сдвинул решительно мебель в гостиной, освобождая место. Татьяна выглянула из кухни на шум, и завздыхала сочувственно, не став ничего говорить, вопреки обыкновению. Постояла этак, прижав руку с полотенцем к склонённому набок лицу, да и ушла тихохонько назад, чувствуя бабьим своим нутром нехорошее моё настроение.
Гоню мысли прочь изнурительной тренировкой на выносливость, поглядывая то и дело на часы. Не хочу даже, но шея будто сама вздёргивается, а глаза косятся на циферблат.
Время тянется застывающей смолой, и каждая минута кажется часом. Не выдержав, решительно остановил ходики, и снова — физические упражнения, чередуемые связками ударов, разрывающих воздух.
Представляю при ударах ненавистные рожи — когда абстрактное нечто в орденоносных мундирах, а когда и вполне конкретные персоны. Вон… городовой под окном или вовсе — Величеств и Высочеств всем скопом. И по рожам — холёным, упитанным, высокомерным, право имеющим… которых знаю по продаваемым, навязываемым на улицах открыткам — чуть не до разрыва связок, до боли в мышцах.
Вымотавшись едва ли не до отказа ног и обморока от усталости, сполоснулся вяло под душем и пожевал подсунутый Татьяной пирог — несомненно вкусный, но здесь и сейчас отдающий почему-то жёваной бумагой и ватой.
С-суки! Не домашний арест даже, а «постановление», которое попробуй ещё оспорь.
Это вроде как «отческое вразумление» и «нежелание портить судебными делами карьеру столь талантливому юноше», а на деле — жопа. Полная!
Не арест, а… выглядываю в окно и вижу фигуру городового, дежурящего у двора. И дворник, при всей ево ко мне основанной на подарках симпатии, и уважении к Владимиру Алексеевичу, бдит! Потому как по сути низший полицейский чин, обязанный по закону надзирать, свистеть и не пущать, а не только говно конячье убирать, да метлой мести.
Выход из дома — сугубо через разрешение, выдаваемое в полицейской управе, притом каждый раз — заново. Строго по нужде, которую необходимо доказывать в этой же управе.
Нарушать эти… предписания без большой необходимости рискованно. Судебная, а главное — внесудебная репрессивная машина самодержавия перемелет меня голодным Молохом, выплюнув остатки. Все возможности есть.
Будь я совершеннолетним, мог бы просто раствориться в городе, и через границу… да хотя бы в Австро-Венгрию. Габсбурги традиционно не ладят с Романовыми, привечая беглецов, тем паче денежных.
Пока я эмансипирован лишь частично, а несколько лет проводить на нелегальном положении или затевать сложные, дорогостоящие и де-факто безнадёжные судебные процессы из-за границы как-то не тянет.
Да и неприятности опекуну такой побег может доставить ни разу не шуточные. Несмотря на отсутствие судебных постановлений. Предписание! С-суки…
Маетно, тошно и зло, а время… ах да, ходики. Сверился с карманными, запустил часы в гостиной, да и сдвинул мебель обратно. Скоро Надя из гимназии придёт, Санька из Училища вернётся. Так-то он на месте обедает, но сейчас вроде как из солидарности и желания поддержать меня, приходит на обед домой.
На обед собрались все домашние и ещё чуть-чуть сверху. Иосиф Филиппович, огрузнув устало на стуле, медленно ел, роняя слова.
— Добиваемся суда, — ложка отправляется в рот, обрамлённый седыми усами, несколько жевательных движений… — гласного и открытого.
— Главное сейчас, — пояснил дядя Гиляй супруге с дочкой, — перевести дело из русла внесудебного в законодательное. Гласный открытый суд — то, что нам сейчас нужно. Выбить все эти подпорочки постановлений, сорвать оковы безсудных предписаний!
— Все шансы, — закивал адвокат, поймав вопросительный взгляд Марии Ивановны. Он пожевал губами и добавил с некоторым сомнением:
— Не могу ручаться, но по всему выходит, што дело готовил покойный Трепов, — он закрестился при упоминании покойника, а Надя, напротив, поджала гневно губы, сцепив демонстративно перед собой кисти рук. Ну, мать ей потом выскажет…
Санька перекрестился с видом человека, узревшего своими глазами Божественное правосудие.
— Сам, или в его канцелярии, — Иосиф Филиппович еле заметно пожал плечами, и одними глазами показав Марии Ивановне на стоящую посреди стола супницу, и та, за неимением удалённой из гостиной Татьяны, поухаживала за ним, долив пару половничков, — сказать уверенно не могу, да по сути и неважно. Заторопились, или из-за отсутствия должного контроля допустили ошибки на каких-то этапах, не суть.
— На таран их брать, — бухнул тяжко задумавшийся опекун, зажав по-мужицки ложку в кулаке, — пока не спохватились. Суды, общественность, да даже…
Он подёргал себя за ус.
… — даже и полиция, — прозвучало без особой уверенности, — Новая метла, так сказать… да и неофициально могут… да-с, могут, потому как не все…
Опекун задумался, и на широкое лицо его выползла улыбка хулиганистого мальчишки, задумавшего какую-то нешутошную пакость.
— Я, наверное, не вернусь ночевать, — тихонечко предупредил он супругу и домашних, сызнова одеваясь на выход после обеда, — надо будет подёргать за кое-какие ниточки.
Чмокнув Марию Ивановну в уголок губ, опекун выскочил за дверь, догоняя адвоката.
— Ма-ам, — напомнила о себе Наденька, — девочки к вечеру ближе на чай придут, ты не против?
— Да помню, помню, — отмахнулась та, — Бога ради! Позавчера ещё предупреждала.
— Ну… — засмущалась девочка, — мало ли, вдруг изменилось што?
… и глазами в мою сторону с видом заговорщицы.
— Общественность будем поднимать, — как только мать удалилась, горячечно объявила Надя, схватив меня за руку, — ты знаешь, какие девочки у нас есть замечательные?!
Закивал ей с видом самым серьёзным и благодарным, хотя какая там общественность из гимназисток? Так… почувствовать себя причастными к чему-то…
… и так стало вдруг стыдно этой своей снисходительной взрослости! Девчонки, да. Могут немногое, но ведь пытаются же! Пусть пока скорее моральная поддержка, пусть… зато вырастут, по крайней мере, людьми не равнодушными.
— Ох, Надя, — обнял я её порывисто, — как же мне с вами повезло!
— Скажешь тоже, — заалела она, оттолкнув меня слегка.
— И неча обниматься, — неожиданно выговорил мне Санька, пока Надя скрылась на кухне, отдавать горнишной распоряжения перед приходом подруг, — с Фиркой вон…
… и как ухи заполыхали! Как засмущался!
— Ну а если и да!? — с тихим вызовом сказал Чиж, косясь на дверь кухни, — Сейчас нет, а вот потом…
Он окончательно засмущался, и я хлопнул его по плечу.
— Хороший выбор, брат!
«— Однако! — думалось мне, — Однако!»
И никаких больше слов и мыслей, только это словечко, да вся непростая ситуация с Санькой. Как-то оно всё сразу пошло, кувырком.
— Туки тук! — постучалась Надя в нашу комнату, — Можно?
— Заходи! — отозвался я, поворачиваясь на стуле. Усевшись на стуле рядышком, она поправила подол платья и начала рассказывать, какие у них в классе замечательные девочки, и как они все… как одна…
Санька подвернув одну ногу под себя, сидел на кровати, делая наброски в альбоме. Всё как всегда, только теперь это видится совершенно в ином свете.
Выговорившись, Надя поделилась проблемой:
— Творческий кризис, не идут рассказы о Сэре Хвост Трубой, — и опечаленный вздох.
— Бывает, — покивал я с видом умудрённого старца, — сделай перерыв.
— Может быть, и сделаю, — неуверенно пожала плечом девочка, явно не воодушевлённая предложением.
— Или смени жанр, — поменял я предложение.
— Ну…
— Героя. Вбоквелл сделай.
— А это как? — заинтересовалась она.
— Да тот же котячий мир, только вектор поменяй. Писала о героическом воителе с его кошачьими приключениями и боями за даму сердца, напиши теперь о ленивом и хитрожо…
Надя хихикнула, стараясь удержать вид благовоспитанной девочки, не знающей столь низких слов, но получилось откровенно плохо.
… — хм, хитроумном, да! Хитроумном котячьем герое, сибарите, лентяе и… — я прищёлкнул пальцами, останавливая открывшево было рот брата. В голове вертелись идеи и сюжеты, и я отчаянно пытался не упустить их.
— Гарфилд, — выдохнул я, — назови его Гарфилд!
Несколько минут я рассказывал пришедшее в голову, лихорадочно размахивая руками и расхаживая по спаленке. Надя уселась за стол, подвинула чернильницу и чистую тетрадку. Она агакала и быстро записывала, задавая уточняющие вопросы и время от времени грызя кончик пера.
Санька весь ушёл в рисование, и проходя мимо, я заметил ненароком в его альбоме забавную смесь набросков и лубка.
Звонок в дверь прервал эту идиллию.
— Барышня! — позвала Татьяна из прихожей, — До вас подруги пришли!
— Ой, да! — вскочила Надя, — Девочки!
Вслед за ней вышли и мы с Санькой, и ситуация разом стала почти светской. Весной ещё Наденькины подруги спокойно общались с нами, и лишь изредка тренировались в стрельбе глазами, а теперь — барышни! Внезапно.
— Елена, — наклонился я к руке, целую воздух над пухлой кистью, — вы удивительно повзрослели за те месяцы, пока мы не виделись.
Девочка захихикала и порозовела, очень мило смутившись. Она не столько повзрослела, сколько… хм, разъелась, став этаким миленьким поросёночком в гимназическом платье, и слова мои пролились умиротворяющим бальзамом на её истерзанную душеньку.
— Ольга, — склонился я в поцелуе над рукой второй девицы, пока Санька копировал мои действия, бормоча што-то вроде «Рад! Очень рад!», — ещё немного, и за вами станут ухаживать красивые офицеры с самыми серьёзными намерениями.
Рано запрыщавевшая Ольга захихикала вслед за подругой, и мы переместились в гостиную, ведя беседу едва ли не светскую. Мария Ивановна бдила в углу над спешно вытащенным вязаньем, изображая из себя дуэнью, и одобрительно кивая в нужных местах.
Санька несколько подрастерялся, и некоторое время мне пришлось отдувать за двоих. Но потом ничего, брат оклемался и вполне себе светский лев прорезался. Львёнок.
Беседа текла своим чередом, и гимназистки делились уж-жасно революционными планами по возмущению общественности. Намерения их не простирались дальше оповещения знакомых о возмутительной, ужасно неправильной ситуации со мной.
Я послушно кивал в нужных местах, благодарил за содействие прогрессивную общественность в их лице. Общественность млела, чувствуя себя ниспровергательницами основ и почти взрослыми дамами.
К превеликому моему облегчению, объектом воздыханий я не стал. Слишком взрослый. Не годами, а скорее биографией.
Смутно понимаю, што в таком возрасте я для них примерно столь же романтичен, как персонаж приключенческих книг. И столь же книжен. Некто абстрактный, пахнущий типографской краской, и в чьей речи слышен шелест страниц. Образ.
Странным делом, тревожность и злость понемногу начали отступать при разговоре с девочками, и я наконец позволил себе поверить — всё будет хорошо. Наверное.
Глава 4
Опекун грыз мозговую косточку из щей, свирепо топорща усы, и чуть не урча по котячьи, весь отдавшись первобытному процессу насыщения. В эти минуты он как нельзя сильно походит на варварского вождя после кровавой схватки, и даже в глазах ещё не затухли красноватые отблески боя.
И манеры, да… варварские. Ни в коем случае не свинячьи, а этакое дикарское благородство, с которым он обгрызает мосол и выколачивает из кости мозги. Вот как, а?!
На ково другово так и поморщишься с этакими ухватками, а у дяди Гиляя так аутентично и аристократично выходит, што — манеры и этикет. Просто варварские.
Наденька пока в гимназии, Мария Ивановна видывала супруга и не таким, а мы… нас обгрызаньем мосла не смутить.
Супружница Владимира Алексеевича только голову рукой подпёрла, да умилённо наблюдает, как крепкие зубы мужа перемалывают хрящи.
— Добавки? — горлицей проворковала она, глазами изливая на него нежность и уходящее прочь беспокойство за лихого супруга, вернувшегося из удачного набега. И ведь ей-ей! Горят чьи-то там… нивы и сёла. Пусть даже и метафорически.
Потом гляжу на опекуна, и такое себе сомнение берёт насчёт метафоричности! Этот могёт и вполне даже натуралистично. По заветам, так сказать, предков. Пращуров даже, из времён додревних, когда врагов привязывали за ноги к двум согнутым берёзкам…
— Добавки? — повторила супруга вождя, не услыхав ответа.
— У? — варвар задумался, не выпуская из зубов мосол, — Угу! И пирог… есть?
Голос хриплый, сорванный, будто и впрямь на абордаж ходил, врубаясь во вражеские ряды и надрывая горло командами. Ну или вражескую крепость брал, притом в первых рядах.
А ведь похоже! Была, драчка, ей-ей! Чуточку самую, но бережётся при движениях, и ссадины на костяшках об чьи-то зубы.
— Рыбный, — подхватилась Мария Ивановна, — принести?
Энергичный кивок, и челюсти вновь заработали, а руки подтянули из хлебницы горбушку духовитого чёрного хлеба от Филиппова.
— Натереть чесноком? — поинтересовался я, и горбушка была впихнута мне в руки. Натираю спешно, щедро, не жалеючи злого чеснока, и сразу — на! Только урчанье, да рвущие горбушку зубы, с наслаждением перемалывающие свежайший ржаной хлеб. И запах такой духмяный пошёл, такой внуснющий, што мы с Санькой не выдержали, да и по кусману хлеба, да чесноком его, и как навернули! А казалось бы, сыты.
Варварский вождь насыщался, медленно и неотвратимо уничтожая всё подаваемое на стол, превращаясь потихонечку в дядю Гиляя, а потом и в цивилизованного Владимира Алексеевича. Поев, он некоторое время сидел с полуприкрытыми глазами, потом встал решительно и будто через силу, через великую усталость, и ушёл в ванную умываться.
За самоваром вождь отошёл понемножку. Шумно сёрбая чайный кипяток по-купечески — из блюдца, опекун щедро черпал ложечкой варенье прямо из подвинутой поближе баночки, и розовел на глазах, надуваясь обратно водой и сытостью.
— Полдела сделано, — сказал он негромко, отмякнув вконец душой, — добились перевода дела в юридическую плоскость из внесудебной, ну и формального обвинения дождались наконец.
Мария Ивановна вопросительно посмотрела на него, зная ответ, но женской своей натурой надеясь на лучшее.
— Оскорбление Его Величества, — разочаровал её супруг, и чуть улыбнулся по-мальчишески, — Да не волнуйся! Развалим!
— Мне, — он сощурил глаза, превратившись на миг в лихого казачьего атамана, — донесли надёжные люди, што дело наше сырое, без должного оформления. Трепов, покойник, какую-то сложную комбинацию вокруг закрутить вздумал, а с его смертью всё и сорвалось.
— Раньше времени начали, — подумалось мне вслух, и руки от волнения сами сжались в кулаки.
— Может и так, — кивнул согласно дядя Гиляй, — иль может, просто часть информации у обер-полицмейстера в голове хранилась, сейчас уже не узнать. Дело сырое, рыхлое, но могло бы, да… Нам просто удалось перехватить его вовремя, в период междувластия.
В сощуренных глазах его мелькнули красноватые отблески крови и большого пожара…
— Я, стал быть, миром к тебе послан, Егор Кузьмич, — потоптавшись у двери, с чувством проговорил дед Агафон, вовсе уж сдавший и постаревший, едва ли не выцветший до прозрачности, — к тебе, как благодетелю нашему, поклон низкий передать!
Земной поклон не стал неожиданностью, но всё равно — неловко, и почему-то стыдно. Всё в рамках деревенского этикета, но чортово…
… подсознание посчитало иначе, и бросилось подымать старика. В выцветших глазах ево мелькнули почти незаметные, но вполне читаемые нотки довольства.
«— Стал быть, продавил Егорку сходу, почитай полдела сделано» — прочиталось на ево лице, поросшем клочковатой, сильно поредевшей бородкой.
Я прикусил губу, но сердобольная Наденька уже захлопотала, отдав распоряжение любопытствующей Татьяне.
— … так вы односельчане?! — всплескивала девочка руками, проявляя добросердечное, но не вполне уместное гостеприимство, — Надо же!
— Агась! Обчество послало, — не спуская с залатанных колен тощего узелка из вытертого рядна, Агафон неловко угнездился на краю стула, выпрямившись так, што умилённо прослезился бы любой ревнитель фрунта и муштры.
— Да вы пейте, пейте! — хлопотала Надя, щедрой рукой наливая в фарфоровую чашку заварки и подвигая сахар, баранки и варенье.
— Дык… — спотыкнулся словесно Агафон, опасливо косясь на белоснежную скатерть и тончайшие чашки бумажной толщины, — вы тово… этово… не думайте, я с бани досюда! Без вошек! Не так штобы и совсем с дороги, а подготовился в гости, как и положено, значица.
В глазах ево плескалось осознание важности миссии, и опасливая оглядка человека, редко едавшево хоть што слаще морквы. А тут чай! С конфектами вприкуску, и господами почти што за одним столом! Пусть мы с отсутствующим пока Санькой и вдвоём на пол господина не вытянем, но Наденька, сразу видно — барышня из хорошей семьи!
— Обчество, значица, наладило до Москвы, и здеся тоже, значица, позаботилося. Письмецо…
Он начал рыться суетливо в узелке, и наконец нашёл свернутое треугольником послание односельчан, заботливо завёрнутое в ветхую, но чистую тряпицу. Забрав письмо, я уставился вопросительно на Агафона. Тот зашамкал беззубым ртом, собираясь с мыслями.
— Мир послал, Егор Кузьмич, — разродился он наконец, — мы, стал быть, благодарны…
Кряхтя, старик начал вставать, явно намереваясь ещё раз поклониться, и Наденька поддалась на эту нехитрую провокацию. Усадив его на стул, она укоризненно глянула на меня, и принялась потчевать млеющево гостя вкусными вкусностями.
В груди зародилась глухая досада, и я развернул письмо.
«— Любезный Егор Кузьмич, давечась узнали ненароком, што вы и есть наш таинственный благодетель, не забывающий родную деревню неустанной помощью своей. Нет слов, какую горячую благодарность чувствуем мы к вам за ваши благодеяния…»
Морщусь, пробегая глазами обязательные в таких случаях славословия.
Я-деревенский не видит в них ничево худово иль хорошево, просто положенный поконом деревенский етикет. То самое, што когда не знаешь, как себя весть, ведёшь как предками заповедано, от века. Губы сами произносят заученные слова, члены совершают нужные движения, и неловкость ситуации прячется под кружевами обычаев.
Я-в-подсознании… вылез как нельзя некстати, и такое чувство неловкости распирает, такое смущение за обычные, освящённые временем строки на желтоватой бумаге, да земной поклон Агафона, коим он выразил мне благодарность общины, что и не передать!
Надя вела светскую беседу, а Агафон млел от внимания и господсково вежества. Засунув за одну щёку конфету, а за другую кусок сахара, он ломал мозолистой рукой баранки, и аккуратно рассасывал их с чаем, жмурясь от вкуснотищи. Морщинистая ево шея, вытянутая вперёд, делала старика похожим на антропоморфную черепаху.
Я мотнул головой, выбрасывая неожиданный образ, и снова вчитался. Ага, вот оно…
«— … шлите, Христа ради, денег, потому как живём в крайней нужде. Хлеб покупаем, а пуще того берём в долг, потому как в этом годе у нас снова неурожай. Яровой уродился плохо, а рожь побило градом. Нужно на хлеб, а ишшо на лошадей, потому как с ними совсем у нас плохо».
Подсознание жалостливо затрепетало, а циничный здешний-я сощурился, анализируя читанное. Врут! Как есть врут!
Што бедно живут, это как есть правда, но такая слезница, и не рукой учителя писана? Не… вот ей-ей, врак не меньше половины!
Тот бы написал поскладней, поглаже. Да и поуважительней было бы ево рукой, а эти… пиктограммы корявые. Значица, што? Не так всё и плохо, а просто — дай! А вдруг!?
Тётке неродной дал, так и прочие в Сенцово ни разу не откажутся. А общину тянуть… не-е!
Меня ажно тряхнуло, как представилось, што будто тяну я на себе всё Сенцово. Землицу общине прикупить, коровок-лошадок каждому. Да поплакаться бесприданнице какой о несчастной своей доле, потому как без приданого она никому и не нужна…
Ни много, ни мало, а несколько сот человек. Какая ни хреновая, а всё — родня! А всем дать, так давалка сломается!
Но надо. Потому как… я закряхтел, перечитывая письмо… пусть и не совсем плохо, но и хорошево мало. Да и откуда хорошему взяться, если землицы там — мало не на одноножников[9]? Как ни дели, как ни устраивай передел, а больше не станет. Н-да, ситуация…
— Значит, так, — я стукнул слегка ладонью по столу, привлекая внимание, и Агафон замер испуганным сусликом, — для начала хочу предупредить, што у меня скоро суд, и судить меня будут — за политику.
— Енто как? — опасливо поинтересовался старик, — Власти ругал?
— Царя, — и тут же поправляюсь, — так, во всяком случае жандармы говорят. И вы попасть можете под горячую руку.
Агафон зашамкал губами, расстраиваясь и мрачнея, стухая на глазах.
— Не расстраивайтесь вы так, дедушка Агафон! — Надя погладила старика по руке, — Всё хорошо будет! Егор просто совестливый, и не хочет втягивать вас в неприятности, потому и предупреждает заранее.
— Хорошо, значит? — старик начал надуваться взад, отчево у меня возникли весьма скабрезные мысли по такому ево надутию.
— Канешно! — звонко уверила ево девочка, подлаживаясь под простонародный говор, — Вот увидите! Если вас даже и будут спрашивать о чём, так вы правду говорите — пришли просить о помощи для односельчан, а никаких политических разговоров в вашем присутствии Егор не вёл!
— Ишь ты! — Агафон закрутил головой, — И всё?
— Канешно, — непуганая жизнью девочка Надя, даже удивилась. Старик с сомнением покрутил головой, но решил таки, што дело нищево — брать милостыню, а не интересоваться благонадёжностью дарителя.
— Ну тогда и хорошо, — закивал он, уставившись на меня с отчаянной надеждой в заслезившихся глазках.
— Значит… так, — повторился я, собираясь с мыслями, — всё Сенцово тянуть — тянулка порвётся. А вот, к примеру…
Как нарошно, пример не подворачивался.
… — санитаром в больницу могу помочь устроиться, — родил наконец мозг, — и не только в Москве!
Соображалка заработала на полную, и судя по выдоху Агафона, такие карьерные возможности весьма впечатлили пастуха.
— Как вам Одесса?
— Хто? — осторожно поинтересовался Агафон, уставившись на меня незамутнённым взглядом.
— Не кто, а где! Город такой, у самого Чорново моря! Портовый, тёплый. Вот в порт ещё могу помочь.
— Агась! — закивал старик, — Ето значит, одним работка в городе, а другим — землица оставшаяся? Так оно и ладно!
— А ето, — спохватился он, — с обедами при школе? Ну… и школа тож, штоб ребятишек питать, и грамоте, опять же, не лишнее…
Вытянув шею, он с тревогой вглядывался в моё лицо.
— Останется.
— Благодетель! — прослезился старый пастух, норовя припасть к руке.
— Санитаром, ишь ты! — со вкусом проговорил Агафон, выйдя со двора и щупая разбухший узелок, в который сердобольная горнишная насовала всяково. Даже и хлеб ситный есть, а?! Не сильно даже и заветренный! Небось и староста таким не побрезгует, а токмо спасибочки скажет, тока дай!
— Это ж кому такой карьер светит? — задумался он, — При больничке, да небось — доедать за болезными можно? Да-а… Одново киселя небось хучь объешься! И каши досыта. А всево-то — говна за болезными выгребать.
Рассуждая этак, он брёл потихонечку в сторону ночлежки. Переночует севодня, а завтрева и восвояси, а уж дома он обскажет всё как есть! Да… и сверх тово чутка!
«— Небось теперя не будут попрекать куском хлеба, да приживалом звать, хе-хе… Вспомнили о старике, ну да он теперь важнющий будет, а не как раньше. Как же, пробился к Егору Кузьмичу, и тово — добился! В город, да на такие работы уговорил, штоб помог устроиться, а?! А всё почему? Потому шта подход и уважение к каждому нужон!
Поехал бы старостёнок, так небось шишь ему, потому как забижал Егора по малолетству! А ён, Агафон, всёй-таки первый учитель, и уши зазря не драл! Ишь, в люди как высоко выбился…
Это ж теперя я сторожем при школе, — размечался он, — шти кажный день хлебать буду. Так вот кулаком по столу стукну, и скажу, што Егор Кузьмич велел миня как первово учителя свово особливо кормить! А?! При школе-то! При ребятишках-то веселей будет. И жалованье, ети ево!
Три рубля в месяц, да при казённом жилье и харчах, это же, это… деньжищи!»
Агафон снял картуз, утерев мигом вспотевшее лицо, и пошёл по городу Москве важно и чинно, как полагается чилавеку состоятельному и с положением в обчестве.
Глава 5
— … Егор Панкратов, четырнадцати лет, приговаривается… — губы судьи, зачитывающие приговор, шевелятся подобно двум жирным червям, но я не слышу, разом оглохнув и будто даже ослепнув. Перед глазами всё расплывается — слёзы…
Ловлю взглядом опекуна, кусающего губы и придерживающего обморочную Марию Ивановну, обвисшую на руках. Взгляд его виноватый и отчаянный, но я киваю ему решительно — всё будет хорошо, дядя Гиляй! Всё будет…
… коридор подземного хода, тянущего сыростью и холодом. Железо на ногах вытягивает остатки тепла, и ступни уже ледяные. Толчок в спину, и я касаюсь плечом обшарпанной краски, прикрывающей красный кирпич.
Камера. Сон, прерываемый по три раза в час, а днём — допросы по двенадцать-пятнадцать часов подряд, без возможности присесть или хотя бы прислониться к стене. Ни отдыха, ни глотка воды, и только лица сменяющих друг друга дознавателей — то спокойные, монотонно спрашивающие одно и тоже раз за разом, то надрывающиеся в крике.
Напрягшиеся жилы на шее, слюна в лицо, бешенство в глазах жандармов. Когда наигранное, верноподданническое, а когда и настоящее — от того, что я упорствую, усложняю им работу. Всё равно сломаем! Отвечай!
Отвечай, отвечай, отвечай… Ловят на противоречиях, пытаются сломать психику самыми разными способами. Задают интимные вопросы о горячечных подростковых снах, да думаю ли я в таком контексте о Марии Ивановне? Наденьке? Фире? Сами же за меня и отвечают, смакуя грязные фантазии.
Я уже осуждён, но им нужен показательный процесс, нужны сообщники…
… либеральная интеллигенция, жиды, инородцы, подозрительные иностранцы. Владимир Алексеевич, тётя Песя, Фира и всё, все, все.
Слышу разговоры жандармов, что будет громкий процесс. Большой. От меня не скрываются, и разговоры эти — часть ломки.
— Самодержавие не ограничивается правом, — интеллигентнейшего вида ротмистр расхаживает по кабинету с видом лектора, — наоборот — оно само его регулирует. Источник права в России — личная воля монарха!
Белые перчатки хлещут меня по щеке. Еле-еле, но я уже на взводе, и…
… сваливаюсь с кровати.
— А? Што?! — заполошился Санька, сев на постели и сонно лупая глазами, — Опять сны?
— Угу, — заваливаюсь на кровать, подтянув зазябшие ноги под одеяло. Но сердце колотится так, што ну не до сна!
Сажусь, нашаривая босыми ногами тапочки и стягивая с тумбочки часы. Щелчок… полпятого утра, можно уже и не ложиться. Пока оклемаюсь, пока то да сё, уже и вставать пора.
Потянувшись сонно, брат встаёт вместе со мной. Умываемся, просмаркиваемся и чистим зубы, не будя никого из домашних.
Чижик сонно плюхается на табурет возле кухонной печи, а я развожу примус и ставлю чайник.
— Што ж вы меня-то не разбудили, — укоряет выплывшая из своей каморки Татьяна, свято уверенная в том, што мужчины на кухне — сильно не к добру. Ишшо не рождение двухголового телёнка, но где-то рядышком со срывающим кровлю ураганом.
Несколько минут спустя мы едим яишенку на сале, да с грибочками и чем-то шибко секретным, но несомненно вкусным. Горнишная на скорую руку наводит какие-то блинцы, уже смазывая сковороду маслом.
Сон отпускает помаленьку, истаивая в наступающем утре, в запахах яишенки, в деловитой возне Татьяны, в сопении брата, сидящево по левую руку. Всего-то — страхи, разговоры многочисленных гостей Гиляровских о политике, да читанные мемуары о «деле пятидесяти[10]», и…
… дежурящие у дома жандармы.
Третью ночь так вот — с кошмарами, неотличимыми от реальности, и жандармами под окнами. Не скрываются — напротив, давят на психику мне, адвокату, свидетелям и всем-всем-всем. Молох. Личная воля если и не самого монарха, то Великого Князя. Самодержавие.
Знаю, што стоит мне подойти к окну, отдёрнув занавеску, как увижу дежурящего внизу низшего чина от жандармерии. Чёрный вход, парадный… всё едино. Не прячутся под дождём, маячат так, штобы их всегда было видно из окон квартиры Гиляровских.
Давление. На меня, на семью, на свидетелей и общественность. Я — особо опасный преступник, и все эти действия подчёркивают, што в верхах уже всё решили. Такие вот дела.
Выглянув в окно, вижу моросящий дождь и унылую фигуру жандарма, стоящую у дровяного сарая во внутреннем дворике — так, штобы видно было из кухонного окошка. Жалко служивого? Прислушиваюсь к себе… а пожалуй, што и нет. Но нет и злорадства.
— … за создание и распространение письменных или печатных изображений с целью возбудить неуважение к верховной власти, или же к личным качествам Государя, или к управлению Его государством.
Прокурор торжественно зачитывал текст обвинения, играя голосом как заправский актёр. Раздвоенная ево, тщательно расчёсанная на стороны борода подрагивает в такт.
— Кхе! Так же инкриминируется надругательство над изображениями императора и членов их семьи, в том числе умышленное повреждение или истребление выставленных в публичном месте портретов, бюстов.
— Кхе! Кхм! — бумага подрагивает в руке, — В распространении ругательных писем, бумаг или изображений, оскорбляющих правительство и чиновников.
Зачитав обвинительный приговор, обвинитель сел.
— Редкая гнида, — чуть повернувшись ко мне на деревянной скамье, шепчет Иосиф Филиппович, — большой поклонник Фукса и Дейера[11], как собственно и сам судья.
Киваю, и начинаю нервно напрягать и ослаблять пальцы ног в тесноватых прошлогодних полуботинках. Стараюсь сохранять хотя бы внешнее спокойствие, што даётся мне ой как нелегко!
Опрос свидетелей, каких-то невнятных, и в большинстве своём незнакомых мне личностей. Конкретики нет, лишь поток грязи и домыслов ради создания нужного обо мне настроя у присяжных.
— … так ето, — оглядываясь на судейских и старательно не глядя в мою сторону, рассказывал очередной свидетель, прижав картуз к груди, — ето Конёк, ево на Хитровке все знають! Опасный, стал быть, чилавек, господин… етот… барин ево правильно назвал. Сициялист как есть! Они так все сициялисты, до единого! Сициялисты и мазурики, так вот.
— Протестую! — встал адвокат, — Мы не услышали ничего по предъявленным обвинениям!
— Протест отклонён! — и свидетель продолжил своё путанный рассказ, кося глазами в сторону одобрительно кивающего представителя обвинения.
— Мажут, — сев, коротко сказал Иосиф Филиппович, настроенный весьма боевито и ничуточки не разочарованный.
— Ложечки нашлись, а осадок остался?
— Вроде тово, — усмехнулся старик, откинувшись назад с видом человека, сидящего в кабинете ресторана после хорошево обеда.
— Адвокату есть что сказать? — пожевав дряблыми губами, поинтересовался судья, выслушав свидетельские бредни с самым благосклонным видом, и подавшись вперёд так, будто говоря «- Ну-ка попробуй! Скажи!»
Иосиф Филиппович, нимало не смущённый столь открытым давлением, встал.
— Фарс!
… и сел назад.
«— Лучше тысячи слов!»
Судья застучал молотком, напоминая о неуважении к суду, апоплексически ярясь и тряся отвислыми щеками.
— Если бы Герард Давид[12] присутствовал на этом суде, — громко сказал Иосиф Филиппович, — он бы написал не диптих, а триптих.
Судья побагровел ещё больше, застучав молотком. Присяжные зашептались, послышались нервные смешки на галерке.
Обвинитель дёрнул щекой, и…
— … своими глазами видел, вот те крест! — новый свидетель, пожилой мещанин, истово перекрестился, а потом с ненавистью глянул в мою сторону, сощурившись близоруко, — На дерево облизьяной, а потом раз! И патрет! На шибенице! Я тогда не понял, а потом мне пояснили, што сие не демон на трупах пляшет, а сам Государь в таковом обличьи. У, злыдень!
Он погрозил в мою сторону сухоньким кулачком.
— Свидетель несколько горячится, — перехватил инициативу прокурор, — но я могу легко понять верноподданного, столкнувшегося с чудовищным… не побоюсь этого слова — вопиющим случаем! Случаем, от которого любой нормальный человек, не думая долго, закатает рукава, и возьмёт подвернувшуюся под руку сучковатую дубину[13], дабы гвоздить супостата без всяких дуэльных правил!
— И Отечественную войну сюда приплёл? — сощурился адвокат, с самым благодушным видом взирающий на Демосфена от прокуратуры.
— Он, кажется, близорук, — прошептал я адвокату.
— Да?! Ещё интересней…
— Благодарю уважаемого обвинителя за прекрасное знание отечественной истории, — с нотками снисходительности сказал Иосиф Филиппович, получив слово, — приятно, право же, знать, што современная молодёжь получила хорошее образование.
Пятидесятилетний представитель «молодёжи» усмехнулся кривовато, но смолчал, не вступая в полемику.
— Скажите пожалуйста, — ничуть не смущённый, Иосиф Филиппович обратился к свидетелю, — значит, вы сначала думали, што на сей картине изображён демон? Замечательно… могу я попросить внести наконец вещественное… хм, доказательство в зал суда?
Небольшая заминка, и продукт моево творчества внесли в зал на всеобщее обозрение. Присяжные зашушукались, среди публики послышались смешки.
— Художественная ценность… — присяжный поверенный пожевал губами, — не могу судить, но если пришлось растолковывать свидетелю, што на ней именно Государь… Я к слову, не вижу никакого Государя на этом… хм, холсте.
— Обезьяна, — с наслаждением проговорил он, — коронованная обезьяна, танцующая на трупах. Впрочем…
Иосиф Филиппович с сомнением оглядел сторону обвинения, и пожал плечами красноречивым видом.
— Проявите уважение к суду! — весьма не к месту застучал молотком судья. Адвокат, не оспаривая эти слова, ещё раз осмотрел парсуну Николая Второго… по утверждению обвинения…
Кошусь в сторону опекуна, тут же закивавшево мне, и киваю ответно. Держусь, дядя Гиляй! Держусь!
— Н-да… Представьте, — продолжил Иосиф Филиппович, — что я нарисую… допустим, осла[14]. Или обезьяну. И кто здесь оскорбляет Государя? Я? Или может быть, прокурор, ухитрившись увидеть царственные черты на этом… хм, полотне.
— Вы считаете Государя ослом или обезьяной?! — тон адвоката резко переменился, и такой в нём был яростный напор, што прокурор отшатнулся и…
— Обезьяной?! — смена ролей резко ударила по чиновнику, и пока он, задыхаясь, подбирал слова, Иосиф Филиппович продолжил с экспрессией.
— Как можно продолжать этот судебный фарс, если прокурор считает Государя обезьяной?!
— Я, я…
— Неуважение к суду!
Казалось, судья сейчас выпрыгнет и вгрызётся оставшимися у нево гнилыми зубами в морщинистую шею моего адвоката, такая в нём плескалась ненависть. В потухших глаза прокурора — понимание закатившейся напрочь карьеры и возможной отставки. Если повезёт — с пенсией.
— … и наконец, — Иосиф Филиппович, снова вальяжный, вызвал основного свидетеля обвинения, — милейший Иван Сергеевич, вас не затруднит сказать, на каком расстоянии вы видели якобы моево подзащитного?
— Саженей двадцать, — опасливо отозвался мещанин, заробевший после увиденново.
— Замечательно! — восхитился адвокат, — Я рад, што вы смогли сохранить остроту зрения в достаточно преклонном возрасте.
— Господа, — обратился он к залу, — гимназический курс математики все помнят? Каково примерно размера будет голова человека на таком расстоянии? Замечательно!
Вытащив фотокарточку, он принялся отмерять шаги, и наконец — поднял её над головой.
— Запас видимости в вашу пользу, Иван Сергеевич, — сказал он, — я прошу вас только сказать — кто изображён на этой карточке! Ну хотя бы — мужчина это, женщина…
— Женщина, — брякнул щурившийся свидетель явно наобум.
— Ну… почти угадали, — согласился Иосиф Филиппович, — сука. Фотография моей любимой левретки Жужи.
Поднявший хохот не сразу заглушил стук молотка, и…
… оправдан по всем пунктам.
— Это ещё не конец, — пророчески сказал Иосиф Филиппович, закончив принимать благодарности и поздравления с видом олимпийца, уставшего от фимиама от простых смертных.
— Это ещё не конец, — повторил он, сощурившись, и в его выцветших старческих глазах, в самом тоне сказанных слов, мне почудилось, как наяву — облегчение. Облегченье человека, который смог — вот так, во весь рост! Пусть даже и на старости лет.
Глава 6
— Я бился за каждый рубель! — патетически воздевая костлявые, веснушчатые руки вверх, и будто бы призывая Всевышнего в свидетели, — повествовал Лев Лазаревич, тигром расхаживая по полутёмной комнатке на заду аптеки, — За каждый наш шекель, за полушки и полугроши! Ни шагу назад!
Глаза ево сверкали по-кошачьи, а присыпанные перхотью пейсы развевались победными флагами. Воитель! Финансовый кондотьер, берущий штурмом чужие капиталы и успешно защищающий честно награбленное!
— Лев из колена Давидова, — усмехнулся я.
— Ой! — всплеснул руками компаньон, резко повернувшись ко мне, крутанувшись на пятках, как молодой, — Вам таки смешно за деньги? Могу поторгованное отложить сугубо в свою, а не в нашу общую пользу!
Он чуть ссутулился и вытянул худую шею — чисто стервятник, готовый вот прямо сейчас броситься к столу с финансовой документацией, и душить мине фактами, как опытный бухгалтер с двойным дном. Тыкать сухими пальцами в аккуратно выведенные циферки, посылая оппонента в нокдауны собственной несостоятельности. Герой увлекательного мира ростовщичества и гешефта!
— Да шо ви такое говорите, Лев Израилевич?! — я вытаращился на него по обычаю Привоза, разговаривая не только языком, но руками и всем своим лицом так, шо куда там миму! — Как ви можете видеть странную насмешку там, где есть большое моё одобрение и искренне восхищение вашим неустанным трудом в свою и нашу пользу!? Ещё самую немножечко таких необычных для вашево народа мыслей и разговоров, и ви таки повесите у сибе иконы, подружитесь с толстым батюшкой, и станете интересно говорить за погромы во время чая с мацой!
— Мине показалась ваша улыбка? — прищурился он, — Таки да или — извините, Лев Лазаревич?
— Улыбка радости и одобрения, Лев Лазаревич! — всплеснул я руками, делая большие еврейские глаза, — Где я могу горевать и хмурить брови домиком, когда ви говорите мине за прибыль!? Извините таки, шо я радуюсь, когда мине говорят за мои деньги в сторону прибыли! Ещё немножечко, и стану с подозрением смотреть на вам! В конце концов, кто из нас двоих жид, который должен подавать другому пример правильного отношение к шекелям?!
— Таки ой! Совсем обрусел, — компаньон мой потёр лицо, и уже с меньшим пылом начал рассказывать за антикварный бизнес. Прибыль таки да, но мы таки посовещались, и я решил пустить её в оборот и на пользу, а не хапнуть на карман здесь и сейчас.
Лев Лазаревич от моево решения пришёл в некоторый минор и вздыхание, но на прямой вопрос, а што с ним не так, только сопел и вздыхал.
— Да всё понимаю! — взорвался он наконец, шумно высморкавшись в большой клетчатый платок, нервно теребимый руками, — Но это же не значит, шо мине нельзя погрустить о деньгах, которые будут не прямо сейчас в моём карманах, а когда-нибудь потом через может быть?!
После попив чаю с вкуснющими бейглами[15], распрощался с компаньоном и евойной супружницей, выйдя из затхловатой аптеки на свежий, но излишне сырой московский воздух. Порывистый ветер сразу бросил в лицо мелкие брызги, пахнущие палой листвой и немножечко дымом с конским навозом, и я сразу одел поглубже шляпу, натянув чуть не по самые уши.
— Постой-ка… — вцепилась в меня какая-то мещанка из ремесленных — совсем старая, чуть не пятидесяти лет, — милок…
— А-а! — взывала она внезапно пароходной сиреной, когтисто вцепившись в рукав и потянув меня вниз…
«— Вы получили дебаф — оглушение!» — выскочило в подсознании не к месту, и меня будто шарахнули кулаком по голове, выбивая сознание. Нокдаун!
… — ето ж тот! — орала она зажав меня в угол и обдавая нечистым дыханьем впополам с летящей слюной, — который против Государя анпиратора гадостное всякое! Вот он, люди! Глядите на нево!
Крутанувшись вокруг себя, пытаюсь вырваться и уйти, не схватываясь с бабкой напрямую.
— Убили! А-а! Как есть убили! — не прекращая визжать, бабка вцепилась в меня, повиснув всей тяжестью на руке.
— Ты чево это женщин забижать задумал? — шагнул ко мне добрый молодец, из охотнорядских по виду, закатывая рукава на волосатых руках, размерами и цветом напомнивший мне окорока. В маленьких, глубоко посаженных глазах цвета остывшево свинца, плещется медленно нагнетаемая ярость. А ещё радость и… боевое безумие.
«— Халк крушить!»
— Жи-ид! — бабка, войдя в раж и не заприметив добровольного помогальщика, сама заступила ему дорогу, ткнувшись согнутой костлявой задницей куда-то чуть выше колен, — От жида вышел! А-а! С жидами дела ведёт, супротив Государя!
— Тьфу на тебя, тьфу! — смачный плевок растёкся по моему лицу, и я, не сдерживаясь уже, толкнул старуху в объятия охотнорядца, вышагивая из угла и неистово вытирая лицо рукавом, сдираю слюну едва ли не вместе с кожей — до крови.
— Женщин… — радостно проревел добрый молодец, приняв бабку и тут же небрежно спихивая её в сторону, где она и завалилась набок на скользкой от влаги брусчатке, показывая нечистые нижние юбки, — забижать…
Богатырский замах с плеча, рука отведена так далеко, будто охотнорядец вознамерился метнуть копьё. Шаг назад, уклон… и кулак с гулом пролетел мимо моей головы, а охотнорядец по инерции завалился вперёд.
Кастет будто сам впрыгнул в руку, и н-на! По почкам, да весь свой невеликий вес, всю свою силу — от бедра, провернувшись на носке!
Тело свернулось калачиком, подвывая, а я уже спрятал кастет — как и не было. И только сейчас вижу — зрителей, свидетелей… досадливо хмурящийся полицейский в штатском и городовой, только подносящий свисток к губам.
— Фыр-р! Фыр-р! — и гулкий топот тяжёлых сапожищ. Грузный городовой, придерживая рукой отроду не точенную шашку, спешит ко мне, дуя на ходу в свисток и отчаянно раздувая выбритые до синевы толстые щёки. Усищи ево тараканьи дрыгаются в такт шагам. Бум! Бум!
Хвать! Выпученные от служебного рвения глаза с красноватыми прожилками, железные пальцы на моём плече, запалённое дыханье завзятово курилищика и выпивохи. Запах водки, лука, ваксы и крепкого табака.
Ждали.
Участок, составление протокола…
— Имя, фамилия, род занятий… — писарь заносит перо над чернильницей.
— Я! Я свидетель! — немолодой осанистый господин в бобровой шубе ворвался в участок, распихивая не успевших увернуться служивых.
— Мы… ф-фу… с супругой прогуливались, и видели всё происходящее! Ф-фу… Проверьте этих двоих… молодчика с бабкой… ф-фу… на соучастие. Очень уж похоже на срежессированную сцену, мошенники какие-то!
В голосе благонамеренное возмущение честного и неравнодушного гражданина.
— В суде если понадобится, всегда пожалуйста…
Визитки — мне, полицейским… принимаю с благодарностью. Солидный человек, и што важно — не на государственной службе, то бишь — не надавишь.
Недовольное лицо агента в штатском в углу участка. То кривит губы, то собирает их куриной жопкой, двигая рыжеватыми усами. Недовольный. Сорвался с крючка нехороший я. И обещание в глазах…
«— До следующего раза, Враг Государства!»
… иль почудилось?
— Егор! — удаляюсь от полицейского участка быстрым шагом, подняв воротник и ощущая на лице этот вроде бы и вытертый плевок, в грудях всё кипит и клокочет, — Егор!
— А? — Оглядываюсь, и верно — догоняет кто-то. Долговязая фигура, знакомое лицо… — Ба! Сергей Сергеевич!
— Он самый, — знакомый ещё по Бутово скубент… хм, студент, догнал-таки, отчаянно при том запыхавшись и покрывшись испариной, — А вы Егор…
— Кузьмич.
— Егор Кузьмич, — повторяет знакомец, протягивая руку, — вы не против разговора? Надолго мы вас не займём!
Ну раз ненадолго… Особо-то и тянет-то, говорить кем-то, но настроение такое, што ух! Остыть надобно, потому как не дело это, на домашних срываться.
В ближайшем извозчичьем трактире, полупустом по безвременью, заняли столик в углу, запросив чаю у молоденького полового в белейшей рубахе голландского полотна.
Старые знакомцы — Сергей Сергеевич и Анатоль, да двое молоденьких совсем — тока-тока из гимназии — Глеб и Андрей. Прыщи ещё юношеские не прошли, пух над верхней губой, необмятые студенческие шинели, новёхонькие фуражки на стриженных головах.
В рот Сергей Сергеичу, мало не как птенцы — только и осталось, што рты раззявить. А тот как должное принимает. Вождёнок!
Разговор издалека начали, с подходцем. Вспомнил Сергей Сергеевич бутовское наше знакомство, посмеялся снисходительно. Анатоль второй скрипкой в этом дуэте сыграл, и отменно фальшиво! Хехекал и улыбался сугубо после оглядки на старшево… да товарища ли?
— Что же вы, Егор Кузьмич, таили от нас в Бутово свои способности? — попенял мне Сергей Сергеич свысока, — Могли бы свести вас с нужными людьми — привести, так сказать, к свету!
А в глазах такая снисходительность, такое чувство собственной важности!
«— Наше величество» — вякнуло подсознание, и я согласился — похоже!
— Да я и так… хм, на свету.
— Хе-хе! — Сергей Сергеич засмеялся, будто удачной шутке, грозя мне пальцем, и внезапно тяжко раскашлялся, совершенно чахотошным образом.
«— Эк тебя!» — и я опасливо отодвинулся чуть назад, откинувшись на спинку скамьи самым невоспитанным образом.
— К газете прибиться, это хорошо, — кивочек лёгонький свысока, вроде как одобряет, — но это не отменяет необходимость нормального образования, нормальной жизни…
Я ажно озадачился — никак не признал? Думает, што я при газете курьером? Однако… Не сразу-то и выдохнул удивление своё, а потом — да, не велика птица-то! Широко известен в узких кругах, так сказать. Никак не на всю Россию-матушку.
Даже и статейки после суда такие себе сумбурные и путанные вышли, што скорее — за или против, а никак не мою биографию печатали. Отношение к ситуации в целом, ко мне, к великолепной работе адвоката, но никак не о Великолепном Мне!
Посмеялся мысленно, а когда вернулся в реальность, то Сергей Сергеич моё будущее уже расписывать начал — радужными тонами, сугубо в своём понимании.
— … нормально образование, да-с… Могу уверить, что года за два-три сможем вывести вас на уровень, достаточный для сдачи экзаменов за прогимназию.
— Э-э… простите? Я как бы… уже?
— Што-с? — подавился словесами Сергей Сергеич.
— Сдал. За прогимназию, — озадаченно морганье.
— Простите? — осторожно сказал Анатоль, снимая и протирая свои очёчки, как бы не те же самые, — Вы хотели сказать «В» прогимназию?
— Закончил экстерном.
— Замечательно! — воодушевился Сергей Сергеич, но как-то фальшиво, будто наличие у меня аттестата што-то ломало в ево планах.
— Простите, — залюбопытничал Глеб, и очкастый Анатоль с долговязым Сергей Сергеичем уставились на него с таким искренним недоумением, будто их младший товарищ и не говорил до этого дня, — а не вашего ли авторства статьи Палестинского цикла?
— Мои, — соглашаюсь с ним, обхватив ладонями горячий стакан в подстаканнике.
Неожиданный поклонник стал выпытывать подробности путешествий по Святой Земле, а заодно — биографию.
… — английский, немецкий, французский, греческий, идиш, турецкий, иврит, арабский. Последние три не так чтобы и знаю — скорее могу объясниться, но никак не вести учёную беседу.
Сергей Сергеич не мешает нашей беседе, вся его долговязая фигура напряжённо замерла в неудобной позиции, а в глазах прямо-таки мелькали мысли. И вот ей-ей — раздражает ево мой успех, как есть раздражает! Были у нево планы на гонимого меня… какие-никакие, а теперь через колено их ломает, приспособить пытается под факты. Нужен я ему, а вот он мне…
— … волчий билет, — отхлёбываю чай, — так што с поступлением в гимназию и тем паче университет планов не строю.
— Можно же и так учиться! — горячо настаивает собеседник, — Поможем ему — так, Сергей Сергеевич?
— Составить планы занятий, подобрать литературу, — оживился тот, — познакомить с интересными людьми.
А в глазах снова расчёт на меня, но не в мою пользу. Видно такое — своеобразный холодок веет, и будто циферки мелькают. Я для него — функция, инструмент. Да собственно, как и товарищи, включая верного Санчо Анатоля.
— Да собственно, уже, — чувствую, фраза эта сегодня набьёт оскомину, — гимназический курс математики и физики уже прошёл, занимаюсь теперь по университетской программе.
— Думаю, — в порыве откровенности делюсь с Глебом, — по наступлению совершеннолетия, а может быть и пораньше, в Европе отучусь.
— Выходит так, — с грациозностью парового трактора вклинился в беседу Сергей Сергеич — как человек, искренне уверенный, што «право имеет», — что власти не дают вам учиться? Вам — человеку, который научился грамоте по вывескам, а через несколько месяцев уже разговаривал и читал на двух иностранных языках?
Киваю…
— Замечательно! — он аж светится, но тут же спохватывается, — То есть лично для вас, разумеется, скверно! Но ваш случай может и должен стать примером того, как царизм относится к простому народу! Примером того, как талантливые люди, не являющиеся представителями привилегированного сословия, не могут получить нормального образования!
Голос его гремит литаврами по всему трактиру. Видно, што человек не хочет сдерживать себя — он из тех, кто готов всё и вся бросить на Алтарь Революции.
— Вы должны стать нашем штандартом, Егор, — он прерывает речь, хватая меня за руку и гипнотически вглядываясь в глаза, — Сейчас, именно сейчас выступить против Самодержавия! Громко, ярко! Разумеется, мы проиграем, но ваш пример…
— На хуй!
— П-простите… что? — Сергей Сергеевич неверяще смотрит на меня.
— На хуй пошёл, пёс! — меня ажно трясёт от ярости, — Своей жизнью ты можешь распоряжаться, как хочешь, но никогда не пытайся играть чужими!
— Штандарт, блять… — вцепляюсь руками в столешницу, потому как — ну очень хочется даже не кастетом, а ножом — по горлу. Так, штобы кровища веером разлетелась, — знамя ему… Должен! Я?! Для врагов — нет выше чести, как кинуть вражеский штандарт под ноги, а для тебя…
Столешница прогибается под пальцами, а перед глазами у меня — пелена кровавая.
.. — как римского орла — жопой на кол? Штандарт?! Пусть сдохну, но воодушевлю… Пшёл, с-сука…
Компания вымелась из трактира, как и не было, и я медленно опустился назад. Найдя взглядом полового, поманил его одними глазами.
— Водки!
Глава 7
Пряча в серых глаза опаску, половой споро принёс водку и нехитрую закуску на подносе из разукрашенной жести. Запотевшая стопка водки, солёный огурец, одуряюще пахнущий травами и чесноком, и пара запеченных яиц с остатками золы на скорлупе встали на стол, споро обмахнутый полотенцем.
Решительно хватаю стакашок и…
… меня долго рвёт на выщербленные доски пола. Запах дрянной водки пробудил во мне всё, казалось бы, давно забытое. Сапожник с занесёнными кулаками, поглаживающий по бедру хитрованец с масляно поблёскивающими глазками…
«— Психосоматическое» — выдало подсознание.
— Ничево, вашество… — половой суетился с тряпкой, не показывая брезгливости, — сейчас я ето… Не извольте переживать, оно от волнения… да-с… никак не от водки! Да-с! У нас, бывалоча, и купечество захаживает, и никаких, знаете ли, претензиев!
Выхлестав остывший чай и прикусив огурец, я загасил-таки привкус желчи во рту, вытер рот поданным полотенцем и ушёл, к превеликому облегчению полового, оставив на столе серебряный рубль за беспокойство.
— Завсегда, да-с… — кланялся он, — рады-с… Только прощения просим — без таких вот, как эти господа. Одни неприятности от таких, просим прощения-с… Вам, стало быть, рады завсегда, а ентим господам мы заповедуем, да-с…
Угукаю и выхожу из трактира, успевая краем глаза заметить, как половой, оглянувшись по сторонам, хлопнул украдкой оставшуюся нетронутой водку, и подхватив назад поднос с оставшейся закуской, заспешил на зады трактира.
Меряя шагами московские улицы, подставлял разгорячённое лицо дождю и ветру, перепрыгивал лужи и раз за разом переживал случившееся. Бабка это чортова… и не важно, провокаторша это полицейская или так… из верноподданных дур. Первая, так сказать, ласточка.
Глаза полицейского агента, обещающие скорую встречу… старуха-гарпия, да р-революционные студенты с Сергеем Сергеичем… Вождёнок, мать его!
Такие, ничтоже сумнящеся, приговаривают к смерти даже и собственных товарищей — по малейшему подозрению, за недостаточностью рвения, за пропажу пёсьей преданности в глазах. Не Революция им важна и тем паче не результат, а их место в Революции, строчки в учебниках, собственные бронзовые бюсты когда-нибудь потом, в светлом будущем. Фанатики, повёрнутые на идее и собственном величии. На идее собственного величия.
— А ещё чахотошный! — вырвалось у меня вслух, и я даже огляделся по сторонам, засмущавшись. Но, слава Богу, улица по непогоде пустая, и лишь редкие прохожие спешат, натянув шляпы и подняв воротники, да жмутся под козырьками и навесами дворники и разносчики, дожидаясь окончания дождя.
Вырвалось и вырвалось, но почему-то — в голове занозой под ногтем застряло.
— Точно! — остановившись, прищёлкнул пальцами, и пошёл дальше, замедлив шаги. Личность психопатического типа, с болезненным самолюбием… и я, обложивший его хуями… а ещё страх, выметший всех четверых из трактира. Не простит! Не тот человек. И чахотка, то бишь не затаится, а может наотмашь — здесь и сейчас! Просто штоб не одному помирать.
— Тьфу ты! — досадливо плюнув на растекающееся по пузырящейся луже конское яблоко, попытался убедить себя, што — ерунда всё!
Но как-то не убеждалось. Такие вот Сергеи Сергеичи, они за всё хорошее против всего плохого, но как-то так выходит, што борьба их ведётся вроде как против самодержавия, а по сути — с собственными товарищами. За место в иерархии стаи, за иное толкование священной для них идеи, за…
… и главное, падлы такие, не тонут! Как говно. Стреляют, утверждают приказы товарищам по движению, и живут, даже и с чахоткой. Только глаза гипнотически пучат, да речи произносят, свято уверенные в собственной нужности. А такие, как Глеб — под пули полицейских, на каторгу, в тюрьмы.
Домой пришёл совершенно мокрый, пахнущий рвотой и почему-то псиной. Татьяна, приняв чуть не насквозь промокшую верхнюю одежду и обувь, споро унесла их сушиться, ворча и причитая.
— Я ванну набираю, Егор Кузьмич! — донеслись безапелляционные её слова, и тут же раздался звук открываемых кранов в ванной, — И может, коньяку прикажете?
— Чаю! — передёрнул я плечами при одном упоминании алкоголя, и Татьяна, выказав глазами недоумение и несогласие, принялась хлопотать.
Несколько минут спустя я лежал в ванной, а на специальной подставке стоял стакан в серебряном подстаканнике, в котором плескался крепченный, едва ли не дегтярного цвета чай. Отхлебнув, поморщился чутка — сладкий! А знает же… впрочем, как лекарство — самое то.
Днём коротал время, придумывая для Нади идеи к «Гарфилду», пытаясь пусть не забыть, но хотя бы — забить эмоционально произошедшее днём. Не думать, не вспоминать…
— Вот прям толстого такого? — не унималась Надя, — А не слишком?
— Для улыбки, — поясняю ей снисходительно, — штоб просто глянул на таково пузана, и губы сами вверх в улыбке подёргивались.
— А…
Раздражённый бестолковостью девчонки, я объяснял, рисовал, предлагал идеи…
… а потом р-раз! А тревожности-то и нет! Просто — воспоминание неприятное.
— Спасибо, — остановив объяснение, говорю ей.
— Всегда пожалуйста, — бестолковая девчонка разом преобразилась в смешливую и немного ехидную интеллектуалку, которая не только пишет книги, издающиеся в шести странах, но и регулярно печатается в газетах, — братик!
— Хм… сестрёнка, — покатал я на языке и кивнул, глядя в спину Наде, собравшейся с альбом в свою комнату. А ведь и верно… сестра! Родней родных.
Тревожность окончательно ушла прочь, и грудь распёрло, как надуваемый воздушный шарик. Какой же я всё-таки счастливый!
Вечером Владимир Алексеевич, придя из редакции довольно рано, выслушал меня, задавая уточняющие вопросы. Санька, допущенный до серьёзного разговора, сидел тихой мышкой, сочувственно сопя на некоторых местах моево рассказа.
— В открытую, значит, — опекун пробарабанил сильными пальцами по подлокотнику, — хм… могут! Напортачили сами, а обидеться за своё скудоумие на тебя изволили? Эти могут… не впервой.
— Или повыше кто? — он задумался, мрачнея и подёргивая ус, — Н-да… очевидно, што вероятно. Не факт, далеко не факт… мелковат ты, как по мне, штоб Великий Князь…
— А пониже кто? — осведомился брат, — Сам бровкой повёл, и без всяких слов хотение исполнят.
Сказав, он тут же засмущался, и даже вжался немножечко в кресло.
— Очень может быть, што и да, — согласился Гиляровский с ноткой сомнения, — излишне ретивый… пожалуй. Есть категория служак, готовых впополам порваться ради одобрительного начальственного кивка. Тем паче… хм, других пополам рвать.
— Показать служебное рвение в деле, попавшем на вид начальству? — поинтересовался я, и дядя Гиляй кивнул в ответ, кусая задумчиво ус.
… — ещё и революционеры, — упавшим голосом сказал он несколько минут спустя, и мне стало неловко.
— Да ты тут при чём? — понял опекун моё состояние, усмехнувшись кривовато, — Просто один к одному всё, комом скаталось. Акция… пожалуй, што и нет. Не сейчас, по крайней мере. Не… острая. Уж поверь, я эту публику знаю получше. А вот нагадить, и крепенько, могут.
— Да хоть провокацию! — выпалил Санька, подавшись с дивана вперёд, — Што?! Вроде как от полиции нагадили, а сами в сторонке! Ты в тюрьме, у них — возможность в колокола бить, што самодержавие забижает…
— Обижает, — поправила его Мария Ивановна, вздыхая.
— … обижает, — послушно повторил брат, — и этот Сергей Сергеевич всё равно тебя через своё колено, под свою волю ломает. А?! Тут тебе и месть, и всё, што хочешь!
— Весьма вероятный сценарий, — захмурился Владимир Алексеевич, дёргая себя за ус, — дружный тандем полиции и революционеров, двигающийся в одном направлении, это достаточно серьёзная проблема. Не критичная в ином случае, но сейчас, пожалуй…
— Так! — он хлопнул ладонью по подлокотнику кресла, — Собирайся, поедешь…
— В Одессу? — оживился я, сразу вспомнив о Фире, тёте Песе и многочисленных приятелях и деловых партнёрах. Там-то небось ни одна полиция не достанет!
— Подальше, — хмыкнул дядя Гиляй понимающе, — и сильно. Соскучился? Дело молодое… Палестина, хм…
— Сергей Александрович, — подала голос Мария Ивановна, — председатель Императорского Православного Палестинского Общества, которое ведёт весьма деятельную политику на Святой Земле.
— Хм… — Владимир Алексеевич снова подёргал себя за ус, — Школы для беднейших слоёв населения, учительская семинария, обширный прозелитизм и благотворительность. Спасибо, Машенька, я это упустил из виду.
— Могут нагадить, — упавшим голосом констатировал я, — хотя бы по принципу ефрейторского зазора[16].
— Ну-ка? — оживился опекун, и я рассказал. Посмеялись, сбросив напряжение, но Палестина — увы, отпадает. Тамошняя первобытная простота нравов может здорово аукнуться: донесутся слухи о нелюбви Большого Белого Сахиба из Москвы, и — чик ножичком по горлу! С полным осознанием правоты и надеждой на Большую награду.
— В Европу… — опекун задумался, — аккредитации тебе не дадут, а вот в места с несколько более простыми нравами — пожалуй. Как тебе Африка?
— Здоровски! — выпалилось у меня, — Всегда хотел!
— А… я тоже, — решительно сказал Санька, весь напружинившись и приготовившись отстаивать своё право на Приключение, — Мне, как художнику, очень важно…
Он ажно задохнулся, не в силах подобрать слова, и только умоляюще переводил взгляд с меня на Владимира Алексеевича и Марию Ивановну, сразу же поджавшую губы. Я тут же закивал, и мы вдвоём принялись гипнотизировать опекунов.
Женщина быстро сдалась, и только вздохнула, махнув на нас рукой.
— Ну вот и решено, — усмехнулся Владимир Алексеевич, — Великобритания снова бряцает оружием, на сей раз в Южной Африке.
— Полагаю, — сказал он тоном умудрённого человека, — дальше нескольких стычек дело не зайдёт, а дальше либо быстрая аннексия, и у Британии появится новый доминион, либо — возобладает здравый смысл, и буры удовлетворят требования Великобритании, не доводя ситуацию до критической.
— Да Бог с ними! — отмахнулся я рукой, — Даже и без военных действий африканский антураж должен понравится читателям.
— Ага! — поддакнул Санька, — Я собираться! Жаль только, Мишку Федул Иваныч и дед точно не отпустят! А было б здоровски!
— Кажись, налево, — задумался Пономарёнок, чиркая спичками и пытаясь разглядеть в подземельях Хитровки условные метки.
— Потуши, дьявол! — рявкнула взлохмаченная голова, высунувшаяся из какой-то щели, — спать не дают!
Мишка отскочил с колотящимся сердцем, схватившись за подаренный братом револьвер. Выдохнув и несколько успокоившись, он устыдился своево испуга и решительно свернул налево…
… заблудившись самым решительным образом.
— Штоб я ещё раз, — бухтел он себе под нос, пробираясь впотьмах по подземелью, — да без Егорки сунулся сюда? Да ни в жисть!
Услышав поскуливание, Мишка решительно двинулся в тут сторону, здраво рассудив, што ни одна собака не станет по своей воле забираться глубоко по землю. И стало быть, либо она там с хозяином, либо недалече выход на поверхность.
Пару раз споткнувшись о валяющиеся под ногой булыганы, да вляпавшись ногой в кучу говна, неоспоримо свидетельствовавшего о близости жилья, подросток пошёл медленней.
— Терпи, — услыхал он чуть погодя чей-то пьяненький голос, — я кому сказал — терпи!
И снова этот щенячий скулёж, от которого заходится сердце. Шаг…
… эта картина навсегда осталась в памяти Мишки.
За небедным столом — с самоваром, водками, баранками и колбасой, пировали несколько нищих. Скулил же ребёнок, мальчик лет шести. Стоя у края стола, он с белым от ужаса лицом смотрел на своих мучителей, но даже и не пытался вырваться из цепких пальцев. Только тоска да обречённость запредельная во всей его покорной фигурке.
Кривой старик с пропитым лицом потянул его за руку, и открыл краник самовара, обваривая кипятком тонкую ручку.
— Терпи, — ханжеским тоном сказал он дрожащему всем телом ребёнку, скулящему от нестерпимой боли и ужаса, — Господь терпел, и нам велел!
Крепко вцепившись в ребёнка, старик раздувал широкие ноздри, будто впитывая страдания. На лице ево появилось странное выражение…
— Лицо иму обвари, — пьяно сказал кривому старику один из калунов помоложе, — для жалостливости штоб!
Мишка сам не понял, как выдернул револьвер. Выстрелы во влажном подземелье прозвучали глухо. Дёрнулись ноги одного из нищих, пытающегося спрятаться за большим сундуком, и Пономарёнок, оскалившись совершенно безумно, добил его выстрелом в голову.
Чувствуя опустошение в душе и какую-то глубинную правильность своих действий, он перезарядил револьвер, тяжко дыша в пропахшем сгоревшим порохом воздухе подземелья.
— Пошли, — Пономарёнок протянул руку ребёнку, — я отведу тебя домой.
— У… тот заколебался, но дал руку, — у меня нет дома, я сирота.
— Теперь есть, — кривовато улыбнулся Мишка.
«— Дед уже старый, — подумал он со странной смесью цинизма и жалости, — тово и гляди помрёт. А так… глядишь, и поживёт ещё, коли будет о ком заботиться. И етот, мелкий… братом будет!»
Глава 8
Не отпуская руки найдёныша, Мишка добрался-таки до выхода из трущоб, и спорым шагом направился к ближайшему трактиру, который можно с натяжкой назвать пристойным, поглядывая тревожно на дрожащего всем телом мальчика.
— Мне б сметанки, — он протянул полтину до полусмерти замотанному трактирному мальчику, встретившему ево у двери, — и тряпицу чистую, перевязать.
— Сию… — начал было мальчишка сонно, натянув на веснушчатое, будто засиженное мухами лицо, несколько щербатую, но несомненно вежественную улыбку, — ба-атюшки! Пров Василич, Пров Василич!
Лавируя меж пустыми столами, он унёсся в сторону кухни, откуда навстречу вышел немолодой повар, вытирая на ходу руки о фартук.
— Чевой ето расшумелся, паскуда мелкая? — отеческий подзатыльник, от которого только клацнули молочные зубы ничуть не смутившегося таким приёмом мальчишки.
— С ожогом тута, сметаны просют и тряпицу чистую.
Повар мигом подобрался, и…
— Охти Божечки, — несколько секунд спустя причитал он, разглядывая тонкую ручку, на глазах покрывающуюся пузырями, — сейчас, сейчас…
Найдёныш был затащен на жаркую кухню, раздет догола с молчаливого разрешения Мишки, и тщательно осмотрен на предмет других повреждений, коих оказалось немало. Синяки, следы ремня и розог, ожоги от цигарок и какие-то странные кровоподтёки на теле, будто бы ево щипали с подвывертом.
— Охти… — повторил повар тоном одновременно жалостливым и зверским до предела, и тут же рявкнул столпившимся кухарям, — а вы чево встали?!
— Не серчай, Пров Василич, — не пугаясь, отозвался один из них, — чичас водички тёплой принесу, обмыть, а потом уже и сметану.
— Чево стоишь-то, ирод!? Живей!
— Я… — начал было Мишка, но тут же спрятал полтину назад. Нельзя обижать людей!
Несколько минут спустя найдёныш был вымыт, обмазан и перевязан везде, где токмо и возможно, а Пров Василич перестал хлопотать наконец, и внимательно глянул на подростка.
— Так… — дёрнул плечом Мишка в ответ, — братом будет.
Вздохнув прерывисто, повар перекрестил их, и долго молчал, глядя из дверей вслед удаляющимся к солнцу фигурам.
— А вы чево встали?! — вызверился он на работников, обнаружив их наконец рядом с собой, откровенно бездельничающими, — На кухню, живо!
Щедро раздавая тычки и оплеухи, он снова превратился в тирана.
Поглядев на найдёныша и поймав ответный робкий взгляд васильковых глаз, Мишка задумался ненадолго, и вытащил сперва полтину, а потом и все невеликие деньги, што у него были с собой. Пересчитав, он решительно направился к извозчикам. До Замоскворечья, где живёт дед, не близко, малой не дойдёт, тем паче в таком состоянии.
— … явился? — дядюшка, надёжно уперевшись в утоптанную землю двора крепкими ногами в добротных юфтевых сапогах и сцепив руки перед собой, вперил в Мишку неласковый взгляд, не пуская в дом, — Никак нужны стали?
Надтреснутый баритон полон яда, раздражения и… глухой тоски, даже какой-то мольбы. Увы… по малолетству и застарелой обиде за родителей Мишка не готов к примирению.
— Обхожусь, — оскалил кипенно белые зубы подросток, — в подмастерья портняжные вышел, да не твоими заботами. Деда позови. Ну! Скажи — внука ему нашёл.
— Да ты… — дядюшка смерил ево взглядом, потом перевёл глаза на малыша. Судорога исказила заросшее бородой лицо… иль показалось?
Мужчина без лишних слов скрылся в доме, шуганув любопытствующих домашних, и парой минут спустя на крыльцо вышел ветхий старик в старообрядческой поддёвке, щурящийся подслеповато на внука.
— Дед, — колючий, кинжально щетинившийся подросток куда-то пропал, и старика обнял любящий внук, тяжело дышащий и смаргивающий слёзы.
— Я… вот, — отстранившись, — Мишка присел рядом с найдёнышем, — внука тебе нашёл, воспитывать. Со мной у тебя здоровски вышло, так вот решил ишшо воспитанника тебе найти.
— Как тебя зовут хоть? — спохватился подросток, наклонившись к малышу.
— Дармоед, — робко отозвался тот, глядя на нево через непролитые в глазах слёзы, — а ишшо Нахлебник.
И будто мороз от этих слов — до самых костей. А ребёнок застеснялся и заробел от внимания взрослых. Опаска в глазах, а ну как што не то сказал? Не так? И сжался.
— В приюте сказали, пока не запродали дядьке Никифору в нищую учёбу, што я Филипп, — выпалил он с облегчением и улыбнулся робко.
— Филиппок, значица, — старик неожиданно легко присёл перед малышом, — ну здравствуй, внучек.
— Дед? — распахнул тот глазёнки, — Де-да… я знал! Знал! Завсегда, што ты найдёшь меня!
Несколько коротеньких шажков, и ребёнок врезался в старика. Тонкие ручки обхватили старческую шею, и старик, чуть помедлив, обнял ево в ответ. Уткнувшись в седую бороду, мальчик ревел, несвязно обещая стать самым-самым, только штобы дед завсегда рядом! И столько счастья сиротского было в этих слезах…
Получасом позже в горнице собрались все домашние, и Мишка негромко, штобы не разбудить заснувшево на коленях у найденново деда Филипка, рассказывал сокращённую версию произошедшево.
— Дело богоугодное, — выслушав молча рассказ, перекрестился дядька после раздумчивого молчанья, придавив взглядом домашних, — выправим документы, и станет наша семья чуточку больше.
И будто гнёт тяжкий с плеч спал, даже и дышать легче стало. Разговор было пошёл живее, и казалось бы — вот он, повод примириться…
… но нет. Подростковый максимализм и обида на умерших родителей, отрезанных в своё время от семьи. А ведь могли бы жить, если бы не… Просто в нужное время не оказалось рядом тех, кто готов помочь
… и начётническая упёртость главы семейства, привыкшего держать домашних в кулаке, ломая их «хочу» через своё понимание «надо».
Так и разошлись — с глухой тоской и обидой. Не примирились. Не в этот раз.
Срезая по дворам где-то можно, Пономарёнок торопился вернуться в мастерскую. Волнуются небось! Сунулся на Хитровку, да и запропал, тут небось любой заволнуется!
И чорт ево дёрнул пойти…
Мишка мысленно одёрнул себя — нет, никак не чорт! Ангел нашептал, не иначе! Братика нашёл, пусть даже и такой ценой.
«— А вот ни жалею! — вспоминая убитых, ожесточённо думал он, будто ведя диалог с кем-то неведомым, — Потому как не люди это, ни разочка не люди! Бесы в человеческом обличии, вот ей-ей!»
Ближе к дому он совсем заспешил, потеряв всякую осторожность.
Тяжёлый толчок в спину… и сильные руки, подхватившие ево накрепко, вывернув локти за спиной. Мишка забился пытаясь вырваться, безуспешно лягаясь ногами.
— Етот? — хрипло поинтересовался похититель.
— Ён самый! — Подростка обдало запахами нечистого, давно немытого тела, водки и табака, — Рази упёр имущество наше самодвижимое, то стал быть, сам таким станет, хе-хе! Ручки-ножки поломаем, язычок подрежем, и будет христарадничать до нескорой смертушки! Хе-хе…
Поняв, какая судьба ево ждёт, Пономарёнок рванулся изо всех сил… и ничево не добился.
— Шустрый, — со смешком в голове сказал похититель, и подростка приподняли в воздух, выворачивая руки, как на дыбе.
— По… — тяжёлый удар вбил слова назад в лёгкие, и подросток обвис, плавая полуобморочно в боли и нехватке воздуха.
Внезапно хватка ослабла, и Мишка, несмотря на проваливающее в небытие сознание, собрался с силами и рванулся… Вырвался!
Приставленный к боку громилы револьвер кашлянул почти беззвучно… но тот уже заваливался вперёд, закатив остекленевшие глаза.
Перекат… но представителя нищей братии уже взял в оборот Котяра.
— Жив? — бегло поинтересовался шулер, вытаскивая нож из уже мёртвого тела.
— Вроде, — кривовато усмехнулся Пономарёнок, вставая на подрагивающие ноги, — Охти… Благодарствую!
Он низко, до земли поклонился, и еле потом разогнулся, такая нашла слабость.
— Брат моего друга — мой друг, — без тени фальши отозвался Котяра, оттаскивая трупы с прохода, — Валим!
— Рассказывай, — приказал шулер, когда они отошли, запутав предварительно следы и закидав их несколько раз смесью тёртой махорки и перца, основательный запас которой всегда был в карманах предусмотрительного уголовника.
А то! Вернейшее средство хоть от собак, а хоть и от людей! В рожу кинешь, так небось долго прочихиваться будет!
— … та-ак… — Котяра потёр лицо, и решительно развернул Мишку в сторону от дома, ускорив шаг, — калуны, значить?
— Ну, — Пономарёнок споро перебирал ногами, не понимая сути происходящего, — они самые. А што, всё серьёзно?
— Ф-фу… более чем, Миша, более чем, — шулер серьёзен и мрачен, — домой нам нельзя. Ни тебе, ни мне. По крайней мере, не в ближайшее время.
— Да это же… — вздыбился было Пономарёнок, и тут — разом, рассказы Егора вспомнились, и волосья дыбом по всему телу.
— Вспомнил? — оскалился в усмешке Котяра.
— Да-а… Корпорация, да?
— Вроде тово, — дёрнул плечом шулер, — лучше с кем из Иванов поссориться, чем с ними. Иваны, это так… серьёзные люди, но они…
Он пошевелил пальцами, не сбавляя шаг.
— … конечны. Понимаешь? Один, два человека, дружки, покровитель может быть в полиции, а может и не быть. А эти… корпорация! Вроде как крысы чумные, и концов не найти! Деньжищи — бешеные, и всем — на! Понимаешь? Полиции, Иванам, господам из тех, кто…
— Я понял, — прервал его Мишка, проникшийся серьёзностью ситуации и испугавшийся даже не трупов, а столь быстрой и жёсткой реакцией на них. Эвона! Двух часов не прошло, а уже знали — што, кто, и засаду устроили, да небось и не одну.
Серьёзная организация, как ни крути. А вспомнить если, сколько денег такой мальчишка, тянущий покалеченные ручки к проходящим в церкву добрым христианам, может принести за год своим хозяевам, то и сам испужаешься.
Котяра — серый от страха, хотя держит лицо, и ни словечка упрёка, ни тени сожаления на лице.
«— За Филиппком в Замоскворечье не сунутся, — промелькнула у Пономарёнка мысль, — может и самому? Повиниться…»
Мысль эта показалась такой трусливой и недостойной, што подросток решительно выбросил её прочь из головы, приказав себе забыть! Ишь! Без вины виниться?!
— В Одессу? — хмуро поинтересовался он, сдерживая нервенную дрожь.
— Как минимум, — криво усмехнулся шулер, дёрнув уголком рта, — Я не последний человек, да и через Егора можно было бы порешать эти вопросы. Не сразу. Сильно не сразу. А пока — руки в ноги, Миша!
— Егор с Санькой в Африку, — вздохнул Пономарёнок, — а мы…
«— Прощения прошу, Федул Иваныч, и кланяюсь низко с благодарностью за всё хорошее, да виноватюсь заранее за всё плохое, — щурясь, портной не без труда разбирал письмецо, написанное второпях пляшущим почерком, да как бы не на коленке, — а особливо за то, што втягиваю вас невзначай в свои неприятности.
Только вляпался я, да так, што бежать пришлось, безо всякой назад оглядки. Скажу сразу, што совесть моя чиста, и греха за собой не знаю, так што за душеньку мою можете не волноваться.
Што и как — уж простите, но не открою, потому как дело ето такое, што от вашево в нём знания мастерская может загореться ясным пламенем, да и вы в ней, поленом с улицы подпёртые. А письмецо моё сожгите, деду же на словах передайте, што так мол и так, решил ево непутёвый внук попутешествовать, и вернётся как только, так сразу!»
Прочитав письмо, Федул Иваныч вздохнул прерывисто, и повернувшись к старообрядческой иконе, начал истово молиться за путешествующего отрока Михаила, проговаривая знакомые с детства слова.
Глава 9
Прогуливаемся себе с Фирой и Санькой по Балковской фланирующим шагом никуда не торопящихся людей, и везде — одни сплошное здрасте!
Кажется, будто вся Одесса знакомая, малознакомая и совсем незнакомая вышла на поздороваться специально для нас, и кое-кто из встреченных, вот ей-ей, совсем издали пришёл ради поприветствовать и поглазеть. Такой себе моцион из любопытства и стадново чувства.
А кто не вышел, те глазами из-за занавесок, да рожами любопытными в окнах приплюснулись, не стесняючись вот ни разочка. Интересно им!
Одесса такой своеобразный город, што лёгкая фронда к действующей власти заложена в нём с самого основания, в фундамент каждого дома. Вместе с названием греческим, идеи эллинской демократии ненароком принесли.
Вроде как подошёл выразить почтение очередной полузнакомец, и самую немножечко теперь оппозиционер, демократ и социалист. Можно собою чуточку гордиться, и поводить выразительно узкими плечами, намекая на нешутошную храбрость и почти што акт граждансково неповиновения властям.
А кому храбрости подойти недостаёт, но сильно хочется иметь хоть какой-то повод для погордиться собой хотя бы наедине и перед домашними, те издали шляпу приподняли, улыбнулись приветливо-многозначительно, и вроде как тоже — поучаствовали. В чём-то там. Оно с одной стороны и смешно такое, а с другой — настроения.
К порто-франко[17], как ни крути, а самые крохи политических свобод и ростков демократии прилагаются просто по определению, и без них ну вот совсем никуда! Потому как не выйдет — одними только административными мерами да чиновничьими распоряжениями решать судьбы такого города. Циркулярно.
Город перестал быть порто-франко, а светлая память о том осталась. Об экономическом росте — небывалом не только в Европе, но и в мире, помнят. И о свободе — слова, предпринимательства, или — взглядах, далёких от высочайше утверждённых.
Не забыли ещё, што когда-то было можно иметь мнение, идущее вразрез с государственным. Живы ещё те, кто застал золотые для города времена. Свидетели эпохи.
Теперь же всё, закрутили гайки, чуть не до срыва резьбы. А у свидетелей этих есть дети и внуки, выросшие на рассказах о недавнем величии и демократии. Часто, и очень — преувеличенных.
Большинству свобода эта и не особо-то нужна, до поры. И порядок с бдительным рослым городовым вроде как даже и устраивает. Уютная такая картинка безопасности и имперской мощи.
А потом р-раз! Глянец безопасности оказывается вблизи совершенно облупленным и потрескавшимся, полицейский — взяточником некомпетентным и мордобойцем, а мощь имперская в парадах только видна, да на верноподданнических открытках. Ур-раа! Раззеваются бездумно многажды битые унтером солдатские морды. Ураа!
А тебе — лично, мешают гайки закрученные, прикипевшие намертво. И раздражение от этой власти, будто от тесного, дурно сидящево костюма. Жмёт, натирает, давит… а другово то и нет! Зато есть желание — если не приобрести новый костюм, так надставить старый. По фигуре.
Понимаю, всё понимаю! Здоровальщиков этих, взгляды издали.
Но раздражает. Потому как одно дело — понимать, а другое — когда сам чуточку символ. Не штандарт римский жопой на колу, но вроде как застрельщик. Бегаю по полю ещё не начавшегося толком боя, и все глаза вражьи — на мне, да через прицелы. Страшно!
И неприятно, потому как у врага — войско, а у меня — эти, со шляпами. Сочувствующие. Вроде как и не выпихивали они меня вперёд, и оно само так вышло, а вроде как и нет. Не выпихивали, но за спиной сгрудились, спрятались. Само по себе, но вроде как и за них всех воюю. Внезапно.
Да и понимание это, оно вроде как и есть, но есть и ощущение, што они — все вокруг — чёрно-белые фотографии. Несколько шагов по Балковской… и будто страницу в альбоме перелистнули с дагерротипами выцветшими.
А мы втроём вроде как прогуливаемся, а вроде как — альбом листаем, и люди вокруг — не вполне настоящие, не живые…
«— Черно-белая кинохроника минувшей эпохи, — откликнулось подсознание, — людей уже нет, есть только видимость жизни»
… и мороз по коже.
— Добрый день, молодые люди, — прервав мысли, уверенно подошёл знакомый репортёр и раскланялся, ревматично оттопыривая упитанный зад в давно тесноватых брючках. Приложился к воздуху над Фириной ручкой, смешно шевеля нафабренными, завитыми в колечки усиками, и девочка ажно раскраснелась от такого взрослого знака внимания.
У меня внутри заворочалось глухо што-то тёмное, животное… но Фира от смущения прижалась ко мне чуть тесней, и Тот-кто-внутри, рыкнув довольно, улёгся поудобней, засопев умиротворённо.
И отлегло. Снова — живые среди живых, а не кинохроника с мертвецами.
— День добрый, — нестройно отозвались мы со всем нашим вежеством, но без особого воодушевления.
— Не найдётся ли у вас самую чуточку времени, — продолжил он южной скороговоркой, поправив тонкой тросточкой шляпу-котелок и улыбаясь просительно, — для небольшой беседы со старым знакомым?
— Если только чуточку, Андрей Ильич, — без особого воодушевления согласился, покосившись выразительно на пошловатую рукоять трости, в виде грудастой сирены самово проститутошного вида, — или может быть, лучше прогуляемся вместе с нами?
— С превеликим удовольствием! — отозвался он, заулыбавшись во всю ширь выбритого до синевы лица, и пряча тросточку за спиной, показав глазами виноватость и понимание неуместности. Расспросив о подробностях суда, эмоциональных переживаниях и тому подобном, Андрей Ильич ушёл, раскланявшись на ходу, поспешая в редакцию.
— Шакал пера, — неприязненно высказался Санька вслед, на што я только плечами пожал. Кушать-то всем хочется! Сейчас в Одессе такой сонный период случился, што и я за интерес всему городу сошёл. На безрыбье.
Такое глухое межсезонье выдалось, што даже и удивительно! Тамбов какой-то, право слова, а не Одесса. Сонно, чинно, и ни тебе светских сплетен, ни войн между бандами, ни даже вскрывшихся панам, што и вовсе удивительно.
Сам репортёр, и потому не то штобы одобряю, но всё ж таки понимаю, да и не все мои коллеги имеют капиталец, позволяющий не задумываться о заработке, а творить по своему разумению. А тут хоть и коротенькая, хоть и не на первой полосе, но заметочка рубля на полтора, ну а при некоторой удаче — статейка на трёшницу.
Ну и Фира, она в такие минуты отчаянно мной гордится! Ручку свою маленькую мне на сгиб локтя положит, выпрямится, и стоит такая гордая-гордая за меня!
Я ж детали из страшненьких ей не рассказываю, а если и да, то чаще — в юмористическом ключе, с усмешечкой. Дескать, всё хорошо! Под контролем!
Потому как она и так переживает. Рассказываешь што-то, ну хоть о драчке с тем… из полиции филером! Корноухим. Бледнеет, кулачки сжимает, сама мало не в обморок! А всево-то… Вот как тут што серьёзное, а?!
Санька в очередной раз вздохнул еле заметно, уставший от такого зоопаркового выгула, но я ему глазами — терпи! Вчера приехали, завтра уедем, так што всё время — Фире! Ну и немножко приятелям здешним, не без этово.
Он-то может и отдельно, но раз уж вышел вместе с нами на променад, то до конца! Морду лица умную сделал, и вперёд.
Санька понял мои выразительные глаза, выпрямился и сделал физиономию английского денди, то бишь рожу, соперничающую по выразительности с кирпичом. Кивнул ему еле заметно, но вполне одобрительно, и снова — здрасте с променадом.
Назад пошли под самый вечер, когда вся Одесса из всех желающих выгулялась на нас, поздоровавшись шляпами и показав умеренную, и потому безопасную оппозиционность.
Фира о своих девчоночьих делах на ходу рассказывает, об учёбе, каблучки ботинок по брусчатке цокают иногда — устала, значица. Выгул такой все бабы любят, но и они устают, потому как тоже человеки. Под чужим вниманием держать себя, да часами притом, это и для них тяжко. Хоть и лестно.
А я млею. Ручка Фирина на сгибе локтя, головка красивая ко мне повёрнута, и што она там говорит… лишь бы говорила! Всё интересно, всё — важно. Лишь бы вот так, с продетой в локоть рукой, с касанием плеч.
— Ой, — спохватилась она виновато, — тебе это не слишком интересно!
— Почему же, мне всё о тебе интересно!
Засмущалась… и я почему-то. Помолчали чутка, и снова — о делах своих девчоночьих, о знакомых одесских, о своих мыслях, книгах читанных. Расскажет што-то, и на меня глазами этак… легко и лукаво, и краснеет чутка. Но без стеснения, а… не знаю, но правильно как-то, вот ей-ей!
Барышня совсем уже! Круглиться в стратегических местах ещё не начала, но намёки на то уже есть, да и шутка ли — тринадцать годочков! Сниться в горячечных снах пока нечему, а вот годочка через два-три будет такое ой!
У меня от этих переглядываний будто пуговица верхняя расстегнулась на душе, и снова — любимый город, а не променад зоопарковый на потеху полупочтеннейшей публики. А воздух-то, оказывается, вкусный! Морем Одесса пахнет, портом, листвой увядающей. Фирой.
«— Ах, Одесса, жемчужина у моря…» — замурлыкало у меня в голове.
— А мы вот… — выглянул вперёд Мишка из-за тёти Песинова плеча, — с Котярой.
И глаза такие виноватые-виноватые, и в тоже время — отчаянные. Я сразу и понял — случилось што-то, да такое себе непростое, што расхлёбывать будем долго, и всем кагалом притом.
Засели в мастерской моей полуподвальной, на поговорить. Женщин в такое не втравляем, потому как даже самые лучшие из них — всё равно бабы! У них язык отдельно от разума, да и переживают сильней нас, мужчин. Так што и нечево тревожить!
Мишка с Котярой уже накормлены, отодрались в тазу проволочной жёсткости мочалками опосля путешествия то третьим классом, то под вагонами, потому и не второпях разговариваем.
— … ну и, — взгляд у Мишки виноватый, — рука сама за револьвер, вот…
— Не винись, — сразу делаю отмашку, — никто бы из нас мимо не прошёл, потому мы и побратались.
Вижу краем глаза, как еле заметно вздохнул Котяра, ссутулив плечи и закусив губу. Ну… с ним потом поговорю. Он на Хитровке вырос, с титешного возраста и не такое видел как само собой разумеющееся. Привык! Чудо, што вообще человеком остался, с которым дружить не зазорно.
— Ещё один брат появился, значица? — порадовался светло Чижик, — Дельно! Прирастаем!
Мы засмеялись негромко, переглядываясь без слов, и как-то так легко на душе стало! Да, проблемы. Но новый, пока ещё не виденный, но уже любимый брат — это здорово!
— Што сбегли без оглядки, то и правильно, — одобрил я их поступок, — Ты, Котяра, молодец большой, верно сделал. Калуны эти, и вся нищая братия, они долгой памяти не имеют, и разум у них — стайный!
— Порешаю… хм, вопрос, — я задумался над решением проблемы, склоняясь всё больше к жёсткому варианту. Посоветуюсь с Сэменом Васильевичем, но… но попытку даже не убийства, а изуродования Мишки, оставлять нельзя.
С убийством они не то штобы в своём праве… но скажем так, рядышком где-то. А уродование такое… нет, нельзя прощать. Ответить надо, образцово-показательно.
Сэмена Васильевича ждали к ужину, и он таки пришёл. Поцеловав руку раскрасневшейся хозяйке дома, пожал нам, и снова сделал многозначительные глаза на тётю Песю. Та в ответ закраснелась ещё сильней, и застесняла лицо за полотенцем.
— Я таки понимаю, шо у нас скоро образуется новая ячейка общества? — поинтересовался я у Фиры громким шёпотом.
— Ой! — отмахнулась от мине полотенцем тётя Песя, не дав дочке сказать своё мнение за маминого хахеля, — зачем портить браком такую хорошую дружбу?!
— Я таки за, — вздохнул Сэмен Васильевич, — но Песя видит слишком много сложностей там, где их и без тово есть!
Песса Израилевна поделала бровки, но отмолчалась, а мы не стали лезть в чужие тараканы.
— Ты всегда так легко с руссково на одесский перескакиваешь? — поинтересовался тихохонько Котяра, усаживаясь за накрытый стол.
— Хм… даже и не замечаю перескока, — признался я честно, — просто р-раз! И будто по щелчку, под собеседников подстраиваюсь, да и мысли в ту же сторону ускакивают.
— Ой… — часом позже сказал я, отваливаясь от стола и отчаянно борясь с желанием расстегнуть пуговицу на брюках, — оставлю немножечко места для сладково.
— Да расстегни ты их, — поняла почти тёща мои мучения, — или я буду думать, шо плохо тибе накормила, и не спать всю ночь, переживая за свои таланты хозяйки!
— Таки да, — согласилась с мамеле Фира, сдерживая улыбку, — бруки на подтяжках и потому не спадут, а если ты мине и нас внезапно застеснялся, то сделай этот жест на веранде, куда вы собрались поговорить и покурить.
Нарочито молдаванский говор Фиры, имеющей весьма грамотную речь по своему хотению, несколько разрядил нас и обстановку. Расположившись на веранде, поведали Сэмену Васильевичу о делах непростых, а местами так даже и сложных, поглядывая иногда на женщин, хлопочущих на кухне.
— Пф, — сделал он губами, выдохнув следом клуб раскуренново дыма, — это проблема не из тех, которые не решаются, но из-за настойчивого интереса полиции придётся делать всё аккуратно и через деньги.
И на мине глазами. Киваю в ответ, и Сэмен Васильевич несколько секунд меряется со мной взглядами. Понимаю ли? Понимаю…
Последствия осознаю, принимаю, и как именно прошу проблему решить — тоже. Не только и даже не столько он. Иваны знакомые, Лев Лазаревич… жёсткий будет ответ, очень жёсткий.
И недешёвый, да… притом сугубо за мои деньги. Не потому, што у них жадность, а потому што — равные права. Партнёрство.
Решать же свои проблемы за чужие деньги, это признать чужое старшинство, со всеми втекающими и вытекающими.
Наши переглядывания если кто понял, так только Котяра. Браты, они хоть и ориентируются на Хитровке, но глубоко в эту грязь погрузиться им не даю. Незачем.
— Порешаем, — согласился расслабившийся Сэмен Васильевич, — Сами-то што?
— Ну… — Мишка с некоторым даже недоумением пожал плечами, — в Африку, куда ж ещё.
Котяра закивал решительно, глядя на меня отчаянными глазами.
— Куда ж, — хмыкнул почти родственник, окутавшись клубом дыма, — много куда можно, но я таки понял, шо вам приспичило до Африки, как по большой нужде с отчаянным нестерпёжем.
— Документы бы, — нерешительно попросил Котяра, — деньги есть. Хм, будут, с собой нет.
— Документы… с этим могут быть сложности, — задумался Сэмен Васильевич, — я таки понимаю, шо молодым человекам охота вернуться потом на прежнее место жительства?
— Мне — да, — решительно отозвался Пономарёнок, нервно выпрямившись в кресле качалке, отчево оно пришло в движение.
— Мне… — Кот задумался, — всё равно, пожалуй.
— Я таки сильно сомневаюсь, шо вам всё равно, — язвительно отозвался тёти Песин хахель, — потому как могу устроить пашпорт турецкоподданого! Устроит?
— Жидом? — уточнил друг.
— Угу. Ну как?
— А хоть какая-то польза от жидовства моево пашпортново будет? — заинтересовался Котяра, но сразу видно — с сугубо образовательным интересом.
— Пф… не особо, даже если и гиюр[18] примете. Или ви таки думаете, что с обрезанием приобретёте внезапно много любящих родственников? Если думаете, то вам это таки только кажется!
— И как тогда? — озадачился Мишка.
— Пф! Контрабандой! — отмахнулся Сэмен Васильевич, — Поедете таки со всеми удобствами третьим классом, где надо — вылезете, и ой! Я таки в тесном трюме зайцем туды-сюды добрался! А шо с братьями и друзьями на одном пароходе, так то совпадение!
— Не придерутся? — с опаской, и как выяснилось — за мине, поинтересовался Мишка, — Скажут, што это… соучастие.
— Не-а! — отозвался я тоном знатока, — Тот случай, когда все всё понимают, но хрена с два докажут!
— Ну, раз так, — брат успокоился совершенно, развеселившись, — то вроде как в трюме поеду!
По случаю хорошей для осени погоды стол накрыли на веранде. Сытные мясные запахи разлились по увядающему садику, став симфонией осени и счастья.
Большое, во всех смыслах большое еврейское семейство расселось по своим местам в ожидании трапезы. Ёрзая и поводя носами, они ждали, не смея поторопить хозяйку. Наконец, в центр стола встала увесистая кастрюля, и дюймовые доски скрипнули жалостливо под нешутошной тяжестью.
В миски, больше напоминающие не слишком глубокие тазы для варенья, мать семейства разлила щедрые порции до самого верха, и садик наполнился звуками работающих челюстей, способных в равной степени перемолоть яблоко и бараньи рёбрышки. Без заминки!
— Саню в городе видели, — сосредоточенно работая челюстями, сообщил Самуил, первым закончив со своей порцией, и протянув матери миску за добавкой.
— Это которово? — оторвавшись от рагу и подвинув поближе плетёную тарелку с нарезанным хлебом, вяло поинтересовался отец семейства, габаритами и волосатостью похожий на слегка вылинявшего медведя, — У тебя дружков пол Одессы, и Санек среди них не один десяток.
— Который Рувим-вот-те-крест, — отозвался за брата Товия, протягивая матери тарелку за добавкой, — в Африку с братом едут.
— Зачем? — поинтересовалась мелкая Далия. Впрочем, как мелкая… по возрасту да, а так — вся в папу!
— За алмазами и приключениями, — отозвался десятилетний Натан, поглядев на сестру с видом полного превосходства.
— Егор, — не прекращая жевать, отозвался Самуил, — ну… который Шломо и Еврейский Зять…
— Да мы таки поняли, — пробасила мать, заинтересованно прижав к объёмистой груди объёмистую кастрюлю, не замечая её веса, — ты дальше говори!
— Егор как обычно — вляпался куда-то…
— В политику! — поправил ево брат, — Императора повесил!
— Да ну! — ахнула мать, приготовившись слушать.
Не сразу разобрались, шо не самово, а портрет, но разговор про то вышел таки интересным! Вроде и говорили об этом соседи, но одно дело — через слухи, и другое — от непосредственно тех, кто делал!
— … репортёром, — повторил Самуил, — а Санька — пейзажи писать!
— Репортёром! — хмыкнул Натан, уворачиваясь от братниного подзатыльника, — Он в Палестину тоже репортёром ехал, и таки да! Но ещё и с прибылью!
— Хм… — отец семейства задумался, и дети почтительно замолкли, потому как — воспитание через ремень, оно ж веками!
— С прибылью, говоришь?
Он оценивающе оглядел на подобравшихся близнецов и кивнул довольно.
— Мать! — пробасил он решительно, — Собирай мальчиков в Африку!
Глава 10
— Бурские войска перешли границу! — истошно заорал над ухом писклявый мальчишка-газетчик, приплясывающий с кипой периодики у трапа. Поправляя то и дело сползающую феску, он уворачивался от матросского уходрания с нешутошной ловкостью, выдающей давнюю привычку, — Правительство Трансвааля…
— Шломо[19]! — колыхаясь жирными телесами, к нам заспешили Бляйшманы, раздвигая толпу встречающих как два айсберга, взрезающие волны, — Рувимчик!
Пронзительностью их голоса несколько уступали турчонку, но вот громкость — сирены пароходные! Мальчишка покосился не без зависти, представляя — какие у него были бы доходы на ниве газетных продаж с такими-то лёгкими, и завопил ещё истошней, будто соревнуясь из уязвлённого самолюбия.
Бляйшманы, не обращая внимания на тщетные потуги турчонка переорать их, переваливаясь по пингвиньи, заспешили к мине и нам. А победительный взгляд мужчины, кинутый в сторону посрамлённого мелкого оруна, наверное почудился.
Широко распахнутые руки, шаг… и с размаху к объёмистой волосатой груди — н-на! Только челюсти клацнули, да лицо размазалось об телеса делового партнёра и ево чесучевый костюм.
Обнимашки прервала тётя Эстер, и меня уткнуло носом в нечто более, ну… женственное. По крайней мере, не волосатое.
— Шломо! Мине кажется, шо ты таки вырос, но притом похудел? Тебя опекуны вообще кормят? Или так готовят, шо ты не хочешь кормиться сам, но не говоришь об том из вежливости?!
Говоря это, она оттиснула мине от груди, схватив за щёки и разведя их немножечко в стороны, потом в порыве чувств снова притиснула. Терплю от потерянности и немножечко от понимания, шо эта вся ерунда — от всей широкой жидовской души, которая нас — за своих!
— Милая, — прервал нежности супруги дядя Фима, — между собой мы можем, как нам удобней, но таки не забывай, шо он таки Егор, а Рувимчик — Санечка.
— Ну вот, — искренне расстроилась женщина, — мог бы и потом сказать, мине приятней думать, шо они из наших! Я мальчиков за родню уже считаю, а гоев как-то не так удобно, как не гоев! А где Миша? Миша!
Она яро и радостно замахала ему рукой, и дамский ридикюль загудел вокруг её красивой шляпки своеобразным кистенем.
— Ша! — замолчал её дядя Фима, — Он таки да, но инкогнито, контрабандой едет. Мы ево таки не видим и не слышим, ты мине поняла?
— Совсем нет, или можно немножечко поздороваться? — тётя Эстер умильно сощурила глазки, и дядя Фима, завздыхав и размякнув сердцем, разрешил супруге немножечко нарушить инкогнито. Взвизгнув радостно, она чмокнула мужа в выбритую до синевы, лоснящуюся щёку, и порысила к Мишке симпатичным женственным бегемотиком.
— А эти два молодых человека тоже да? — он обратил наконец внимание на близнецов, стоящих плечо к плечу позади мине, и улыбающихся поверх головы.
— Ага, — закивал Самуил, бася на грани инфразвука, — папа решил, шо мы таки уже взрослые, и дал направляющий пинок из родного гнезда по направлению Африки.
Дядя Фима ради воспитательного эффекта смерил их недовольным взглядом, но промолчал. Близнецы, не вполне понимая вину, на всякий случай засопели виновато и потупили глазки.
Котяра, он же Иван в крещении, виноватиться не собирался, и разглядывал этот жидовский цирк на выезде с удовольствием и интересом, как естествоиспытатель в гостях у папуасов. Опытный дядя Фима не стал передавливаться с ним глазами и волей, и перестал обращать внимание, считая то ли за багаж, то ли за мою ручную зверушку.
— Собственный выезд?! — приятно поразился я при виде богатого экипажа, сделав выразительными глазами большой комплимент Бляйшманам. Дядя Фима засопел довольно, и принялся рассказывать — где, почём и как он героически буквально за копейки!
Мы с Санькой устроились с Бляйшманами, а Мишка с Котярой и близнецами в едущем чуть позади извозчичьем наёмном экипаже, потому как инкогнито и тайно. Попутно дядя Фима расспрашивал мине за политику, а тётя Эстер с коварными огоньками в глазах описывала Саньке дочку её хорошей подруги…
— … ну то есть почти подруги, — поправилась она, чуть задумавшись, — Фимин деловой партнёр, и такой себе светский жид, шо ещё немножечко, и будет такой себе гой, на следы которого будут плеваться раввины.
— … так, да? Так? — дядя Фима, хрюкая поминутно от смеха, расспрашивал мине об перипетиях суда, и объяснял, где они были не правы, и как мине и нам повезло, шо Трепов — всё! А главное — сам и быстро.
— … такая умница, — описывая девочку, тётя Эстер напирала на знание ею языков и хорошее… ну как хорошее — неплохое приданое и душевные качества. Што значит — ой!
Санька вздыхал, молчал, но слушал, потому как из опыта — стоит один раз сказать невпопад да, или просто кивнуть, как ты уже дал своё согласие на што-то лично тебе ненужное, а вот собеседнику — ровно наоборот!
Встретил нас радостно скалящийся Момчил, озадачившийся и несколько даже напрягшийся при виде близнецов.
— Это с Егором, — кинул мимоходом дядя Фима, и в глазах болгарина мелькнуло облегчение, потому как — не конкуренты!
Переглядыванье это заставило меня по-новому взглянуть на близнецов, и таки да! Такие себе жлобы здоровые выросли, шо и среди одесских биндюжников по пальцам одной руки! На голову ниже Момчила и поуже в плечах, но всё впереди! Деткам по шестнадцать годков, и если судить по папеле… и мамеле… им есть куда расти. Подростки ещё, пусть даже и бреются ежедневно. В папу! И… хм, в маму.
Близнецы, будто почуяв што-то, подобрались, и принялись преданно есть меня глазами, улыбаясь во всю ширь своих квадратных морд. Ну… по результатам африканского вояжа будем поглядеть!
Будто прочитав это на моём лице, близнецы заулыбались ещё шире и преданней.
За обедом Бляйшманы сильно расстраивались нашей спешкой и нежеланием отложить все дела ради погостить. Но я был таки непреклонен, не ведясь даже на соблазнительные предложения в виде интересных знакомств.
— Дикие места, — вздыхал дядя Фима, вытирая с жирных губ жирный соус, — никакой вам культур-мультуры, сплошные туземцы и аборигены!
— А здесь — всё! — он повёл руками с таким видом, будто это всё располагалось непосредственно в ево доме, и наверное, не так уж и не прав! — Образованные белые…
— … в основном белые люди, — поправился он с ноткой сомнения, — не так, штобы и Одесса, но тоже — цивилизация! А хамам? Умные люди вокруг? Кухня, наконец?
— Дядя Фима! Я где-то говорил, шо вы таки неправы?! Всё да! Но надо. А взрослый человек должен иногда наступить на горло лебединой песне, и пойти куда надо, а не через хочу!
Близнецы, не отвлекаясь на разговоры, только кивали на все аргументы, и ели, ели, ели… Гостеприимная тётя Эстер несколько нерадостно уже удивлялась такому чужому аппетиту, а дядя Фима взялся зачем-то соревноваться с ними, но куда там!
Иван давно наелся, и сидел молча, дёргая время от времени бровью на эту раблезианскую картину обжорного пиршества.
— Этим точно в Африку! — обожрато простонал хозяин дома, глядя на близнецов налитыми кровью глазками, — Будут пампасы местные обжирать!
— Саванны, — поправил Санька.
— И саванны тоже, — согласился дядя Фима одышливо.
Парни заулыбались польщено, не прекращая есть, и тётя Эстер впервые показала на лице опаску, выразившуюся в морщинке на гладком лбу.
— Да, — прогудел Товия, — в Африку. Папа сказал, шо если Егор сумел таки в нищей Палестине делать хорошие гешефты и наладить бизнес, то в Африке может быть совсем интересно!
Самуил закивал, не прекращая есть, и заулыбался в мою сторону, виляя… Ан нет, показалось.
Вертясь перед зеркалом в газовом пеньюаре, Эстер Бляйшман с удовольствием разглядывала свои рубенсовские формы, принимая соблазнительные позы, представляя реакцию супруга. Чего-то решительно не хватало, и женщина пошла по привычному пути, достав шкатулки с драгоценностями.
Разложив их на туалетном столике, Эстер окинула их взглядом опытного художника, и начала привычное, но ничуть, вот ни разочка не наскучившее за много лет, священнодействие. Нанизав на пухлые руки перстни с драгоценными камнями, она медитативно примеряла ожерелья и диадемы, вонзала в густые пышные кудри гребни из золота и слоновой кости, удивительным образом оттенявшие белизну её упругой кожи и смоляные локоны.
И всё-таки… она села на креслице, стоящее перед зеркалом… чего-то не хватает! Золото, платина, слоновая кость, драгоценные камни… килограммы ювелирных украшений по меньшей мере на сотню тысяч рублей, но…
Эстер сдула упавший на лицо локон, сощурив глаза. Вот оно! В Одессе на Молдаванке она была если не самая-самая, то сильно рядом. О, эти восхитительные взгляды подруг, полные зависти… эти пересуды о богатстве, его происхождении… как же ей этого не хватает!
А здесь, на аристократической Маалем, она такая же, как и все! Как все — скушно!
И мальчишки ещё! Накормились, переночевали, и в Африку за алмазами приключаться. А ей тута страдай!
Женщина вздохнула её раз, потом ещё…
— … я таки понимаю, шо ничево не понимаю, — удивился Бляйшман, вернувшийся домой. Монетка? На полу ево дома? А вот ещё одна, уже серебряная! Целый ручеёк…
Мужчина насторожился было, но почти тут же увидел выложенное золотом сердечко, с указательной стрелой в сторону супружеской спальни.
— Х-хе… — пистолет исчез, как и не было, и опасный хищник стал игривым котячьим подростком, предвкушающим шалости с любимой женщиной.
— Эге… — сказал он, отворив дверь и дёргая ворот рубахи, Встав как вкопанный, он хищно раздул ноздри, жадно пожирая глазами прекрасную одалиску, лежащую на супружеской постели в окружении самого прекрасного, што есть в мире. Золота!
— Иди ко мне, мой султан! — горлицей проворковала Эстер, и Фима рыкнул утробно, как бывало в молодости…
— О султан моево сердца, — проворковала Эстер, глядя в зеркало на мужа, распластавшегося китом на огромной кровати, — мине пойдут брульянты?
— Золотце! — несколько вяло, но очень искренне ответил супруг, — Как никому другому в целом мире!
Женщина вздохнула, промолчав, как это умеют только женщины. Промолчала ещё раз, но уже иначе, с ноткой светлой грусти. Вытянув руку перед глаза, она близоруко полюбовалась перстеньком с крохотным брульянтом, всего-то на пяток карат. Вздохнула…
— Мальчики плывут сейчас на Чорный Континент, где золото и алмазы валяются под ногами, а наивные местные дикари, даже если они и белые, не знают, как и што делать с этим богатством, — мечтательно сказала она перед сном, расчёсывая волосы. Супруг похмыкал и повернулся набок, плямкая губами.
Несколько дней Фима ходил задумчивый, замирая иногда, и будто проговаривая што-то.
— Все дела налажены, — сказал он за завтраком, — остаётся только отслеживать их пульс.
— И это таки хорошо, — с ноткой вопросительности ответила супруга.
— Да… — меланхолично согласился Фима, прикусывая пустую вилку. Сына вырос, скоро пойдут внуки… хм… Неужели — всё?
— … и не спорь! — свирепо глядя на супругу, хмурил брови Фима Бляйшман — тот, который ещё контрабандист и немножечко флибустьер, а совсем даже не почтенный делец почти на пенсии, — Тама сейчас много решительных вооружённых людей, но я таки думаю, шо умных среди них если и да, то не в том направлении! Думать надо не об и за оружии, и тем более не оружием, а за экономику и бизнес!
Он с размаху уселся на чемодан, и тот наконец закрылся. Пыхтя и отдуваясь, мужчина с торжествующим видом затянул ремни, и выпрямился с багровым лицом и видом победителя.
— А носочки!? — всплеснула полными руками Эстер, — Носочки-то вот они! А дерринджер? Который тибе моя мамуля на нашу годовщину дарила! Неужели забыл?
— Фима! — заломила она руки, — Как ты будешь в Африке без носочков и дерринджера!?
— Золотце! — выпрямился былой гроза Молдаванки и немножечко Одессы, — ты таки не находишь, шо это смешно — говорить за дерринджер тогда, когда у меня есть вот такое ружьё, в дуло которово можно просунуть большой палец, и ещё останется немного места?!
— Ой, да шо ты такое говоришь?! — супруга прищурилась, уперев руки в бока, и Фима таки согласился, не доводя до греха!
Проводи супруга и восемь его кофров с чемоданами на пароход, помахав платочком и пустив слезу, Эстер вернулась домой грустная и умиротворённая.
— Фима решил, шо у мине мало брульянтов, — сообщила она со светлым вздохом встреченной соседке, — и решил таки отправиться за ними в Африку. Такой авантюрист!
Глава 11
Застонав надсадно всем своим стареньким, изрядно проржавевшим металлическим телом, пароходик накренился и заскользил на волне вниз — резко, будто падая в пропасть, и желудок подскочил к горлу.
— Ву-у! — пронзительно засвистел ветер в едва приоткрытый иллюминатор, разлетаясь по каюте холодом и солёными брызгами.
— Бу-э! — склонился пожилой сосед-португалец над пустым тазом, закреплённым у кровати. Выпучив глаза, он раздувал худое лицо и жилистую шею, но желудок его давно пуст. Спазмы сотрясают жилистое тело, и кажется, што ещё вот-вот, и будет его рвать кусками желудка.
— Бу-э! — пример оказался заразителен, и вскоре рвало всех моих соседей по каюте. Санька пока держится, но и он зеленеет лицом — не столько даже от качки, сколько за компанию.
«— Психосоматика» — вякнуло подсознание неуверенно, и заткнулось. Вздохнув, я принялся ухаживать за соседями по каюте, потому што, ну а как иначе? Не потому даже, што ангел кротости, доброты и милосердия, а просто — сам же буду нюхать, а то и оттирать.
Стюарды, они вроде как и должны ухаживать за пассажирами, но — шторм! Есть дела поважнее, и сейчас они выполняют работу палубных матросов. Ну… наверное. Капитану виднее, куда их и как.
— Воды попей, — присев рядом, уцепился одной рукой за поручень койки, сую кувшин с водой немолодому немцу-инженеру с запачканными блевотиной усами «под кайзера», — иначе при такой рвоте обезвоживание будет. Выпил…
— Бу-э!
Сдерживая клокочущий гнев на немца, судёнышко, капитана и саму ситуацию, выплеснул рвоту в иллюминатор… и чуть было не получил её обратно в морду посредством штормового порыва ветра. Повезло. Судёнышко как раз качнулось на воле, и едко пахнущее содержимое немецкого желудка украсило снаружи стену каюты, тут же смытое волной.
— Дева Мария… — тоскливо забормотал кто-то из португальцев молитву, и я совсем затосковал. Набожный народ, да ещё и страдающий… пара минут, и будет тут филиал монастыря.
Я не ошибся, и вслед за португальцем молитву подхватили вразнобой и остальные мои страдающие соседи. Португальский мешался с немецким и голландским, а молитвы католические с протестантскими, и кажется — иудейской. Хм… оказывается, этот красивый испанец — марран[20], да ещё и вспомнивший в минуту опасности и страданий о вере предков? Как же интересно я живу! Вот так походя, самым краешком, но прикоснулся к чужой, и очень непростой тайне!
Мысли об интересности моей жизни прервал очередной страдалец и необходимость вытирать рвоту с пола. Промахнулся, ети его…
С тоской глядя на этот рвотный молебен, и не забывая придерживаться, дабы при очередной волне не улететь в стену или кому-нибудь из страдальцев на койку, достал часы.
— О! Обед! Сань, пошли!
— Бу-э!
Санька, зеленоватый за компанию со страдальцами, а не из-за качки, выскочил за мной, на ходу надевая непромокаемый тяжёлый плащ.
— Куда! — едва успеваю поймать брата за ворот на накренившейся скользкой палубе.
— Жить надоело?! — ору в самое ухо, перекрикивая вой шторма. Санька, мертвенно-бледный от пережитого ужаса, схватился за леера обеими руками, не обращая внимания на плащ, запарусивший за его спиной и никак не спасающий от хлещущей через палубу воды.
В кают-компании только зеленоватый штурман и несколько вялых матросов, отчаянно задымливающих помещение.
— Добрый день, господа, — приветливо поздоровался я на немецком, — чем нас сегодня будут кормить?
Покосившись на меня с ненавистью, штурман поздоровался сквозь зубы, и почти тут же из камбуза вывалился измученный кок, держа в охапке разнообразную полуготовую снедь. Сыр, галеты, ветчина и почему-то — абрикосовый джем. А! И масло!
— Вот… — сказал он со страдальческим видом, — сейчас ещё кофе…
— Безобразие, — возмутился я, отрезая на галету сыр и щедро намазывая поверх джемом, — пассажиры полуголодные! Ну никакого сервиса!
Прорычав што-то, штурман взглянул на меня так, што ещё чуть, и прожёг бы взглядом, и вылетел молча из кают-компании. Вернувшись через пару минут заметно посвежевшим и отсыревшим, он присосался к принесённому кофе, и тут же зашипел, обжёгшись. Снова взгляд на меня… в этот раз-то я причём?!
— Сыру?
Покосился, но взял сыр, потом галету — что значит, опытный моряк! Понимает, што жрать — надо! Потому тошнит иль нет, а силы нужны. Ты не пассажир, и в каюте не отлежишься.
— Я шота не пойму, — прочавкал брат с набитым ртом, — почему все да, а мы нет? Мутит, но так-то не слишком, особенно когда рядышком никого не тошнит.
— Тренировки, — в отличии от нево, я сперва прожевал, запив сладченным и крепченным кофе, от которого слипались зубы, — этот, как его… вестибулярный аппарат! Мы с тобой когда на тренировках кувыркаемся, фляки делаем да на руках ходим, то вот оно и закалка!
— Иди ты! — восхитился брат, подвигая к себе банку с джемом, и покосившись на остальных, ковырявшихся в еде без особого аппетита, начал трескать прям оттуда, большой ложкой. Ну а галету — для заедки! А то жопа слипнется.
Наевшись, похлопал себя по пузу, проводив вздыхающего Саньку в каюту — к рвоте и тряпкам, а сам отправился в трюм, проведать Мишку и Котяру с близнецами, а заодно — всякой твари по паре, временно обитающих в утробе судна. Как-то оно само случилось, в Константинополе ещё, при пересадке на германский пароход, следующий в Южную Африку.
Груз… не знаю чего, но по контролируемому англами Суэцу они не пошли, и маршрут пролёг по самохудшему для моряков пути — вокруг Африки, через мыс Доброй Надежды. Ох, зря я не стал ждать и заторопил дядю Фиму… сто раз пожалел, и ведь времени на спешке ни разочка не выиграл!
То на то и вышло бы, только без самомучительства. И ладно бы сам, но Мишку и Котяру, страдающих в трюме — жалко.
Ну и там же — твари по паре, то бишь знакомые, знакомые знакомых… и нет, этих не уговаривал и не подавал пример, а просто — такие же бестолковые торопыги, как и я, встреченные в Константинополе, да прилипшие банным листом. Особенно когда узнали, што поплыву тем же пароходом.
Каждому дай совет — што брать в путешествие, да к кому обращаться, ежели вдруг што, да могу ли они подойти ко мне, ежели вдруг што. И вот я, как путешественник опытный и бывалый, над ними вроде как старший. Сам того ни разу не желая, не имея официальной власти, и уж точно — преференций!
Компания самая пёстрая: русские, греки, жиды, крымский татарин, обрусевший немец, поляк, ещё один поляк, но уже как бы — из выкрестов. Цели поездки тоже самые разные, объединяет нас только маршрут прибытия — португальский город Лоренсу-Маркиш.
Нырнул в трюм, и сразу — запахи! Рвотой пахнет, сцаниной и чем похуже — не всегда успевают дойти до нужника измученные качкой люди. В трюме она ощущается если и не сильней, то уж точно — тяжелей.
Духота эта сырая, какая-то подземельная, светящиеся крысиные глазки в самых неожиданных местах, злое попискивание и вечная опаска — закреплён ли груз? Не пойдёт ли гулять по трюму при очередном взбрыке пароходика?
Иду по коридору из ящиков, и сердце при каждом их шевелении ажно к горлышку самому подскакивает. Куда там драки один против толпы! Вот где ужас!
Пробрался через едко пахнущие химией ящики, через какие-то тюки с… а чорт его знает! Не зря германцы Африку огибают, и нет бы мне тоже подумать…
А вот и отгороженный для пассажиров участок трюма. Увы и ах, но «Анна-Мария» — пароход сугубо грузовой, берущий пассажиров только как дополнение к основному грузу, и условия — соответствующие.
Не подумал… корю себя, и знаю — долго ещё буду корить. Самоед, ети! Но может, хоть на пользу выйдет?
— Егор, — вяло поднял руку Мишка, сидящий на расстеленном прямо на полу матрасе, на котором навзничь лежала девочка лет восьми, — пришёл?
— Да, проведать. Как вы?
— Как видишь, — усмехнулся кривовато брат, гладя ребёнка по грязной голове, — А ты, я гляжу, бодрый?
— Тренировки, — жму плечами, и почему-то неловко. Отчего? От того, што меня не укачивает? Бред… но вот неловко же!
— Вот непременно! — истово пообещал Мишка, давя спазм, — Сразу!
Шторм стих внезапно, как и не было, и только лёгкое волнение гуляло по океану. Измученные качкой люди воспряли духом. Моряки принялись приводить в порядок пароход, а пассажиры — выбираться на верхнюю палубу, и дышать, дышать…
Сокаютники мои, перестав заблёвывать каюту, оказались милейшими людьми, благодарными за недавний уход. Рекомендательные письма, требования непременно навестить, обращаться при малейших затруднениях, если мы окажемся…
Штормовые эти впечатления со временем поутихнут, и благодарность большинства из них развеется подобно утреннему туману. Но здесь и сейчас они искренни, и я записываю адреса, беру рекомендательные письма, сам даю адрес Гиляровских.
А вдруг? Это всё-таки не Европа, а в диких сих местах пережитые совместно приключения сближают порой больше и быстрей, чем годы совместной учёбы!
Обогнули Капскую колонию, у берегов Наталя пережили минуты томительного волнения при встрече с британским военным кораблём, прошедшим своим путём, и вот он, Лоренсу-Маркиш, виднеется на горизонте. Кажется, будто само судно выдохнуло облегчённо — дошли!
Пассажиры спешно прихорашиваются по мере возможностей, желая показаться на берегу не распоследними вшивыми оборванцами. К душевым кабинам очереди, морская вода подаётся без лимита, и есть даже кокосовое мыло от капитанских щедрот.
Оттираю с себя качку, запахи рвоты, пережитые страхи и вертящиеся внутри головы мысли о собственной глупости. Рядом плещется Санька, в коридорчике регочут Мишка с Котярой, басовито ухают близнецы. Ждут!
Ополоснувшись довольно-таки затхлой пресной водой, выскакиваю в коридор, обмениваясь хлопками по плечам, и становлюсь вместе с Товией и Самуилом, поджидая братьев.
— Простите за нескромный вопрос, — останавливается рядом Луис-Мануэль-много-имён-марран и… да мне-то какая разница?! — в вашем роду иудеев не было?
— Нет, — вылетает у меня прежде, чем успеваю подумать, — я первый!
На берег мы сошли в числе первых, как привилегированные каютные пассажиры. Быстро пройдя весьма формально устроенную таможню с потными, вымотанными донельзя служащими, я сразу отправился на поиски извозчика, оставив Саньку дожидаться остальных из нашей компании. К превеликой моей досаде, почти все здешние возчики только головой мотали на предложение перевезти наш багаж к железной дороге.
— Нет, масса, — потея, и отвечая ломаной на смеси английского и португальского, стоял на своём пойманный мной кофейного цвета извозчик, одетый в европейские обноски и держащийся со странной смесью раболепия и самоуважения, — никак невозможно, масса!
Вздыхая, он косился, потел, и пытался очень деликатно высвободить вожжи из моих рук.
— Да где ж это видано?! — выпалил подошедший Мишка, хмуро глядя на негра и раздражённо кривя уголок губы.
Вжав круглую голову в плечи, возчик заморгал, опасливо глядя на брата. Из довольно-таки бессвязных ево объяснений стало понятно, что значительная часть здешних извозчиков, биндюжников и прочих, как бы они не назывались, ангажированы крупными компаниями для перевозки транзитных грузов в Преторию.
Оплата — более чем щедрая по здешним меркам, и он очень сочувствует массам, но вот никак…
— Масса, это не из физики? — озадачился гулким басом Самуил, дёргая просвещённого Саньку за рукав и делая умильное лицо, што для человека постороннего смотрелось гримасой маньяка. Брат начал объяснять, а я — торговаться с чернокожим, мучительно пытаясь подобрать наиболее простые, но одновременно — красочные слова.
… сдался он на пяти франках, отчего бережливый Мишка озверел. При этом на повозке разместился только наш багаж, нам же пришлось идти пешком, потея и раздражаясь. Даже голова по сторонам толком не вертится, хотя казалось бы — Африка!
Не успели мы толком вспотеть, как к нашему возчику побежал вовсе уж голодранистый собрат, залопотав што-то очень быстро на португальском, опасливо косясь в нашу сторону.
— Масса, — вспотел извозчик, пуча и без того большие, на диво выразительные коровьи глаза, — поезд… ту-ту! А потом долго-долго нет!
— Бегом! — делаю свирепое лицо и одновременно показываю нашему извозчику свежеотчеканенного петуха[21], и мы побежали. Подхватывая плохо закреплённую поклажу и закидывая её обратно, мы понеслись пыхтящей, отдувающейся и ругающейся толпой.
Поезд уже начал трогаться, когда мы подоспели. Ругаясь отчаянно, закинули вещи в вагоны не без помощи других пассажиров, запрыгнули сами, расплатились с извозчиком, и только потом в головах — а чего спешили-то!?
— А вдруг, — неуверенно озвучил Санька всехние мысли, пока я расплачивался с проводником, а близнецы тщетно пытались найти место для багажа и нас в переполненном вагоне третьего класса, — блокада?
На том и сошлись. Предусмотрительные, значица, а не так… дурики. Мы ж с Москвы и чуть-чуть — с Одессы! А тут два негра… нет, точно — предусмотрительные!
Глава 12
Атмосфера в вагоне накуренная, душная — несмотря на настежь открытые окна, и очень дружелюбная, хотя дружелюбие это и «с душком». Интернациональная публика пьёт, ест, поёт, разговаривает, спит и играет в карты. Обид, несмотря на тесноту и связанные с этим неудобства, никаких, ну или по крайней мере — не показывают.
То и дело по вагону проплывает очередная бутылка с аляповатой этикеткой, и желающие делают символический глоток. Иногда и не символический, за этим никто не смотрит.
Любители приложиться к халявному пойлу часто переоценивают свои силы, и вон один — лежит в захарканном проходе кверху брюхом в потёртом грязном сюртуке, застёгнутом на все пуговицы, похрапывает, обдавая окружающих перегаром и время от времени оглушительно пуская газы. Пердёж его каждый раз вызывает взрыв ругательств и веселья, и картёжники, играющие на его животе, начинают ругаться на разных языках, кидая потёртые карты на мерно вздымающийся живот.
Пойло самое что ни на есть дешёвое, для невзыскательной европейской публики. Иные бутылки, судя по ядовитому запаху, заставили бы и хитрованского пропойцу опасливо перекреститься перед употреблением. Такой себе едкий клопомор, што не удивлюсь, если для крепости там чуть ли не царская водка пополам с проверенным средством от тараканов.
И не потому, што в португальской колонии нет достойного алкоголя, а потому што — публика! Шахтёры, «дикие» старатели, мелкие торговцы и авантюристы всех мастей, промышляющие чем придётся — от наёмничества и разовой подработки на стройках, заканчивая контрабандой алмазов и похищением людей.
Одни экономят всеми силами, надеясь при случае удачно вложиться и неслыханно разбогатеть, и говорят — бывает! Другие — народ с самого што ни на есть дна, и просто не привыкли к нормальной жизни. Ну а третьи… они бы и рады пофорсить, но либо — нечем, либо — опасаются показать капиталы.
Народец в колониях лихой не по-хорошему, а тут ещё и военные действия, да с африканской спецификой. То бишь людей, желающих половить рыбку в мутных водах военных и около военных действий, как бы не больше, чем тех, кто готов воевать.
Дружелюбие вагонное из тех времён, когда разбойники и бандиты садились в драккары, ушкуи или пироги, и много дней терпели присутствие таких же отморозков, выплёскивая накопившуюся злобу и раздражение при захвате селений и штурме городов. Потом, вернувшись с добычей, они могли попомнить языкатому соседу… А пока в одном экипаже — ни-ни! Упрощённое судопроизводство со всеми вытекающими.
Задевать кого-то на виду десятков людей чревато последствиями. Даже если закончится всё мирно, агрессора запомнят, и могут потом отказать в помощи. Да и опасно это!
Даже самый прожженный психолог из трущоб, привыкший вычислять жертву «на раз», может споткнуться о какого-нибудь смирного на вид работягу с натруженными руками и усталым лицом. Работяга, может быть, проламывал головы штрейбрехарам в профсоюзных стычках, и устраивал обвал в шахте на голову ненавистному маркшейдеру. Такой до поры потерпит насмешки и нападки уголовника, а потом р-раз! И тот, такой бывалый и прожженный, ногами сучит.
Мимо проплыла бутылка, и Товия перехватил её, сделав символический глоток из интереса.
— Зараза! — закашлялся он, пуча налившиеся кровью глаза и ёрзая на деревянном сидении, требующем ремонта, — Такая гадость едучая, шо чуть не эмаль разъедает!
— Джордж! Джордж! — не сразу понимаю, што обращаются ко мне. Очередной любопытствующий с расспросами… в этот раз про Москву.
Вопросы самые идиотические, часто повторяются, но — улыбаюсь и отвечаю, спрятав раздражительность подальше. Я, как-никак, репортёр, а попутчики мои, несмотря на вид не самый презентабельный, в большинстве своём уже не новички в Африке, то бишь — связи. Да и новички в большинстве своём едут не на пустое место, а к дальним родственникам, землякам, знакомым знакомых…
— В-вуу! — протяжный гудок, и поезд начал тормозить, смешав нас всем в одну ругающуюся кучу. Меня с размаху приложило об любопытствующего, раскровянив нос, а сверху придавило Самуилом.
Выбравшись, поддался стадному чувству и желанию размять ноги, соскочил вслед за остальными из вагона, придерживая у носа платок.
— Чинят пути! — донёс людской телеграф от головы состава. Попутчики мои, не сговариваясь, потянулись за кисетами и портсигарами, достали из-за лент на шляпах сигарные окурки. Будто до этого табаком не травились!
Поняв, што остановка надолго, прошёл вперёд, поглядывая на бродящих вдоль путей пассажиров и вагоны с грузом, иные из которых охранялись. Встречающиеся пулевые отверстия и общая покоцанность некоторых вагонов говорит, што охрана здесь насущно необходима.
Колониальные инциденты и войнушки, большая часть которых не доносится в Европу даже отголосками, нередки. Бывают и нападения недружественных туземцев, и конечно же, классика всех времён и народов — бандиты. Подчас очень наглые, с пулемётами и чуть ли не пушками.
Ищи потом… особенно если понимать, што за некоторыми из них, если не за большинством, стоят спецслужбы или корпорации. Европейские государства, придерживаясь на родине неких джентльменских правил, в местах диких существенно ослабляет вожжи.
Меня это… да пожалуй, што и радует! Нехорошо, канешно, но исписаться, выдавливая новости из пальца, в Африке решительно невозможно!
Ступаю по палой листве с немалой опаской, наслышанный о здешних гадостях. И пусть россказни эти нужно делить даже не на два, а на десять, но и оставшегося хватает, штобы впечатлиться.
Срезал крепкую палку, и пошёл шурудить листву, траву и кустарник, чувствуя себя бывалым натуралистом-гадологом. Многоножки, пауки, разнообразные таракашки, ящерки и змейки разбегаются в панике, яркие и красочные. Есть страховидлые, в каких-то колючках, ворсинках, щетинках, одним своим видом вызывающие крапивную чесотку и опаску. А есть и яркие, будто лакированные, похожие на ожившие брошки и самоцветные камни.
Выгляжу я как бывалый исследователь Африки. Крепкие неубиваемые ботинки, в которых можно пройти пешком через весь континент, проносить до глубокой старости и завещать донашивать внуку, краги поверх, галифе цвета хаки, мышиного цвета сюртук и пробковый шлем. Ну и оружие, куда ж без него — револьвер на боку, пистолет-карабин «Маузер» на перевязи, здоровенный тесак. А ещё компас, бинокль… и я страшно себе нравлюсь!
— Кхм! Прш… — едва успеваю отодвинуться, как очнувшееся тело в сюртуке, выползшее из вагона, орошает кустарник содержимым своего желудка, заодно достаётся ботинкам, брюкам и сюртуку…
… а в паре метров кто-то присел за кустами, звучно пуская газы.
Проза жизни, ети! А што делать? Народ, пользуясь остановкой, облегчается с каким-никаким, но комфортом. Потому как туалет в вагоне он как бы есть, но его как бы и нет — загажен. Ежели сильно припрёт, можно и воспользоваться, но антисанитария там такая, што подхватить какую-нибудь заразу — с гарантией. Практически со штампом.
Состав преимущественно грузовой, пассажирские же вагоны прицеплены как бы не в последнюю очередь — из того хлама, што хранился где-то на глубоко запасных путях. Сплошь вагоны третьего класса для такой же публики.
Повернувшись спиной к вагонам, орошаю обильной струёй деревце.
— А-а! Собака свинская, — срывающийся в истерику фальцет метрах в двадцати, и выстрелы из револьвера, а потом — хохот множества здоровых глоток!
Ситуация почти тут же прояснилась — какой-то неведомый мне Шульц из соседнего вагона присел, а у мудей вылезла голова какой-то местной живности, наподобие сурка. Ну и… с перепугу скакнул, да и тово… в штаны. Самое характерное — не попал в виновника, отчего насмешникам ситуация кажется вовсе уж развесёлой.
Похмыкав, вспоминаю свои обязанности и иду вдоль вагонов общаться. Не помню, как это называется по науке, да и называется ли вообще, но в дороге народ более открыт и дружелюбен.
— Добрый день, парни! — подхожу к группе, выглядящей относительно единообразно, и как бы это… с пониманием момента, што ли. Всё нужное, ничего лишнего — ни убавить, ни прибавить.
Крепкого вида мужики, одеты в недорогую, но добротную одежку без форса. У всех оружие, и держат его как привычный атрибут, но без звериной настороженности, характерной для бандитов.
«— Улыбаемся и машем!»
— Добрый… — смотрят с недоумевающим прищуром, прервав разговор, но потом слышу:
— … репортёр… Россия…
Взгляды становятся доброжелательней, и мне вполне охотно отвечают на вопросы. Старатели из немецкоговорящих — от пруссаков и австрияков с чехами, до голландцев и датчан.
— … Война? А нам она на кой, парень? — потрёпанный жизнью и алкоголем Клаус из Нидерландов цвиркает табашной слюной, сбивая с ветку какую-то страховидлую кукарачу, — Это земля буров, и поверь — они ни на минуту не дают забыть об этом! Воевать за их права и свободы? Ха! Пусть сами и воюют!
— Есть и нормальные! — начинает спорить с ним чех по фамилии Немец или Нимиц, я толком не разобрал, — Дядюшка Пауль[22] тот ещё фанатик, двинутый на Библии, но…
— Именно на Библии и должно быть построено… — влезает в дискуссию третий, оставшийся пока безымянным для меня. Огромный его кадык дёргается на тощей, плохо выбритой шее, а речь запальчива и полна дурно склеенных, часто неуместных цитат из Священного Писания.
— Президент Крюгер… — дискуссии набирает обороты, и я понимаю — единства нет. Ни среди уитлендеров[23], ни — вроде как — у самих буров.
Гудок паровоза, и я заскакиваю внутрь, спеша угнездиться с какими-никакими, но удобствами. Дабы погасить возможное недовольство, достаю из кофра аккордеон и начинаю наигрывать одну из популярных немецких мелодий.
К Претории подъехали под самое утро. Состав затормозил на грузовой станции, где нас уже ждали таможенники. Уитлендеры, зевая и потягиваясь, распространяя вокруг запахи пота, табака и алкоголя, потянулись оформлять свои грузы, у кого они были.
— Репортёр? — удивился сидящий под навесом немолодой бур, повертев в мозолистых руках документы, — Из России?
— С этими-то зачем? — он выразительно поглядел на гогочущую компанию, остановившуюся неподалёку.
Губы бура скрыты окладистой бородой, но могу поклясться, они сейчас сжаты в куриную ханжескую жопку. Не одобряет, значица.
— Боялся английской блокады и хотел попасть сюда как можно быстрее, отвечаю с видом самым искренним и чуточку залихватским.
Не вру, просто не договариваю. От ответственности убегал, от всех этих малознакомых и вовсе незнакомых людей, которые внезапно повисли на моей шее.
И ведь не слезли бы! Неделю бы ещё торчал в португальской колонии, обустраивая всех, переводя, разъясняясь с чиновниками и работодателями.
В поезде уже понял, сильно потом. От того, наверное, так легко поддался нехитрой негритянской манипуляции, што сам сбежать хотел. И не стыдно! Вот ни капельки…
Похмыкав моему молодому задору, бур передал документы молодому парню, по виду как бы не сыну. Ну да наслышан! Семейный подряд здесь процветает, хотя оно и немудрено — все друг дружке родственники, перероднились за столько-то лет.
— Герр… — деликатно начал я.
— Абрахам Хольтман, — представился наконец бур с видом, будто делает нешутошное снисхождение, — мой сын Николас.
Зверообразного вида молодец склонил слегка голову, и тут же выпрямил гордую выю, выпятив заодно нижнюю губу, окинув меня маловыразительным взглядом. Што значит, не пришёлся я ему. На да и…
— Георгий Панкратов, — документы у них есть, но не переломлюсь.
— Такое дело, герр Хольтман… — вздыхаю чуть напоказ, и рассказываю изрядно отредактированную историю «контрабандного» проезда Мишки и Котяры. «Зайцы» морские, вроде как. Те, потупясь, старательно делают виноватый вид.
— Пф-ф… сам я такое решить не могу, — таможенник переходит на африкаанс, што-то резко говорит сыну, сорвавшемуся с места, и…
… закружилась карусель с таможенным начальством, русским представителем в Претории… ещё одним русским, потом наконец пришёл Самуэль Маркс[24], и дело сразу наладилось.
— Вы бы хоть телеграмму послали, — ворчливо высказался выходец из Литвы, переговорив с таможенным начальством и поручившись за нас.
— Так получилось, — ещё раз виноватюсь я, на што Маркс только усмехнулся, и в усмешке этой было столько понимания и… ностальгии…
Пока Мишку с Иваном фотографировали на документы, расспрашивая о цели приезда, Самуил с Товией забрасывали вещи в грузовую повозку.
— Шабес-гои наоборот? — пробормотал Маркс, глядя на их слаженную работу, — Писал мне Фима, а я, дурак…
— Я, кажется, лишку сболтнул, — догнал нас Мишка, тормознувшись с разговором о нашего гостеприимного хозяина. Он так и не объяснился тогда со своей «лишкой», позже оно как-то забылось, и…
… как выяснилось сильно позже — зря.
Встряхнув газету, Борис Житков ещё раз всмотрелся в портрет… он, точно он!
— Живут же люди, — вздохнул привалившийся к плечу Коля Корнейчуков, с какой-то тоской разглядывая фотографию и заголовок, — а мы?
— А мы… — Житков встал, кинув газету на скамью, — я еду в Африку. Ты со мной?
— Я… — Корнейчук замялся, кусая губу, — да, чёрт побери, да!
На скамейке осталась мокнуть под дождём газета с портретом Михаила Пономарёнка, глядящего на читателя строго и требовательно, как воин с иконы.
«Русский доброволец в Претории. За вашу и нашу свободу!»
Глава 13
Скинув с себя влажное от пота одеяло, сажусь на кровати, с силой растирая мятое лицо. Сны… в этот раз ничего особенного, просто лекция в Сорбонне, но настолько живо, настолько…
«— Кинохроника».
Она самая. И тоска — разом! По друзьям, родителям, по… Проснулся, и снова не помню родных, и тоска — вот она, зараза, душу ржой разъедает.
Кошусь на Саньку, сбросившего одеяло, и раскинувшегося на кровати кверху пузом, руки и ноги по сторонам. Расплывающееся на его пижаме влажное пятно… увлекательный мир подростковых поллюций, ети! Знакомо. Мишка уткнулся головой в подушку, в уголке рта слюна, посапывает безмятежно.
Выйдя, хлопнул погромче дверью. Посетив кабинет задумчивости и сбросив балласт, умылся тепловатой водичкой, поёрзал зубной щёткой по белым и ровным (тьфу-тьфу!) зубам, и начал будить сонно ворочающихся братьев, а потом и Кота с близнецами в соседней комнате. Поднимались тяжело, акклиматизация ещё не завершилась, да и обстановочка вокруг достаточно нервенная.
— Баасы, — постучав, походкой перекормленной утки зашла к нам жопастая миловидная негритянка в платье горничной и кипенно белом переднике, — хозяева уже садятся за стол.
Присев напоследок в реверансе, она удалилась с большим достоинством и осознанием важности своей миссии на этой грешной Земле. Што значит, человек на своём месте — ни прибавить, ни отнять.
Похмыкав, выразительным взглядом ускорил сборы, да прислонился к стене, позёвывая и поглядывая по сторонам рассеянным взглядом.
Прохладный по раннему утру ветерок из приотворённых окон колышет тонкие белые занавеси. В москитные сетки, жужжа, бьётся какая-то местная пчела, да уцепился лапками здоровенный шипастый богомол, таращась здоровенными буркалами. Попялился на нево в ответ, ожидая братов, да и пошли все вместе.
Большая столовая с хорошо сервированным столом, но без излишеств, свойственным нуворишам. Никакой пошлой роскоши или избытка столовых приборов, неуместных во время полусемейного завтрака.
Марксы, мы, и два бура — совершеннейшие деревенщины по виду, но держащиеся, как это свойственно местным, с превеликим достоинством и преувеличенным чувством собственной значимости.
— Шалом алейхем, — вразнобой поздоровались мы с хозяевами и гостями, рассаживаясь за столом и выслушивая ответные пожелания всех благ.
Завтракали вместе с семьёй Маркса, так здесь заведено. Это в Европе разделение на касты, а в Африке или там в Палестине ты — белый человек! В Претории и других городах патриархальность и простота нравов несколько нивелировалась человеческим изобилием, а в глуши именно так: любой белый человек — желанный гость!
В семье Марксов причудливо смешались патриархальные жидовские обычаи, не менее патриархальные бурские, и европейские. Смесь вышла прелюбопытная, но после Одессы не в новинку. Иначе всё, и сильно иначе, но само понимание, што у людей жизнь устроена иньше, чем в твоей глубинке, уже даёт многое к пониманию и отчасти — космополитизму.
Сэмуэль, он же Шмуэль, на русском говорит с некоторой запинкой, но без привычного местечкового акцента. А его жена и дети русского и не знают или почти не знают, за полной ненадобностью. Английский, идиш и африкаанс мешаются в их речи самым естественным образом, когда они переходят от разговора с нами или друг с другом, к разговору с бурами.
Младшие любопытствуют, стреляя в нас глазами и обмениваясь негромкими фразами, не переходя рамки приличий. Старшие более сдержаны, но и им интересны гости из далёкой России, тем паче настолько необычные.
Миловидная супруга нашево хозяина успевает вести светскую беседу, безмолвно дирижировать подающими на стол служанками и то движением брови, а то и ласковым словом, осаживать расшалившихся детей, да расспрашивать буров о делах на ферме.
Те отвечают важно и немногословно, роняя слова о захворавшей кобыле или служанке, которая — дура черномазая, рожать удумала не ко времени!
Атмосфера вполне уютная, и даже Товия с Самуилом потихонечку теряют напряжение. Забавно, но именно два жида чувствуют себя не в своей тарелке, будучи в гостях у единоплеменника. Хозяева ласковы с ними, но отсутствие привычки к какой-никакой, а светскости, играет свою роль.
Нам с Санькой не привыкать, Котяра… шулер, он и есть шулер, учён на славу на всякие случаи, при нужде и за дворянина сойдёт без всякой фальши. Беспокоился было за Мишку, но нет — путается несколько в столовых приборах, но ни капли не теряется, и ведёт себя вполне непринуждённого, притом без подражательства, а…
«— На своей волне» — как и буры. Чем-то неуловимы похожи, и похожи сильно. Не манерами, а какой-то внутренней сутью. Но они деревенщины, а Мишка, несмотря на нехватку светскости, ощущается с хозяевами на равных.
Н-да… вспоминаю, што ведь ничегошеньки не знаю о Мишкиной семье! Сам говорить не хочет, а добытые через чужих людей слухи малоинформативны. Некоторые общины староверов весьма закрыты, и его семья как раз их таких. Но явно непростые.
Или портняжная мастерская привычку к общению дала? Всякий ведь народ ходит, в последнее время чины из немаленьких захаживают, да степенства купеческие — не из первой пока сотни, но и не охотнорядцы в замызганных поддёвках!
После завтрака буры распрощались и ушли, на ходу ковыряя в зубах.
— Алмазная шахта, — негромко сказал Шмуэль, уловив немой вопрос, — и богатая… но сам видишь.
Хмыкнув, кивнул с пониманием — вести дела с такими людьми тяжко, тот самый случай, когда уничижение паче гордыни. Весь их быт, сама государственность — нелепость полудикарская. Впрочем, британцев я ни разу не оправдываю.
Кстати…
— Херр Шмуэль, вы не поможете снять нам дом? Мы бесконечно благодарны за ваше гостеприимство, но понимаем, что оно не может продолжаться вечно.
— Пустяки, — благодушно отмахнулся тот, раскуривая сигару, — или…
Он остро посмотрел на меня.
— … есть какие-то иные причины?
— Я репортёр, и не все мои статьи будут пропитаны благожелательным отношением к бурам и бурской верхушке. А при здешней патриархальности нравов, оказывая мне гостеприимство, под ударом оказываетесь и вы.
— Понимаю ваш резон, — кивнул он, — но можете о том не беспокоиться. Я… хм, имею свои интересы в этой ситуации. И к слову, не думайте, что вы мне что-либо должны за гостеприимство, помимо элементарного уважения к хозяину. Просто… хм, не удивляйтесь, если я буду вовлекать вас в свои… хм, комбинации.
Не спешу соглашаться, и молчание повисло между нами. Пауза затянулась, и Шмуэль нарушил её первым.
— Ладно, ладно, молодой человек! — он перешёл с английского на идиш, и в голосе его прозвучало веселье, — Обещаю, что комбинации эти не пойдут во вред вам и вашим братьям и друзьям. Также обещаю, что буду по мере возможности разъяснять ситуацию.
— Договорились, херр Маркс.
Приказав работникам нашего хозяина оседлать лошадей, мы переоделись, вооружились, и всей компанией отправились на стрельбище в паре миль от города. Пусть мы и не собираемся участвовать в войне, но поддавшись всеобщему милитаристскому ажиотажу, ходим везде, увешанные оружием так, будто собираемся не иначе как сейчас вступать в бой с британцами.
Местные лошадки неказистые и норовистые, но выносливые и отменно сообразительные. Мы с Санькой, как бывшие подпаски, легко нашли с ними общий язык, а вот остальные, несмотря на наши подсказки, на кавалеристов похожи только издали.
— Тиш-ше, тиш-ше, — Зашептал Котяра, поглаживая взбрыкнувшую было кобылку, — ну вот, на…
Та охотно схрумкала предложенный корнеплод, кося на него хитрым взглядом, и… вот ей-ей! Ручаться не могу, но очень похоже, што умная животина нарошно иногда капризничает, прося ласки и лакомств.
На стрельбище, представляющем собой унылое вытоптанное поле с мишенями, поделённое на сектора, с полсотни стрелков. Между ними снуют кафры — как личные, так и служащие при полигоне. Принести патроны или прохладительные напитки, сбегать куда-то с поручением и Бог весть, што ещё.
Обменявшись приветствиями со встреченными знакомцами, и выслушав в ответ пожелания всех благ на африкаанс, немецком и голландском, расположились в своём секторе. Дальше — скушная для меня отработка стрельбы. Лёжа, сидя, с колена, стоя, навскидку, в падении… На последнее буры косятся несколько пренебрежительно, но не высказывают своё несомненно ценное мнение. А некоторые так и вовсе — хмурятся задумчиво, и видно — на себя примеряют.
Успехи у нас… ну, разные.
Из револьвера лучше всех Санька стреляет. Тридцать вторым калибром бахает, как пальцем тыкает, даже и не целясь. Из ружья на коротких дистанциях тоже недурно, а вот на дальние — чуйки нет, понимания.
Мишка, тот наоборот — из ружья стреляет, как не всякий бур, а из револьвера — в стену сарая с десяти метров попадёт. Ежели навскидку и в движении, канешно — так-то, стоя целясь, любой балбес сумеет.
Я посерёдке. Санька и Котяра из револьвера куда лучше меня стреляют. Мишка, и даже Самуил с Товией — из ружья. Раненую свою гордость лечу, только когда в падении или с седла стрелять начинаем, вот тут да, хорош. Ну… не дано, выезжаю на координации, моторике и глазомере, а собственно стрелковых талантов и нет.
На стрельбище не задержались, и уже через час, потные и покрытые коркой пыли, возвратились назад, и снова — тренировки. Одна на всех разминка, затем каждый своё на заднем дворе викторианского особняка. Близнецы, те силу качают — то шею на мосте, то друг с дружкой на спине отжимаются или приседают. Мы — на ловкость больше, на координацию. Я только иногда поправляю технику.
Какой-то незнакомый бур — то ли гость хозяина, то ли ещё кто, встал неподалёку с зубочисткой, беззастенчиво пялясь. В глазах осуждение и лёгкое презрение — што значит, из самых што ни на есть деревенских. Хуторянин, кальвинист в квадрате, а то и в кубе.
Развлечения осуждаются. Музыка, яркая одежда и многое… да почти всё! Из развлечений такие признают только чтение Библии, да слушанье проповедей. Ну и само собой — работа.
Презрительно, но… взгляд то и дело сворачивает на Товию, мерно отжимающегося с братом на спине.
— Вниз — плавно! — командую я, — Вверх — рывок!
Угукнув, тот поправился, и только мышцы под рубахой ходят, да волосы на спине проступают через вспотелую ткань.
Котяра с Мишкой вполсилы занимаются по нашим с Санькой меркам. Мишка на силу ещё туда-сюда, а на ловкость начал было после вылечивания хромоты, да быстро прекратил. Так только, растягивался по чуть, да несколько связок рукопашных отрабатывал.
Заметив, што Чижик притомился, кинул ему боксёрские перчатки.
— В правосторонней поработаем немножко. Пятнашки. Сперва только по корпусу, потом корпус и голова.
— Ага… — брат одел перчатки, и я помог зашнуровать их, — а зачем ты в правостороннюю так часто? Сам же говорил, што амбидекстрия в боксе почти и не нужна, и даже эти… примеры показал — из тех, где правосторонняя выгодней. Всего-то парочка. Для общего развития?
— Отчасти. А отчасти — вот, — кинув перчатки обратно на столик, я взял валяющуюся на земле сухую веточку, — Предположим, это нож.
Санька покосился с сомнением, но включил художницкую фантазию и предположил. Мишка с Котом, да и остальные, подтянулись на интересное.
— Классическая в боксе стойка, только правостороння, и… видите? — я прижал левую руку к торсу, — Горло, сердце и потроха более-менее прикрыты, в правой нож, и начинается боксёрский челнок, плюс боксёрские же отбивы чужой руки.
— Сильно, — прищурившись, одобрил Кот с видом эксперта, — но в некоторых случаях это…
— Знаю, — перебил я его, останавливая неуместную для тренировки дискуссию, — не идеал. В некоторых случаях — другие варианты нужны, но вкратце — полезно? Всё, дискуссия окончена. Помоги заодно перчатки зашнуровать… поехали!
Помывшись, в ожидании обеда читаю газету, с немалым трудом разбирая африкаанс. На слух пока вообще не воспринимаю, а в тексте — пожалуйста. Корни у языка преимущественно голландские, то бишь германские. При знании хох-дойча, идиша и привычки разбирать не самый простой диалект меннонитов, понять можно.
«Армия генерала Жубера[25] осадила Лэдисмит»… а я — сижу! Не без труда давлю раздражение. Увы… сложности начались с самого начала, хотя чему я удивляюсь?
Возраст мой, да чортова эта частичная эмансипация. У буров, пока отпрыск не женится, не заведёт хотя бы парочку ребятишек и не отрастит густую бородищу, закрывающую грудь, он и права голоса-то не имеет!
А тут я, аккредитованный репортёр в четырнадцать годочков. Уже смутительно. Да Санька «впристяжку», с документами от Художественного Училища вместо нормального паспорта, да Мишка с Котярой, у которых документов — вообще нет!
У Маркса я живу…. ну, вроде как на поруках. Списываются пока, телеграммы шлют… а там — люди воюют! Там, именно там, на передовой, моё место как репортёра!
Продышавшись, успокаиваю себя мыслями, што за это время познакомился со многим интересными людьми из буров и приезжих. Што в столичной Претории — штаб, правительство, и вообще — жизнь кипит! Помогло слабо, ну да куда я денусь?
Ехать в зону боевых действий с недоподтверждённой аккредитацией, оставляя братьев и друзей с вовсе уж сомнительным статусом, это глупость несусветная. А так бы…
Прикрыв глаза, я представил, как здоровски было бы уметь — р-раз! И меня два, или целый десяток. Один — в Претории, второй у Жубера, третий у Кронье[26].
Представлялось здорово, но почему-то, во всех своих фантазиях, я/мы был в чудовищном рыжем комбинезоне.
За ужином присутствовало несколько относительно молодых буров, незнакомых ни лично, ни по газетным фотографиям, из которых я начал собирать картотеку. Вполне светский разговор, то бишь из городских африканеров, приемлющих што-то помимо Библии.
На равных присутствовали и общались все, включая смущающихся близнецов. А вот после ужина как-то так оказалось, што некурящий я оказался на веранде с курящими гостями, а парни мои — чуть в сторонке. И взгляды…
«— Эге… — вякнуло подсознание, — а у нас здесь никак заговор?!»
А ведь похоже! Маркс считается другом и креатурой Крюгера, но… интересно!
Ничего не значащий светский разговор, несколько даже высоковатый для меня. Потом расспросы о России, и… Маркс чуть в стороне, но кивает еле заметно и очень серьёзно — дескать, отвечай.
— Скажите, Георг, — и лёгкая улыбочка Деккера, от которой мурашки по коже, — мы слышали, что в России вас обвиняли в достаточно интересном преступлении…
— Обвиняли, — и как к воде, прикладываюсь к бокалу с бренди, который до того просто вертел в руках. Ни вкуса, ни запаха…
«— Да и нет не говорите…»
Переглядывания, потом — якобы не сразу, понимание моей ситуации и то, што признаваться в таком, да ещё в незнакомой компании, не стану.
— А если бы, — начал всё тот же Деккер, — гипотетически это были именно вы тем человеком, который совершил символический акт повешения императора? Зачем?
— Предупреждение дурному правителю, устроившему на коронации — жертвоприношение, а потом — танцы на трупах. По сути. Предупреждение от гипотетического представителя народа.
— Это… — выдыхаю, во рту сухо, — ещё не мене, текел, фарес на пиру Валтасара, но глас народа[27]…
Замолкаю, и африканеры, переглянувшись, принимают какое-то неведомое для меня решение. Я… сочтён и взвешен.
Разговор снова становится обыденно-светским. Новости с фронта, экономика, проблемы уитлендеров и излишне патриархальной части общества буров. Но откровенней, заметно откровенней.
Вот что это было?!
Глава 14
Папаша Крюгер изволил инспектировать артиллерийские склады, как нельзя сильно в эти минуты похожий на зажиточного деревенского мужика, взлетевшего, за неимением других кандидатур, на пост управляющего поместьем. Въедливая дотошность человека, который не вполне понимает суть своей работы, но держит изо всех сил важный вид, балансируя между верой в собственное высокое предназначение и опаской, а ну как поймут и погонят прочь?!
Наспех сколоченные бараки, огромные палатки, полотняные и дощатые навесы, и ящики, ящики, ящики… Африканеры невообразимо, чудовищно богаты, а немецкий кайзер шлёт не только телеграммы со словами поддержки, но и корабли с оружием.
Новейшие многозарядные «Маузеры», которые только-только поступают на вооружение армии Второго Рейха, пушки, пулемёты — больше, чем на вооружении у прибывших в Африку британских полков. Патроны — десятками миллионов, взрывчатка и всё, што ещё только может понадобиться для войны.
Остро пахнет металлом, порохом, взрывчаткой, смазкой, какой-то химией, важно передвигаются меж штабелей с вооружением осанистые буры, снуют кафры, деловито возятся европейские специалисты. Муравейник.
Вскрываются ящики со снарядами, и дядюшка Поль проводит пальцем по заводской смазке, трогает старческими, но всё ещё сильными пальцами, ящичные доски, проверяя на излом. Рачительный хозяин, как и почти все буры, но при таком подходе он рискует утонуть в каждодневных мелочах, потеряв за деревьями лес.
За президентом свита хвостом, в которой хватает таких же деревенских, и даже вовсе уж диковатых хуторских мужиков, и — городские африканеры. Контраст разителен, и несмотря на схожую одежду, окладистые бороды и степенные манеры, городские выглядят совершеннейшими европейцами. Не элегантными парижанами и резковатыми берлинцами, а почтенными бюргерами из маленьких городков в захолустье, но — европейцы. Не белые дикари, знающие наизусть Библию, но ничего кроме. Другие. И тоже — буры.
В хвосте свиты — я, с каждой минутой всё более желчный и язвительный. Жду-с!
Со мной Санька, вовсе ничем не озадаченный и ни о чём не думающий, потому как занят делом, а не ожиданием. Чуть остановится президент со свитой, как брат, тихохонько сопя, делает наброски.
— Херр Панкратов, — тщательно выговаривая мою фамилию, подошёл ассистент-фельдкорнет[28], весьма не светски поманив за собой. Пара десятков шагов… жду, пока президент, беседующий с каким-то немцем, явно из офицеров по виду, соизволит обратить на меня своё высокое внимание.
Минута, вторая… пятая… и полное впечатление, што нарошно томит. Вытащив блокнот начинаю делать наброски. Папаша Крюгер очень живописен: мясистое лицо с носом картофелиной, мешки под глазами, окладистая борода на шее при выбритом лице. Подобный типаж очень хорошо смотрится у старых голландских мастеров, и… на карикатурах.
Тишина… но я невозмутимо черкаю в блокноте, внутренне сцепив зубы. А вот задело!
Закрываю наконец, и улыбаюсь, бестрепетно встречая взгляды свитских и самого президента. Ни оправдываюсь, и только киваю этак поощрительно — ну?
— Георгий Панкратов, русский репортёр, — суховато говорит кто-то из свитских на африкаанс.
— Несмотря на юный возраст, успел завоевать признание в репортёрской среде прекрасными, и очень яркими Палестинскими очерками и статьями, — улыбчивый немецкий представитель с офицерской выправкой смягчает ситуацию.
— Палестина, хм… в такие-то годы? Характер! — один из деревенских спутников президента с неуклюжей дипломатичностью вытягивает ситуацию.
— Настоящий бур, — кивает городской африканер, — только немного невоспитанный.
Смешки, и ситуация поворачивается так, будто это я… а, чорт! Всех скопом не переиграть, да оно и не надо — показал зубы… хм, молочные, и хватит.
Улыбаюсь светски, с лёгкой прохладцей, и дядюшка Поль раздвигает в улыбке губы, но глаза — с прохладцей, без тени приязни. Взаимно.
Грызя вечное перо, задумываюсь над статьёй. Писать, как требует публика, чрезвычайно не хочется, но…
… кидаю полный отвращения взгляд на телеграмму от Посникова.
«— Московская наша публика решительно настроена в пользу буров, воспринимая чужую войну своей, едва ли не народной…»
Остальные телеграммы — как под копирки. Статьи в русских, европейских, немецких газетах… Благородные буры, подлые англичане…
Единственные различия в подаче материала. Репортёры, тяготеющие к описательству, с чувством кропают многостраничные опусы о патриархальной, библейской простоте нравов, их глубокой религиозности. Иные, мнящие себя военными экспертами или политиками, принимаются рассуждать о стратегии и тактике, обличать британскую политику и трусливое невмешательство своих правительств.
А я — не хочу. Нельзя сказать, што вовсе не сочувствую бурам, но…
— Война была равна, сражались два говна, — бормочу вслух и оглядываюсь — не слышал ли кто?
Мишка, ети его, по какой-то непонятной мне причине очень серьёзно воспринял чужой для нас конфликт. Притом, што вовсе уж неожиданно, сторону самых упёртых…
«— Упоротых»
… кальвинистких радикалов, считающих эту войну не иначе как войной с Антихристом. Всколыхнулось у брата староверческое, вбитое на подкорку в глубоком детстве. Я было высказался… и получил полный обиды взгляд, два дня не разговаривали. Так вот бывает. Я бы ещё понял, если бы он просто поддался военному угару вообще, но идти против религиозных чувств не хватает ни решимости, ни што главное — знаний.
Посещает теперь собрания, проповеди, исступлённо учит язык, и ищет старательно общее у африканеров и староверов. Находит, как не найти… особенно если искать некритично, отбрасывая несообразности. Его привечают, выделяют из других иностранцев. Не все, далеко не все… но и этих достаточно, штобы я чувствовал себя препаршиво.
Вот чую, со дня на день вступит Мишка в одну из бурских или волонтёрских коммандо, и поедет на войну, которая стала для него — священной.
Буры… чего стоит закон, разрешивший наёмным кафрам пьянствовать (!) на рабочем месте, притом — исключительно в том случае, если кафры работали на чужаков-уитлендеров. И таких законов — десятки, один нелепее другого.
Петиция о необходимости реформ, и вполне дельные предложения оных, подписанные тридцатью пятью тысячью уитлендерами, отвергли на основании письма, подписанного девятьсот девяносто тремя бурами. Причём последние, в отличии от уитлендеров, не утруждали себя какой-то логикой, а просто — «не позволим!» И не позволили.
Завоеватели, пришедшие в эти места несколько десятилетий назад, рабовладельцы — не юридически, но фактически, буры никак не выглядят невинными жертвами. Но англичане… нет, не лучше, ничем не лучше. К тому же их слишком… слишком. Заполучив себе эти земли, они станут ещё богаче, ещё сильней, а остальные страны, соответственно — слабей. А это чревато очередной Большой Войной.
Все это если не понимают, то чувствуют нутром, от того и накал страстей в Европе — бешеный. Все почти европейцы воспринимают этот акт агрессии болезненно — не обычной колониальной войной, а будто вторгаются и отчуждают земли у них лично. Земли отцов.
В Британии — напротив, небывалый подъём шовинистического патриотизма. Одобряется любое действие властей, а буры заочно признаны белыми дикарями, отличающимися от кафров только цветом кожи. Дикари.
«— Недочеловеки».
Снова грызу перо… и принимаю компромиссное решение: писать так, будто я этнограф. Без восторженных реплик в ту или иную сторону, без…
… а как же хочется! Хлёстко! Едко! Фельетоном! Ну или хотя бы — нормальные статьи, в меру критичные, в меру язвительные — как это принято в нормальных странах. Но не поймут. Пока не поймут. Патриотический угар. Значит…
… буду вести дневник.
— Взяли! — восторженный Мишкин вопль совпал со стуком настежь распахнутой двери, врезавшейся в дверной косяк, — меня взяли!
Брат возбуждённо забегал по комнате, совершенно невменяемый, и я едва успел захлопнуть дневник, подложив промокашку вместо закладки.
— В Мафекинг, — остановившись, он посмотрел на меня сияющими глазами, — на помощь отрядам генерала Кронье. Он сам, правда…
— Я с вами… — и брат налетел на меня, затряс, заобнимал… и стену начавшегося было отчуждения прорвало, — … как репортёр.
— Я понимаю, — закивал Мишка отчаянно, — я… просто рад, брат. Што мы… ну… как и раньше!
Оседлав лошадей, приобретённых через нашего любезного хозяина, мы направились договариваться с Морелем, отряд которого расположился вдоль железной дороги. Большой, явно старинный полотняный шатёр, служащий жилищем командиру, а заодно и штабом фельдкорнетства, украшен четырёхцветным флагом Претории. Вокруг палатки и фургоны, среди которых видны женщины и дети.
Многие буры воспринимают войну как Великий Трек[29], путешествуя на фургонах всем семейством. Знаю уже о том, но видеть бегающих ребятишек и чинных бурских женщин, расхаживающих по военному лагерю и занимающихся вполне мирными делами, дико. Позже эта привычка им аукнется… наверное. Пока же период побед и головокружения от успехов, и английские отряды кажутся многим не опасней кафров.
Обогнув висящее на верёвках стиранное, многократно штопанное нижнее бельё, и возящихся у очага раскрасневшихся бурских женщин, мы подъехали к шатру командира, сидящего с трубочкой в кругу подчинённых.
Фелькорнет[30] Морель оказался немолодым степенным буром, большую часть своей жизни (как я выяснил из рассказа Берты Маркс) занимающийся перевозкой грузов и торговлей. Основу фельдкорнетства составили его компаньоны и работники, державшиеся без малейшего чинопочитания.
Одетые в несколько потрёпанную, но добротную одежду европейского кроя, они лениво расположились кто где — на приготовленной для костра сухой лесине, охапке травы или просто — в пыли, на собственной поджарой заднице. Крепко пахло давнишним потом, табаком и… портянками.
Крепко, очень крепко. Даже и для меня, выросшего в деревне и на Хитровке.
«— Наши-то мужички, — мелькнула непрошенная мысль, — победнее будут, но и почистоплотней».
Мелькнувшая было мысль о казаках в походе ушла, как и не было. Совершенно другой типаж.
— Русский? — он вытащил изо рта вонючую сигару, смерив меня равнодушным взглядом светло-серых глаз, — Фургон есть?
— Найду, — пообещал я легко.
Клуб дыма, переглядки Мореля с сидящими тут же товарищами, равнодушное пожатие плеч…
— Отстанешь, — снова клуб дыма, — ждать не будем. Припасы за свой счёт.
Мишка заулыбался, будто услыхав што-то невообразимо приятное, и повернулся ко мне, сияя всей мордахой, уже зашелушившейся на здешнем жарком солнце. Охо-хо…
Фургоны и лошадей в упряжки нашли не без труда, начав снаряжаться в путь при помощи нашего гостеприимного хозяина.
Похмыкав и проглядев список и качество взятого, Шмуэль не без некоторого удивления счёл, што я в общем-то понимаю в походной жизни.
— … но, молодой человек, — назидательно сказал он, подняв вверх палец и заулыбавшись широко, — надо думать и об окружающих! Маленькие подарки приводят иногда к большим последствиям!
Догрузив меня несколькими ящиками спиртного и табака, он счёл подготовку удовлетворительной. На козлы фургонов, расшитых по тентам надписями «Пресса» уселись Товия и Самуил, но што Маркс только головой помотал, будто отгоняя странное.
— Возвращайтесь живыми, — сказал он на прощанье очень серьёзно, — это главное.
— За вашу и нашу свободу, — повторил Феликс Шченсны, аккуратно складывая газету, — Так, значит…
Он заколебался на мгновение, но тут, под окном его варшавского дома, прошла компания молодёжи, распевая «Марш Домбровского[31]».
Тряхнув головой, он прикусил губу и повторил ещё раз…
— За вашу и нашу свободу! Русский[32]…
… и глубоко задумался, комкая газетный лист.
Глава 15
Сойдя с поезда, Серафим опасливо вжал голову в плечи, дивясь людскому толкучливому многолюдию и вокзальной роскоши. Ишь… жируют!
Повертев кудлатой башкой, выцепил глазами городового, и выдохнув решительно, затрусил к нему по влажной от недавнего дождя брусчатке, ежесекундно ожидая самово нехорошево.
— Доброво здоровьичка, — издали сорвал он шапку и закланялся, да так и не выгнул спину взад, ссутулившись привычным крестьянину образом перед лицом начальственным, — вашество…
Мужик замялся, забыв титулование столь важного чилавека в мундире. С медалью!
— Ну?! — рявкнул здоровенный усач, вкусно пахнущий самонастоящим, а не махорошным табаком, водкой и копчёностями, — Не томи власть, дяр-ревня!
— В-вашество… — у Серафима подогнулись ноги, и в голове уже закружилась каторга с клеймением и плачь старушки-матери, да воющая с горя жена и осиротевшие при живом отце детки.
— Тьфу ты… — усач сплюнул пренебрежительно, и несколько смягчился, видя нешутошный испуг мужичка, — Из какого ж ето угла ты вылез, дяревня?
— Сенцовские, вашество, — словоохотливо зачастил вспотелый от радости мужик, — што в Костромской! Бывшие, значица, помещика…
— Цыть! — прикрикнул служивый, морщась от чево-то, — Чевой надо-то?
— Так ето… — Серафим достал из-за пазухи пропотелую линялую тряпицу с письмецом, — на работу обещались устроить. Вот… адресок…
— Молдаванка? — крутанув головой, удивился непонятно чему городовой, сходу прочитав адрес, — Эк тебя… Никак скокарем иль медвежатником решил стать, хе-хе!?
— Што вы… вашество! — замахал руками крестьянин, улыбаясь испуганно непонятной шутке начальства, — У нас последних ведмедей ишшо при помещике…
— Замолкни, — перебил служивый разом замолкнувшево мужика, — дяр-ревня! И не пошуткуешь с тобой, потому как — дурак! Понял?
— Дурак как есть, — робко заулыбался так и не разгибающийся Серафим, — потому как мужик. Чай, не из бар…
— Эх-х… — то ли выдохнул, то ли крякнул городовой, — ладно… тебе, значит, аккурат во-он до туда! Видишь?
Он ткнул перстом, и крестьянин торопливо закивал, собирая морщинки у рано выцветших серых глаз, щуря их старательно по полицейской указке.
— Вон аккурат оттудова и…
Городовой объяснил всё подробно, заставив мужика повторить, и только тогда отпустил.
— В порядок себя приведи, — посоветовал он напоследок Серафиму с ноткой снисходительности, — а то выглядишь, прости Господи…
Служивый широко перекрестился, и широким небрежным жестом велел Серафиму убираться. Тот затрусил поспешно — так, штоб ровнёхонько в плепорцию, штоб уважить власть, но и себя не шибко уронить, значица.
В одном из проходов под домами, спрятавшись от накрапывающево дождя, мужик долго чистился, приводя себя в порядок. Как-никак справный мужик, а не распоследняя голытьба! Даже вон… сапоги!
Чистился, опасливо поглядывая на каменную махину, нависающую над головой. И как люди не боятся?!
Вытянув ногу, он сызнова опасливо взглянул вверх, успокаивая себя тем, што вон — ходят люди, и полюбовался сапогами — тятенькины ишшо, сносу им нет! Ежели не трепать кажный день, канешно. Так, по праздникам, ну и как сейчас.
Достав припасённый туесок с дёгтем, он тряпочкой отполировал сапоги, поплёвывая на них и не жалеючи дёгтя. А?! Лепо и духовито!
Прохожий, по виду из господ, раз в шляпе и очёчках, проскочил мимо, ругаясь негромко на запах, и Серафим на всякий случай снял шапку, заулыбавшись и закланявшись. Проводив взглядом удаляющуюся спину, сплюнул независимо — дух дегтярный господам не по нраву, неженкам! И ишшо раз — дёгтём и тряпочкой по сапогам, потому как он нравный и бунташный!
Деревянной расчёской с редкими зубьями долго расчёсывал спутавшиеся после путешествия волосья, ругаясь тихохонько и шипя от боли. Наконец расчесал, почистился ишшо раз, и пошёл на эту… Молдаванку, опасливо поглядывая по сторонам и на всякий случай сдёргивая линялую шапку при виде кажного прохожего.
Ить господа! Лучше тово… етово, перестараться, чем в харю получить, а потом плетей в участке — за неуважение. За… да за господами дело не встанет, найдут! Потому как учёные, и вообще — господа! Известное дело, их власть.
— Песса Израилевна, — повторил он ишшо раз, крутанув головой. Ишь! Имячко! Што израилевна, оно и так понятно, а по батюшке-то как? Всё-то у жидов не так, как у людёв!
Што он попал на Молдаванку, Серафим понял сразу, потому как — жиды! В голову сразу нехорошее полезло, слышанное в церкви от батюшки и торговцев с ярмарки — о крови християнской, о загубленных невинных младенцах, да о том, што они — Христа распяли.
— Ничево, — пробормотал он, потея от нервенности, несмотря на пронизывающий сырой ветер, гуляющий по улочкам с переулочками, — чай, не младенец уже давно, да и тово… не шибко и християнская кровушка у меня. Грешен…
Мужик быстро закрестился, бормоча привышные с детства молитвы.
— Русским духом пахнет, — послышалось сзаду замогильное, и Серафим опасливо откочил чуть не на сажень, закрестив тово, ково за чорта принял. Ну как есть же, а?! Чернявый, глазастый и с ентими… пейсами. Всё, как на лубке, который на ярмарке видал!
Чорт отскочил от святово креста и зашипел, пуча глаза и когтя пальцы на вытянутых вперёд руках, а потом расхохотался, оказавшись жидовским мальчишкой, злым и проказливым. Перекрестив ево ещё раз, мужик облегчённо выдохнул — не развеялся дымом, значица! Просто жид, хотя надо бы и тово… одно племя!
— Так к кому ты? — повторил чорт, стоящий уже не в одиночку, а такими же жиденятами, пусть некоторые из них совсем светленькие, почти даже и русские по виду. Ишь! Християн православных смущают! И ухи не надрать!
— К Пессе, — упаднически сказал Серафим, и пожевав губами, добавил для верности, — Израилевне. Знаете такую?
— А то! — кинул чорт.
— Так ето… — замялся мужик от неудобности и от тово, што спрашивать приходится не у взрослово человека, а щегла сопливово, да ещё и жидёнка, — а по батюшке ея как? Я понимаю, што она израилевна, но вы тута все такие, значица… израилевичи.
— Ой! — сказал чорт дискантом, и расхохотался. Завизжали смешливо и остальные жиденята, на што Серафим только насупился — ишь! Старшево чилавека обсмеивают! Жиды! Правильно про их батюшка говорил, чортово семя!
Обступив, жиденята повели ево проулочками и закоулочками, задавая всевозможные вопросы вразнобой, и дёргая то и дело то за рукав, то за полу зипуна. Мужик заопасался было за спрятанные в сапоге рупь с полтиной, но успокоился быстро — не… почуял бы! Иль нет? Всё ж жиды, а про них разное говорят!
Он так и пошёл, пытаясь то ли ощутить, то ли нащупать монеты в портянке. Выходило плохо, отчево он морщился со страдальческим видом християнсково мученика.
— Песса Израилевна!
— Тётя Песя!
Два жидёнка рванули наперегонки, вопя на редкость пронзительно и противно, как и положено чортовому племени. Ажно в ухах засвербело и захотелось потрясть головой, вытряхнув засевший там визг.
— До вас тут нищий какой-то приехал из России!
Услышав про нищево, крестьянин насупился — какой же он нищий?! Изба своя имеется, пусть даже и нижние венцы подгнили уже. Пора бы и менять, но где? Лес ихний, Сенцовский, он тощий, а казённый или ещё хуже — чужой, он ведь денег стоит!
Коровёнка… ну, старая, но доится ведь пока! И мерин… а?! Какой же он нищий? Вполне себе справный мужик! В сапогах!
— Тётя Песя…
— Песса Израилевна…
Загомонили жиденята в десяток глоток при виде выглянувшей с поверха второво етажа ладной бабы.
«— Ишь! — при виде спустившейся сверху жидовки Серафим сглотнул и резко вспомнил, што он вообще-то тово… мущщина! — гладкая…»
Взгляд ево прикипел к высокой груди, к широким колышущимся бёдрам при относительно тонком стане…
«— Ишь… — он непроизвольно облизнулся, и тут же одёрнул себя, — чортово семя! Всё бы им смущать честных християн! И на лицо… ничево так. Лупастая, канешно, да и нос… тово. Большеват. Но у Лушки Сидорихиной ничуть не меньше, а баба-то вполне себе… хе-хе! Глаза тожить… разве только тёмные больно…»
— … кто ты и откуда?
— Ась?! — Серафим заморгал, со стыдом понимая, што жидовка, которая Песя, уже который раз ему вопрос задаёт, а он тута слюнями, как кобель на сучку в течке!
— Так ето… — встряхнувшись, как собака, он собрался с мыслями, — из Сенцовки, значица, што в Костромской губернии! Вам ето… письмецо должно было…
Он сжался, сердце в груди отчаянно забухало, потому как, а вдруг нет?!
— От Егор-рки?! — Чуть прокартавила выскочившая вперёд молоденькая жидовка, при виде которой Серафим непроизвольно перекрестился, вспомнив вдруг разом, што пусть и чортово семя, но и Христос от их племени! То есть как бы… он запутался и снова — вспотел.
А ета… ну иконы писать с такой, чисто Богоматерь молоденькая! Ещё раз перекрестившись, он немного пришёл в себя и принялся отвечать.
Часом позже, обсыпанный с головы до ног персидской ромашкой и необыкновенно вкусно сытый, как и не помнил за последние годы, Серафим пил уже четвёртую чашку самонастоящево чая! Даже и не спитово! Кому и рассказать, а?!
Батюшка за такое и епитимью наложить может, за трапезу с жидами. А сказать про мыслю иконописную, так и тово… даже и на исповеди!
Гостеприимная Песса Израилевна (дал же Бог имячко!) потчевала ево жидовскими сладостями, подсовывая всё новые и новые. Вкусные, страсть! Сладкие.
И ета… крестьянин с превеликим трудом заставил свои глаза коситься помимо волнительной груди жидовки, натягивающей ткань. Тоже — сладкая! Наверное.
А хозяйка с дочкой, мешая русские слова с нерусскими, заспорили жарко, куда ж лучше устроить ево, Серафима? Потому как в одном месте платят получше, но мастера — собаки злые! В другом заработки так себе, но койку в рабочей казарме дают, а ещё — кормят.
У мужика в ушах звенело от криков и разных возможностей, а голова сладко и сыто кружилась. Ето вот по ево душеньку спорят, как лучше обустроить?! Оюшки…
— Ша! — мать хлопнула ладонью по столу, прерывая спор, — завтра зайдёт Сэмен Васильевич, вот тогда и да! А пока не будем гонять воздух языками!
Устроили Серафима в сыроватом полуподвальчике, закидав небольшую печурку в углу каменным углём.
— Здесь переночуешь, — деловито хлопотала жидовка, стеля ему постель, — сыровато, но быстро протопится, ты не смотри! Только ничего не трогай, ладно? Это Егоркины вещи, его мастерская. Он когда приезжает, вечно возится, мастерит што-то. Хобби!
— Ага, ага, — мужик быстро кивал, лупая по сторонам глазами и дивясь увиденному. Струмента, даже и на вид дорогущево — тьма! Такой продать, так небось хозяйство можно поднять — ого! А то и не одно.
— Так ето… а хоби, оно што? — осторожно поинтересовался мужик, подозревая не вполне приличное слово.
— Рукоделье для удовольствия, не для заработка — пояснила Песса Израилевна, отчево у Серафима ажно в висках волной — вж-жух! Вот стока денжищь… это как бабки? Поиграться?!
— А… кхе-кхе… не скрадут? — хрипло поинтересовался он.
— У Егора?! — хозяйка удивилась так, што у крестьянина отшибло всё желание спрашивать. И только в голове…
«— Ишь… взлетел…» — и острое облегчение от тово, што он — Серафим, сироту не забижал никогда. Потому как… потому. Вот!
Мысли ево окончательно запутались, и очнулся он уже с массивным узлом чистой одежды в руках.
— Мужа покойново, — пояснила жидовка, чуть вздохнув, — тебя мальчишки в баню проводят, да и переоденешься там в чистое, а я уж твоё постираю.
— Агась… благодарствую! — спохватился он, кланяясь низко, — От всей, значица…
Вечером, лёжа на постели в жарко натопленном полуподвальчике, чистый и благостный, сызнова наетый от пуза и напитый чаем со всякими жидовскими вкусностями, Серафим переживал крушение старово мира.
«— Жидовка, значица, — вяло текли мысли, — и так… и сама такая гладкая баба, хе-хе… Дажить если хвост и поперёк там всё, я бы… ух!»
Закурив и окутавшись махорошным дымом, он думал, думал, думал…
«— Поглядим, — решил он, зевая, и затушив цигарку о ладонь, положил окурок на табуреточку возле топчана, и повернулся набок, начиная засыпать, — как оно выйдет-то… дальше…»
— За вашу и нашу свободу, — повторил полицейский офицер, вперив взгляд в лежащую перед ним фотографию в газете и с силой растирая занывшие виски, — да уж, клубочек выходит тот ещё! Полячишки, староверы, социалисты, жиды… теперь ещё и буры!
В голову пришла было мысль, что Пономарёнок мог просто повторить красивые, невесть где читанные слова, не понимая смысла, но… нет! Офицер тряхнул головой, отбрасывая заведомую нелепицу.
— Панкратов в полиции на особом счету, — начал рассуждать он вслух, продолжая растирать виски и всё никак не в силах уцепить за кончик этого клубка, — да и…
Он замолк, опасаясь даже наедине произносить вслух запретное.
— Пономарёнок озвучил то, что слышал! Так… — офицер не глядя достал портсигар и раскурил папироску, не отрывая глаз от фотографии, которую уже выучил до мельчайших деталей.
Откинувшись назад, он прикрыл воспалённые глаза, мысленно выстраивая версии одну интересней другой.
«— Мальчишка — проект, — вяло думал он, смоля папиросу одну за одной, и ощущая едкую табашную горечь, вяжущую язык, — это я могу констатировать уверенно. А вот чей?!»
— А может… — он приоткрыл глаза, — общий? Российская Империя в её нынешнем виде…
Офицер устало опустил плечи и снова потёр виски, но тянущая боль прочно поселилась в голове.
— Российская Империя в её нынешнем виде, — повторил он, и добавил еле слышно после короткого молчания, — мешает решительно всем…
Глава 16
Потерпев неудачу в бурском посольстве, молодые люди вышли на улицу, изрядно раздражённые как самим отказом, так и весьма прохладным приёмом.
«— В России полным ходом идёт запись добровольцев в бурскую армию» — процитировал Николай газету с мрачной язвительностью, ёжась под ледяным петербургским ветродуем, — Как же! Люди за их свободу, а они… и-эх!
Сплюнув с одесским шиком на мостовую, он тут же засмущался осуждающего взгляда случайного прохожего, заалев всем лицом. Вздохнув, Корнейчук начал кусать губу, занимаясь душевным самоедством.
Мутная волна бурского патриотизма, поднятая прессой доброй половины мира, всколыхнула в людях желание защищать справедливость в Южной Африке — так, как они её понимали. Мнилась если не красная дорожка под фанфары, расстеленная доблестным русским добровольцам от благодарных потомков голландских и французских гугенотов, то хотя бы элементарная поддержка.
Действительность же оказалась прозаичной и серой, и прохладный приём, оказанный в бурском посольстве молодым людям, скребком прошёлся по юношескому самолюбию. Ни материальной поддержки, ни даже и моральной, что особенно обидно.
Добираться своим ходом до Марселя решительно не на што, денег впритык на третий класс до Одессы, да и то — не пито, не едено…
Представив, как они возвратятся в Одессу не солоно хлебавши, грязные и оборванные, Корнейчук передёрнулся от внутренней боли. А ещё письма! При отъезде написал пафосное донельзя, высокопарное и откровенно неумное, и потом — на вокзалах отправлял, чуть не всем знакомым. Порыв чувств, эйфория! Борец за свободу… и такой афронт! А сколько чувств, сколько экспрессии!
Высокопарные слова о собственной могиле в чужом краю, обещания… Ах, сколько писано обещаний! Высокая поэзия чувств, обнажение души, чеканные фразы… и позор возвращения?!
— Так, — сказал неожиданно сощурившийся Житков, стоявший до того бездвижно, статуей Командора, — пошли-ка в порт!
— На хрена?! — Николай, заведённый собственными отчаянными мыслями, экспрессивно вывернул пустые карманы, — Денег у нас на двоих — один раз в трактире нормально пообедать, осталось только одежду с себя продавать.
— Просите, и дано будет вам[33], — отозвался Борис, — Ну?!
— Вот так просто?! — уставился на него друг.
… — вот так просто, — повторил Корнейчук растерянно, глядя с борта парохода на тающий в тумане Петербург.
Просто пойти в порт, и честно, от всей души — добровольцы, хотим попасть в Южную Африку, сбор в Марселе, готовы отработать проезд. Всё! Один отказ, второй… взяли.
— Не стой, Коля! — подбодрил его Житков, бодро надраивая медяшки, — Работа сама себя не сделает!
— Ищущий находит, — задумчиво сказал Корнейчук, и покосившись на маячившего вдали боцмана, взялся за работу. Никакой оплаты, условия жизни и труда совершенно скотские, а половина экипажа, согласно теории Ломброзо — каторжники, которые только чудом и попустительством закона пребывают пока на свободе.
Рожи! Уж на что в Одессе полно интернационального уголовного сброда, но и там — поискать. А здесь — полпарохода. Сброд!
Сойдя на берег в марсельском порту, они решительно направились в город, не теряя ни единой минуты в чадной грязи. Корнейчук хмыкал смущённо, косясь на матросский рундук, подаренный одним из таких… пребывающих. В груди его теснились самые высокие чувства.
«— Люди куда лучше, чем кажутся на первый взгляд, — возвышенно думал он, шлёпая по лужам прохудившимся ботинком и не замечая этого, — а просто — среда! Когда думаешь даже не о пропитании, а об элементарном выживании, поневоле озлобишься. А стоит только дать им возможность проявить свои лучшие человеческие качества…»
— Нам, Коля, в один из комитетов нужно, — прервал его размышления приземлённый Борис, и Корнейчук сразу ощутил промокшие ботинки, заругавшись про себя и на себя, — Добровольцы делятся на две категории — те, кто едет за свой счёт, и те, которые за чужой.
— На средства, собранные комитетами, — кивнул несколько уязвлённый Николай, который так же расспрашивал моряков и знал ничуть…
… ну, может и похуже, самокритично признал он. Расспрашивал он как бы не побольше Бориса, но как-то так выходило, что… всё больше не о том. Об интересном, а не о необходимом.
Благожелательное отношение моряков к добровольцам пробило его вечную застенчивость, и уже через день вёл он себя с ними, как с давно знакомыми и априори хорошими людьми. Да… интересные были разговоры, но чаще всё-таки — не о нужном.
— Среди добровольцев, — чуть усмехнувшись, продолжил хорошо знающий своего друга Житков, — много людей состоятельных, относящихся к этой войне как к спорту или охоте. Возможность пощекотать нервы, повесить на стену пробитый пулей шлем британского колонизатора и сфотографироваться на фоне подбитой пушки.
— Вторая группа, — Житков еле заметно усмехнулся, — всевозможная сволочь, всё больше из тех, кто хочет половить рыбку в мутной воде южноафриканской войны.
— Я так понимаю, — несколько нервно усмехнулся Николай, — нам во вторую?
— А куда деваться? — приподнял бровь Житков, усмехнувшись кривовато, и Корнейчук с холодком в груди понял, что его вечно невозмутимый друг, бравирующий жёсткой верхней губой[34]… боится. И странным образом, это добавило ему… нет, не спокойствия и уверенности, а скорее — ответственности и взрослости. Разом.
— Пойдём, Боря, — хмыкнул он, расправляя костлявые плечи, — вливаться в ряды всевозможной сволочи.
Пункт приёма добровольцев им показал первый же спрошенный, проводив туда самолично. Словоохотливый невысокий старик с лихими усами и интересным прошлым с удовольствием ностальгировал, вспоминая «Славные времена» Крымской войны. От некоторых воспоминаний друзей откровенно коробило, но ветерана некогда вражеской стороны они слушали с болезненным, раздирающим душу вниманием.
— Да, молодые люди, — подкручивая усы, ностальгировал будто помолодевший ветеран, остановившись у дверей пункта приёма добровольцев, организованного в одной из обшарпанных контор возле порта, — лет десять назад Жюль ле Блас отправился бы с вами в это славное путешествие, а сейчас — хе-хе, я для этого староват! Буду сидеть в бистро, пить вино, и вспоминать молодых русских добровольцев, отправившихся делать славные глупости на чужую войну. Прощайте!
Приподняв шляпу, он удалился молодцеватой геморроидальной походкой, насвистывая военный марш. Переглянувшись, друзья зашли в большую приёмную, обставленную разнокалиберной, заметно изношенной мебелью из разных гарнитуров, где уже толпились люди разной степени маргинальности.
Негромкий гул голосов, вьющийся табачный дымок, запахи пота и вина, стрёкот пишущей машинки. Обыденно. Ну никакой романтики!
— … нет, нет, и ещё раз нет! — услышали они через неплотно прикрытую дверь, — Граждане собирали средства не для того, чтобы всякие проходимцы могли поправить свои дела, а для помощи бурам! Вон!
Из дверей вылетел головой вперёд алкогольного вида субъект, растянувшись плашмя на нечистом полу приёмной, а вслед за ним высунулся седой, но ещё крепкий, плотный мужчина с военной выправкой, выглядящий как отставной офицер не самых малых чинов.
— Кто ещё нуждается в материальной помощи? — свирепо шевеля усами, начал он, и хищные его, совершенно тигриные глаза, прожгли каждого из присутствующих. Несколько человек, бормоча что-то, резво собрались и покинула приёмную.
— Франсуа! — отставник перевёл взгляд на секретаря, такого же немолодого отставника, по виду прожженного капрала или сержанта из штабных, успевшего по молодости повоевать, заслужив орденские ленточки.
— Да, шеф! — вскочил тот, вытянувшись как бывалый служака, разве што с заметным перекосом на один бок..
— С этой минуты гони в шею каждого, кто покажется тебе бродягой наподобие этого!
— Есть, шеф!
— Добровольцы из России! — Вытянулся Житков, шагнув вперёд, и вслед за ним собезьянничал Корнейчук. Пронизывающий взгляд… кивок…
— … будь моя воля, я бы таких как вы и близко не подпускал, — ворчал отставной майор, оформляя документы, — на войне должны воевать военные, а не необученные мальчишки. Тем более — не маргиналы, у которых руки дрожат без ежедневной дозы абсента, а после принятия оной они более ни на что не годны. Ладно… на фоне других и вы смотритесь молодцами, грамотные хотя бы… Спутайте!
— … откуда ушли, туда и пришли, — усмехнулся Николай, садясь на нижнюю койку и задвигая под неё рундук, — н-да…
— Месье, — зашедший служитель поманил Бориса, — пара моментов в документах, пройдёмте.
Встав было за Житковым, Корнейчук тут же сел назад, устыдившись порыва.
«— Как котёнок за кошкой, право слово!»
Тоскливо покосившись по сторонам, он увидел неприглядный быт матросской казармы в порту, в которую и заселили добровольцев.
Низкие потолки, двухэтажные нары с вроде как выстиранным, многажды штопанным ветхим бельём, на котором сохранились самые подозрительные пятна. Чуть ли даже не… кровь, точно кровь!
Табачный дым, пустые бутылки из-под спиртного, валяющиеся под нарами, сладковатый запах опиума откуда-то из угла, хохот людей, уже сбившихся в компании, и они… вдвоём, а сейчас и один. Среди этих…
— Новенький!? — на койку, не чинясь, присел с размаха уголовного вида молодой француз с испещрённым фурункулами лицом, приобняв Николая за плечи. Он хлопал парня по плечу и спине, отдалялся и приближался, смеялся заливисто и отпускал угрозы. В речи его перемежался парижский шик и какой-то уголовный жаргон, решительно непонятный одесситу.
«— Апаш, — промелькнула вялая мысль у Николая, ощущавшего себя кроликом перед удавом, — раздёргивает».
— Ну-ка, — совершенно подавив волю Корнейчука, апаш без стеснения полез под койку, вытащив рундук, — что там интересного у моего нового друга? Ты ведь мой друг? Или нет?!
Эти слова он буквально прорычал в лицо.
— Д-друг, — выдавил из себя Николай, чувствуя себя ягнёнком перед волком. Хохоток в ответ, похлопыванье по плечу, и нарочито хозяйское поведение апаша, разбирающего его рундучок.
Сценка эта вызвала лишь вялый интерес некоторых добровольцев, да нехорошее оживление из опиумного угла. Подтянулись какие-то мутные типы, выглядящие может не столь же опасно, но откровенно уголовно.
В Одессе Корнейчук знал бы, что и как сказать, да и то… всякое бывало. Здесь же, в чужой среде, он растерялся окончательно.
Апаш тем временем вытащил из рундука фотографии, и начал их разбирать, снабжая комментариями разной степени сальности.
— Славные губки, — гоготнул он, вертя в руках фотографию сестры Маруси, я бы ей… — и он сделал движение бёдрами.
— Отдай!
— Малыш взбунтовался? — заворковал апаш, вытягивая руку с фотографией.
— Отдай! — Корнейчук, вскочив, протяну руки… и получил небрежный отмашку тыльной стороной кисти по губам. Боль привела его в чувство, и будто пелена какая-то слетела.
Одессит с наслаждение врезал апашу в висок костистым кулаком — так, как никогда в жизни! Он много раз дрался, да и куда без этого мальчишке?! Но, будучи натурой чувствительной — никогда в полную силу! Всё время стоял какой-то барьер — то опаска причинить боль человеку, а то — просто стыд, как же он будет потом в глаза однокласснику смотреть!? Сегодня по морде, а завтра — как ни в чём не бывало?!
Апаш начал заваливаться вперёд, вяло засовывая руку в угловато топорщащийся карман, и Николай резко, как учили, схватил его за волосы, и коленом — навстречу! Как учили… Борис, пытающийся научить его не просто приемам английского бокса, а — умению применять его. Егор, Коста…
— Зря ты, парень… — начал один из тех, из опиумного угла, выхватывая нож-бабочку и начиная играть ею. И как по футбольному мячу — по руке! Не думая! Оружие вылетело и запрыгало стальной рыбкой по полу, противно дребезжа.
Шаг навстречу, за грудки обеими руками, и с высоты не такого уж маленького роста, вздёрнув опиумокурильщика на себя — лбом в переносье. Да локтём вдогонку, с зашага, по виску.
— Ты… — начал было третий, — я…
Он отступал, не в силах собраться со словами и мыслями, но Николая уже несло. Шаг… и тяжёлый ботинок врезался в живот, а потом ногами, ногами…
Оттаскивали его впятером, а не разобравшегося Бориса, сходу кинувшегося было в драку, дружно попросили успокоить своего «сумасшедшего друга».
— Коля-то? — удивился Житков, отряхая с виноватым видом держащегося за челюсть наваррца, — Ну, не разобрался, не серчай…
И уже снова на французском:
— Он смирный.
— Он? — вылупился на него свидетель молниеносной расправы над бандитами, — Этот?!
Совершенно некультурно тыкая пальцем в Корнейчука, с самым мирным видом собиравшего вытащенное из рундука, и раз за разом повторяя:
— Он!?
— Ну, — Борис, не видевший саму драку, всё никак не мог взять в толк, — Борис в Одессе чуть не самый смирный. Добрейший человек, мухи не обидит! Всё время заступаться приходится.
— Да ну… — француз замолчал, подняв зачем-то вверх руки и отойдя подальше, — … эту вашу Одессу и всю Россию…
— Переход количества в качество, — невнятно сказал застеснявшийся Николай на немой вопрос друга, оттаскивая мычащего апаша за ноги поближе ко входу.
Проблем с ажанами[35] не возникло, обитатели матросской казармы разом показали на так и не очухавшихся пострадавших, как на зачинщиков драки и глубоко аморальных мерзавцев, надоевших обществу.
— Давно пора было отделить зёрна от плевел, — раскуривая сигару над носилками с апашем, — брезгливо сказал майор, — забирайте эту сволочь!
— Итак, — он перевёл взгляд на выстроившихся в проходе людей, — есть ещё среди вас те, кому общество отказывает в доверии?
Вытолкнули ещё десяток сомнительно выглядящих личностей, и отставник движением брови вымел их из казармы. Остались не то чтобы высокоморальные индивидуумы, но по крайней мере, при взгляде на оставшихся Николаю не хотелось прижаться к стене жопой. Обычные работяги в поисках удачи, не нашедшие себя в мирной жизни военные, да несколько смирных, полунищих сельских интеллигентов, которым для нормальной карьеры не хватает образования и решимости.
— Ну хоть так, — вздохнул майор и вперил взгляд в Николая. Несколько томительных минут, и отставной военный покачал задумчиво головой, жуя сигару.
— Признаться, я был о вас несколько… — сказал он доверительно одесситу, — хм, иного мнения. Рад.
«— А уж я-то…» — отозвалось у расправившего плечи Корнейчука. И будто легче — двигаться, дышать, жить…
«— Как бы теперь не повернулась африканская наша авантюра, — подумал Николай, — но чорт возьми… хотя бы ради этих моментов! Оно того стоило!»
Глава 17
Никогда бы не подумал, што встреченные в чужом краю земляки могут стать докучливой, досадной, едва ли не постыдной помехой, но вот поди ж ты!
Крохотный отряд русских добровольцев, прибывших через Лоренсу-Маркиш, оказался под Мафекингом. Расположивши свои палатки подле наших, они восприняли как должное нашу о них заботу, што подчас изрядно раздражает. Снаряжённые с бестолковостью людей, знакомых с жизнью на природе не иначе как по дачному времяпрепровождению, они постоянно изумляют нас своей бытовой неприспособленностью и идиотическим прекраснодушием.
Отправляясь на войну, русские добровольцы приобрели себе бинокли, и на последние деньги — ружья отменной выделки, но не озаботились такими мелочами, как швейные принадлежности и даже фляги для воды. Не было у них и одеял в должном количестве, двоим пришлось приобретать нормальную обувь, годную для прогулок не только по бульвару, но и по здешним диким местам.
Нашу о них заботу наши земляки принимали как нечто должное… О нет, у них регулярно увлажнялись глаза, прижимались к груди руки и высказывались многословные благодарности! Но ни разу! Ни разу не были предложены деньги в возмещение моих трат!
Немаленьких, если вспомнить, што в военное время всякий товар подскакивает в цене весьма заметно. Тем паче — товар в стране, не имеющей толком никакой промышленности, достойной серьёзного упоминания. Так… в лучшем случае — зачатки оной.
Деньги в этой компании, по-видимому, считались чем-то низменным, не стоящим упоминания. Я поначалу злился, а потом закусился, решив поставить што-то вроде социального эксперимента. Интересно, если выставить им потом счёт за все услуги, насколько сильно они будут фраппированы[36]?
— … через пастора Гиллота, — вцепившись в кружку с бренди, рассказывал свою, не раз уже слышанную историю, Вениамин — большеголовый молодой человек хлипкого сложения и болезненного вида, сидя у костра и шевеля грязными, давно немытыми пальцами босых ног, пока я чинил его обувь.
Владелец же оной пил, бдительно следя, как на углях обжаривалось вяленое до подошвенности мясо, невероятно солёное и проперчённое. Неприхотливые африканеры могут неделями питаться таким образом, но при малейшей возможности едят пусть и грубую, но домашнюю пищу, пользуясь услугами кочующих с ними жён или гостеприимством соотечественников.
Прибившиеся к нам русские добровольцы не выказывают ни малейших способностей и даже желания к обустройству походной жизни, считая, по-видимому, такие заботы чем-то низменным. Пользуются то нашим гостеприимством, а то и вот так — на скорую руку, лишь бы только не утруждать себя. Свободное же время проводят всё больше в бесконечных разговорах самого што ни на есть вселенского масштаба.
— Сей достойный муж, представляющий голландскую общину Петербурга, организовал санитарный отряд в бурские республики, — токовал Вениамин, полагая свой несколько косноязычный и изрядно высокопарный рассказ достойной компенсацией за мою работу, — ну и мы с товарищами сочли уместным…
— Господа… — в круг костра вступил Николай Ильич — невысокий, несколько рыхловатый земец, занимавшийся прежде статистикой, а теперь вот решивший отведать войны и африканской экзотики, поддавшись всеобщей экзальтации, и к собственному немалому изумлению, оказавшийся в сих диких краях. Невысокий, лысеющий, уже не слишком молодой и всё ещё неженатый, он производил впечатление человека, бесконечно далекого от обыденной жизни.
Понять, што он делает в Африке, я решительно не могу. Впрочем, таковы все члены этого отрядика, и чем дальше, тем больше я подозреваю, што к Мафекингу их отправили просто по принципу полнейшей ненужности в иных местах. Здесь же они хоть и не приносят никакой решительно пользы, но и какого-либо вреда от них не видно.
После череды жестоких боёв первых дней, осаждать город остались всё больше степенные бородачи с ревматизмом, выздоравливающие после ранений и болезней бойцы, да безусые мальчишки, слишком горячие и бестолковые для маневренных боёв. Ну и… эти.
Справедливости ради, инфузорий и чудил разного рода хватает среди добровольцев из всех стран, отчего и отношение африканеров к добровольческому движению самое скептическое. Приветствуются разве што технические специалисты, сопсобные встать в строй без досужей космогонической болтовни.
Приподняв новёхонькую, но уже изгвазданную и прожжённую бурскую шляпу, Николай Ильич вполне светски раскланялся.
— Михаил… — к брату, сидящему у костра с кружкой чая, небрежно легла на колени куртка, — будьте добры…
— Николай Ильич, — обманчиво мягким тоном обращаюсь к земцу, — вы ничего не попутали?
— О… прошу прощения… — сконфузился, и будто бы даже обиделся он, — я думал, што если он портной, то…
Не договорив, земец резко нагнулся, взял свою драную куртку и удалился с видом человека, оскорблённого в лучших чувствах. Вся его худая спина и напряжённая шея, даже сама походка, выражали оскорблённое самолюбие.
— Кхм… — прервал бесконечный рассказ Вениамин, заулыбавшись смущённо и показывая кариозные кривые зубы, — право слово, неудобно вышло. — Я думаю, Николай Ильич не хотел никого обидеть, но в самом же деле — кажется совершенно естественным, когда люди заняты делом, к которому они предназначены. Вот он и…
— Неужели?
— Да-с! — воодушевился уже изрядно нетрезвый Вениамин моим участливым вниманием, — Каждый человек должен заниматься предназначенным ему делом, не ропща на Бога и не завидуя представителям высших сословий…
Я слушал, искренне недоумевая — это он всерьёз? Нам? А… бренди на пустой желудок! Што на уме, то и на языке?
— … мне, право слово, бывает неловко, — рассуждал он с превеликим апломбом, — но такова природа человека! Один, рождённый в курной избе от людей, ведущих жизнь мало отличимую от скотской, и другой — рождённый от благородных родителей, буквально с молоком матери впитывающий высокие моральные ценности…
— Ага, — сказал я, дошивая башмак, — держите, Вениамин. И… ступайте. Здесь вам больше не рады.
— Я… — осёкся внезапно тот, — вы не так… простите.
Так и не став одевать второй ботинок, Вениамин ушёл, ссутулившись и бормоча што-то на ходу. Мясо на углях, и без того пережаренное, начало уже дымиться, а потом и затлело.
— Вот и поговорили, — хмыкнул Мишка, выплёскивая остатки чая с заваркой в заискривший костёр.
— Здесь заночуешь, или в коммандо пойдёшь?
— В коммандо, — брат потянулся, вставая, — доброй ночи.
— Доброй.
— Хуррай!!! — боевой клич англичан разорвал сверчковую тишину ночи, и сразу — выстрелы, звуки рукопашного боя, стоны умирающих, полное боли ржанье лошадей, задетых пулями в сумятице боя.
Упав с полотняной своей постели, я как был в одном белье, так и выскочил на улицу с карабином в одной руке, и бутылкой бренди в другой. Алкоголь — в тлеющие угли костра, выдернув пробку зубами, и туда же — ворох травы, предназначенной для утренней растопки.
— Дрова! И виски на них! — напрягая на шее жилы и силясь переорать ночной бой и свой испуг, кричу Саньке, выскочившему из палатки на четвереньках, — Свет!
— Пресса! Некомбатант! — выскочивший на меня ополченец Мафекинга не слышит, в глазах боевое безумие, длиннющий штык блестит самым устрашающим образом, выпад…
Выстрел! Мёртв. Набежавшие товарищи его не хотят слышать моих криков, видеть надписи «Пресса» на палатке, различимых вполне в разгоревшемся алкогольном свете костра.
Падаю, заметив направленную в мою сторону винтовку, в падении пытаюсь повернуть своё оружие…
Вспышка выстрела, и Санька на фоне костра, вылетевший из палатки с револьвером в руке. Широкий замах, и бутылка с алкоголем летит в голову второму стрелку. Оскалившись, тот отбивает её дулом винтовки, потеряв на секунду концентрацию, и я, покатившись ему под ноги, заплетаю их, валя бритта наземь. Подвернувшимся под руку поленом — по голове! Н-на! Ещё! Ещё!
Вскакиваю, и успеваю, подхватив чужую винтовку, отбить штыковой выпад, да по всем канонам фланкирования — длинным коли! Винтовка застряла то ли в позвоночнике, то ли меж рёбер, и я, оскалившись совершенно безумно, приходя в полное боевое неистовство, уперевшись босой ногой в кровящий живот, выдёргиваю штык.
Приклад — к плечу, выстрел… осечка. Всем своим телом посылаю винтовку как копьё, и она вонзилась в британца, опрокинув на красную африканскую землю. Закачалась в такт скребущим движениям умирающего, гипнотизируя…
Выстрелы, выстрелы, перекаты и паденья, скалящиеся в зверином неистовстве лица врагов перед самыми глазами, и в голове только — Санька, Санька…
В себя пришёл, когда ночную вылазку англичан совершенно отбили, и почему-то — с саблей в руках. Нижнее бельё моё совершенно испорчено порезами, грязью, своей и вражеской кровью, да прожёгами от раскатившихся углей из костра. Босые ступни в ожогах, кожа местами содрана… убей, не помню! Будто сапогами подкованными сверху по ногам, но в памяти — вот ничегошеньки!
— Жив, — одними губами шепчу, видя Саньку с ружьём, такого же… колоритного, и ответная облегчённая улыбка в ответ. Живы!
«— Мишка!?» — но несколько минут спустя тот уже прибегает к нам в составе коммандо. Все — живы, и это главное.
Обувшись и накинув приготовленную к стирке одёжку, я пошёл проведать земляков… и снял шапку при виде мёртвых тел. По лицу Вениамина, разрубленному через рот наискось, уже ползали какие-то насекомые.
У Николая Ильича размашистым движением штыка распанахан живот, и кишки частично вылезли наружу. На лице застыла мука, в закатившихся глазах весь ужас долгого умирания.
Остальные… не лучше, совсем даже не лучше. Не аккуратненькая дырочка от пули в сердце, а последствия боя накоротке — с вылезшими кишками, разрубленными головами, и размозжёнными выстрелами едва ли не в упор черепами.
— Ничево не успели, — сумрачно сказал бледный с прозеленью Санька, разглядывая тела, — как свиней, право слово… Ни один за оружие даже схватиться не успел. Напишешь родным?
— Пф… — из меня будто вынули воздух, и настроение препаршивое сразу. Отчаянно не хочется, но такова репортёрская обязанность, совмещённая с земляческой. Даже и братья не поймут, ежели отверчусь от сей докуки, хоть на што ссылайся.
Врать… потом не единожды отвечать на письма родных и друзей, выдумывая какие-то подробности, возможно — встречаться с родителями, невестами и жёнами. Снова врать, рассказывать о нашей с ними приязни и высоких человеческих качествах…
— Напишу, — нахлобучиваю шляпу на голову, сжимая зубы едва ли не до хруста, — как и положено в таких случаях: умерли героями, ценой своей жизни предотвратили…
Мёртвые подождут, и я, оставив тела земляков, вместе с Санькой до самого утра помогал обихаживать раненных. Их много, да и убитых немало — свыше семидесяти, што очень существенно по результатам всего-то ночной вылазки.
Ну да старая история: насколько хороши буры в маневренной войне, и выше всяческих похвал как стрелки, настолько слабы они в столкновениях накоротке. Не потому, што трусливы, а потому, што не обучены — ни тактике, ни штыковому бою, ни… Да собственно, у них и штыков-то нет.
… и медицины, к слову, тоже. Все почти медики — из европейских волонтёров, а в исконно бурских коммандо нет ни единого санитара. Все их действия в случае ранения — перевязать кое-как, останавливая кровь, да отправить раненого в ближайший город, а то и просто — домой. Выздоравливать… Сколько таких истекло кровью по дороге!
«— Белые дикари!»
Бурские женщины хлопочут деловито, суют к ранам какие-то травы и чуть ли не… куски мяса? Бр-р… а может, и не показалось — у них в ходу такие народные средства для лечения ран, как желудок свежеубитого козла, к примеру. Што они там прикладывают, какие части туш, и главное — чьих… ничему не удивлюсь.
Средневековая медицина века этак шестнадцатого, да наложившись на африканские реалии и снадобья аборигенов, способны породить редкостные химеры, отчаянно порой препротивные.
Растрёпанная немолодая женщина в нечистом застиранном платье, из-под подола которого виднеются нижние юбки, едко пахнущая застарелым потом и порохом, перевязывает мужа чем-то… народным. В ход идёт, как я успеваю увидеть, какая-то трава, а в качестве перевязочного материала — холстины непонятного происхождения и сомнительной чистоты.
Я по соседству пользую африканера из городских, и мы — представители двух полярных школ медицины, косимся друг на друга с видом полного превосходства.
Закончив перевязывать и перейдя к следующему, успеваю заметить, как добросердечная христианка, присев рядом с «моим» раненным и коротко переговорив в ним, суёт ему што-то под повязку.
Дёргаю шеей, но наученный опытом, не лезу. Он мне не сват, не брат… хочет — пусть!
Загружая несколько завонявшие тела земляков на одолженную бурами повозку, остро пожалел об отсутствии близнецов. Вот бы где пригодилась их физическая сила! Увы.
Товия с Самуилом с моего молчаливого благословения курсируют ныне между Преторией и нашим лагерем, занимаясь перевозкой всего и вся, и мелочной торговлей до кучи. Приглядываются, принюхиваются, пробуют то и это. Выйдет што толковое, так и хорошо, а нет… тоже опыт.
От прикосновения к мёртвому телу замутило, но желудок пуст, и потому — обошлось. В версте от лагеря выкопали глубокую, штоб не достали падальщики, могилу. Тяжёлая глинистая земля с каменьями поддавалась плохо, и руки у всех троих стёрлись совершенно.
— Ну… покойтесь с миром, — сказал я, кидая на тела первую горсть. Санька забормотал привышную молитву, с ранешнего детства знакомую любому крестьянину, и в могилу полетела земля.
Дойдя до половины, остановились и сожгли немного пороха — вроде как запах этот отгоняет зверьё, хотя надежды на это не очень и много. И аммиака с той же целью… Ну может, и не выкопают гиены. Хотя надежда в основном на основательную глубину.
Вернувшись, отмылись старательно, экономя воду, и я Санькой направился на встречу Снимана с Баден-Пауэлом[37].
Военачальники встретились на нейтральной территории, в окружении нескольких штабных каждый. Нелюбезный Сниман со своей окладистой мужицкой бородой, мешковатым костюмом и своеобычным для буров видом неухоженности, резко контрастировал с подтянутым, щеголеватым полковником.
Поздоровавшись, они некоторое время общались на военно-дипломатические темы, и снова — мужиковатый Сниман проиграл словесную баталию, придя в самое дурное расположение духа. Договорились только на выдачу тел погибших англичан в Мафекинг.
Баден-Пауэлл, воспринимающий войну как спорт и бравирующий этим, настолько чужд мировоззрению бура, насколько это вообще возможно.
Тронув коня и подъехав поближе, обратился я к генералу:
— Разрешите?
Тот кивнул, не отрывая взгляда от англичанина, и сколько ярости там было…
Сухо высказав полковнику претензии за нападение на некомбатантов и получив витиеватые извинения, в которых мне почудилась издёвка, распрощался.
Вскоре по приезду в лагерь начался артиллерийский обстрел Мафекинга, и как стало мне известно значительно позже — Сниман приказал обстреливать жилые кварталы.
Глава 18
Перекатывая во рту зубочистку, Мишка с деланно невозмутимым видом наблюдал за соревнованием подростков-африканеров в стрелковом деле. После вчерашней вылазки и последующего обстрела англичане вели себя особенно сторожко, и потому своеобычная у буров охота за головами была решительно невозможна.
В ход пошли бутылки, расставленные чуть не тыщу шагов. Вот очередной соревнователь, мальчишка лет двенадцати, начал гнездиться на пыльной красноватой земле, ёрзая всем телом и устраиваясь поудобней, без малейшего внимания на загрязняющуюся одёжку и возможных насекомых.
Прадедовское, кремневое ещё ружьё монструозного калибра, с необыкновенной толщины стволом и самодельным, грубо струганным прикладом, повело чудовищным дулом, будто хоботом…
Выстрел! Звук едва ли не пушечный, и четверть фунта свинца, упакованного в промасленную кожу, сбило горлышко у бутылки.
Встал… и почти незаметный взгляд на Мишку, полный превосходства.
Пономарёнок хмыкнул еле заметно, но признаться по чести — заедает. Глупо соревноваться в стрельбе со степняками, способными с полувзгляда опознать человека в лицо на таком расстоянии, на котором обычные люди едва ли увидят просто фигуру. Но заноза зависти сидит, себе-то врать зачем?
Не худший среди них далеко не худший, но и… Собственно, именно потому и взгляды такие, с вызовом.
Стрельба продолжилась, и Мишка, сидя всё с тем же безмятежным видом, наблюдал, подмечая детали. Заедает… отчасти ещё из-за отношения к войне. Возьмись они за осаду всерьёз, Мафекинг давно был бы взят.
А так… то соревновательной стрельбой занимаются, то целое коммандо, наскучив службой, уедет проведать жён, оставив дыру в лагере осаждающих. Осада ведётся ни шатко, ни валко — даже он, ни разу не военный, видит возможности, которые не могут быть реализованы сугубо из-за специфики буров.
— Они войну до сих пор войной не считают, — сказал подошедший Егор, — всё-то у них охота! И концепция вооружённого народа безусловно хороша, но…
Брат замолк, уйдя в свои мысли и зачеркав пометки в блокноте, а Мишка уцепился за сказанное.
«— Охота! Точно! Будто зверя скрадывают, а не человека. А надо бы…»
Он по-новому уставился на стрелков — уже критическим, а не созерцательным взглядом. Пыль от земли при каждом выстреле, выдающая стрелка. При охоте на льва оно и не страшно, но британцы куда как посерьёзней будут!
Это войска из Метрополии привыкли колоннами маршировать, в красных своих мундирах. Переселенцы же из Британии всякие бывают, в том числе и такие, што вот ни полушку не хуже самих буров в вельде ориентируются. А бывает, што и получше, притом нередко!
Бур, он в первую голову пастух, потом уже охотник, а воин — когда придётся.
Британец же, голодный и злой, нацелен на завоевание богатства, будь то собственный кусок земли, хищничанье на золотом прииске, или торговля с воинственными племенами, часто перетекающая то в грабёж, а то и в оборону от оного. Прожить вот этак годочков несколько, и такой себе хищник получается, што любово африканера прожуёт сырьём!
Уйдя на позиции, Пономарёнок неожиданно увидел их совершенно иначе. Обычные широкие траншеи, а местами так и вовсе — мешки с песком или земляные валы. Где-то можно ходить в полный рост, а где-то — добежать, согнувшись в три погибели. Всё тоже самое… но видится уже иначе.
Выбрав себе позицию с учётом того, што на противоположной стороне сидят такие же охотники, Мишка задумался, и отдвинулся чуть назад. Теперь дуло его винтовки не торчало наружу, и соответственно, охотникам на той стороне придётся чуть сложней.
— А если… — вытащив винтовку, он набрал в руку горсть пыли, плюнул, и тщательно растёр грязь по бликучему металлу. Чего-то всё равно не хватало…
— Точно! — плеснув из фляжки на платок, он сложил его в несколько раз и положил аккурат под дуло винтовки. Примерившись, он выцелил неосторожно мелькнувшую фигурку, и выстрелил.
— Один выстрел — один англичанин, — снисходительно сказал пожилой бур из коммандо, наблюдающий за волонтёром. Попытавшись объяснить тому свои идеи, Мишка потерпел решительное поражение.
— Один выстрел — один англичанин, — поставил точку в споре такой же бородач, приглашённый третейским судьёй.
Упрощая язык, они снисходительно объяснили, што буров с детства приучают стрелять наверняка, и тратить попусту порох — дурь несусветная! Мысль, што лучше потратить даже и сто патронов попусту, штобы сто первым свалить врага, была признана глупой.
«— Ну как же! — злился Мишка уже потом, составляя аргументацию на русском и африкаанс, — сами же пулемёты закупили, а тут не тебе!»
Аргументация получалась так себе — не хватало ни знаний сугубо военных, ни языка, ни… пожалуй, што и возраста. Пономарёнок признал, што его родня могла бы так же — просто потому, што не мужик в годах дело предлагает, а щегол малолетний. И как таково слушать?!
Да и с пулемётами и артиллерий не всё гладко — набирали туда ещё войны, сугубо добровольцев с иными взглядами на военные действия. И добровольцы эти прегусто разбавлены волонтёрами из Европы и Америки, а средний бур — это как раз такой степенный мужик, с большим трудом воспринимающий што-то, чего не было при дедах.
Не в первый уже раз накатило раздражение на упёртых не по-хорошему бородачей, и Мишка тряхнул головой, отгоняя нехорошие мысли и перекрестившись двоеперстно. По Завету люди жить пытаются! Да Бог, и выйдет! И может, тогда и у нас… как второе дыханье…
Сощурившись упрямо, и никак не отличимый в это время от африканерских годков, он снова выбрал позицию и принялся ждать. Штобы хорошо стрелять, надо прежде всего стрелять!
«Жаль только, зрение не степняцкое» — пробежала в голове сожалеющая мысль, да и зацепилась там, заворочалась. Начала выкристаллизовываться, што если он не может разглядеть противника на таком расстоянии, как местные, а стало быть — попасть, то нужно подобраться поближе.
«— В ночь! Зарыться, циновочкой какой прикрыться, пылью сверху присыпыть».
Не забывая выцеливать противника, он обдумывал идею.
Выстрел! Взмахнув руками, англичанин упал. Ранен, убит… поди, разбери!
— В ночь, стал быть, — повторил он, меняя позицию.
В Преторию приехали верхами, опережая близнецов на фургонах, оставшихся в лагере ждать попутный обоз. Я, Санька и Котяра, решившийся к волонтёрству, но чувствующий отвращение к бурскому коммандо, и решивший пристать то ли к русскому отряду, то ли к одному из европейских.
За время нашего отсутствия город заметно прирос населением, разом став тесным, шумным и многолюдным, оставшись провинциальным. Всюду звучит разноплеменная речь, снуёт народ с самым деловитым видом, да буры с отдалённых ферм с явственным порой отвращением разглядывают это вавилонское столпотворение.
По-прежнему всё очень пыльно и как-то неряшливо. Монументальные здания соседствуют с какими-то огромными полотняными палатками прямо посреди города, где располагается то склад боеприпасов или амуниции, а то и очередной отряд добровольцев из какой-либо страны. Здесь же бреются, моются по пояс, ходят в неглиже.
Нет ни тротуаров, ни дорог — повозки, люди верхами и пешком передвигаются хаотично в любом направлении, как только им заблагорассудится. Довольно, впрочем, просторно, улицы в Претории весьма широки.
— Какие славные физиономии! — услыхал я русскую речь, не сразу поняв, што говорят о нас, — Экие ведь молодцы эти буры! Совсем ещё мальчишки, а вооружены, и держатся молодцами, хотя пари держу — проделали они не одну сотню вёрст, ночуя в вельде среди местного зверья.
— Соглашусь с вами, Степан Африканыч! — охотно отозвался второй, поправив пенсне на мясистом носу с широкими ноздрями, из которых торчали курчавые волоски, — Что значит — концепция вооружённого народа! Здесь каждый возводит свой род от патриархов если не библейских, то как минимум — от тех людей, которые наперекор всему переселились в Африку и дали обильное потомство. А сколько достоинства в этих лицах!
Котяра, чьё страдающее от натёртости в междуножии хитрованское лицо признано русскими волонтёрами за эталон достоинства, даже и бровью не пошевелив, держась в седле максимально недвижно, этаким утёсом. Проехали мимо соотечественников без лишних слов, не дав ни единым мускулом на лице понять, будто поняли их, или вообще слышали.
— Баасы! — белозубо улыбнулся нам упитанный кафр при конюшне Маркса, занимаясь лошадьми. По старой, московской ещё привычке, кинул ему мелкую монетку, отчего улыбка стала такой, што ещё чуть, и морда пополам!
— Ох-хо-хо, — простонал Котяра, слезая с мерина и выгибая ноги колесом. Поленился человек намазаться мазью после дневного перехода, вот и результат!
Помывшись и отобедав вместе с нашими гостеприимными хозяевами, Котяра решительно удалился в спальню, отказавшись в ближайшие дни выходить иначе, чем к столу или по нужде.
— Я этакой раскорякой намереваюсь отлежаться, — доложил он нам с постели, где лежал поверх брюхом, расставив голые ляжки самым бесстыдным образом, — только книжечку какую дай!
Получив искомое из библиотеки Берты Маркс, где на немецком (который только и разбирал Иван) были дамские романы и сочинения однофамильца наших хозяев, шулер завздыхал и заворочался, тасуя перед глазами книги, выбирая одну гаже другой. Оставив явно наугад какую-то, с яркой обложкой, где была изображена роза и кинжал, он открыл её с самым тоскливым видом.
— Ладно, — не выдержал я, — зайду нынче представиться к русскому военному атташе и миссию красного креста, спрошу чего-нибудь для тебя!
— Спаси Бог! — просиял Котяра.
Полковник Гурко, русский военный атташе у буров, занимал небольшой двухэтажный особнячок на окраине города, где на первом этаже была приёмная и канцелярия, а на втором — покои самого Гурко. От Берты Маркс мы уже знаем, што это крепкий мужчина среднего роста, с щегольской бородкой и усами, достаточно крепкий и весьма любезный.
Подъехав верхами, скинули поводья на коновязь и присоединились к ожидающим аудиенции. В этой пёстрой толпе были местные дельцы, одетые в штатское русские офицеры и добровольцы из гражданских вперемешку с вовсе уж непонятной публикой.
Одеты многие не по погоде, а по моде — весьма щеголевато, без учёта здешней жары и влажности, отчего потные лица, на которых осела красноватая вездесущая пыль, смотрятся достаточно жалко. Платки, коими протираются физиономии, совершеннейше уже угвазданы, а кожа лица растёрта до раздражения. Волосы под шляпами потные, по шеям струйки, одежда влажная, вид совершенно непрезентабельный.
— Панкратов Егор Кузьмич, репортёр, — представился я, а следом за мной и Санька.
— … наслышаны…
— … позвольте поинтересоваться…
— … не первый день…
Разом все навалились, и я ажно назад отшагнул. Вопросы, вопросы… оказаться «старожилами» для людей только прибывших, лестно и немножечко нервно. А ну как примет неверное решение, в коем обвинит потом меня? Есть же… публика!
Рассказывая о здешних реалиях, слышали подчас и вещи откровенно забавные.
… — полк бросил, — жаловался красивый поручик чуть не со слезами в голосе, — место полкового адъютанта! Ну ладно не при штабе… но дайте мне хоть роту!
С трудом держа улыбку, попытался объяснить, что знание устава и тактики европейских войн, с передвижением колоннами, это конечно, передовая мысль военной европейской науки! Но вот беда… буры, возьмись они придерживаться оной, быстро закончатся.
— Как же они воюют!? — деловито поинтересовался не столь нудливый товарищ поручика.
— Так… охотницки, — жму плечами, — я, господа, ни разочка не военный, и потому не могу судить о том профессионально. Но стрелки они отменные, умеют недурственно маскироваться на местности, и поразительно неприхотливы. Приедете в войска, всё увидите.
— Рядовым?! — возмутился поручик.
— Право… меня зовут не Крюгер и даже не Де Ла Рей! Не могу сказать.
Поручика оттёрли, и снова — вопросы — вопросы…
— Минуточку, господа! — прервал я их, — Прошу всех желающих встать рядом для группового портрета!
Сделал несколько фотографий, добился своего — сперва существенного потепления отношений, а затем и допуска вне очереди.
«— Всё ж репортёр, господа! Да ещё и пребывающий в Африке не одну неделю! Думается, атташе от такой аудиенции сумеет найти для себя немалый толк, а следовательно, и для всех нас!»
Полковник оказался деловит и любезен, показавшись человеком вполне дельным и компетентным. Впрочем… будем поглядеть! «Казаться» людей этой породы учат хорошо, а вот с делами по-всякому.
Несмотря на любезность, держался он достаточно сдержанно, с этаким… не то штобы холодком, а будто стенка между нами, не предполагающая сближения.
«— Пёс царский!» — вякнуло подсознание, когда я прощался с полковником.
Внизу — снова вопросы, уже додуманные и дополненные. Отвечаю, как могу — чаще просто рассказываю, к кому можно обратиться, куда пойти, как проехать…
— Егор!
— Дядя Фима! — трясём друг дружке руки и обнимаемся, прервав разговоры с добровольцами, — Мой тебе шалом!
Перескакиваем на идиш — машинально, без всяких задних.
— Привёл таки пароход с медикаментами и ещё с чуть-чуть, — рассказывал Бляйшман, — потому как деньги и гуманность в одном, это наше всё! Такое, скажу тебе, интересное было! А Санечка… Санечка!
Он перескакивает к брату, многословно выясняя — хорошо ли идут дела, как кушает?
— … а вот письмо! Помнишь!? Та хорошая девочка, умненькая с золотым сердцем! Да! Пока совсем нет через память! Эстер велела передать…
Счастливый от нечаянной, но такой хорошей встречи, ловлю взгляды добровольцев, и…
… вот только што, минуту назад — на равных. А сейчас — от пренебрежения до льдинок в глазах, и совершенно английские у всех физиономии. С жёсткой верхней губой.
Так вот.
Глава 19
Подъехав к расположению Русского добровольческого отряда Красного Креста, спешился, кинув поводья на коновязь, и неспешно, блюдя себя, подошёл к Ваське Ерохину, смолящему самокрутку неподалёку от входа. Усталый, с разводами пота по спине, на груди и подмыхами, проступающими солевыми разводами, но — в высочайше утверждённой форме! Хоть в обморок вались, а себя блюди!
Работы у них хватает — госпиталь только начал разворачиваться, а потянулись уже первые пациенты, всё больше иностранные волонтёры и… пленные англичане. Буры предпочитают лечиться дома.
— Здрав будь!
— Здоровее видали, — переложив самокрутку и вертанув по сторонам головой на отсутствие начальства, протянул Васька потную руку, бережно пожимая мою своими клещами.
— Охотно верю! — засмеялся я, задирая голову ввысь. Рядовой Павловского полка, прикомандированный в отряд санитаром, возвышается надо мной этакой башней, чуть не полторы головы выше, и в отряде все санитары такие здоровилы. По габаритам отбирали, даже и для гвардии выдающимся, да по благообразному облику. Внушают!
Со мной у них отношения сложные — парни упорно делают вид, што не знают, будто я — враг ево Величества и преопаснейший для самодержавия тип, как писали газеты из тех, што в позиции к любой оппозиции. Знать не знают… ибо газет не читают и политикой не интересуются! ВотЪ!
Общаются же вполне охотно, но сразу строжают ликом и голосом, стоит показаться людям начальственным. Вид такой делается — с прохладцей, мал-мала казённый. Вроде как по землячеству общаемся, и сугубо по моей пользе для отряда, а так ни-ни!
Впечатления каких-то необыкновенно верных слуг Величества не производят ну вот ни самомалейшего! Просто здоровенные весёлые парни, очень неглупые и хваткие, хотя и с изрядно замусоренными словесностью[38] мозгами.
— Карл Августович на месте?
— Уехал провизор, — охотно отозвался Васька, с благодарностью принимая от меня переданную всему купманству немаленькую коробку с сигарами, — аккурат полчаса как! С Амалией Фридриховной и этой… Адель-Елизаветой, из сестричек которые. Они с самово начала вместе хороводятся, по землячеству лифляндскому. Мишку Соболева взяли, вроде как сопровождать, да на прогулку верхами по окрестностям. А тебе што за дело?
— Да дело и есть, — отзываюсь задумчиво, — по медицинской части.
— Пароход жидовский? — Васька в курсе всего и вся, — И чего только с ними хороводишься? Жиды, они и есть жиды!
Звучит не оскорблением, а заученным с детства, и — любопытством отчётливо пахнуло.
— Жиды, — тянусь вверх, — и што? Я от них плохого не видал.
— Ну… — тянет Васька.
— Гну! — перебиваю ево тягучие мысли, — Я не говорю, што все хорошие, и в жопу надо каждого целовать! Народ как народ, не хуже и не лучше других — ежели понимать.
— Угу, — гвардеец делается задумчив, я едва ли не слышу, как в голове медленно вертятся его основательные, тяжеловесные мысли. Он не дурак, ни разу не… просто не привык думать. Сперва папенька, да старшие братья, потом фельдфебель и прочие отцы-командиры.
— Понимать, — повторяет он, — угу… Красивая?
— Да… — и вздыхаю, — очень! Так где, говоришь?
— К шахтам Дирикса навроде, — наморщил тот лоб, — какие-то там… пейзажи! Адель, она вроде как рисует.
Санька, услыхав о выездке, подхватился легко, наскучив немало сиденьем в городе. Короткие сборы — оружие, баклаги с водой, запас еды и медикаментов, и готовы!
— С подходцем хочу, — объясняю брату, покачивающемся в седле близь меня, пока лошади шагом идут через город, — ты художник, да с именем каким-никаким, и стало быть — к Адели подойти можешь, но без ревности по малолетству. Похвалишь там…
— А есть за што? — ехидно отозвался он, лукаво щуря обгоревшие веки — рисовал давеча, да шляпу скинул и забыл, увлёкся. Теперь припухшие да заплывшие — узкие, будто китайцы в ближней родне затесались.
— Ну… найдёшь! — жму плечами, не пытаясь продумать всё до мелочей, — А я к провизору. Вроде как посоветоваться…
— Опять подходец? — покачал головой брат.
— И што? Не свои дела решаю, а в пользу дяди Фимы и буров!
— Эт как? — удивился Чиж.
— Так… сложный дяди Фимин схематоз, когда можно просто продать медикаменты, а можно — подарить за благодарность. Преференции там какие… не знаю! С бурами почти всё решено, но хочет и нашему Красному Кресту.
— Хм…
— А вот и не хмыкай! — осерчал я, — Человек после той одесской забастовки, устроенной не им и даже толком не социалистами, а народной стихией, виноватым стал! На Туретчине он, канешно, не бедствует ни разочка, но до сих пор в Одессу даже и краешком заглянуть не могёт!
— На тщеславии? — понял Санька, — Прежде других к нему подошёл, к Карлу Августовичу?
— Ага! Через уважение, да и всё равно медикаменты через провизора пойдут. Пусть и хлопочет.
Выехали из города и пошли на рысях, поглядывая по сторонам. Аккурат перед шахтами затормозили привести себя в порядок…
— Иии! — бабий визг ввинтился в уши болезненными свёрлами, следом — львиный рык, от которого лошади попятились, прядая ушами, а тело у меня разом ослабло и обмякло.
Винтовки из седельных кобур, преодолевая душевную немочь, и в галоп! Влетели на невысокий крутенький пригорочек, оскальзываясь на осыпающейся пылящей почве, и сразу перед глазами — картина!
Три лошади со спутанными ногами храпят, ржут перепугано, сбившись в кучу и дрожа всей кожей. Пятятся, вжимаются в колючий кустарник, зовут на помощь хозяев…
Бьётся на земле чалая лошадь, придавив ногу всадника, а в круп ей вцепился молодой черногривый лев. Терзает, мешает встать животине и высвободить ногу всаднику, орущему от боли и пытающемуся слепо нашарить отброшенную в сторону винтовку, не отводя побелевших от ужаса глаз от опаснейшего хищника.
Второй, такой же молодой и черногривый, повалил наземь мужчину в сюртуке, но тот отбивается дулом ружья, всё не находя возможности выстрелить.
Чуть поодаль две молодые женщины — вцепились друг в дружку, визжат…
— Г-дах!
— Г-дах!
Выстрелы наши прозвучали едва ли не слитно, и оба — попали! Мой лев получил пулю в голову, и затих без единого движения, чудом не придавив отбивавшегося от него провизора.
Санькин конвульсивно дёрнулся несколько раз, и брат для верности всадил в него ещё одну пулю. Лошадь, заржав, высвободилась-таки из объятий царя зверей, и встала, дрожа всем телом на подгибающихся ногах.
… — как хорошо! — подшагнули сестрички милосердные, да вцепились с двух сторон — не оторвать! Да пережитое своё, с двух сторон — в уши! Отрывисто, бестолково, с подвизгиваньями бабьими, самыми што ни на есть простолюдинскими.
Кряхтя, провизор начал вставать, и сразу — сестрички милосердные, а не бабьё! Вспомнили, кто они есть, засуетились — одна его проверяет, другая к гвардейцу придавленному метнулась.
Несколько минут всего, и раненные обихожены. Карл Августович ободран весь и ушиблен, но ничего серьёзного — похоже, што лев его не схватил, как хотелось, а толкнул. Мало приятного, когда тушка этакая влетает, но — жив! Всё больше спине досталось от паденья да ёзранья, да пардон — ягодицам.
А вот гвардионец всерьёз пострадал — нога как минимумсломана, если даже не размозжена. И рёбра, это к гадалке не ходи!
— Я в Преторию, — понял мой взгляд Санька, взмётываясь на лошадь, и только пыль да частый топот копыт.
Как смог, обиходил лошадей, успокаивая и оглаживая. Сестрички с Соболевым сидят — тот, как опасность миновала, стал то и дело в беспамятство проваливаться.
— Воды ему побольше, — советую им, — он пропотел сильно, и потеть продолжает — кровь сейчас сгущённая, сердцу гонять тяжело.
— Логично, — согласилась Амалия Фридриховна, переглянувшись с подругой.
— Вам тоже, Карл Августович, — тот только кивнул, поморщившись болезненно, и приложился к фляге.
— Выражаю вам саму глубокую благодарность, — вяло сказал он, — если бы не вы…
— Принимаю за себя и за брата, — подняв руку, остановил поток славословия от женщин, — не надо лишних слов! Сейчас у вас шоковое состояние, и не стоит утомлять себя ни лишними словами, не тем паче движениями.
Кивок, и провизор снова прикладывается к фляге. Воцарилось молчаливое, болезное ожидание, усугублённое жарой и привлечёнными запахами крови насекомыми. Дамы уселись на покрывало, расстеленное на сухой траве, подле то ли заснувшего, то ли потерявшего сознание гвардейца. Шепчутся тихохонько, да то пот на лбу без нужды промокают, то ещё што, лишь бы себя занять.
Август Карлович в стороне, и видно, што подавлен, едва ли не винит себя.
— Признаться, я впечатлён, — прерываю молчанье, — вашей борьбой со львом, Август Карлович! Изловчиться так, чтоб этот молодой царь зверей не сумел вас схватить, дорогого стоит. А ваша дальнейшая с ним борьба и подавно. Хотя право слово, вам бы вместо винтовки дубинку сподручней было бы!
— Осечка, — с хмуроватой вежливость отозвался тот, дёрнув щекой, — выстрелить я успел.
— Тем более! — киваю с видом самым энергичным, — Видите, дамы, какие мужчины с вами служат? Один способен отбиваться от льва едва ли не дубинкой, а второй, даже будучи сваленным на землю с размозжённой ногой, помнил о долге, и пытался нашарить винтовку из последних сил!
Потихонечку начали отвечать, ожили, и к моменту, когда подъехали повозки Красного Креста, выглядели, за исключением гренадёрского ефрейтора, вполне браво.
— Благодарю вас, молодые люди, — пожимал нам начальник отряда, Кусков Николай Иванович, — от всей души!
Все приехавшие, а этот никак не меньше половины отряда, сочли своим долгом выразить самую горячую…
… благодарность. Отчего я, откровенно говоря, изрядно утомился.
Административный секретарь из якобы отставных военных, от которого за версту пахло военной разведкой, выразив положенное, лазал по кустам, пока подоспевшие кафры сдирали шкуры.
— Да-с… — сказал себе под нос Потапов, — ситуация… Вы, как люди несколько более сведущие, можете посоветовать что-либо для недопущения подобных ситуаций в дальнейшем?
— Наймите хорошего проводника! — выдали мы в голос.
— Только не бура, — добавляю уже от себя, — При всей моей к ним… разный народец, и не всегда не то штобы приятный, а даже адекватный. Лучше кого из русских или жидов, обретающихся при здешних шахтах. Поспрашивайте, есть очень толковые охотники и проводники, знакомые, што немаловажно, с реалиями не только африканскими, но и российскими.
— Благодарю, — в глазах Алексея Степановича будто арифмометр заработал, подсчитывающий всю пользу такого найма, и прежде всего — связи с укоренившимися в Претории подданными Российской Империи.
— А сами вы, неужели успели стать так быстро настоящими африканерами?
— Не-ет! — засмеялся Санька, сдвигая шляпу на затылок, — Просто курсы ликбеза прошли!
— Простите?
— Ликбез! Ликвидация безграмотности! — пояснил брат, мотнув головой в мою сторону, — Ничево таково, а просто — разъяснили вкратце — как ночевать в вельде, куда не соваться, ну и такое всё. А так, штобы охотниками и проводниками матёрым, до этого далеко!
Распрощавшись, он уехал, догоняя остальных, а мы остались ожидать, пока кафры закончат сдирать шкуру и нарезать части туши для каких-то там африканских… лекарств.
— Куда шкуру денешь? — поинтересовался брат.
— Фире! — отвечаю без раздумий.
— Вот и я… — он заалел ушами, но всё-таки закончил, пусть и заметно тише, — Наде…
Глава 20
Выскабливая окопной лопаткой сухую, каменистую африканскую почву, Мишка то и дело замирал, вслушиваясь в звуки ночи. Цикады внезапно смолкли, и он затаился, нашаривая карабин… но нет, концерт возобновился с новой силой, и он продолжил свою работу.
Оценив на глазок горку земли, сложенную на циновку, Пономарёнок выполз из получившегося низенького окопчика, и подёргал за верёвку. Циновка медленно поползла к бурским позициям, цепляясь за неровности почвы.
Передых… улёгшись на спину, он уставился в небо, глядя на яркие, и такие непривычные южные звёзды, таинственно мерцающие на бархатном покрывале ночи. Остывшая земля приятно холодит потную спину, но не успел подросток остыть и зазябнуть, как в десятке метров застрекотала негромко ночная птица, а минуту спустя показалось лицо кафра, притянувшего за собой циновочку.
Уставившись на дуло винтовки, кафр заулыбался отчаянно, моментально вспотев. Помогать белому сахибу копать он решительно отказался, опасливо поглядывая на довольно-таки близкие позиции британцев. Даже и такая помощь чужого слуги обошлась Мишке недёшево. Хозяину за аренду имущества ящичек сигар, да самому кафру два фунта трубошного табаку. Хорошо, што Егор оставил специально для таких случаев разменный фонд!
Дальше земля оказалась заметно мягче, да и стенки окопчика замечательно заглушали звуки, так что к утру, решительно выдохнувшись, стерев себе ладони чуть не до мяса и наломав спину, Пономарёнок выскоблил-выкопал таки полноценное укрытие. Полтора метра глубины, уступчик для стрельбы лёжа, и в дальнем конце — глубокая ямка — на случай, если приспичит.
Выползши из укрытия, Мишка старательно замаскировал его, накрыв сверху циновочками, закреплёнными на жердях, и закидал поверх землёй.
Вернувшись ползком на бурские позиции аккурат перед восходом, он долго пил, и всё никак не мог напиться. Припасённой с собой фляги решительно не хватило при такой работе, и подросток сделал пометку — брать с собой в лёжку много воды. Потому как оно хоть и без движения почти, но под солнышком, да в яменной духоте.
Отсыпался он едва ли не сутки, встав только пообедать вместе с коммандо.
— Кто умеет стрелять, тому не надо копать! — подмигнул Мишке бородатый Николас, наворачивая наваристую мясную похлёбку из подстреленной поутру антилопы. Вокруг загоготали, послышались незамысловатые шуточки, в основном непонятные, и как Пономарёнок подозревал — не велика потеря.
Густо пахло мясом, перцем, потными телами и табаком. И пыль, пыль, пыль… и вши. При всей своей симпатии к народу, пытающемуся жить по Завету, старовер считал, што временами они слишком… ветхозаветные. Вплоть до буквального принятия культуры диких семитских племён, кочевавших по пустыне со стадами коз и овец во времена достопамятные.
Мужчины поели, закурив трубки, и Хенни сноровисто собрала тарелки, обменявшись с мужем несколькими фразам на каком-то вовсе уж дремучем диалекте африкаанс. Другие женщины принесли большой медный кофейник, ещё клокочущий с огня, принявшись разливать уже сладкий кофе по подставляемым жестяным кружкам.
— Благодарю, — чуть запоздало опомнился подросток, закрестившись и забормотав молитву, и с трудом сдерживая зевоту. Спа-ать…
Вяло отхлёбывая кофе, он вслушивался в степенные разговоры, в которых причудливо переплелись боевые действия, болезни домашнего скота и большая политика, густо усеянные цитатами из Библии. Своебычно…
Зевнув ещё раз, он потыкал тонкой палочкой свернувшуюся клубком мясистую многоножку, чуть не в полторы ладони длинной, залпом допил оставшийся в кружке кофе, и встал.
— Будить… — он зевнул широко, выворачивая челюсти, — только при атаке англичан!
Под утро, выспавшись и позавтракав, Мишка прихватил несколько сухарей, воду и одеяло, и отправился на позицию. Полз с колотящимся сердцем, опасаясь наткнуться как на патруль британцев, так и на подготовленную засаду.
Подобные сооружения, они как раз в стиле англичан, и даже сама оборона Мафекинга опирается на цепочку фортов с бомбоубежищами, связанными меж собой переходами, часто закрытыми. Буры, они такими хитростями пренебрегают, а по мнению подростка — ленятся. Вся их война, это череда охотницких уловок, перестраиваемых под человека.
Раздвинув циновки, он скользнул в убежище, и выдохнул. Колотящееся бешено сердце никак не думало униматься, но потихонечкууспокоилось. Сделав ещё одну щель посредине, для сквозного воздуха, и выкинув сквозь неё пару многоножек, Мишка расстелил одеяло, и прилёг, оценивая свою позицию в свете восходящего солнца.
Щель для стрельбы широкая, охватывает довольно большой сектор, но низенькая, едва ли в ладонь. У самой щели растёт бурьян, никак не мешающий стрелку, но по идее, мешающий разглядеть его со стороны. Ну и конечно — укрытие вырыто на небольшом, но возвышении, так што обзор пусть и не самый лучший, но вполне себе годящий.
Мишка залёг так, што даже и само дуло винтовки оставалось в окопе, и канешно — лежало на смоченной тряпке. Лежать так оказалось скушно, а ещё — душно. Оставленная щель, даже и вместе с дополнительной, свежего воздуха почти не давали, и он быстро пропотел от вязкой духоты, дыша чаще обычного.
Ага… на британских позициях шевеление… Пономарёнок приник к прицелу, но опомнившись, взялся сперва за бинокль.
— А… — бормотнул он, — мальчишки-вестовые.
Мобилизованные полковником Баден-Пауэллом, они изрядно бестолковы и совершенно по молодости бесстрашны. Впрочем, буры, даже имея возможность подстрелить их, чаще всего не делали этого, не считая подходящей «дичью» и настоящими противниками. Так что вся эта мальчишеская бравада по большей части попусту.
Вялая перестрелка сменялась изредка ожесточённой, потом забахали орудия, обрушивая на город снаряды, а Мишка ждал. Подстрелить абы кого он не хотел, потому как… ну а зачем?!
Захотел бы, так и вместе с коммнадо на позициях… пусть больше пришлось бы потратить патронов, чем этим степнякам, но…
Мысли по жаре и духоте вялые, и подросток сам себя запутал аргументами.
Ближе к полудню появился кто-то из старших офицеров Мафекинга, сопровождаемый свитой. Находясь в полной недосягаемости для буров, он принялся то ли инспектировать што-то, разглядывая заодно бурские позиции, то ли просто приободрять бойцов своей персоной на почти передовой.
С бурских позиций началась стрельба — несмотря на все разговоры «один выстрел — один англичанин», азартного народа среди африканеров хватает. А такая «добыча», как один из старших офицеров, стоит куда как больше нескольких патронов!
Среди резких щелчков современных винтовок, доносились иногда гулкие хлопки стародавних голландских «Роёров», которые таскали с собой как самые упёртые, отрицающие любые новинки, так и отборные стрелки, делающие ставку на чудовищный калибр и длину ствола. Азарт!
«— Вот оно, — забухало в голове Мишки, — вот…»
Плеснув из баклаги перед дулом винтовки, он несколько раз вдохнул глубоко и приник щекой к прикладу, слившись воедино со своим «Маузером». Пла-авно на спусковой крючок…
Упал один из свитских, а старший офицер — считая, по-видимому, его смерть случайной удачей буров, выпрямился и встал в картинную позицию, бравируя свой храбростью.
Выстрел…
Офицер, всплеснув руками, упал, и Мишка готов был поклясться, што видел кровавые брызги, разлетавшиеся от головы! Вокруг упавшего забегали, и подросток торопливо выстрелил ещё несколько раз, передёргивая затвор. Одного точно успел, а насчёт второго сомнения брали.
Стрельба началась самая ожесточённая, и несколько минут спустя вспотевший от страха Пономарёнок, увидел атаку от британских позиций. Несколько офицеров с саблями в руках повели солдат, и он явстенно услышал крики атакующих, и кажется даже — раззявленные в криках рты.
Атакующие пробежали чуть в стороне, и Мишка явственно ощутил сотрясающуюся под их ногами землю, вжавшись в дно окопа и молясь. Быстро опомнившись и злясь на себя, он заставил непослушное, ватное тело снова лечь на уступчик, перезарядить винтовку, и ждать…
Бешеная, отчаянная стрельба, и британцы закономерно откатились назад. Буры, даже если и растерялись поначалу, не оплошали.
Хруст! Один из солдат провалился в окопчик, и Пономарёнок едва успел развернуться, и удобная его позиция разом обернулась ловушкой!
К счастью, британец оказался настолько ошеломлённым своим паденьем, што Мишка успел развернуться на спину, и руша остатки циновок, перехватил винтовку.
Выстрел!
Британца откинуло назад, но к окопчику уже спешили его товарищи. Привстав на одно колено, Пономарёнок успел сделать два метких выстрела, как сверху напрыгнули.
Едва успев убрать голову, всё ж таки зацепленную краем подошвы, он оказался придавлен вражеским солдатом, норовящим вцепиться в горло. Подбив руку, Мишка скрутился вправо, выламывая её из сустава и оказываясь уже сверху.
Нож из ножен, и н-на! Пробив шейные позвонки, он не без натуги выдернул клинок, и лицо окрасилось вражеской кровью.
А на него набегал уже следующий! Занесённый приклад… и британец повалился назад, упав от бурской пули.
Подхватив свою, и зачем-то — винтовки убитых врагов, он рванул к своим. Петляя отчаянно, падая то и дело, он в несколько минут добежал до позиций буров.
Прыгнув в траншею, он приземлился в объятия буров, понявших наконец — кто же этот удалец, пристреливший вражеского офицера!
— А?! — орал один из буров восторженно, разевая щербатый рот и хохоча заливисто, — Каково?! Славно, славно!
— Сам поохотился, и на нас дичь вывел! — орал другой, хлопая подростка по плечам.
— … эл… полковник Баден-Пауэлл убит! — прибежал мальчишка лет семи, врезавшись в колени отцу, — Пленных допросили!
— А-а! — от восторженного рёва Мишка едва не оглох, его заобнимали, затискали, захлопали по плечам…
Едва он вывернулся, как набежали буры из «его» коммандо, и всё по новой!
Чуть погодя, когда эйфория стихла, удалось подсчитать потери. Гибель полковника, возглавлявшего оборону Мафекинга, и одного из старших офицеров — капитана Уильямса, разгневала лейтенанта Маклагена, и он поднял солдат в бессмысленную атаку. Почти сто пятьдесят убитых перед бурскими позициями, и подсчёт продолжается! У самих же буров потерь нет, потому как — ну какие потери, если набегающих британцев расстреливали из траншей?!
— Хорошая война, — притулившись вечером у костерка, пыхнул дымом Николас, мечтательно щуря глаза, — каждый день бы так воевать! А, парень?
Былой его скепсис пропал, и серые его, будто выгоревши на солнце глаза, смотрят на юного волонтёра с надеждой.
Буры из фельдкорнетства сдержанно подержали его, и Мишка засмущался от внимания.
— Я… — он замялся и замолчал, ломая прутик, кидая кусочки в огонь. Один из буров, молодой ван Дейк, подался было нетерпеливо вперёд, но старшие молча осадили его, — Хм…
На лице Пономарёнка начала проявляться задумчивая усмешечка, не сулящая британцам ничего хорошего.
— Хорошая война, значица? — по-русски сказал он, почесав переносье, — А почему бы и не да?!
— Есть пара идей, — перешёл он на ломаный голландский, — обдумаю, проверю, и обсудим вместе.
Буры разошлись по палаткам и фургонам, и у костра остался только фельдкорнет с самыми авторитетными своими бойцами.
— Голова! — веско сказал обронил командир, и присутствующие молча закивали. А што тут ещё обсуждать?! Голова… светлая. Как удачно вышло, а?! Хорошая война…
— Староверы? — густобородый Жак Галенкаф, обременённый девятью дочерьми при всего-то четырёх сыновьях, нахмурил брови и запустил в давно нестриженную голову пятерню, стимулируя мыслительный процесс.
— Достойные христиане, — понял командир невысказанный вопрос, — даже табак с алкоголем запрещены.
— Ну это… — Галенкаф взглянул на погасшую трубку и задумался глубоко, не став её раскуривать заново. Не кальвинист… но девять дочерей! Хм…
Глава 21
На выезде из города я старательно отворотил голову набок и задержал дыханье, а потом задышал через рот, сдерживая тошноту. Грифы под виселицей разодрались, разорались противно, и я невольно глянул в ту сторону…
Склонившись с облучка повозки и не отпуская вожжи, вывалил завтрак на пыльную дорогу, и настроение сразу — ни к чорту! Насмотришься на такое, нанюхаешься… Скрип виселицы, да грифы, подпрыгивающие неловко и старающиеся урвать кусок уже завонявшей человечины.
А самое… я их знал. Знакомые через Маркса жиды, занимающиеся разъездной торговлей, ничево удивительного ни для Российской Империи, ни для… да собственно, нигде не удивительно. Жид-торговец, што может быть банальней?
Обыденная, совершенно привышная картина, только вот… шпионаж. Собственно, тоже ничего удивительного — торговцы во все времена и во всех странах сотрудничают разведкой, полицией и прочими… органами.
А в военное время — вот так вот, и не честный расстрел, а позорная виселица, да притом с часовым, с грифами — дабы усилить наказанье. Всего авторитета Шмуэля Маркса не хватило ни для смягчения приговора, ни хотя бы для нормальных похорон после казни. Висит.
Оглядываюсь непроизвольно, и вижу безобразную драку крылатых падальщиков, устроивших свару вокруг нижней части тела, оторвавшевося и упавшего в натёкшую под него, загнившую уже лужу. Рвут…
— Дай! — требовательно протягиваю руку, и Товия, баюкающий поранетую руку в глубине фургона, протягивает мне сигару. Набранный в рот дым прогоняет тошноту. Раз, второй…
— Забери.
Африканеры и без тово глядят волками, потому как — вскрылось. На британцев ставку сделали жиды местные, так вот. Не все, сильно далеко не все… но тенденции, однако.
С одной стороны — империя, раскинувшаяся на всех континентах, а с другой — малочисленные буры. А жиды, они…
«— Космополитичны».
Оно самое! Африканеры же оскорблены в лучших чувствах — настолько, што приходится вывозить близнецов в фургонах. Одним я правлю, вторым Санька, и вся мелочная торговля Самуила и Товии, начавшаяся было весьма бойко, похерена, и похерена плотно, с гарантией.
Да и самих… помяли. Антисемтизм! И не сказать, штоб вовсе необоснованный[39], н-да…
Руки прямо на улице за спину ломали — жёстко, в лучших традициях Средневековья, с прикладом под дых и прочими жандармскими изысками. Разобрались быстро: я только узнал о случившемся, и засобирался было вызволять, как привезли и даже извинились. Ну как извинились… пробурчали што-то на африкаанс, и кажется даже — миролюбивое.
Обострять не стал, потому как ситуация нервенная, и даже Маркс ходит бледный, и домашние его на цыпочках, переговариваясь в четверть голоса. При его связях и богатстве такое поведение, это мягко говоря, пугает.
Не виновны близнецы, и бумага о том выдана, но из Претории лучше уехать, от греха. Народ здесь пока на взводе, и сильно — вплоть до возможности погромов может быть. А с учётом оружия и военного времени, это такой ой!
Жиды местные притихли, как говно в траве, и только ихние кафры взмыленные по городу — ш-шурх! Ш-шурх! С записочками. Договариваются друг с дружкой и властями — взятки, уступки всякие… Не знаю, и откровенно говоря, и знать не хочу, потому как — а ну спросят?
Молчать… это знать надо, когда можно, потому как запросто такое бывает, што человек изображает из себя упорствующего еретика в застенках инквизиции, а тот, кто проговорился, давно уже щебечет вовсю. С говорением тоже самое — знать надо, што и кому льзя и нельзя.
Это в Одессе или Москве я таки свой, и имею небольшое уважение в некоторых кругах, широко известных всем, кому сильно надо. Здесь же всего лишь знакомый знакомых, и если кого-то из более своих возьмут за ой, то сдадут мине за просто так, как шахматную пешку.
Думаю, договорятся, но как водится — не все, и очень хочется, што не через мине. А могут! Потому как связи есть, а крови нет, да и будь даже нужная кровь, оно и с ней не всё так просто.
Найдут козлов отпущения — из тех, кто очень уж замарался об англичан, да как водится — из бедноты и чужаков. Это только со стороны кажется, што жиды одним кагалом живут, на деле там такое себе противоречие со взаимной нелюбовью, вплоть до полной ненависти, што не у всякого антисемита такой накал есть!
Решил уехать из города сам, и предложил близнецам вовсе покинуть территорию буров, отправившись восвояси, даже и билет обратно оплатить. Ну или на крайний случай — в португальских владениях обосноваться, имея свою копеечку за посредничество и транзит.
Упёрлись! Дескать — Африка, возможности! Решили волонтёрами, в коммандо к Мишке прибиться, там их мал-мала знают и доверяют. А возможности, они и после войны будут.
«— Мы, Егор, — сказал мне Товия за обоих, переглянувшись с братом, — зубами за эту землю вцепимся!
А в глазах у них — шекели с рубелями, и не переубедить! Такая себе храбрость к деньгам, и мужество к прибыли.
— А проиграют буры? — у меня любопытство проклюнулось через опустившиеся руки, и немножечко почему-то злости, што не слушают хорошево совета.
— Проиграют? — удивился Самуил, тампонирующий разбитое лицо йодоформом. Остановившись, он повернулся ко мне от зеркала, вид донельзя удивлённый — кажется, он даже и не задумывался о такой возможности.
— Ну… — Самуил неуверенно пожал широченными плечами, — значит, проиграют! Всё равно — связи и всё такое через да и военное землячество. Не сразу, так годочков через несколько, как утихнет бурление говн у битанцев, можно будет вернуться, но уже как почти свои, а это таки другой расклад!
Товия закивал истово, на што я только вздохнул. Есть логика в их словах, как не быть! Есть.
Многие иностранцы с таким прицелом воюют — с расчётом на гражданство или хоть какие-то привилегии в сравнению с уитлендерами. Алмазные да золотые шахты глаза застят, есть за што драться.
А мне, вместо запланированной поездки к Лэдисмиту, снова к Мафекингу обалдуев этих героических везти».
Поутру, собирая лагерь и запрягая лошадей в фургоны, все отчаянно зевали. Позади несколько дней тяжёлого пути, с постоянной опаской на патрули британцев и союзных им туземцев, и мы изрядно вымотались.
В караване можно было хотя бы отдыхать в фургоне посменно, а тут шиш! Пока одни правят, другие верхами по окрестностям челночат. К вечеру только спа-ать… А надо ещё и лагерь ставить, лошадей обихаживать. Такое себе ой, што никому не пожелаю!
Последняя ночка не задалась, отчаянно мешали гиены, устроившие похохотать всему вельду окрест. Бог весть, кто там сдох такой большой и вкусный, и што вообще случилось, но вроде как несколько стай гиен што-то шумно делили. Как водится, всем не хватило, и обиженные решили наведаться к нашему лагерю.
Встали мы вполне грамотно, на поляне промеж колючих кустарников, через которые не полезет и носорог. Вход загородили нарубленными колючками и для верности — фургонами. А всё равно!
Как начали хохотать, подвывать да подтявкивать! Лошади волнуются, фырчат, с ноги на ногу переступают… ну как тут заснёшь?! Да и в головах вертится, а всё ли верно сделали? Мы всё ж таки не буры, приученные к подобной гадоте с малолетства.
Не выдержали, начали стрелять через колючки по светящимся глазам. Вроде как и попали несколько раз, ежели по визгу заполошному судить. Убрались эти твари под самое утро, так што и спали мы часика по два-три от силы.
— Я ещё кофе поставлю, — зевая отчаянно, сказал Санька, выплёскивая кофейную гущу в костёр.
— Угум, — отозвался я, снимая сковороду с ветчиной и поджаренным сыром с огня, — садитесь жрать, пожалуйста!
Близнецы, оглядываясь и принюхиваясь, закончили обихаживать лошадей и подошли к костру.
— Последний переход остался, а там и Мафекинг, — озвучил очевидное Товия, присаживаясь на раскладной полотняный стульчик и забирая из Санькиных рук кофе.
На раскладном столике тарелки, сервированные по всем правилам походного этикета. Мне, в общем, нет особой разницы, есть из сковородки со всеми, или вот — всё вкусно! Но што-то внутри говорит, што если имеется возможности, то — надо… как надо.
Выехали с небольшим запозданием, и через пару часов свернули к воде — напоить лошадей как следует, да пополнить запасы воды. Пусть вечером прибудем в Мафекинг, пусть! А вдруг?
— Драгуны, — опустив бинокль, сказал Товия с тревогой, — их разъезд! С десяток, не меньше!
— Ага… воротите фургоны надписями к ним, — нахмурился я, и оставив оружие, вскочил на коня.
— Пресса, — внушительно говорю рыжеусому драгунскому сержанту, показывая бумаги. Рослый мужчина лет под сорок, выдубленный многолетним пребыванием под жарким солнцем Юга, он держится полновластным хозяином не только ситуации, но и всей нашей судьбы.
— Разберёмся, — отмахивается тот не глядя, и тесня грудью своего мощного мерина мою невысокую кобылу. От обоих густо пахло застарелым потом и… пожалуй, от сержанта поядрёней.
Подчиняясь непреодолимой силе, вернулся назад под нескрываемым конвоем двух англичан, держащимся чуть поодаль. Явно из недавних горожан, и лица хоть и загорелые, но вот ей-ей — недавно ещё облазили лоскутами!
«— А выучка дрянь! — вылезло почему-то в голову, — недавнее пополнение!»
Остро пожалелось, што в вельде я оставил городскую привычку таскать с собой дерринджер, за полной на то ненадобностью. Казалось бы, што он против того же льва или леопарда?! А сейчас мог бы…
Опомнившись, встряхиваю башкой — какой там дерринджер против четырнадцати улан! Да и прямой бой… их втрое больше, да выскочили из лощинки метрах в двухстах. А у нас, как назло — ну ни единого укрытия рядышком! И кони не для боя, а для вельда.
«— Тьфу ты… лезут же такие глупости!»
Но…
… пару минут спустя я не был в этом так уверен. Связав близнецам и Саньке руки за спиной, и держа меня на прицеле, драгуны по-хозяйски рылись в нашем имуществе. Так рылись, што…
— Сержант! — юношеский ломающий басок, и молоденький драгун, едва ли достигший семнадцати лет, выскакивает из повозки, — Медикаменты! Много!
В голосе — счастье и какое-то нехорошее предвкушение.
— Та-ак… — сержант усмехнулся и нырнул в фургон, — действительно много.
— Пособник буров, — равнодушно констатировал он, и мне тут же заломали руки, связав их за спиной.
Замолчав, он уставился на надписи «Пресса» на полотняных боках наших фургонов.
— Дженкин!
— Да, сержант! — с характерной фамильярностью старослужащего отреагировал один из солдат, с характерным акцентом кокни.
— У тебя остались те кафрские сувениры?
— Так точно! Но здесь живут другие племена, а это…
— Да всем насрать! — перебил его сержант, — Кафры напали на фургоны в поисках поживы. Мы подоспели слишком поздно, и… да никто, собственно, не будет расследовать.
Он закурил, а подчинённые принялись сноровисто освобождать фургоны, негромко обсуждая, што именно они «спасут от кафров», а што сгорит в огне.
— Сержант! — в худшее никак не хотелось верить, и всё казалось, што вот сейчас он, наигравшись на нервах и докурив, отменит приказ… — Сержант! Я представитель прессы! Некомбатант!
— Да всем насрать! — процитировал сержанта тот самый молоденький драгун, обнаруживший медикаменты, и британцы засмеялись.
— Сержант!
Удар в лицо, резкий и умелый, но я успел довернуть голову, и костяшки только царапнули по скуле.
— Я богатый человек, сержант! Спросите моих спутников, кого угодно! Я могу…
Удар в живот… и в следующее мгновение тяжёлая пуля разнесла голову сержанту, и его тело свалилось на меня. Пытаясь вдохнуть выбитый воздух, я хребтом ощутил дрожь земли, потом раздались выстрелы, и…
— Марга[40]! — слитный рёв десятка молодых глоток. Кавалерия пошла в атаку! Поляки!
Сбросив тело, и извернувшись, закатился на всякий случай под повозку, обдирая лицо. И об обитый железом обод колеса связанные сзади руки — тереть, тереть… Несколько секунд, и я свободен, а што запястья кровят, то ерунда!
Подхватив винтовку кого-то из убитых англичан, навскидку к плечу… выстрел! Тот, молоденький, засучил ногами, а я ощутил свирепую, всесокрушающую ярость… и едва ли не счастье! Враг повержен!
Вокруг кипел бой, я и, пригибаясь и падая то и дело, затащил под фургон сперва Саньку, полоснув по верёвкам штыком, а потом и Товию с Самуилом. Едва я это успел, как раздался короткий сабельный посвист, и мне под ноги скатилась отрубленная голова в британской фуражке, с ремешком под подбородком.
Почти тут же шум боя стих, и я только услышал, как добили выстрелом в упор кого-то из раненых британцев.
— Пресса! — проорал я, не выпуская из рук винтовки.
— Егор? Ты?! — подъехавший всадник соскочил с коня и присел на корточки, бестрепетно глядя в дуло винтовки.
— Котяра?!
Мы вылезли из-под повозок, и сразу — объятия, рассказы…
— … второй раз с британцами сталкиваюсь, — жаловался я другу, — и второй раз такая оказия!
Меня бил тяжёлый отходняк, и разобрало многословие, путанное и бестолковое. Рядом растерянно топчется Санька, улыбаясь деревенским дурачком. Близнецы улыбались так же глупо, не в силах даже и встать. Только крупная дрожь, да гримасы, пробегающие по лицам, и снова — улыбки, и полные бездумного счастья глаза.
— Постой! А Ганецкий где! — озираюсь, — Надо же выразить свою…
— Ушёл я от нево, — отозвался Котяра, улыбаясь чуть смущённо, — а ты писал, да? То-то, я думаю, письма не тово…
— Да-а?
— Угу. Такой, знаешь… я шёл к нему, потому как ротмистр и всё такое… а оказалось — Иван!
— Нет, не подумай! — поправился он, — Не как разбойник, а знаешь… атаман такой, всё больше на лихости да на заигрывании с подчинёнными. Ему эта война — как спорт или охота, в удовольствие будто! Такой ради азарту там людей положит, где можно вовсе без выстрелов обойтись. Я таково на Хитровке наелся — во!
Он полоснул себя ребром по горлу с видом самым свирепым.
— И если уж воевать, — решительно добавил друг, — то должным образом!
— Да вот, — Котяра встал, — командир мой.
Молодой мужчина, похожий изрядно на Дон Кихота, закончив распоряжаться, подходил к нам.
— Дзержинский, — представился он, протягивая руку.
— Феликс Эдмундович?! — жму растерянно, и сам не понимаю, откуда это — ощущение, будто встретил человека давно знакомого.
— Мы знакомы? — в его глазах лёгкое удивление.
— Да где-то слышал, наверно, — вид у меня совершенно потерянный, и спешу представиться, прячась в оковах этикета.
— А-а! Наслышан! Как же, репортажи ваши Палестинские, да и до того…
… и как-то мы с ним сразу сдружились.
— Мон колонель! — сопровождающий волонтёров лейтенант зашёл в штабную палатку и выпрямился ещё больше, лихо отдав честь, — Русские волонтёры, мсье Корнейчук и Житков!
— Герои сражения при Коленсо[41], наслышан! — полковник Вильбуа-Марейль[42], встав из-за стола, отдал честь, и протянул руку, которую одесситы не без гордости пожали.
Побеседовав несколько минут, и выразив своё безмерное удовольствие их службой, он поздравил их капралами и распрощался.
— Месяц назад, — задумчиво сказал Николай, выйдя из палатки и глядя на капральские нашивки в загрубевшей ладони, — и подумать не мог, а ныне — как так и надо… Капрал, ну надо же!
— Интересно живём! — весело отозвался Борис, потянувшись всем телом к жаркому африканскому солнцу.
— Да! — Корнейчук сжал нашивки в кулаке, и будто прислушался к кому-то внутри себя, — И отныне — только так!
Глава 22
Сниман принял нас без расшаркиваний, не отвлекаясь на такие нелепые мелочи, как этикет. Сидя у входа в штабную палатку в одной застиранной пропотелой рубахе с подтяжками поверх, он раскуривал старую трубку и рассматривал с такими же непрезентабельными бурскими офицерами лежащую прямо на земле карту, тыкая в неё веточками и переговариваясь негромко.
Символически приподняв жопу с бревна, африканер пробурчал приветствие, и начал расспрашивать Дзержинского безо всяких экивоков, держась без генеральской спеси, но и без панибратства.
— Так… так… — кивал он иногда поляку, задавая вполне дельные вопросы — с моей, дилетантской точки зрения. Где произошла стычка, уровень подготовки драгун и прочее в том же духе. Выслушав Феликса, он задумался ненадолго, хмуря усталое лицо, заросшее густой бородищей, и отчаянно дымя трубкой.
— Есть что добавить? — спросил он наконец меня, жестом отпуская Дзержинского.
Красочно описываю наши злоключения — благо, материал уже фактически сложился в моей голове в острую и очень злую статью, где воедино переплелись африканский колорит, моральный облик бандитствующих британцев, и умелые действия храбрецов-волонтёров. Сниман только крякал довольно, да головой качал при особо острых пассажах.
— Генерал, — закончив рассказ, чуть отступаю в сторону, жестом приглашая близнецов, — позвольте порекомендовать вам моих друзей, Самуила и Товию, выразивших желание вступить в ряды бурской армии.
— Иудеи? — Сниман смерил их взглядом.
— Мы из Одессы… — начал я объяснять расклады.
— Здрасте… — чуточку невпопад влез Товия, улыбаясь и чуть ли не виляя хвостом при виде столь большого, но близкого народу начальника.
— Парни они простые, — ожёг я провинившегося взглядом.
— Видим, — хмыкнул один из офицеров, послышались смешки.
— Сочувствие к народу буров заставило их приехать в эти благословенные Господом земли, а бесчинства англичан преисполнили чашу терпения! Если прежде они, люди сугубо мирные…
Самуил при моих словах об их мирности заулыбался удачной шутке и спрятал за спину громадные ручищи с перманентно разбитыми костяшками.
— … мирные, — повторил я, давя голосом, и близнецы закивали усиленно, глядя на генерала преданными глазами. Буры заулыбались уже в открытую, — помогали бурам как возчики и торговцы, то столкнувшись с этими беззаконными негодяями лично, они решили взять в руки оружие.
— Так… — он смерил их взглядом, и близнецы затаили дыханье. Короткий приказ, и чернокожий слуга срывается с места, и босые пятки его взрыли африканскую землю.
Минут пятнадцать мы беседовали с генералом о газетных статьях, пропаганде, Одессе и Москве. Как мне показалось, изрядное невежество, типичное для буров, соседствует в нём с достаточно развитым, практичным умом.
Близнецы в это время вели себя браво — играя мышцами, втягивая животы и надувая грудь. Безыскусно, и несколько даже просто, но африканеры вполне благосклонно отнеслись к желанию показать себя в лучшем виде.
Мишка подъехал верхом, скинув поводья прибежавшему вместе с ним генеральскому слуге, и заулыбался при виде меня.
— Генерал, — опомнился он, изображая подобие фрунта и делая степенный вид, как и полагается ценному военному специалисту.
— Вот, — кивнул тот на близнецов, — волонтёрами просятся. Возьмёшь?
— Здоровски! — степенный вид пропал на миг, и появился заулыбавшийся мальчишка, — Кхм… да, генерал! Парни надёжные, давно знаю.
— Принимай командование, — отмахнулся Сниман, и потеряв интерес, отпустил вскоре и нас. Остался только Санька, ибо натура! К нему буры относятся с уважением… большим, чем ко мне, ежели по чести. Немножечко досадно даже, и гордость одновременно. Так што за брата не волнуюсь — накормят вовремя и вкусно, напоят, и под пули не выпустят.
Отгрузив с близнецами их «приданое» и переговорив с Мишкой, я отправился к отряду Дзержинского, влекомый неутолимым любопытством.
О себе Феликс рассказывал скупо, будто даже и не понимая самого интереса к своей персоне. Зато охотно рассказывал о пропаганде среди рабочих, ссылке и побеге, своих убеждениях.
— Я марксист, — рассказывал он, пока Котяра хлопотал с кофейником и угощеньем, — … в Преторию? Во многом случай, а отчасти и романтика.
Он усмехнулся едва заметно.
— Африка, свободолюбивый народ буров… Действительность оказалась более неприглядной.
— Жалеешь? — кивнув благодарно другу, принимаю чашку с кофе и горячую лепёшку, густо намазанную толстым слоем свежего масла. Сказать бы кому… а здесь так и воюют — с пасущимися неподалёку стадами и дойными коровами. Не сказать, штоб вовсе уж много, но ежели подсуетиться, молочка и маслица можно достать. Ну и из ближайших ферм привозят, и што характерно — бесплатно!
— Нет! — отвечает решительно, и видно, што сам не раз думал над этим, — Колониальная британская система много хуже фактического рабовладения африканеров! Меньшее зло.
— Африканеров проще… — он сощурился, и по худому лицу катнулись желваки, — передавить.
Глаза у Дзержинского постальнели, и видно — сталкивался со… случаями. Я и сам видел не раз неприглядные стороны рабовладения, а просто — глаза закрываю. Приходится.
Много говорили — о нём, обо мне, работе репортёра, уже моих убеждениях…
— Марксист? — тру подбородок в раздумьях, — Наверное, всё же нет — вообще нет, или пока… хм… со временем определюсь. Но социалист — без сомнений!
Феликс ушёл, деликатно дав нам с Котом возможность переговорить наедине.
— Ну и как воюется? — мне почему-то неловко, што он — да, а я с карандашом и фотоаппаратом. Спохватываюсь нелепости вопроса, и такое… будто даже и стыд — за то, што некомбатант, за…
— С Феликсом-то? — он кусанул свою лепёшку и закивал, — Хорофо! То есть хорошо. С Ганецким я уже говорил — авантюрный когда не надо, а Феликс, он…
Котяра зашевелил пальцами.
— … не менее авантюрный, но знаешь?! По уму, а не дурной лихости! Та-акое иногда… — он затряс головой, — но вот всё, всё просчитывает! И объясняет каждый раз — почему именно так. Тактика, потом эта… психо…
— Психология?
— Она! На картах разбираем сперва, где там и што, потом в психологию противника пытаемся вникнуть, снова тактика и эти… штучки всякие. Голова!
— Ты знаешь! — Котяра оживился, — Он попервой у поляков был! Польская кавалерия — Жубер, кажется, формировать начал. Сенкевича, што ли, начитался генерал!
Обоим становится смешно, но не почему-то, а просто — живы, сидим вот так с кофе и лепёшками под солнышком, ноги вытянули.
— А у поляков, — Мишка махнул пренебрежительно, — говорильня, как всегда! Два пана — три партии! Да и разговоры, сам понимаешь — сплошь прошлые обиды с планами Великой Польши от моря до моря.
— Покрутился он там, — продолжил Иван, — да и свой отряд организовал, интернациональный. Феликс, он дельный — не смотри, што поляк! С ним сразу десять человек ушло, да потом… сейчас нас тридцать, и вот увидишь — больше будет, куда больше!
— Дело опасное, — Мишка немногословен, — слыхали про стрелковую засаду на нейтральной территории?
— Ага, — пробасил Товия, — даже читали когда про то в газете, так мороз по шкуре прошёлся! Это панама такая, шо на всю Одессу поговорить! Я…
Переглядки с братом.
— … мы тогда решили, шо если и да, то так и с тобой! Интересно, громко и по уму!
— Хм… — Мишка польщён, но старается не показывать, кусая расплывающиеся в улыбке губы, — а как насчёт повторить?
— Тама? — Самуил чешет бороду, — А засаду не вставят?
— Не тама, а тута, — Мишка чуточку ёрничает, но толстокожие близнецы эту чуточку не воспринимают.
— Это… — Самуил аж привстал, проследив за пальцем, — на минном поле?!
— Ага! — совершенно безумная улыбка, и выпученные в ответ глаза.
— Есть, — Пономарёнок прищёлкнул пальцами, возвращая напученных близнецов оттудова сюда, — план!
— Да?! — сызнова братские переглядки.
— Да! — кивнул Мишка, больше показывая уверенность, чем испытывая её, — А штобы план не сорвался, нам нужно потренироваться!
— Это мы… — Товия ласково погладил ствол винтовки, предвкушая месть британцам за недавний унизительный испуг.
— … не так представляли, — пропыхтел Самуил, не отрывая головы от земли и пытаясь металлическим шомполом нащупать зарытые бурами металлические жестянки, долженствующие изображать мины.
Шомпол упёрся во што-то твёрдое, и он принялся раскапывать вокруг, стараясь не шуметь и не приподниматься.
— Ай! — брат, работающий в нескольких метрах от него, получил палкой поперёк спины от наблюдающево бура.
— Горбик сделал, — погрозил тот прутом, нимало не опасаясь злого взгляда. Пыхтя и строя планы мести, Товия принялся за копанье, старательно прижимаясь к земле.
К вечеру начало што-то получаться, но всё — война войной, а еда по расписанию! Мишка, такой же вымотанный, в изодранной одёжке, приземлился с тарелкой рядышком.
— Я договорился с сапёрами, — устало сказал он, и засунул в рот здоровенную ложку рагу, в котором мяса было много больше, чем овощей, и старательно заработал челюстями, — нам макеты мин сделали, будем тренироваться разминировать — сперва так, а потом вслепую!
— Ой вэй… — простонал Самуил, закатывая глаза, — не так я себе это представлял!
— Ты хотел как-то иначе? — удивился Пономарёнок, и тут же расплылся в преехиднейшей улыбке, — А-а…ясно! Ты таки думал о немножечко стрельбе, после обеда подвиг и лёгкое ранение, после чево тебе целуют в жопку перед строем в госпитале, дают орден с чином, а дней через несколько ты гуляешь с томными на тебя барышнями из приличных бурских семей жидовской веры, с интересными обводами и ещё больше — приданным?
— Ну да, — простодушно согласился тот, — а-а… шутишь!?
— Догадался?! — восхитился Мишка.
— … ещё раз! — не соображающий толком со сна, генерал потёр лицо, не вставая с кровати, — Готфрид! Поставь-ка нам кофе! Чуется мне, что сегодня уже спать не буду!
Набившиеся в палатку буры, припёршиеся едва ли не половиной фельдкорнетства, вытолкали вперёд Мишку, забывшего от волнения все слова на африкаанс и голландском.
— Вот! Вот! — он тыкал в Снимана пустыми жестянками, и наконец вспомнил. Подобравшись, начал объяснять генералу ситуацию.
— Так… — одеваясь по ночной прохладе, командующий запрыгал на одной ноге по потёртой шкуре леопарда, вдевая вторую в штанину, — засаду? Снова, но уже на минном поле?
— Да! — Мишка закивал головой, — Хотел расчистить место от мин, да устроить лежку. Британские офицеры там инспекции часто устраивают, а по недосягаемости к пулям и бурским удальцам, ведут себя беспечно.
— Дельно, — восхитился Сниман, и глянул на Мишку, сощурившись, — и как?
— Вот! — снова пустые жестянки, — мы с близнецами… Товия, Самуил!
Толпа расступилась, и вперёд протолкались близнецы, угвазданные в земле и увешанные такими же пустыми жестянками.
— Вот! — повторил Мишка, — Мины! Все, все пустые! Обманул нас Баден-Пауэлл, и… вот!
Сниман зажевал бороду, потому как — коллизия! Есть возможность, и какая возможность… но буры в атаку не ходят!
— Я… — Мишка оглянулся на близнецов, — мы вперёд пойдём!
Братья закивали согласно, в глазах их виднелся отблеск грядущих пожаров.
Добровольцы, вызвавшиеся поддержать атаку, собирались в широких траншеях перед минным полем. Негромкие разговоры, смешки, бряцанье оружия, да приглушённое ржанье лошадей с замотанными тряпками мордами.
— … знак Божий! — негромко вещал молодой, но длиннобородый мужчина с фанатичным взглядом карих глаз, — он…
Не дослушав, пробираюсь дальше, ловя обрывки фраз, и стараясь запечатлеть в памяти всё увиденное. Небо потихонечку светлеет, и кавалеристы в последний раз проверяют подпруги.
— На конь! — негромко командует Дзержинский, взлетевший в седло, и почти тут же из ножен вылетает блескучий клинок. Конница, ядром которой стал его отряд, выходит из траншей в заранее подготовленных местах, сразу устремляясь к Мафекингу.
Стискивая кулаки, провожаю взглядом Мишку, Котяру, Самуила, Товию, Феликса… и только тихий рокот копыт.
«— Только бы живы, — бьётся в голове, — только бы…» Рядом молится вслух Санька, кусая губы.
Выстрелы и заполошные крики раздались, когда кавалерийская лава уже преодолела большую часть расстояния. За ними тяжёлой трусцой заспешили буры, стараясь ступать там, где проскакала конница. Пусть и уверили их в отсутствии мин, но… а вдруг!?
— Марга! — донёсся до меня слитный рёв сотни глоток. Начался бой за Мафекинг.
Глава 23
«Русские идут!» — кричал заголовок на первой полосе, и Гиляровский, крякнув предвкушающе, развернул шуршащие листы, пахнущие свежей типографской краской. Короткое предисловие под заголовком…
«— Марга! Коммандо Дзержинского захватило город…»
… и сразу — групповая фотография русских героев штурма.
В центре — уверенно идущий в легенду Мишка Пономарёнок, глядит чуть сощурившись и строго, будто спрашивая, а всё ли ты, лично ты… и почему-то совестно. Ему, который и правил статью, отбирал годящие фотографии и всё-всё-всё, споря с редактором до хрипоты! А каково другим? Вышло, да как вышло!
Владимир Алексеевич сощурился довольно, мельком кинув взгляд на незнакомого ему щеголеватого Дзержинского, о котором так лестно отзывался в письме Егор. На Самуила с Товией, будто шагнувших на фотографию прямиком из Ветхого Завета, времён этак завоевания Иудеи. Мощные парни, таких легко представить с мечами и в доспехах, атакующих филистимлян в первых рядах, карабкающихся на полуразрушенные стены вражеского города. Хорошо получилось, правильно!
Герои на любой вкус, на все времена! Рослый, несколько долговязый по младости, Пономарёнок, станет предметом воздыхания гимназисток и горячечной зависти мальчишек, а заодно и грамотной части крестьян, в первую очередь староверов.
Дзержинский соберёт симпатии поляков и литвинов[43], а заодно и р-революционно настроенной части интеллигенции. Красавец, щеголь, лихой кавалерист и убеждённый марксист. Ох и будут сохнуть по нему барышни…
А эти… репортёр ещё раз всмотрелся в Самуила и Товию… как удачно получились! Фотография будто по мордасам — разом всем! Вызов. Антисемитам, семитам… вот они, русские герои… хе-хе…
— Ох и всколыхнётся наше болотце, — Владимир Алексеевич растянул губы в злой и очень мальчишеской, несмотря на возраст, усмешке. Всё честно, до последней буквы, до запятой, но подача — провокационная, несмотря на патриотизм и Русский Дух, которым пронизана статья. И править за Егором почти не пришлось, по мелочи разве, усиливая авторский посыл.
Не мастер ещё, не хватает жизненного и репортёрского опыта, умения уловить читательскую конъюнктуру, оставшись собой. Но и так — ого, куда как выше среднего! В четырнадцать-то годков!
Ниже — фотография Русского добровольческого отряда Красного Креста, и снова — лица, фактура! Биографии героев, их послужной список, и коротко — личные заслуги каждого в этой войне.
Внушает. Развёрнутый за считанные часы госпиталь. Медики, готовые сутками стоять за операционными столами, позволяя себя упасть в обморок только по окончании (благополучном!) операции. Провизор, который помимо безупречного выполнения основных обязанностей, способный отбиться от льва заклинившей винтовкой — как дубиной!
От нарочито скупых строк веет Лермонтовским. Богатыри — не вы!
А с ними — бывший подданный Российской Империи Ефим Бляйшман, прорвавшийся с пароходом медикаментов вокруг Африки! Тоже — герой, как ни крути. И ах какая пощёчина всей этой политической цензуре!
Самый известный русский командир Претории — беглый ссыльный Дзержинский. Не Ганецкий, не Максимов и не иные заслуженные, не сумевшие в большинстве своём выбиться даже в капралы! Марксист! И воюет, да как воюет! Будто не молодой ещё мужчина, а боевой офицер «с прошлым», имеющий за плечами Академию Генштаба — по оценкам германцев, что особенно ценно.
«Легенда Мафекинга» Пономарёнок, ставший ассистент-фельдкорнетом[44] в четырнадцать. Старовер, и ах какой неудобный человек для власти! Символ Русского Присутствия в Южной Африке — не больше, и не меньше. Знаменитое его «За нашу и вашу свободу» до сих пор обсуждают, и сколько потаённых надежд подняли эти слова!
Не подкопаться притом к статье, ведь всё — верно хоть по букве, хоть по духу. А толкование, идущее вразрез затянутой в сукно казёнщине, это уже — извините! Право имеем.
Зачитавшись и замечтавшись, уйдя в размышления и грёзы, он завздыхал, заворочался проснувшимся посреди зимы медведем-шатуном.
— Давненько я… хм… — вид у Гиляровского стал самый мечтательный, и Мария Ивановна встревожилась, хорошо зная мужа.
С таким лицом он шёл в трущобы, после чего и появлялись его самые страшные, запрещённые цензурой рассказы, тираж которых сжигался в железных клетях на заднем дворе пожарного депо. Уцелевшие экземпляры растаскивали, часто сами пожарные, и хранили потом бережно, переписывали…
Устраивался на фабрики, где узнавал быт рабочих до мельчайших деталей, на собственной шкуре. Белильщиком, табунщиком, грузчиком… кем он только не был! Не понаслышке, всё изнутри. Сам.
Проникал в места катастроф, замалчиваемых властями, и писал оттуда острые репортажи, помогая растаскивать завалы и грузить на санитарные повозки тела. Полиция ярилась, но никогда не могла разыскать его в гуще простого народа, не в силах даже и помыслить, что уважаемый человек может вот так… А он мог, всегда рядом с народом, но не упрощаясь нарочито, не подделываясь под непонятно кого, не становясь «юродивым из господ» в брезгливом понимании крестьян.
Ехал Сербию, где сумел разоблачить пред лицом Европы репрессии короля Милана Обреновича, вынудив того выпустить арестованных оппозиционеров. Как уж выкрутился, как ухитрился пробудить не только европейских читателей, но и заскорузлые сердца российской дипломатии, давшей укорот стольсомнительному союзнику… Бог весть.
Снова, не успев толком вернуться с Балкан, заворочался… Мария Ивановна почувствовала, как заколотилось тревожно сердце. Чуть вздохнув, она опустила плечи… сама выбирала! Именно такого, неугомонного.
Надя в своей комнате перечитывала письмо, выученное уже фактически наизусть. Тонкие её пальцы легко касались чуть желтоватой, выгоревшей на солнце бумаги, а нога, с которой она скинула домашнюю туфлю, ерошила короткий мех на львиной шкуре. Недавняя привычка, напоминание о Саньке, от которой почему-то становится теплее не только ногам, но и сердцу.
«— … за исключением своеобычных на войне неизбежных случайностей, с настоящими опасностями я не сталкиваюсь, а просто выполняю свой долг репортёра, возможно более честно и добросовестно, без лихой придури. Так что успокойся сама и успокой Марию Ивановну от моего имени, страхи ваши беспочвенны, а приключения мои скорее кажутся опасными, чем являются таковыми.
Думаю, не слишком совру, если скажу, что кажущаяся эта опасность больше надуманная, книжная, навеянная приключениями отважных героев в саванне или джунглях, и непременно борющихся на каждом шагу со свирепыми животными и кровожадными туземцами.
Я и сам невольно переносил поначалу книжные сии напасти на реальную жизнь, но увы — действительность куда как более прозаична, к великому моему разочарованию! Ты, наверное, сейчас смеёшься…»
Надя улыбнулась, чуть кивнув при чтении этих строк.
«— … но так и есть!
Даже львы по большому счёту не опасны, будь это даже целый львиный прайд, если имеется надёжное оружие и элементарнейшие знания о здешней флоре и фауне. Право, видимый за десятки, а то и за сотни метров лев не так опасен, как наш исконно-посконный, такой привычный медведь, коего деревенские бабы встречают в малиннике чуть не десятки раз за свою жизнь.
Но довольно обо мне!
Санька совершенно полюбился бурам, хотя не пытается им подражать, как некоторые из русских добровольцев от невеликого ума. Никаких разговоров о Боге, симпатиях к кальвинизму и тому подобной ерундистике.
Право слово, забавно видеть некоторых „упрощающихся“ российских офицеров, старательно ведущих себя так, как должно по их мнению бурам. Берут внешнее, упрощаясь одеждой и бытом, совершеннейшим образом не замечая внутренней сути, и жалуются потом, будто африканеры смотрят на них, как на ущербных.
Брат рисует, и кажется мне, будто в мастерстве его произошёл качественный скачок. Не знаю, сказалось ли на этом путешествие и новые впечатления, или что-то ещё, но разница ощутима. Не ученик, пусть даже и многообещающий, а молодой мастер, стиль которого формируется на моих глаза.
Африканеры в совершеннейшем восторге от его талантов, привечая его как родного. Как мне кажется, помимо талантов живописца, имеет своё значение и возраст. Не могу ручаться, но очень похоже, что талант, проявленный Чижиком в столь юном возрасте, связывается ими с благословением Бога.
Талант, трудолюбие, да внутренний свет Чижика. Буры, как натуры близкие к природе, такие штуки ощущают то ли нюхом, то ли какими инстинктами…»
Песса Израилевна заходила по Молдаванке и немножечко рядом с видом победительницы во все лотереи разом и немножечко по жизни, неся себя и грудь гордо и с большим достоинством. Почтенная женщина, воспитавшая достойную дочь, и если не воспитавшая, то таки ухватившая таково почти зятя, достойна всего и вся, особенно уважения и самоуважения.
Самоуважение её повышало гравитацию, вдавливая окружающих в сутулость и почтение. Даже Циля Марковна с Балковской, которая женила на себе того самого Аарона Мойшевича, который делает лучшие зубы во всей Одессе, улыбается ей чуточку раньше, чем наоборот, получая в ответ снисхождение и кивок.
Золотые её зубы, сияющие маленькими благополучными солнцами, тускнели на фоне Пессы Израилевны, ибо где там зубы на два червонца весом и Балковская, а где — Африка с её рудниками и шахтами!
Никто в целой Молдаванке не сомневался, шо всё будет, и будет хорошо, и присланная в подарок львиная шкура, маски с ассегаями и колдовские барабаны, это только начало и аванец!
Потому как зять хоть и Егор, но характер там на двоих Шломо и одного Моисея на сдачу! Никто таки не сомневается, шо помимо характера и ума, есть таки и совсем немало кровей народа, который самый и везде!
Егор из тех, кто при попадании в полную жизненную задницу не будет зажимать нос и ныть, а заоглядывается в поисках интересных возможностей, и ведь таки найдёт! Где для других — полное говно, для него ценные ресурсы, я вам точно говорю!
А там вам не тут, а целая Африка, и даже Фима Бляшман, который и сам голова, засуетился и поехал туда через Егора, а всё почему? Потому што голова! А две таких головы, это будет прибыль через ого, и в Молдаванке об том никто не сомневается!
Если кто сомневается, тот можит вспомнить, каким и с чем Егор приехал в Одессу впервые, и как быстро заимел уважение и деньги через нево. А потом было ещё и снова, а потом Палестина и целое налаженное дело, на котором вкусно кушает много хороших людей!
А тут Африка! А?!
— … Коля? Корнейчук? Капрал в Европейском легионе?!
Гимназист-старшеклассник, красный и разгорячённый, разглядывал на перемене газету с приятелями, снова и снова сверяя фотографии с памятью. Постановили — он!
— Ну Борька ладно, — вынесен был общий вердикт, — но Коля?!
— Люди меняются, — философски заметил один из гимназистов — рослый и крупный, но изрядно рыхловатый Лёшка Марченко.
— Ну если только так…
Похожие разговоры велись по всей России, но больше всего таки в Одессе. Позднее этот период назовут «бурлением говн» и «вторым исходом». А пока… уважаемые на Молаванке люди начали вскладчину фрахтовать пароходы.
Глава 24
— Потолкался в Фолксрааде[45], — стараясь есть аккуратно и без жадности, рассказываю любопытствующим медикам, уже тяготясь приглашением на обед. Медики вежливы и доброжелательны, но сквозит, сквозит…
Кидает их от почтения к моему «старшинству» в здешних суровых местах, вкупе с не самой простой биографией, до «полудетского» возраста и… да, всё той же биографии. С политическим, так сказать, душком. Неровное обращение выходит, и откровенно — изрядно раздражает.
— Во время сессии[46]? — отложив вилку, приподнял бровь Алексей Степанович, всем своим видом выражая лёгкое сомнение.
— Угум, — не введусь на детскую подначку. Потапов, административный секретарь отряда, человек весьма дельный, но слишком… слишком! Сложно выразить такое словами, но он неестественно естественен во всех ипостасях, а это либо шизофрения, либо актёрская игра высокого класса. Зачем… хм, несложно догадаться. В итоге сложилась такая ситуация, когда он знает, што я знаю…
На «намёкиванье намёков» я совершеннейшим образом не введусь, равно как и на «патриотические игры» То есть теперь не… Поначалу пытался отвечать, но якобы отставной капитан хорошего отношения не понял и не принял, пытаясь даже и не завербовать или тем паче вести игру открыто, а просто подмять меня под себя.
Уж не знаю, служебные ли инструкции, сам ли меня неверно просчитал или что ещё, но вышло, как вышло. Информацией делюсь, но ровно той, которая может быть полезна Красному Кресту, а никак не Генштабу.
Игрища наших военных на Африканском континенте, да без опоры на собственные колонии или гарнизоны, штука весьма умозрительная и отвлечённая. Эфиопия в орбите отечественной политики меня нимало не прельщает, да и по чести — какой от неё толк?
Разменять разве што при случае на какую-то мелочь, ну или как вариант — получить очередную «Священную корову», льстящую самолюбию, но не приносящую самомалейшей пользы. Разве што потрепать нервы дражайшим родственникам Ники, да подтрамплинить карьеры десятка-другого офицеров.
Потапов же то ли закусился, што вряд ли, то ли ведёт какую-то свою игру, рассчитанную может даже и не на меня, а на других… хм, участников. В игры сии даже и не намерен вникать, имеется подспудная опаска — очень уж я на виду. Сильно подозреваю, што милейший Алексей Степанович как раз таки и желает выставить меня этакой приманкой, играя меня втёмную.
Может быть даже, с полным сочувствием к подобной доле, а может — искренне считает, што участь стать компостом в Большой Игре должна быть мне комплиментарна. Ну или просто — за насекомое держит. Распространённый тип среди русских добровольцев — искреннее сочувствие к угнетаемым бурам, при полном пренебрежении нуждами собственного народа.
Эбергарт Александр Карлович, командующий русскими медиками под Ледисмитом, доброжелателен, и я ему симпатичен, но чин надворного советника[47], так сказать, обязывает. Государев человек, хоть и медик. По окончанию командировки его ждёт новое звание, должность, ордена… и на всё это я могу повлиять самым негативным образом.
Пусть меня и оправдали, но осадочек остался. Личное оскорбление… а Его Величество, как ни крути, личность не масштабная, но исключительно злопамятная. Как и Высочество.
— В палату Второго Раада[48], — отстранившись от стола и отмахиваясь от надоедливой мухи, залетевшей под распахнутый полог палатки, поясняю наконец, пока убирают тарелки.
— Однако… — Эбергард покачал головой, — изрядные у вас знакомства, Егор Кузьмич.
— Не жалуюсь, Александр Карлович, — улыбаюсь ответно, благодарно кивнув медсестре Наталье Богдановне, принесшей чай. Онкоева из крестьянских девиц, и в негласном, но действующем «табеле о рангах» Русской Миссии Красного Креста занимает нижнюю строчку.
«— Все животные равны, но некоторые равнее[49]…»
Эбергард пошёл белыми пятнами, будто поморозившись лицом, отчего я заключил, што язык мой — враг мой… не отсоединился вовремя от мозга. Сделали вид, што я ничего не говорил, а присутствующие — не слышали.
— И как же проходят заседания Раада? — спас положение Потапов.
— Пф… — я задумался, — небезынтересно для стороннего наблюдателя, но результат…
«— Субботник в синагоге»
— … нулевой. Фольксраад осаждают лоббисты всех мастей, едва ли не сотни. Бюргеры знают о том, и потому любое решение Раада, идущее в сторону от устоявшихся традиций, рассматривается пристрастно, истолковываясь обычно самым дурным образом.
— Однако, — сдавленно удивился Оттон Маркович, принявшись яростно протирать пенсне, пока я доливал себе заварки по вкусу, — слышал я о том, но признаться по чести — не верил.
— Увы! — пробую чай… да, в самый раз, — Потому любое, даже наимельчайшее дело, рассматривается максимально пристально и пристрастно. Пятьдесят фунтов, требуемых на ремонт моста, могут обсуждать несколько дней, оставив в стороне дела куда как более важные.
— Слыхивал я, — Потапов чуть напоказ вздохнул, — будто пристрастность к решениям Раада имеет на то все основания. Коррупция, господа-с… Далеко не всех из парламентариев хоть когда-нибудь держали в руках хотя бы сотню фунтов. Устоять же, когда лоббисты предлагают им за единственное решение тысячи — крайне сложно. Злые языки говорят, что едва ли четверть парламентариев можно назвать в полной мере неподкупными.
— Помилуйте! — совладал наконец с пенсне Оттон Маркович, — В Раады выбирают априори людей уважаемых, и как правило — не бедных! У многих в земле есть залежи золота, алмазов или иных ценных ископаемых, и… такая мелочность?! Увольте, но кажется мне, ситуация с коррупцией изрядно преувеличена.
— Вы, Оттон Маркович… — я качаю головой, — да и пожалуй, что и все прочие, изрядно приукрашиваете в своей голове африканскую действительность. Знаю, многие любят сравнивать буров с казаками. Не знаю, не сталкивался, но если и так… сравнение не к чести казаков.
— А с кем бы сравнили буров вы? — подалась вперёд Ольга Александровна Баумгартнер, дочка генерал-адъютанта и живая иллюстрация того, што «некоторые животные равнее других». Такая же медсестра, как и Наталья Богдановна, только та чуть не за прислугу, несмотря на все «будьте добры», да титулование по имени-отчеству[50], а вот — одна чаем закончила обносить, да села потом скромно с краю стола, а вторая — львица светская.
— Я? — хм… с кулаками, пожалуй. Не всех, далеко не всех… но кондовый бур и есть такой кулак, разве что в африканском антураже.
— Неожиданная оценка, — Ольга Александровна улыбнулась мне поощрительно — так, што и не придерёшься, а как плюнула, — но я бы…
Распрощавшись наконец с медиками, вышел из палатки на яростно палящее солнце, одел пробковый шлем, и измайловец Викентий Севрук подвёл обихоженного коня, сделав служебное лицо. Опустив поводья и правя одними ногами, я поехал по бурскому лагерю, то и дело останавливаясь и делая зарисовки походного быта.
Картины прелюбопытнейшие, но вгоняющие подчас едва ли не в ступор. Пожалуй, только артиллерия могла похвастаться каким-то подобием военного лагеря, но там и европейцев до половины состава. Обычные же коммандо больше напоминают отряды наёмников времён Тридцатилетней войны[51]. Причём сравнение это будет скорее в пользу наёмников.
Палатки, расставленные как Бог на душу положит, соседствовали с фургонами, меж которым виднелась то доящаю корову женщина, то играющие в салки ребятишки. Вот вдохновенный бородач читает десятку слушателей проповедь, заканчивающуюся хоровым исполнением псалмов, а в десятке метров двое безусых молодцев пластают антилопу, нанизывая тончайшие куски мяска на бечевки, протянутые от фургона к палатке.
Одежда едва ли не домотканая, и уж точно — у многих самошитая. По мотивам, так сказать — жёнами, сёстрами и матерями. Оружие самое современное, но соседствует часто с едва ли не допотопным «Роёрами».
Стоянка пастухов и охотников, увеличенная в сотни раз. Ржание лошадей, мычанье скота, лай собак и густой, едкий запах пота, крови и пороха, стоящий над лагерем.
Показалось вдруг, што всё… всё неправильно! Лишние здесь не только пушки, но и ружья, пусть даже и прадедовские, а надо — пращи ременные, копья с грубыми широкими наконечниками, да ростовые щиты. Вот где бурам самое место!
Размышлял пока таким образом, сам и не заметил, как нарисовал… как надо.
— Егор!
Соскочил с лошади, обнялся с братом.
— Спешу, — торопливо заговорил он, — совещание у Жубера, мне велено быть.
— Однако!
— А! — он махнул рукой, — Видел бы ты… а впрочем, хочешь пройти?
— Шутишь?!
Сниман, при котором состоит ныне Мишка, смерил меня взглядом, но согласился. После Мафекинга и своей толики славы, брата он считал то ли адъютантом, то ли… и вернее всего, талисманом.
Переброшенный на усиление под Ледисмит, он потащил с собой не только Пономарёнка, но и Чижа. Показная кальвинистская скромность, это канешно да… но и тщеславие, как оказалось, бурам не чуждо. Иметь при штабе художника, да ещё и «с именем» генералу лестно. Вроде как повышается… што-то там.
Когда мы подъехали к штабу, расположившемуся в большущей палатке, я понял наконец все эти Мишкины взмахи.
— Да… — сдвинув на затылок пробковый шлем, обозреваю галдящую толпу около штаба. Чуть не две сотни человек, и такой себе Ноев ковчег…
— Никак не привыкну, — сказал Мишка, раскланявшись с супругой одного из коммандантов, шествовавшей в штаб под руку с мужем — в полной уверенности, будто там ей и место.
— Жорж! Жорж! — хлопок по плечу, и сияющая морда Жан-Жака, а потом — железные объятия. Искренне ему обрадовался, представил брата.
Из несколько бессвязной речи палестинского знакомца стало ясно, што здесь он подвизается в качестве волонтёра, но вдобавок и пишет… иногда даже и печатают!
Разговоры наши быстро прервали, в штабе началось совещание, и лишних начали оттеснять. Не обошлось без скандалов — некоторые буры, не имея под собой даже единственного подчинённого, искренне считали себя равными страшим офицерам, планируя участвовать в совещании и несомненно — высказывать свою, единственно верную точку зрения. В ход пошла такая аргументация, как размеры пастбищ, заслуги предков во время Великого Трека, и почему-то — отсылки на Библию. Мне последнее решительно непонятно, но брат, похоже, вполне…
— Ничего не понимаю, — пробормотал Жан-Жак с горящими глазами, — но очень интересно!
Женщин, к слову, удалить из штаба не удалось, несколько немолодых особ остались там, принимая самое живое участие в обсуждении. По-видимому, офицерское звание мужа эти дамы считают в равной степени своим… и самое странное, окружающие не видят в этом ну ни ничего удивительного!
Оттеснили наконец лишних, снова поскандалили, а мне удалось пробиться вместе с Мишкой в первые ряды. Собственно — брату, как офицеру из свиты Снимана, а я уже при нём, репьём зацепился. Парочка здоровяков встала по бокам, оберегая нас от толкотни, и всеми повадками напоминая Товию с Самуилом.
Понимаю через слово, и так-то не великий знаток, да вдобавок генералы выражаются то витиевато, обильно удобряя речь библейскими цитатами, то напротив — срываются в низкий африканерский жаргон, чуть ли не пастушеские термины.
Ясно только, што Жубер стоит за продолжение осады, а Бота, Девет и примкнувший к ним Сниман давят главнокомандующего, ратуя за штурм.
В одну минуту разгорелась склока… Степенные буры вели себя совершенно как мужики на сельском сходе, едва ли не хватая друг друга за грудки.
— Попрекают, — зашептал мне Мишка, дыша горячечно в ухо, — подсчитали потери от болезней и постоянных стычек только под Ледисмитом, и говорят, што дешевле обошёлся бы даже самый кровавый штурм.
— Это так?
Не успел он мне ответить, как Сниман, распушив бороду, ринулся в новое наступление, напирая на важность Ледисмита, как транспортного узла.
— Вместо того, чтобы оккупировать Наталь в начале войны, ты сосредоточил все силы на Ледисмите, что позволило англичанам перебросить в страну войска! Хватит бездействовать!
Мозг додумывает непонятные слова, речь понятна «вообще», по контексту.
— Аппелирует к низовой демократии, — снова начал переводить Мишка, заметив моё непонимание речи — мало того, что на голландском, так ещё и сплошь библейские цитаты! Отдельные слова понимаю, но во што-то осмысленное в моей голове они никак не укладываются. А они так разговаривают!
— Што?! — заметил Мишка моё удивление, — Я с детства в таком варюся! На любые темы могу разговаривать, используя только нековерканные цитаты.
— Ага… ну, што там…
— Погодь… Матфей… А! Говорит, што нельзя уподобляться Антихристу, и што люди должны иметь свободу воли… Всё через демократию делать, так навроде, — не слишком уверенно сказал он, — нельзя давить на людей, заставляя их идти в атаку…
Речь Жубера прервал Бота, и Мишка, позабыв о переводе, принялся вслушиваться, одобрительно выкрикивая слова поддержки вслед за бурами. Поднялся гвалт, буры принялись давить голосом, и… стало вдруг ясно, што Жубер стар, и как многие старики, он хочет покоя.
По-видимому, ясно это стало не только мне, так што спор быстро закончился полной победой сторонников наступления, назначенного на утро.
Глава 25
Вчера ещё вокруг осаждённого города раскинуты были по огромной окружности маленькие лагеря, где каждому коммандо был отведён свой сектор для наблюдения. Лежали за нагретыми солнцем камнями буры, покуривая неторопливо трубочку, да поглядывая сонно — не показалась ли где голова англичанина?
Велась редкая ружейная перестрелка, да изредка напоминали о себе артиллеристы, ведя то ли беспокоящий огонь, то ли желая попасть по какой-то особо докучливой цели. В случае вылазки британцев звучал пастушеский рожок, и к линии передовой тяжеловесной трусцой спешили буры, прерывая свои повседневные дела.
Отбив вылазку, возвращались допивать кофе, да вести разговоры, близкие всякому скотоводу и земледельцу. Вновь раскуривались трубки, ставились на угли кофейники, чинилась упряжь, и сновали деловито меж палаток женщины, собирая бельё в починку и стирку.
Поодаль, в неглубоком тылу, считающемся линией обложения, картина выглядела вовсе уж пасторально. Стада быков и овец, спутанные лошади, да женщины и детвора, приглядывающие за скотом. Не редкостью были и степенные бородачи, то ли отправившиеся в увольнение от тревог переднего края, то ли попросту пренебрегающие своим воинским долгом.
По воскресеньям, по негласной договорённости сторон, боевых действий не велось вовсе, и враждующие стороны вполне мирно встречались на нейтральной территории, ведя беседы и обмениваясь сувенирами. Впрочем, со временем ситуация построжела, потому как британцы весьма вольно трактовали перемирие в свою пользу — то выпуская диверсионные группы, а то и попросту нападая на буров, подойдя к ним во время дружеской беседы.
Приняв решение наступать, буры разом переменились, теперь их лагерь напоминает разворошенный муравейник. Снуют при свете костров и факелов люди, навьюченные мулы и лошади, люди… Скрыть подготовку к наступлению они не пытаются, да по совести, и не смогли бы.
Русские волонтёры, среди которых немало офицеров и ещё больше интеллигенции, ведут порой умозрительные разговоры, как бы они поступили в той или иной ситуации, да имея под рукой всю полноту власти, а желательно и вымуштрованных русских солдатиков.
Отчасти, именно от этого бесполезного умствования и идёт нежелание буров видеть волонтёров, даже и самых образованных, начальствующими над собой. Надо принимать ситуацию, учитывая все её достоинства и недостатки, а не заниматься интеллектуальным онанизмом. Вероятно, и даже наверняка, умствования эти будут полезны для переосмысливания концепций современной войны, но здесь и сейчас они только раздражают африканеров, не видящих пользы ни от досужих разглагольствований, ни от самих разглагольствующих.
Редкие европейские офицеры, обретающиеся в сугубо бурских коммандо не на должности рядовых, сплошь почти артиллеристы, сапёры и фортификаторы, то бишь технари, способные принести пользу здесь и сейчас.
Объезжаю позиции, делая то зарисовки наперегонки с Санькой, то снимаю с одолженной вьючной лошадки громоздкий фотоаппарат. А сценки, нужно сказать, встречаются порой прелюбопытные.
Женщины, помогающие грузить в повозку ящики с патронами, или детишки, снующие под ногами взрослых и исполняющие роль вестовых, приносят осознание — это война поистине народная. Хотя назвать её праведной… нет, едва ли. Народная, но не праведная, н-да…
Но как бы ни были интересны сценки, я прервал съёмки, вновь навьючил лошадку, и отправился к Мишке. То бишь к генералу Сниману, намеревающемуся атаковать город вместе с «оранжевыми[52]» бурами Де Вета.
Объезжая по широкой дуге Ледисмит, мы добрых два десятка раз наткнулись на патрули буров, выглядывающих нас из темноты. К счастью, мы с Санькой уже мал-мала примелькались в лагере, да и знание африкаанс, пусть даже и поверхностное, значит немало.
А ведь бывало, бывало… не раз и не два иностранные волонтёры попадали под «дружественный огонь» в виду полнейшего незнания языка. Особенно при ночном патрулировании. Оклик… и при ответе на неправильном языке… выстрел.
— Назовись!
— Пресса! Россия! — подъехавший бур, совсем ещё молоденький парнишка, оглядел нас и похмыкал.
— К Сниману и Де Вету, — пояснил я, несколько нервируемый многозначительным хмыканьем.
— Петер! — не отворачивая от нас головы, крикнул бур.
На зов из темноты подъехал совсем мальчишка, лет двенадцати от силы, но уверенно держащий карабин на сгибе локтя. И вот ей-ей! Этот, случись вдруг замятица, не промахнётся, даже падая с седла!
— Скачи к отцу, да скажи — проводим русских до Снимана! Патрулей вокруг Ледисмита и без нас предостаточно, а вот за прессу опасаюсь — наткнуться на кого-нибудь излишне ретивого…
Он смолк многозначительно, и мальчишка умчался, гордый поручением. Сам же юный бур, оставшись в одиночестве, тут же скинул с себя маску степенного командира, и оказался изрядно любопытным и очень болтливым. Скорее даже не болтливым, а будто соскучившимся по общению.
Интересовало его решительно всё — кто такие русские и зачем нам царь? Есть ли у меня невеста и насколько сложно научиться живописи?
Санька, воодушевившись возможность поговорить на любимую тему, принялся рассказывать, возмещая недостаток слов размахиванием руками, мычаньем и выразительными взглядами в мою сторону.
— … холст, но не простой, а… — брат забыл слова и начал пучить глаза и махать руками, подбирая слова.
— Подготовленный? — переспрашиваю у него на русском.
— Агась! — перевожу, затем вместе объясняем буру, как грунтовать холст желатином или рыбьим клеем, как…
Корнелиус впечатлялся, ахал, и наконец признался застенчиво, што тоже — рисует.
— Угольками, — вздыхал он, — потом…
Выразительное движение, будто стирает нарисованное, и снова вздох… Батюшка у Корнелиуса из самых твердолобых кальвинистов, и крепенько держит сына. Один из местных проповедников, с паствой в полсотни человек таких же упёртых до полной… полной…
«— Упоротости».
… точно!
Расстались если не друзьями, то хорошими приятелями. Напоследок, уже на виду лагеря Снимана, Чижик долго втолковывал буру, што живопись, она вообще ни разочка против религии.
— Портреты… ну ладно, ежели по вере нельзя, ладно! А неужели отказался бы увидеть, как ферма прадеда выглядела, до Великого Трека? Во-от… не рассказы через поколения, а была б картина… а?!
Обменялись адресами, куда писать письма, и я с трудом оттащил брата, почуявшего неофита.
— … доска ещё! Грифельная! — выкрикивал Чиж, развернувшись в седле чуть не до излома позвонка.
— Хуже нет, чем ждать и догонять, — пробормотал Мишка усмешливо, сделав перед лицом подчинённых вид бывалого ветерана. Зевнув напоказ, он потянулся и подмигнул Товии, отпустив солёную шуточку. Гыгыкнув, тот поделился с братом, и по траншее, будто по бикфордовому шнуру, прошелестел смех, сбрасывая волнение.
— Ждём, — зевнул Мишка, который и сам — струна, перетянутая так, што ещё чуть, и не зазвенит от касания, а лопнет! Сбрасывая напряжение, он начал рассказывать одесские байки, адаптированные под понимание африканеров.
Выходило так себе, но бойцы рады любой возможности отвлечься, да и… неизбалованны они юмором, а тут — целая Одесса!
Начало рассветать, и бойцы нетерпеливо зашевелились, приподымаясь из траншей и выглядывая противника. Мишка демонстративно уселся, скрестив под себя ноги, и продолжил травить байки. Потихонечку нетерпёжка улеглась, но некоторые буры, дабы не соблазняться, даже отставили в сторонку винтовки.
С позиций Жубера гулко забахали орудия, да не отдельные выстрелы, а полноценный шквал огня, на чём давно настаивали европейские инструктора, ругаясь на буров за «капельный» обстрел Ледисмита. Вторя пушкам, закашляли сухо винтовки, выкашивая немногих британцев, высунувших головы из укреплений.
Мишка как наяву увидел суетящихся подле орудий людей, сощуренный глаза лучших бурских стрелков, выцеливающих британцев… Минута шла за минутой, люди Снимана и Де Вета ждали, изнывая от нетерпения, и наконец…
— Р-раа! — неудержимым валом буры ринулись на позиции англичан, выбив их и захватив орудие. Оказавшись на вершине горы, с которой открывался прекрасный вид на город, африканеры спешно принялись разворачивать орудие и перекидывать камни и мешки с землёй на другую сторону, возводя стену от обстрела британцев.
— Вот теперь… — Мишка сжал зубы едва ли не до хруста, — бегом!
Подхватив ракетные[53] станки и ящики, они бегом бросились к вершине горы. Остановившись недалеко от гребня, начали собирать установки, пока буры отражали первый натиск британцев.
Сердце ассистент-фельдкорнета выпрыгивало из груди, и хотелось бежать… стрелять… ну или хотя бы помочь раненым!
— Стоять, — рычал Пономарёнок не столько подчинённым, сколько самому себе, — ждём!
— Ждём! — оскалил он зубы на коммандера, распалённого атакой и потерями подчинённых, которых он с детства знал — всех до единого! Так оскалил, что степенный бур, с детства ходивший на льва, отшатнулся…
… и как уверил себя потом — не от страха.
Пожалуй, коммандер и не лукавил, а просто увидел глаза ассистент-фельдкорнета — с полопавшимися от дикого напряжения капиллярами, с яростным ожиданием боя и мучительного сочувствия к бурам, падающим в эти секунда под пулями врага.
Британцы залегли, начав накапливаться в лощинах и естественных укрытиях. Бультерьерами вцепившись зубами в красноватую африканскую землю, они подтягивались к вершине, и вот уже…
— Бегом! — подхватив станины, заранее снаряженные ракетами, бойцы в считанные секунды взлетели на вершину горы. Пригибаясь, Мишка самолично направил станки и поджёг огнепроводные шнуры.
— Назад! — широким взмахом руки он будто вымел с позиции и своих подчинённых, и чужих. Нужно сказать, опаска его была не напрасна: трофейные ракеты, перезаряженные самодельной огневой смесью, повели себя… Да собственно, как и ожидалось!
Ракеты с первого станка влетели в тыл к англичанам, без особого вреда разлетевшись огненными клочьями, и скорее подстегнув их к наступлению.
Со второго взорвались в общем-то как и положено… просто не все. Некоторые не взорвались, а некоторые — бумкнули глухо при ударе об землю, да растеклись лужицами пламени.
А вот с третьего станка сошли не ракеты, а огненный шлейф единым всплеском. Поднявшиеся в атаку британцы были сожжены этим адским пламенем, и пусть было их не так много, но… воистину, страшная смерть. Оставшиеся в живых дрогнули, а новый ракетный залп положил конец их сомнениям.
Бегом! Гигантскими прыжками неслись они с горы в дикой панике. А буры стреляли, стреляли, стреляли… и уходил прочь страх, уходила неуверенность…
«— Вот теперь, — колоколом билось в головах буров, — выстоим!»
Отряд Пономарёнка уничтожил ракетами едва ли полсотни англичан, но психологический эффект этого обстрела сложно переоценить. Британцы так и не нашли в себе сил снова подняться для атаки, а когда командиры снова подняли их, было поздно. Буры уверенно угнездились на вершине горы, вгрызлись в каменистую землю, подтянули подкрепления, выстроили брустверы и залегли, отстреливая смельчаков с удобнейших позиций.
Под прикрытием «Орлиного гнезда» добровольцы Девильерса, втянули на гряду тяжёлые орудия, а потом две тысячи стрелков заняли господствующую высоту. Сниман и Де Вет уверенно развили наступление, захватив передовые позиции врага. Британцы дрались как львы, но с другой стороны на Ледисмит навалились силы Жубера и Боты, продавливая оборону.
Наступлению Де Вета и Снимана мешали не только засевшие в Ледисмите британцы, но и части, оседлавшие гряду. Весь день шли тяжёлые бои, и час за часом, метр за метром, буры одолевали, сбрасывая врага с высот. Фельдкорнетство Пономарёнка дважды выбивало засевших в укрытии англичан, подтаскивая ракетные станки едва ли не в упор, и ещё дважды враг сдавался, едва только заслышав о ракетах.
В три часа пополудни буры окончательно взяли высоты, и неудержимо потекли на Ледисмит.
Развить наступление помешал ливень, и если поначалу стороны не обращали внимания на буйство стихий, то позже многим пришлось думать не о наступлении или обороне, а о спасении от разгневанной Природы. Водные потоки, собираясь на склонах, в низинах становились страшной силой, сбивающей с ног лошадей и уносящей прочь здоровых мужчин.
Потоком воды сбило Пономарёнка, закрутило в мутных перекатах. Сбросив винтовку, он боролся за жизнь и…
… оказался в расположении британцев. Хлопнув себя по боку и не нащупав сорванную кобуру, он медленно поднял руки.
В обличии шотландского стрелка напротив стояла сама Смерть… Несколько томительных секунд, и Смерть повелительно шевельнула стволом.
Несколько сот метров под ненавидящими и безразличными взглядами британцев показались Голгофой, но…
… оказалось, всего лишь плен…
К утру британцы капитулировали и город пал. Буры праздновали победу, и решительно никто не пытался организовать преследование разрозненных вражеских частей, прорывающихся к своим. Немногочисленных пленных они увели с собой, как живое свидетельство собственной доблести.
Глава 26
Выйдя от Жубера, я выдохнул и остался стоять на затенённой веранде, держа в руке широкополую шляпу и кусая напряжённо губы, вслушиваясь зачем-то в стрёкот цикад. Надежда на помощь генерала рушилась карточным домиком…
… он умирал.
Восковое лицо главнокомандующего, полупрозрачные пергаментные веки, а главное — нездешний вид. Он уже ТАМ.
Старинная Библия на одеяле, старческие руки поверх… ещё недавно сильные руки пусть и немолодого, но полного жизни мужчины, способного свернуть шею бычку, а теперь… так внезапно… Перебирают беспокойно по обложке старческие длани, ища утешение в семейной реликвии.
Во время штурма Ледисмита его сбросила лошадь, испугавшаяся близкого разрыва снаряда. Тогда, в горячке боя, он снова сел в седло, и наверно — зря. Ему бы отлежаться… Несколько дней генерал чувствовал себя неважно, но никому не жаловался, а потом разом — слёг, да так и не встал.
Все мои просьбы посодействовать судьбе Мишки — побоку. Жубер в принципе держит своё слово, но это прежний Жубер, а этот касается только беспокойно Библии, да дышит тяжело, постоянно проваливаясь в забытье.
Его окружению не до обещаний патрона, тем паче данных чужеземцу и не слышанных лично. Молятся, делят власть, наследство… и всё, што делается в таких вот случаях, когда умирает непростой человек.
… и ждут. Ожиданием этим пропитано всё, и будто сам Жубер раздосадован, што всё ещё ЗДЕСЬ. Окружение и вовсе не скрывает этого, и кажется даже, досада нетерпеливая прорывается!
У одних — штоб отмучился наконец, у других… по-разному, но шкурный интерес особо и не скрывается. Не деньги даже, а осколки его влияния, морального авторитета. Умирает одно из первых лиц государства, одержавшее недавно величайшую Победу в истории буров.
Причастность к этому, пусть даже и самым краешком — строчки в учебниках истории когда-нибудь потом, а ныне — незримый, но явственный отсвет власти, ложащийся на плечи горностаевой мантией.
Разговаривают вполголоса в затхлой тягостной духоте, пропитанной потом, лекарствами и гнилостными испарениями, лица постно-деловитые, пытаются передавить других уверенностью, набожным поведением, родством или старинным знакомством с… умершим. Пусть даже пока — живым.
— Совсем плохо? — отлипнув от перил, убито поинтересовался Чиж, поняв всё по моему потерянному виду.
— Угум.
— Может, другой генерал похлопочет? — отчаянная надежда в голосе, будто я сейчас просияю навстречу хорошей идее, хлопну его по плечу, и беды как не бывало!
— Какой? Бота главнокомандующим в войсках Трансвааля выбран, части принимает, не пробьёшься. Снимана британцы крепко не любят…
— Да за обстрел! — пояснил я, увидев в глазах брата вопрос, — Будто бы нарошно жилые кварталы обстреливал! Де Вет обещался похлопотать, да и другие, но где Жубер, а где…
— Крюгер? — предложил Санька быстро, подавшись вперёд, — Я знаю, што он тебя крепко не любит, но может…
— Уехал. В Европу вроде как, восхотел союзников найти.
— Етить… — он снова отшатнулся к перилам, погрузившись в угрюмость и надвинув шляпу на глаза.
— Угум.
— Господа, — прервал нашу расстроенность близкий Жуберу член Первого Раада, вышедший из внутренних покоев и на ходу отгрызающий кончик сигары, утирая одновременно выступивший на лбу пот застиранным платком, — так случилось, что я в курсе вашей проблемы, и боюсь, всё действительно серьёзно.
Похлопав себя по карманам, он достал массивную, явно трофейную золотую зажигалку и прикурил, поглядывая рассеянно на работающих в саду кафров и пуская дым с видом человека, утомлённого почти вусмерть.
— Вкратце, — выдохнул он с клубом дыма, — британцы не отрицают его пленение, но и не подтверждают его. Тем самым они выводят его как бы за пределы правового поля.
Санька крякнул и побагровел, но смолчал, сдвинув только решительно на затылок шляпу.
— Вижу, вы правильно поняли, — мрачно кивнул бур, окутавшись клубами едкого дыма, — и несмотря на запрос членов Рааада, ответ…
— Впрочем, — он покопался в кармане и вытащил письмо, — читайте!
Перечитал, перевёл Саньке, и уставился на депутата с немым вопросом в глазах. Потому как ну хренинушки не понять! Словесные завитки в высоком аглицком штиле я общем-то разбираю, но это казуистика сугубо юридическая, не для людей.
Пыхая сигарой, немолодой парламентарий перевёл, разбирая каждое предложение досконально с юридического на человеческий.
— То бишь, — прыгая с русского на голландский, начал Санька, — они не уверены, является ли он военнослужащим, исполнявшим свой долг, или… военным преступником?! С какого?!
— Ракеты, — пых сигарой, и предупреждая возмущение, — они вправе, другие — нет.
— Ага…
— Если вы хотите знать моё мнение, — клуб дыма окутал нас туманом, — британцы сами ещё не решили, в каком статусе находится Михаил. То ли храбрый вражеский офицер, пленением которого можно гордиться, то ли военный преступник.
— И от чего это зависит?
Пожатие плеч и снова клуб дыма.
— Угум… Благодарю.
Распрощавшись, мы с Санькой покинули дом, ставший последним пристанищем трансваальского главнокомандующего. По въевшейся уже привычке передвигаемся по городу верхами, и непременно с оружием.
— … я так щитаю, шта ежели… — мимо прошла группка русских горняков, коих в бурских государствах предостаточно. Большая их часть озабочена сугубо заработками, а если и имеется желание натурализоваться, то оно быстро пропадает при более близком знакомстве с африканерами. Специфический народ — што горняки всех национальностей, што африканеры.
В потенциале — серьёзный резерв, но буры сами подложили себе свинью, притом колоссальных размеров. Папаша Крюгер изначально трактовал войну, как войну богоизбранного народа, то бишь буров — с Антихристом, то бишь бриттами.
Добровольцев вооружают за счёт государства, и вроде бы всё нормально, но отношение «через губу» ощущаю порой даже я. С чем сталкиваются обычные работяги, а тем паче желающие натурализоваться, и не относящиеся ни к «богоизбранному народу» буров, ни хотя бы к «высшей расе» голландцев/немцев, исповедующих единственно верное Учение — кальвинизм… только догадываться могу.
— К Гурко! — русская речь натолкнула меня на идею, — Всё-таки подданство Российской Империи! Должен же…
Санька кивнул горячечно, поддавая пятками в потные конские бока. С трудом удержавшись от галопа, неуместного на улицах Претории, перешли на рыси, и пять минут спустя привязывали поводья к коновязи у дома, занимаемого российским военным атташе.
Подполковник принял нас, будучи в некотором подпитии, а точнее — в преизрядном. Если уж многоопытный военный, закалённый алкогольными баталиями в офицерском собрании, выглядит несколько нетрезво — значит, он изрядно пьян.
Я заколебался было… но время, чортово время! Выслушав меня, Василий Иосифович покивал сочувственно. Потом встал у настежь распахнутого в сад окна, заложив руки за спину, повздыхал…
— Понимаете ли, Егор… э-э, Кузьмич, ситуация далеко не так проста, как кажется вам. Бюрократические тонкости в контексте международного права имеют первостепенное значение.
— А ваш, э-э… брат, — атташе костяшками указательного пальца то ли потёр губы, то ли стёр с них ухмылку, — выехал из Российской Империи, не имея необходимых документов. Неприятно об этом говорить, но в данной ситуации всё, что мы можем, так это только подать формальный запрос британцам. Разумеется, это будет сделано, но…
Гурко развёл руками, делая скорбное лицо, но в глазах его мелькнул… мелькнуло… нет, показалось!
Закрыв на секунду глаза, давлю порыв заорать, или…
— Буду премного благодарен, — встав, сообщаю самым светским образом.
Василий Иосифович проводил меня до выхода из дома, пожав на прощание руку, и…
… нет, не показалось. Рукопожатие из тех, когда человеком брезгуют, но не переходят рамки приличий.
— Не показалось, — уже в седле сообщаю негромко Саньке, терпеливо ждущему ответа, и пересказываю разговор на ходу.
— Формально, — замолкаю, прикусив губу, — всё так и есть, нисколько в том не сомневаюсь.
Вспоминаю наш разговор до мельчайших деталей — интонации, жесты, паузы между словами.
— Не будет помогать, Сань, — говорю уже убеждённо, — отпишется для проформы, может быть посочувствует несколько раз при случае на публику, и на этом всё. Он… рад.
— С-сука! — вырвалось у брата, вечно безмятежные глаза его потемнели, лицо по выразительности уступило бы кирпичу.
— … суки, — натруженное запястье ныло под тяжестью трофейного палаша, выкупленного у знакомого волонтёра, но снова и снова рублю ветки колючего кустарника, представляя ненавистные лица… морды… хари, расплывающиеся в чертячьи. Из правой перебрасываю в левую, и снова, снова… В десятке метров от меня Санька, упражняется на кустарнике с пехотной саблей, на растрескавшихся губах пузырится слюна, да наверное, я и сам не лучше.
Вымотавшись вусмерть рубкой, стрельбой и ненавистным ором, поехали к Марксам.
— Што будем делать? — мрачно поинтересовался брат, сделав глоток и вешая фляжку назад.
— Вытаскивать! Как… хм, не знаю пока… был бы здесь дядя Гиляй! Или Коста… хм… Кажется, я знаю, с кем можно посоветоваться.
Щит чёрного дерева с Ветхим Заветом и ременной пращой поверх него, вокруг герба полукругом — «Африканская транспортная компания». Герб и буквицы из благородного серебра, всё очень строго и изысканно…
… и только привинченная ниже табличка, где золотом на красном дереве сияла надпись «Бляйшман и Ко», поясняющая кто здесь хозяин, несколько портит впечатление.
Санька самолично делавший эскиз щита и буковиц, только вздохнул, но промолчал. Дядя Фима… сперва да, а потом таки да, но ещё чуть-чуть сверху!
Ко, то бишь компаньон, это я. Два процента получил за связи — как сказал дядя Фима «- Меняю деньги на время за твои связи», а пять процентов сверху — за несколько интересных идей.
Прибыли пока нет, одни сплошные перспективы и расширение. То есть она как и бы и да, но только на бумаге, в грузах и в активах. Впрочем, не жалуюсь, и по чести — отношусь достаточно равнодушно.
— Я компаньон, — поясняю на ходу, и пройдошистого вида клерк, по виду из сефардов, узнав, закивал почтительно, всячески показывая своё передо мной благоволение. Забежав вперёд, он приоткрыл передо мной дверь в кабинет шефа.
— Прошу…
— Че… а, Шломо, Рувим! — дядя Фима расплылся в улыбке, махая рукой к себе, — заходьте!
— Восточный человек, — тут же пожаловался он мне на клерка, — без трёх поклонов даже кофе не подаст!
Впрочем, тщеславному дядя Фиме такой подходец, да ещё и после Османской империи, вполне себе и да!
— Миша, да? — тут же построжел лицом Бляйшман, — Слышал, как же!
— Где… — он зарылся в стол, вытащив карту Наталя, — Вот!
Толстый его палец (хотя и похудел мой компаньон чуть не вдвое) уверенно тыкнул в место на карте.
— Здеся видели! Задушишь! Задушите… — уже сдавленно прохрипел он после сдвоенных объятий, явственно синея. Саня, отпустив его, заизвинялся отряхиванием — выучил недавно один интересный захват с удушением, ну и вот… на рефлексах.
— Транспортная компания, — важно вещал Бляйшман, довольный нашим восторгом к нему, — это в первую очередь глаза, уши и связи! И если я уважаем через Одессу и Стамбул, а через Шломо немножечко и в Палестине, то местные наши, даже если они и не совсем местные и совсем даже не наши, делают мине уважение через понравится!
— Я таки думал, шо они делают да в пользу британцев? — засомневался Санька.
Дядя Фима качнул головой и поглядел на мине так, шо сразу стало стыдно за невежество брата.
— Саня! Такие люди делают всё через пользу лично для сибе! — начала я пояснять под одобрительное Бляйшмановское покачиванье головой, — И если информация течёт таки в пользу британцев, то сперва она протекает в пользу тех, через кого протекает!
— А… — в глазах брата зажглось понимание, — польза через сибе, а остальное через здрасте и улыбочки?
— Таки да! — важно кивнул компаньон.
— Только вот, — он виновато зачесался, — информация, оно да, а больше…
Разведя руки в стороны с самым виноватым видом, он вздохнул выброшенным на берег китом, обдав нас запахами обеда.
— Это понятно, — кивнул я, — если информация текёт через тибе, то текёт она, скорее всего, во все стороны!
— Пока так, — вздохнул дядя Фима ещё раз, — потом буду через поглядеть и завинчиванье гаек, но раз уж расту на все четыре и восемь сторон, то пока рано!
— С этим… — я замолк, мысленно перебирая своих знакомцев, способных на интересный поступок, — проблем не будет.
— Если понадобятся деньги… — начал компаньон.
— То они уже есть, — я позвякал карманом.
— Гонорары от статей?
— И они тоже, — усмехаюсь едва, — но в основном карточный выигрыш.
У Марксов нас уже ждали — юный живописец, и што вовсе уже неожиданно — его отец, Арнольд Борст. Фермер из небогатых… хотя кто знает, што скрывается в недрах его обширнейших земель… держался он очень важно, всем своим видом давая понять, какую честь оказал он Марксам, посетив их с визитом. Хозяева дома держались вежливо, и… очень похоже, што влияние Борста несколько больше, чем думали.
Почтенный проповедник заинтересовался живописью, задавая Саньке вопросы, которые считал каверзными. Такие, значица, штоб испорченность братовскую перед сыном показать. А этот, простодырый, ажно засветился от возможности рассказать о любимом деле.
Арнольд хмыкал, кусал бороду и потихонечку отходил.
— Ладно, — с видом, будто делая великое одолжение, сказал он, — бери Корнелиуса в ученики, даю разрешение.
Санька икнул и уставился на бура, но тот, важно оглаживая бороду, подтвердил решение, и начались странные гляделки…
— Понимаете ли, — начал я дипломатничать, — мы сейчас несколько заняты…
— Нужно вытащить брата из английского плена, — брякнул неожиданно Санька, продолжая глядеть в глаза проповеднику, и я растёкся на стуле от такой… простоты. Ну нельзя же так, первому…
— Достойное деяние, — кивнул бур с видом самым естественным, — мы поможем.
… встречному…
Глава 27
Стоит полное безветрие, и от влажной, удушливой африканской жары не спасают даже настежь открытые окна, не прикрытые даже сеткой от москитов, да вяло вращающиеся лопасти вентилятора под потолком. Всё живое попряталось, и даже насекомые в саду притихли, лишь изредка вяло цвиркая, обозначая тем самым границы. В открытое окно видно синее небо, прозрачное до самого окаёма, да еле различимые крестовые фигурки птиц в этой опрокинутой глубине.
По широкой улице проплёлся мул, влекомый под уздцы вялым мулатом, заступающим нога за ногу, и снова — полное безлюдье, полуденная тишь. Жара такая, што плавится будто даже и не тело, а сама душа! До дурноты, до тошнотиков жарко.
Сниман, зажав в кулаке полуседую бороду, расхаживает по кабинету, напряжённо думая и время от времени промокая загорелый лоб платком. Думать ему явственно тяжело, едва ли не физически — так, што я обливаюсь потом не только от надетого пиджака, но и от самого глядения.
Арнольд Борст невозмутим, вид самый фаталистический, глаза полуприкрыты, на коленях щитом — старинная Библия с парчовой закладкой.
Корнелиус изрядно нервничает, и отчаянно потеет, полным надежды взглядом провожая каждый шаг генерала. Ему отчаянно хочется во взрослую жизнь, коей он искренне считает нашу аванюру.
Санька вторит за ним, я… Хочется надеяться, будто выгляжу более достойно, но…
— Так, — остановившись у стола с разложенной на нём картой, Сниман начал пристально вглядываться, дёргая себя за бороду и морща лоб. Мы затаили дыханье, а он, похмыкав, взяв карандаш и бумагу, уселся и начал делать записи и расчёты, бурча себе под нос.
— А ведь может и получиться, — подытожил он наконец, и Санька просиял так, што в комнате будто светом пыхнуло.
— Корнелиус твоим Голосом будет? — уточник генерал, и Борст кивнул невозмутимо.
— Так, так… — поднявшись легко, Сниман снова ухватил бороду в кулак, — Кто поведёт?
— Айзек Ройаккер, — отозвался проповедник, на миг приоткрыв глаза.
— Знаю, достойный человек, — кивнул одобрительно генерал, усаживаясь назад с нескрываемым облегчением. Началось обсуждение деталей — сколько голов скота должно перегонять, што захватить для торговли, к кому можно обратиться за помощью, а кого объезжать стороной. Слушаем молча, лишь изредка уточняем непонятные моменты.
А непонятного полно, начиная от количественного и качественного состава скота. Потея и споря негромко, буры долго решают этот важнейший вопрос. Слишком мало скота или слишком убогий — если не повод для подозрений, то как минимум для разговоров. Слишком хорошо — могут реквизировать, с отдачей денег «когда-нибудь после войны» и кучей сопутствующих проблем.
Притом единого шаблона на эту ситуацию нет, и не предвидится: в уравнение вместо иксов и игреков подставляются командиры британских гарнизонов и ополчения, личные связи квартирмейстера и даже религиозные предпочтения людей, проживающих в конкретной местности. Этакая ядрёная смесь математики, социологии и политики.
В британском Натале хватает потомков голландских колонистов, решивших в своё время остаться под властью Англии. С началом англо-бурской войны они разделились. Одни встали на сторону родичей, аннексировавших большую часть Наталя, другие — встали на сторону власти, которую считали законной.
Хватает и не определившихся, избегающих военных действий по своим причинам, будь то нежелание воевать с единоверцами или против законного монарха, или… У каждого свои тараканы.
Айзек, как я понял, из сочувствующих, но воевать против британцев открыто опасается, потому как его ферма осталась на контролируемой британцами территории. Как и родные. А британские концлагеря пользуются недоброй славой… Слухи пока смутные, но уже самые нехорошие — начиная от условий содержания, заканчивая причинами задержания.
Вариант «погрузить имущество в повозки и перекочевать» также не работает, и дело тут даже не в оставляемой земле. Всё проще и банальней — британцы «ужались», и теперь вокруг фермы, находящейся по факту в приграничье, полно военных частей. Буры, в принципе могли бы пересечь эти земли, но бросить скот… это выше их сил!
— Компенсирую, — ещё раз подтвердил я наш уговор с Борстом, и Сниман облегчённо кивнул. Потому как патриотизм, это канешно здорово… но патриотизм плюс личная выгода, оно как-то надёжней.
Послушав их рассуждения, я подобрался, и в голове начала вертеться смутная идея.
— Стоп! — прервал я спор, и Синиман только шеей дёрнул на такое хамство, да начал багроветь.
— Прошу прощения! В мою пустую голову постучалась мысль, и я пока она не ушла прочь, хочу поделиться.
Захмыкали, заулыбались… шуточка вкупе с самоуничижением на африканерах работает хорошо, главное не перебарщивать — ни с шуточками, ни с самоуничижением.
— Я тут подумал… — буры захмыкали, как сговорившись… — а почему бы нам не совместить два в одном? Вас назначили командующим гарнизоном Ледисмита, но если помимо возведения траншей, апрошей и редутов, вы будете вести активную оборону?
Сниман само внимание, это даже не шевельнувшись, не поменяв выражение лица! Силён… в такие минуты становится понятно, почему он стал генералом.
— Глядите, — я подтянул к себе карту Наталя, на которой обозначены свои и вражеские гарнизоны — от Мишки перенято, точно знаю. Местным карты особо и не нужны… по их мнению — ошибочному, разумеется.
Привычка скотоводов держать в голове маршруты перегона скота, оно канешно здорово облегчает войну на уровне до роты примерно, но уровнем выше тактика буров ощутимо пробуксовывает, о стратегии я даже и не вспоминаю — грустно, до полного отсутствия.
А всего-то — карты, планирование операций, документы… Сниман, насколько я знаю — первый и единственный пока бурский генерал, начавший перенимать это, пусть даже и на элементарнейшем уровне.
— Дурбан контролирует Британией, и тамошние гарнизоны очень уверенно чувствуют себя при поддержке флота, — продолжил я, — Взять город если и возможно, то с большой кровью, а вот разорить окрестности довольно-таки легко.
— Сахарные плантации, — протянул Сниман, подтягивая к себе карту с предвкушающим видом кота, узнавшего о сметане.
— Они самые! Основа благополучия города — пусть и не единственная, но очень важная. Оттягивать войска из гарнизона порта для их защиты вряд ли станут, а ведь плантаторы криком будут кричать, прося защиты!
— Смотря кто попросит, — серьёзно сказал проповедник после короткого раздумья, вколачивая каждое слово гвоздём, — но в принципе, я с тобой согласен. После серии поражений британцы вряд ли станут убирать войска из порта, он важнее плантаций.
— Но ведь и влияние плантаторов недооценивать нельзя? — продолжил давить я, — Гарнизонные части для их защиты не тронут, а всякие там колониальные и ополченческие — вполне могут подтянуть.
— Пожалуй, — согласился генерал, и впился глазами в карту, — Кавалерия Дзержинского вдоль побережья… хм… Парни там бравые, даром что не буры. Хм…
— Вы гений, генерал, — толсто польстил я, — Коммандо Дзержинского подметёт мелкие гарнизоны и разорит плантации, им даже не нужно ввязываться в бои. Я бы даже сказал — вплоть до запрещения.
— И, — обвожу пальцем границу Капской колонии и британской части Наталя, — как минимум часть обретающихся здесь отрядов рванёт наперерез нашей кавалерии. Также можно надеяться, что мелкие отряды британцев перестанут беспокоить вас, стянувшись к Дурбану. Соответственно, больше сил можно будет бросить на строительство укреплений.
— Так, так… — Сниман вцепился в бороду, остро глянув на меня, — А главное, в британском неводе появятся дыры, через которые вы и проскользнёте? Умно, умно…
— А если кавалерии покружиться вокруг Дурбана? Обозначить плантации как цель? — спросил он у проповедника. Пришёл черёд Арнольда мять бороду и хмыкать.
— Лошадей загонят, а поскачут на выручку плантаторам, — наконец сказал он уверенно, — за ополчение ручаться могу.
Они заспорили, и в ход пошла не тактика и стратегия, а родственные и экономические связи ополченцев Капской колонии с Наталем и плантаторами Дурбана. Тема, почти непонятная мне из-за обилия незнакомых имён и коротких фраз, обрывающихся на полуслове. Собеседник после этого хмыкал и соглашался, или сжимал свою бороду крепче и подыскивал контраргументы такого же рода.
Спорили, што интересно, совершенно на равных… буры! Генерал и проповедник… а им нормально.
Наконец, план начал прорастать в реальность, и моя первоначальная идея вытащить Мишку, стала неожиданно операцией едва ли не фронтового уровня.
И…
— Прошу принять нас в ряды армии Претории, — вытянулись мы с Санькой, подав заранее написанные прошения.
— Кхм… — для Снимана случившееся стало полной неожиданностью, но заминка даже и не секундная, — вольно, рядовые! Поступаете в распоряжение Айзека Ройаккера!
Проводив посетителей и отдав распоряжения адъютанту, Сниман облегчённо упал на стул, расстегнув, а затем и сняв пиджак, брошенный небрежно на письменный стол. Несколько бумаг спланировали на пол, но генерал не обратил на это никакого внимания.
Выдохнув, и будто разом сдувшись, он покопался в ящике письменного стола, и вытащил бренди, выдернув пробку зубами.
— Пф… — тяжёлый взгляд в сторону небольшого шкафчика… но вбитые с детства правила приличия победили. Встав, он взял стопку, налил алкоголь и раскурил сигару.
Полуприкрыв глаза, он поднял стопку вверх, будто салютуя ушедшим, и приложил к губам. Затяжка… хорошо-то как…
Где-то в глубине души сидела недостойная истинного кальвиниста мысль, будто Михаил приносит ему удачу. Мафекинг, Ледисмит… этот русский мальчишка ключ к Победе. Крохотная песчинка, попавшая в шестерёнки Британии.
Пленение его стало будто ударом под дых, а теперь… теперь повоюем! Прямо или косвенно, Михаил участвует в операции, и значит — всё будет хорошо!
— Ша! Моня, поезд ещё постоит, не суетись лишнего — на нас смотрят! — почтенная еврейская матрона строила семью, показывая окружающим, кто тут настоящая глава семьи, пусть даже эта глава и не носит бруки!
Супруг страдальчески хмурился, закатывая глаза, пока она не видит, но старательно вёл себя так, как хочет лучшая… и большая половина. Трёхчетвертинка.
— Фейга, — повернулась она от мужа к рано заневестившейся дочке, — я те покажу глазки, я тебе так покажу, шо видеть будешь через день, и разными глазами! Ты в кого смотришь? Они же смотрят в обратную, и шо они таки видят? Почтенных через нас, или не пойми кого через тибе?
— Если здесь ещё и стреляют, — упитанный чернявый господин с невнятно-южным обликом страдальчески обмахивался газеткой, едва спрыгнув с подножки, — то я таки не знаю! Ваня, ты мине на што сговорил?!
— Мавро, гля — мавры! Гы-гы-гы! — личности самого што ни на есть пролетарского вида выгружались с шуточками, тыкая во все стороны пальцами и показывая воспитание.
На перрон вокзала Претории выгружались баулы, чемоданы, тюки… и люди. Многоопытный таможенник, повидавшей всего и всех, и особенно после начала войны, скривился, чуя подступающую мигрень.
— А хде тута в добровольцы записывают?! — возникнув перед стойкой, начал допытываться нетрезвый пролетарий на великом и могучем у ничего не понимающего помощника.
— Коста! — возмущению нетрезвого (всего-то чуть-чуть, но на жаре) приезжего не было предела, — этот тоже по-русски ни бельмеса! Што за народ!
— Ша, Серафим! — к стойке шагнул рослый молодой мужчина с такими плечами, што буру, никогда не жаловавшемуся на здоровье, разом стало неприятно за такую ширину, — Я таки понимаю, шо ты приехал воевать и желаешь за это уважения, но давай будешь уважаться когда-нибудь потом!
— Калимера! — сверкнул белыми зубами обладатель плеч, и тут же поправился, перейдя на скверный немецкий, который почтенный бюргер знал весьма недурно. Там, где обладателю плеч не хватало нужных слов, на помощь приходили земляки, хором подсказывая по своему разумению.
Через несколько минут почтенный бюргер был в курсе, что все они из Одессы, и приехали делать здесь лучше. Это не один отряд, а просто земляки — эти с Модаванки, а мы совсем даже с Пересыпи и крещёные! И вообще, знает ли он золотое перо российской журналистики Егора Панкратова, или золотую голову Одессы и Стамбула Фиму Бляйшмана?
Услышав знакомое имя, таможенник с облегчением выдохнул, и даже мигрень будто чуть-чуть утихла.
— Моритц! — окликнул он темнокожего слугу, и набросал записку, — Бегом.
Проводив взглядом кафра, бюргер выдохнул спокойно, переведя взгляд на Косту.
— Ждать! — коротко велел он, повелительным жестом отодвигая разом всех в сторону, — Бляйшман!
Одесса с размаху вляпалась в африканерские реалии.
Глава 28
Папаша мой оказался долговязой жердиной с постной рожей и бесцветными, выгоревшими мало не до белизны жёсткими глазами, цепкими и умными. От его взгляда не может укрыться самомалейшая оплошность — притом, што остроте зрения мог позавидовать стервятник.
Вытянув жилистую шею, густо обросшую сероватым, проволочной жёсткости волосом, он правит быками и кажется недвижной статуей, но случись што, и сразу чуется взгляд василиска. Хоть даже и за спиной это што и случилось!
— Ети ево мать! — ругался беззлобно Санька, щурясь от ослепительно белого солнца, и поглядывая в сторону повозки с мистическим уважением. Он, похоже, всерьёз опасается, што папаша не только видит, но и слышит нас с расстояния более чем в полсотни метров, — Вот ей-ей, не знал бы, што он белее белого, так поклясться мог бы, што в его дедушках колдун какой африканский затесался, да не из самых слабых! Вот как, а?!
— Шаман, однако, — согласился я братом, смутно понимая, што папаша, как истинный степняк, сидючи на козлах, слился с вельдом в этаком…
«— Медитативном трансе»
… ага, трансе. Ну и опыт, не без того! Чуть иначе брякнуло где, замешкалась лошадь, переступив иньше ногами, фыркнул бык, как многоопытному скотоводу как картинка перед глазами. Похожее, но сильно послабже, могу и практикую в лесу и на Хитровке… н-да… Но выглядит крутёшенько, не поспоришь. Такая себе обыденная мистика, густо замешанная на опыте.
— Думаешь, действительно шаман? — брата ажно распёрло от любопытства и предвкушения интересного.
— Ну… — сняв шляпу, и обмахиваясь, почесал немытую, в бурских традициях, голову, — всё могёт быть! Он может и сам так не считать, объясняя это Божьей Благодатью, а на деле — ду-ухи!
Последние слова я провыл ему в лицо, вытаращив для антуражности глаза, пуча их самым старательным образом.
— Ух! — Санька от восторга завальсировал лошадью, заставив её провернуться кругом. С годик назад он был изрядно суеверней, а сейчас, повертевшись в своих художницких кругах, как так и надо! А то! После спиритизмов со столоверчениями лёгкий флер возможного шаманизма никак не испугает.
Период у нас сейчас такой, богоискательский и любопытственный. С бурами о том разговоров не ведём, но считаю, што есть што-то этакое в анимизме, да и тенгрианство[54] очень даже и да… интересненько. Вообще — интересно о таком читать, о различиях.
Когда путешествуешь вот этак по просторам Африки, далёкий от батюшек и добровольно-принудительных походов в церкву, мысли в голову приходят порой весьма вольнодумные. Да собственно, тут важнее не африканская действительность вокруг, а отсутствие батюшек, с законами о защите православия.
Бы-ыстро шаблон трескается! Сперва на Священное Писание иньше смотришь — без постоянного-то долбёжа, на ветви древа христианского, а потом и вовсе — сам думать начинаешь. Своей головой, не заёмной.
И это я даже не о себе с Санькой, а о здешних русских. Вроде бы все православные, разговаривать начинаешь, такой ой всплывает…
— Батюшку сюда хорошего, из старообрядцев, — озвучил я всхрапнувшей лошади всплывшую было мысль, и задумался было, а на хрена?
«— А просто!»
Хм… а почему бы и не да? Чем дольше я обдумывал эту мысль, тем более привлекательной она мне казалась. Такая себе диверсия против долгогривых — ответочка, значица… За всё хорошее. Мишке, опять же, приятно будет.
Да и здешним русским, из тех кто остаться решит, проще будет русскость сохранить, не расплёскиваясь по кальвинизму, но без этой… идеологической подоплёки. Жандармской. Русские будут, а царёныши — мимо! Хе-хе! Хрен им, а не Африка. Перетопчутся.
Короткий посвист для привлечения внимания, и Дирк, наш новоявленный старший брат, молодая копия папаши, только што не обросший бородой, подняв руку над головой, выразительно крутанул влево. В некоторых сомнениях — правильно ли поняли жест, поскакали туда, объезжая стадо, и оттеснили дурных бычков от зарослей, в которых могли таиться хищники.
Дрессируют нас жостко, без всякого снисхождения на временность акции, но обиды на то никакой, а напротив — полное пониманье и единенье! Потому как народ здесь глазастый, и малейшее несоответствие заявленным ролям, и…
Не в форме потому што, под личиной и такое всё… Не факт, што спасёт наш рапорт о зачислении в ряды, и пусть негромкая, но всё-таки… не слава, но известность. Попадётся озлобленный служака, и всё, станцуем с конопляной тётушкой!
Дурнинные мысли отогнал подъехавший Корнелиус, жизнерадостный, как школьник на выпускном. Всё-то ему приключение, всё-то р-романтика!
— Настоящими бурами становитесь, — похвалил он снисходительно, явственно пересиливая себя.
— Настоящими нам никогда не стать, — легкомысленно отмахнулся Санька.
— Настоящими нам никогда не стать, — повторил Корнелиус, чётко проговаривая слова как должно. Санька повторил, а вслед за ним, под требовательным взглядом бура, и я. Потом, снова и снова — типичные разговоры африканеров. Прогоняются темы, возможные каверзные вопросы, поправляется произношение.
Учёба наша не прерывается — мы говорим, говорим… и всё время в деле, часто… и пожалуй даже, чаще всего ненужном. Проверить коров, осмотреть копыта лошадям, наломать и нарубить сухостоя для костра. Раз за разом.
Корнелиуса сменяет неулыбчивый Дирк, немигающее глядящий на нас, и если што не по нём, звучит:
— Не так… и старший брат, текучим движением слезая с коня, показывает, как надо, — повторить!
К полудню, завернув небольшое стадо к холму, развернувшемуся в сторону заката впуклым боком, встали на молитву. Айзек Ройаккер, очень серьёзный и торжественный, читал нам Библию раскатистым голосом, слышимым каждой твари окрест.
Здесь, среди холмов с опирающимся на них синим куполом неба, расписанного фресками облаков, слова эти звучали, как и должно — от самого сердца искренне верующего человека.
— Господи! Ты нам прибежище из рода в род[55].
Прежде нежели народились горы и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты — Бог.
Ты возвращаешь человека в тление и говоришь «Возвратитесь, сыны человеческие!»
Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошёл, и как стража в ночи…
С одной стороны, как истовые кальвинисты, они считают, што Библию может понять любой здравомыслящий честный человек, отказывая священникам в неких мистических правах на это. С другой… есть у них отголоски Ветхозаветного, чуть ли даже не иудейского — когда есть те, кто равнее других, по крайней мере в вопросах веры.
Толковать и проповедовать имеет право любой взрослый бур, но проповедники потомственные, носители совершенно конкретных генов, ценятся несколько больше, што с кальвинизмом вроде как вразрез… но им нормально.
Корнелиус именно из такой ветви, потомственный. Пра-пра… внук уважаемого голландскими переселенцами пастора, и это уважение, с передаваемой через кровь Благодатью, неким странным образом лежит на всех потомках этого человека — сугубо по мужской линии.
На обед скудная трапеза, из сухарей и вяленого мяса, и снова в путь до самого вечера. Неторопливо, подстраиваясь под медленный шаг быков… медленно, как же медленно! Но…
Вопрос риторический, не требующий ответа, тем паче што Марья в сердцах взяла, да и выкинула опоганенную тряпку в печь, приоткрыв на миг заслонку. Влажная тряпка пыхнула едко, задымив и затрещав, но заслонка уже на месте, а женщина, своенравно поведя плечом, сердито загремела посудой, поджимая красивые полные губы.
Федул Иваныч не стал выговаривать супружнице за тряпку, потому как понимает, што надо иногда и так вот — в сердцах! А потому што, ну в самом деле… ходют и ходют! Озлишься тут, чай не святые.
Как Мишка уехал, так будто дежурство у полиции образовалось. То в участок дёргали — знает ли он… Не знал, да и если б знал, всё равно б не сказал. Предками проверено — с властью этой никонианской соприкасаться надобно как можно реже!
Сперва — почему уехал подмастерье, да не бил ли он ево, да… Соседей вон опрашивали об етом, а те хоть и сказали в его пользу, да всё равно — осадочек, ён остался! Ближние, те знают, а дальние? За кажного думку не передумаешь, один Бог весть, што там в головах у людей. А ходить нехорошо стало — так и кажется, што косятся. И ведь понимает всё, а поди ты… Тьфу, чортово семя!
Потом за политику заходить стали — спрашивать, распугивая клиентов. Какой такой заказ, когда вваливается такое-разэтакое, в мундире да при исполнении!? Ни разговора нормального, ни тем паче примерки. Раз, да другой… и вот старые клиенты уходят к другим — одному времени жалко, а другой к полиции с опаской. Ну или к мастеру, к которому полиция, как к себе домой.
То с разговором придут, то в участок вызовут… ну никакой работы! Уж он и жалобу подавал, и через общину пытался усовестить. Так всё складывается… каком кверху.
— Я так думаю, — перебил невесёлые мысли Антип, отныне и навсегда Меркурьевич, — што это всё надолго. Власти, они этого не признают канешно, но Михаил им — как кость в горле! За вашу и нашу… тьфу ты! Будут теперь искать то, чево и вовсе нет!
— А с другой стороны, — Антип Меркурьевич оглянулся на супружницу хозяина, и понизил голос, — калуны, будь они неладны.
— А эти с каково боку? — удивился Жжёный, — Владимир Алексеич тогда знатную бучу поднял, всю Москву лихорадило! Та-акая статья… факты, циферки, фотографии. Ух, как перетряхнули!
— С таково… ну то исть я думаю, — поправился Антип Меркурьевич, — их-то перетряхнули да наизнанку вытряхнули, но осадочек-то остался! У общественности. А они же, калуны ети, с полицией прям-таки близнецы сиамские! Без покровительства-то ихнего дрянь такая никак не выйдет! Так вот!
— А сейчас, — молодой мастер развёл ладони перед грудью, — шалишь! Потому как общественность. И если сами калуны может и не особо могут напакостить лично, то полиция, они-то привыкли — брать! Каждый городовой хоть рюмку, а имел с них, а сейчас — зась!
— То-то я думаю, — меланхолично проговорил Федул Иваныч, подпирая щёку ладонью и глядя на вьюгу за заснеженным окном, — разносортица такая среди их брата! То серьёзный человек зайдёт, в чинах, а то сявка служивая. Обиделися, значица…
Встав, он подошёл к «африканской» стене в мастерской, декорированной африканскими разностями, начиная от шкуры леопарда и копий со щитами, заканчивая такой экзотической гадотой, как череп бабуина. Если б не полиция, то ух какая замануха для клиентов! Чистая ярмарка, да ещё и поговорить можно!
— Обиделись, — повторил он задумчиво, трогая пальцем острый желтоватый клык, — а ведь Мишка писал, што на всю Преторию нормальных портных — на раз-два, притом два — ето он… А?!
— Баба, да от налаженного хозяйства… — Федул Иваныч дёрнул плечом, подрастеряв запал и сдуваясь на глазах, — н-да…
— А с другой стороны… — он расправил плечи, каменея лицом, — всё равно ведь работать не дадут!
Глава 29
Африканская ночь мягким покрывалом опустилась на землю, и на небосводе тёмного бархата мягко замерцали звёзды. Дневная жара ушла прочь, и земля постепенно остывает, даря долгожданную прохладу. На охоту и водопой вышли обитатели сумерек, наполнив вельд разнообразными звуками.
Раскатистый львиный рык вдали, хохот гиен, перекличка ночных птиц, стрёкот насекомых. Африка полна жизни, подчас опасной, но всегда восхитительной!
Мужчины сидят у рдеющих углей костра, изредка вспыхивающего язычками пламени, перепрыгиваемого на подкидываемые ветки. Папаша, братья, и пятеро буров из патруля — все взрослые, степенные, сильно немолодые мужики.
Неспешные разговоры с кружкой кофе в руке и трубкой или сигарой в другой. Идиллия вельда, и если бы не война…
… эти мужчины никогда не причинили бы нам вреда. Буры гостеприимны, и белые путешественники всегда могут найти у них приют и защиту.
Англо-бурская война расколола некогда единую общность, эти храбрые и воинственные люди встали на защиту того, что было им дорого. Одни — за права и свободы… как они их понимают. Права и свободы буров, и только буров!
С трудом принимая в свою общину иностранцев, желающих натурализоваться, и отдавая явное предпочтение кальвинистам голландского и немецкого происхождения, они готовы со снисходительным благодушием приютить христианина любой конфессии… белого христианина. Чёрные — скот, имущество, не должное иметь даже и отголосок собственного мнения! К его же, скота, благу.
Впрочем, каким-то садизмом в быту африканеры не отличаются, и если имущество ведёт себя должным образом, то его, это имущество, будут беречь, лечить по мере надобности, и даже грустить о смерти старой кормилицы или слуги.
Патриархальная форма рабства, когда раб имеет самые ничтожные права, признаваясь человеком с изрядными оговорками, но…
… буры признают родство, даже и от чёрных рабынь. Многочисленный субэтнос бастеров[56] тому порукой. Такого родства буры ничуть не смущаются, и могут даже взять цветную девушку в жёны[57] — по заветам предков, так сказать. С многочисленными оговорками, но всё же, всё же…
Странноватый такой расизм, ни черта непонятный приезжим, но бурам, тем паче не натурализовавшимся, привычно, принимают как данность. Янки, с их «Правилами одной капли крови[58]», впадают в ступор от местных реалий, а африканерам нормально.
Другие буры защищают поступь цивилизации в лице Британской Империи, считая её то ли благом, то ли просто — согласно присяге, данной когда-то их предками, решившими не идти в Великий Трек, а остаться жить под могучей тенью Англии.
Связанные общей историей, верой и запутанным родством, они убивают друг друга, сражаясь в этой странной войне…
Стало зябко, и я повёл плечами, а потом застегнул доппер[59] на все пуговицы, спасаясь от ночного холода и непрошенных мыслей.
Мы с Санькой чуть в стороне от костра, согласно бурским обычаям. Достаточно рослые и долговязые по меркам российской Империи, рядом с ровесниками-африканерами мы выглядим детишками лет двенадцати, от силы притом. Досадно… но это потом, а сейчас скорее в плюс, к детворе особо не присматриваются.
Сидим в сторонке, да смотрим на отца и братьев, сидящих у костра с патрулём, и зябко ёжимся — то ли от ночного холода, особенно ощутимого после дневной жары, то ли от неизбывного ощущения опасности. Дирк с Корнелиусом вместе с взрослыми, но помалкивают согласно возрасту, напитываясь мудрости, то бишь слушая типичные разговоры буров. Дела на ферме, скот, война…
Обычаи, ещё недавно казавшиеся обидным пережитком прошлого, кажутся необыкновенно мудрыми. Поздоровавшись вслед за отцом и братьями с капскими бурами, мы замолкли, как и положено благовоспитанным детям.
Со стороны посмотреть, так и не отличишь! Добротная одёжка старого фасона, переходящая даже не от старших детей младшим, а часто — от дедов. Массивные кожаные ботинки с полукруглыми носами, нередко… как у нас… окованные металлом. Не сносить! И… я раздавил пальцами пойманную вошь… содержимое соответствует реквизиту.
От костра послышался хохоток, и до нас донеслись солёные шуточки, а потом ещё и ещё. Когда шутки утихли, Корнелиус подошёл к нам, вытирая рукавом выступившие от смеха слёзы, и велел укладываться спать.
Переглянувшись, без лишних слов полезли в повозку, где долго лежали без сна, вслушиваясь в ночь. Вроде бы и всё хорошо, но внутри затаилась опаска, от которой всё никак не может успокоиться колотящееся сердце.
— Сидят, — шепнул мне на голландском Санька, выглянувший через щель в старом тенте. Поёрзав, он переполз ко мне поближе, и зашептал на ухо, сбиваясь постоянно с голландского на русский.
— … думал, помру… Остановили когда, окружили, с ружьями встали… всё! Ажно сердце остановилось. А папаша наш ничево, и глазом… каменный какой…
— Ага, и Дирк такой же, статуй бельведерский! — зашептал я в ответ.
— Как пошёл папаша наш Крюгера ругать, да этого… сэра, который в Капской колонии…
— Понял.
— Ага… Это как так? Всех ругает, а эти… они вроде сами из Капской колонии, а смеются?
— Буры… всегда всеми недовольны.
— А…
Так и заснули, прижавшись к друг дружке и перешёптываясь.
Тонкие девичьи пальцы бережно перебирают газетные вырезки со статьями и фотографиями. Русские герои англо-бурской войны смотрели будто в саму душу, строго и требовательно, и…
… задумавшись на секунду, девушка начала отделять овец от козлищ[60], откладывая особо не просто приехавших, а настоящих героев. Тех, которые совершили поступки, о ком писали в европейских газетах. А не тех господ, которые не успев ступить на земли Африканского континента, фотографируются с оружием на фоне различной африканской экзотики, заваливая потом всех родных и мало-мальски знакомых письмами и фотографиями! Вояки бравые…
Стыдно за таких, ей Богу! Выстрелить не успели в сторону противника, а в письмах уже сквозит усталость ветеранов, не вылезающих из боёв и походов!
Настоящих немного, совсем немного… к некоторой досаде девушки людей приличных среди них почти и нет. Ганецкий… да, пожалуй, и всё! Ах нет! Подполковник Максимов, говорят, весьма дельный человек. Сослуживцы дядюшки весьма уважительно отзываются, самыми лестными эпитетами. Но… он старый!
Ну и разумеется, медики из Русского отряда тоже люди весьма достойны, но… не то!
Девушку взяла досада на таких… неправильных героев! Где блистательные офицеры и благородное дворянство?! Сколько красивых слов в газетах о цвете нации! Где он, этот цвет?
Ганецкий, Максимов, и… всё, больше никаких громких имен, если не считать случаев скорее курьёзных, вроде грузинского князя Багратиона-Мухранского, воюющего во Французском легионе. Никаких подвигов за «князем Нико» не числится, если не считать таковыми ношение горского костюма и аудиенцию у «папаши Крюгера». Рядовой!
В свободное от войны время охотится на обезьян и говорят, подстрелил тигра… Знать бы ещё, откуда в Африке взялся тигр?
А эти… воздохнув, она опёрла подбородок на переплетённые руки, и посмотрела на неправильные фотографии. Мальчишка-старообрядец, выходец с Хитровки Котов, что уже нонсенс! Ну не должны они выглядеть так… так благородно! Никакой печати врождённого порока на лице у хитрованца, в то время как у доброй четверти друзей семьи совсем даже…
Она решительно тряхнула головой, раздражённая неправильными, неподобающими мыслями. В самом деле, глупо думать так, будто люди с положением, и пороки, тем паче врождённые, могут встречаться у людей благородного происхождения!
Но в хорошенькую головку закралось сомнение, и как назло, вспомнились некоторые слухи, ходившие о почтеннейшем Ретвизникове и его любви к горячительным напиткам и молоденьким мальчикам. Да и Аполлинариев, хм…
Два молоденьких одессита, не окончивших даже гимназии, в сравнении с заранее уставшими фотографическими героями… почти. Да, почти! Хотя и совсем ещё юнцы.
Рука её дрогнула, но всё-таки перевернула целую стопку вырезанных из газеты фотографий. Феликс Шченсны Джержинский, беглый ссыльный… марксист, и… ну невозможно красивый мужчина! Щеголь, красавец, и самый известный русский на этой страшной войне! Марксист, революционер, опасный смутьян…
Девушка вздохнула, глядя на фотографию затуманенными глазами, и…
«Сошедший с фотографии мужчина вкусно пах порохом, хорошим вежеталем[61] и самую чуточку — коньяком. Одетый в военную форму, он отставил в сторону винтовку, и нежно, но непреклонно завладел её рукой, пристально глядя в глаза.
— Мадемуазель Елбугова, — бархатным баритоном, от которого подкашивались ноги, сказал опасный… ах, какой опасный… смутьян… — я имею честь взять вас в плен!
— Нежный плен, — выдохнул он с напором.»
И… как же жарко внезапно стало! Вздрогнув, Лиза закусила верхнюю губу, кинув тревожный взгляд в сторону прикрытой двери…
— Милая! — донеслось из гостиной, и девушка спешно спрятала фотографии и газетные статьи. Не то чтобы родители не знали, что она такое собирает, но… незачем. Не сейчас.
— Поздеевы пригласили нас, будем поздно, не жди, — войдя душистым облачком, сказала наряженная на выход мать, и наклонившись, поцеловала дочку в мраморный лоб, — Не простыла?
Она ещё раз прикоснулась губами ко лбу дочери и покачала головой, расстраиваясь.
— И горнишную, как назло, отпустила…
— Всё в порядке, маман, — Лиза постарался улыбнуться как можно естественней, — просто слишком натоплено — видно, Ираида перед уходом расстаралась.
— Ладно, — с некоторым сомнением согласилась мать, — тогда поужинай и ложись спать, не засиживайся допоздна с книгами!
Проводив родителей, Лиза оббежала квартиру, с колотящимся сердцем заглядывая во все углы, как бывало в детстве — выискивая спрятавшихся приятелей по детским играм под кроватями и по шкафам. Лицо её раскраснелось, дыханье сбилось…
Заперев комнату и подперев для надёжности стулом, она вздохнула ещё раз, и подошла к сокровищам, спрятанным в обшитой бархатом папке. Тонкие пальцы пробежались по обложке, раскрыли… и цепко, не бережно ухватили фотографии этого… невыносимо красивого… смутьяна!
Выдохнув прерывисто, Лиза решительно начала расстёгивать платье…
Глава 30
— Ф-фу… — выдохнув, Бляйшман тяжко откинулся назад, и плетёное кресло скрипнуло под его весом. В потную голову лезут обрывки странных мыслей, никак не желающие соединятся в нечто цельное или хотя бы интересное. Так… бестолковочки.
Уцепив со стола вечное перо, мужчина по детской ещё привычке принялся играть с ним, перекатывая в пальцах. В голове — пустота звенящая, ну вот не думается никак! То ли жара эта чортова, то ли попросту перетрудился, што вполне себе и да. Высунувшись, он нашёл глазами подскочившего секретаря и предупредил:
— Меня ни для кого!
Захлопнув за собой дверь, Фима открыл окно пошире и некоторое время стоял так, глядя бездумно на улицу. Фыркнув, он опустил сетку от насекомых взад и скинул потный пиджак, улёгшись на кушетку и прикрыв глаза.
Скоро пришло то дурное состояние, когда сон не в сон, а так — дремота, после которой тело вялое, а голова тяжёлая, будто бы и не спал, а ровно наоборот. Сколько он так лежал, Бог весть, но в тлеющие угольки разума ткнулись слова с улицы:
— Мне нужны хорошие работники… хорошие!
«— Торговец из бастеров, — вяло отреагировал мозг, транслируя звук в чёткую картинку, — опять с работниками беда.»
Бляйшману невольно пролезли в голову проблемы бастера, который с одной стороны — в родстве с бурами, притом из весьма почтенного, уважаемого семейства, а с другой — предки его из племени шона, обращённых амендебеле в рабство. Вот и вылезает порой…
— Н-да, сложно здесь с работниками, — невольно посочувствовал он полузнакомому бастеру, — белые не особо и да, а чорные… н-да…
Фима вздохнул ещё раз, потому как проблемы бастера живо перекликались с кровными. У того — проблемы с работниками, потому как уважающий себя зулу или матабеле может и пойдёт к бастеру в работники, но работники из них не так, штобы ах. Да и вылезает, вылезает… Дескать, в тебе пусть и белая кровь течёт, но та, которая чорная — шона! Рабская!
Брать в работники тех же шона — таки да, но и нет. Смирные, работящие, но по части инициативы — хрен там! Инициативных вырезали начисто, да не белые завоеватели, а чёрные ндебеле. Тоже… весёлый народец.
Да и опять же, кастовость! Какой-нибудь совершенно посторонний ндебеле может надавить если не на самого шона, то опосредованно — через зависимую родню. Так вот. В садовники или на конюшню шона можно, а вот по части торговли, или где инициатива и ответственность — зась! Одни проблемы.
Завздыхав, Бляйшман заворочался беспокойно, но мысли сразу ожили, заскакали!
— И буры эти! — вслух пожаловался он потолку, разглядывая трещинки на штукатурке, — Одни свои да наши вокруг, и дела только через друг дружку! Ну кто так, кроме нас?! Как не совестно?!
— И эти… — он засопел, вспоминая местных иудеев, которые вместо того, штобы делать коммерцию, как все приличные люди, занимаются какой-то политикой через коммерцию! Он, Фима, тожить уважает Британию, но исключительно со стороны, потому как другое подданство, да и интересов там не так, штобы и вовсе нет…
— Всё-так Ёся — балбес, — грустно констатировал он, заложив руки за голову, и вспомнив сына, который вместо коммерции — политикой! И ладно бы той политикой, которая сродни алхимии и может трансформироваться в шекели, но таки нет! Этот балбес занялся сионизмом, притом зачем-то — вперемешку с марксизмом! И знакомства у него есть, но всё больше из тех, которые в будущем если и будут на плакатах, то сугубо тех, которые «разыскивается»!
Завздыхав, мужчина перевернулся на живот, машинально отметив сильное похудение, и положил подбородок на скрещённые руки, а потом просто подобрал под него плотную подушечку из атласа.
— Маркс… — с Маркса тово, который написал «Капитал», мысли переключились на тово, который его зарабатывает, то бишь на Шмуэля. Не ближний родич поначалу оказал и помог, но на этом всё, а дальше показал свою подлую натуру и захотел сверху, а оно ему надо?!
— Англия эта, будь она неладна, — мрачно проговорил мужчина, впадая в меланхолию через отчаяние, — ну вот што им, а?! Такие были планы на наших, а через шпионство это — скорее нет, чем да! В кого сторону ни плюнь, так сплошь либо в родне шпионы британские, либо дела с ними вёл. Не работа будет, а одно сплошное торможение через подозрение!
Бляйшман пригорюнился, потому как ну разве это — бизнес?! Тут интересная война и золотые прииски, а он делает всего-то по сто процентов прибыли в месяц! В его кругах за такое будут если не смеяться в глаза, то за глаза и в спину, это и бабке не ходи.
А какие планы были, какие планы… Сперва — да через пароход и знакомства Шломо, то бишь Егора, а потом споткнулся на том, што нет людей. А?! Людей! Всегда так, што только пальцем сделай и свистни, а тут — нате, и выбрать не из кого. Ужас! Ну то есть не совсем ужас, но таки печаль и грусть-тоска.
Вокруг сплошные буры, которые если и да, то подавай им не просто деньги, а уважение впополаме с паем! А если каждому дай, вместо на от каждого, то што это за бизнес?! Кооператив какой-то, а не честная коммерция в нужную пользу.
Негры тоже — вроде как и люди, но не для буров, и вообще… Такой клубок змеиный промеж них, што пока если и да, то сугубо слугами, а не полноценными работниками.
Уитлендеры эти тоже… скорее нет, и такое себе нет, шо замахаешься просеивать на да! Не так штобы буры и великие справедливцы, но по совести, подозрения их в эту сторону вполне понятны и даже оправданны.
Такой себе народ эти приезжие, што хотят не натурализацию и гражданство через несколько лет, соблюдая законы, а хапнуть здесь и сейчас, а после смыться. А если и натурализоваться, то подстраиваться не самим, а подстроить удобно под себя.
— Оно бы и понятно, — задумчиво сказал Фима, доставая покурить, — но как бы и буров — тоже! Удобно, когда вокруг свои да наши! Хм…
Бляйшман задумался, заворочавшись на тахте. Не выдержав давления мыслей, встал к окну на провентилировать мозг. Отчаянно пыхтя сигарой, он думал, думал… и по всему выходило, што привычная опора — зась!
Единоверцы здеся под подозрением, а если и нет, то у тех такое себе да со связями, шо он им и на хрен не нужен! Если только не через партнёрство, а такое уже ему — ну никак! Решительно.
— Русские, — он пыхнул сигарой, прокручивая все за и против, — гхм… Это пусть и совсем не наши, но…
Он задумался, и в голове будто заскрипели пружинки арифмометра. Дело налажено — в принципе, а не совсем! Но налажено. На роли управляющих, направляющих и руководящих — есть, а вот мелко-среднее начальство и работники, но ответственные, а не как здеся…
— Ага, — сказал он, — затянувшись окурком и раскашлявшись. Посмотрев удивлённо на сигару, открыл сетку и свистнул ближайшему кафру. Тот подхватил окурок на лету, благодарно закланявшись и заулыбавшись, но Фима уже не видел этого, погружённый в мысли.
— Русские, так? Оно канешно, не наши, но лучше, чем совсем не наши, — бормотал он, расхаживая по кабинету, — И те русские, которые подняли жопы и переплыли океан, это уже не те русские, а другие. С этими уже можно работать, да и других всё равно нет!
— Ицхак! — Секретарь, молодой сефард, экипированный записной книжкой, пейсами и неровной юношеской бородкой, материализовался у стола шефа, всем своим видом показывая внимание и рвение, — Мине нужно поговорить с русскими, так ты узнай — што, где, почём!
— Все, или нужны какие-то конкретные русские? — осведомился Ицхак, согнувшись над блокнотом грифом-падальщиком.
— Важные! — Фима поднял палец, — И это таки не только начальство и торговцы, но и вообще. Ты мине понял?
Собрав на смуглом лбу скорбную морщинку, секретарь кивнул осторожно, и постояв недолго, решил таки уточнить. Бляйшман сперва охотно, а потом уже раздражённо говорил ему за русские реалии, которые сефарда из Северной Африки ну ни разу не близки!
— Всё! — рявкнул он, — Хватит пока! Только учти, нам с ними работать, и если ты хочешь да — занимайся русским! Нехристь! Ну то есть… а-а! Иди отсюдова, совсем ты мине голову просквозил!
— Шо за люди, — бормотнул Фима, качая головой на закрывшуюся дверь, — ни за Одессу толком ни знают, ни за мадам Циперович, ни за што! Такой бизнес с культурным пластом, и мимо себе! Дикие люди…
Снятый Ицхаком ресторан, который больше по названию, чем по ценам и антуражу, чем да, Фиме решительно не очень, потому как — эконом, и сильно. Такое себе помещение барачного типа, только што окна ни разу не маленькие, потому как — климат! Сделав мысленную пометку ещё раз объяснить секретарю, што экономить копейки там, где можно выиграть рубели на уважении, глупо, мужчина вошёл в помещение.
— Здравствуйте, — непринуждённо поприветствовал он рассевшихся за столикам мужчин.
— И тебе шалом, добрый молодец, — чутка насмешливо ответил востроглазый молодец. Который хоть и Рязань мордально, вплоть до косоворотки, но такой себе пират с Тортуги, шо прямо ой! Оторопь до дрожи.
По залу пронеслись смешки и улыбки, отчего Фиме стало легко, как раньше — по молодости.
— Не буду тратить своё и ваше время понапрасну, а потому — пива всем за мой счёт!
Общество гуднуло одобрительно, но размякать не спешило. Не спешил и Фима, в несколько приёмов выпивший первую кружку, и цедивший теперь вторую.
— А теперь к делу, — продолжил он неторопливо, — потому как собралися здеся люди уважаемые, у которых время — деньги. Штоб не жалко было времени — сразу скажу, шо сперва будет всем пива, а потом — поесть за мой счёт, это таки понятно?
— В любом случае, — подчеркнул он, несколько удивлённо понимая, шо народ покивал благодушно, но в общем-то — равнодушно.
«— Зажрались мал-мала» — констатировал он.
— Хочу немножечко о себе, — продолжил он, азартно напрягшись, — если кто вдруг не знает.
— Знаем, — негромко сказал немолодой мужчина среднего роста, и все присутствующие утихли. Серые его глаза с прищуром глянули будто в саму душу, — ты нам лучше про забастовку в Одессе скажи — как было?
Фима открыл было рот, штобы порекомендовать себя лучшим образом, но разом понял, што здесь вам не там! Честно надо.
— Хреново, — ответил он усмешливо, — не я её затеял…
Фима с облегчением увидел едва заметное одобрение в глазах мужчины…
— … но пришлось брать на себя ответственность за Молдаванку. Не столько даже за справедливость, сколько за людей, которых с детства знал.
— Не справедливец, значица? — снова сощурился всё тот же немолодой мужчина, и Фима почувствовал себя, как перед раввином на бар-мицве, што перед гоем таки странно, но почему-то — правильно.
— Я честный коммерсант, — суховато усмехнулся Бляйшман, пытаясь не опустить глаза.
— Да не надо так давить! — возмутился он, — Я таки не сказал за закон, я говорю за совесть! Контрабанда в обе стороны, если это нормальные товары, но просто в обход удорожающей таможни, так это вам где?!
Лёгкий кивок, и будто плита чугуна с плеч. Короткие переглядки, и мужчины будто только сейчас решали — дать ему шанс? Дали.
— Хочу поговорить за эту войну, — повёл плечами Фима, с некоторой тревогой понимая, шо это если и русские, то какие-то неправильные!
«— Отборные» — постучалось в череп, и сразу стало легче. Потому как если все такие… нивроку! Пережуют вместе с бизнесом!
— Война всегда плохо, — не без труда продолжил он, пытаясь не отпустить пойманное за хвост ускользающее вдохновение, — но и она же — возможности! Я таки не буду говорить вам за патриотизм в пользу буров, скажу лишь за нашу с вами пользу!
— Все, кто хотел взять в руки винтовку и пойти воевать за чужое надо, уже в рядах! Кто-то воспринял чужие беды за свои, кто-то хочет натурализоваться через войну — не нам судить.
— Я, — поймав кураж, он наклонился вперёд, ловя взгляды вожаков, — могу сделать хорошо для всех, включая сибе! Кто-то умный давно сказал, што для войны нужны деньги, деньги, и ещё раз деньги! Но здеся денег до жопы, а вот с людьми — зась!
— Нормальными людьми, — уточнил Фима под понимающие смешки собравшихся.
— Люди, — переждав, он начал говорить, отделяя слова паузами, — требуются везде! Не только на фронте, но и на фермах, в шахтах. Везде! Вы и сами о том знаете, так што не буду мять вам уши своими словами.
— Но! — толстый палец с обгрызенным ногтем устремился в небеса, — Многие забывают за логистику, то бишь за снабжение!
На лицах начало проступать понимание.
— Твою выгоду мы видим, — из дальнего угла вышел и встал, укоренившись сапогами в пол, длиннобородый мужчина в старообрядческой поддёвке, — поясни нашу.
— Моя, — подчеркнул голосом Бляйшман, потея от волнения, жары и духоты, — транспортная компания нуждается в людях, буры нуждаются в поставках. Всё есть у меня! Связи, деньги, налаженные маршруты… людей нет.
— К себе зовёшь? — прищурился из-за столика явный горняк, с навсегда въевшейся рудной пылью на худом лице, искажённом сейчас неприязненной гримасой.
— Да! Но нет, — Фима выставил ладони вперёд, — Я хочу придти к Бургеру[62] и предложить себя и вас — если договоримся, за коммандо! Сугубо транспортное, понимаете? Воевать если и да, то сугубо при нападении на обоз!
— На основе твоей компании? — сощурился старообрядец.
— Да! — не стал отнекиваться коммерсант, — Готовая структура, и глупо было бы делать иначе!
— Мне, — перехватил он инициативу, — разрастание компании и прибыль на этом — потом, после войны. Война пройдёт, останутся связи, налаженные маршруты, и частично — люди. Вам — возможность хорошей работы — с повышением, а то и собственным делом опосля. Ну и натурализация, кому надо.
К некоторому, отчасти даже расстроенному, удивлению Бляйшмана, собравшиеся не стали увлекаться ни пивом, ни бесплатной едой. Обсудив меж собой предложение, вожаки русской общины Претории разошлись в наступающих сумерках.
Глава 31
Проснувшись весь в поту, некоторое время никак не мог понять, где я, и только тревожность чортова сердце разгоняет так, как не всякий бег. Опасаясь выдать себя самомалейшим движением, лежал недвижно, с прикрытыми глазами, пока не отпустило мал-мала.
Вспомнилось и осозналось наконец, што я не абы где и кто, а на семейной ферме Ройаккеров, укрывшейся в одной из межгорных долин Драконовых гор.
Сказались ночёвки в вельде, н-да… Раз переночевать в окружении английского патруля, да два — на фермах пробританских буров… бодрит, ети его! Нехороший звоночек, такое вот просыпанье.
Сны ещё, от которых накатывает тоска, а есть ли потом польза, нет ли… Вот и сейчас уходит потихонечку глухое чувство безвозвратной потери.
Снова летал. Шёлковые треугольные крылья за спиной, и свободное паренье на восходящих и нисходящих потоках — на десятки километров, на все четыре стороны света.
Правильно запомнилось, иль додумалось, домечталось, а в памяти врезалось, што было! Нивы и пажити внизу, крохотные фигурки людей и скота, да ветер в лицо…
Повернув голову набок, вцепился в одеяло зубами, да застонал приглушённо от безумной тоски. Как же это тяжко… будто с Небес пал! Был крылат, а теперь…
Открыв глаза, долго пялился бездумно на трещиноватую штукатурку, где пара гекконов затеяла охоту на насекомых. Будто ожившие женские броши работы искусного мастера движутся по потолку и стенам, медленно подкрадываясь к добыче. Бросок! И извивающаяся многоножка исчезает в пасти судорожно сглатывающего геккончика.
Сел наконец на кровати, зевая тягуче и беззвучно, стараясь не разбудить Саньку и Корнелиуса, но постели их уже пусты, да и за окном ни разу не раннее утро. Одевшись, вытряхиваю ботинки, в которые почти каждую ночь што-то да заползает, туго наматываю обмотки, вбиваю ноги в потрёпанную обувку, и выхожу во двор, где уже начинает закипать работа.
У загонов скота суетятся кафры, ласково поглаживая быков по большим носам и похлопывая по холкам. Те фырчат в ответ, норовя лизнуть в лицо. Ласкаются… и от этой мирной картины становится ещё тягостней.
В каретном сарае возится папаша, осматривая колёса и проверяя комплектность повозок. В зубах неизменная трубка, и время от времени он окутывается клубами дыма. Дымит часто, будто табачищем да работой оглушает голову.
Девчонки, какие-то поблёкшие за ночь, хлопочут в птичнике, доят коз и коров, и их так много, што чуть не в глазах рябит. Без работы не сидит никто, даже пятилетняя Эльза собирает в корзину яйца, вид очень важный, едва ли не торжественный.
— Доброе утро, — брат, противно бодрый с утра, успевший уже где-то пропотеть и пропахнуть свежей щепой, предложил мне полить.
— Доброе, доброе, — бурчу ответно, плеща тепловатую воду в лицо над тазом, фырча и растираясь, — меня чево не разбудили?
— Ночью во сне метался, — отозвался подошедший Корнелиус, не выпуская изо рта трубки, — думали уже, горячка тебя одолела.
— Угум, — и выплюнув наконец зубную щётку, — што там по хозяйству?
— Сборы, — пожал широкими плечами Корнелиус, и на лицо его пала тень. Разговоры сами собой прекратились, воцарилось странное и нелепое чувство неловкости, будто это мы их сгоняем, а не… Хреново, и так хреново, што и не передать!
Молчаливая мать семейства, очень рослая и крупная, будто наполовину истаяла за ночь, перемещаясь по кухне собственной тенью. Одиннадцать девчонок мал-мала, и совсем мелкий ещё, сладко посапывающий мальчишечка, раскинувшийся на руках одной из старших, пузыри пускает и руками во сне разбрасывается.
Большая, открытая всем ветрам горница, служащая кухней и столовой, чужда и одновременно знакома. Наверное, как-то так и выглядели бы русские избы, будь у крестьян вдоволь земли и воли.
Всё очень просто, добротно, и никакого господского лишка притом. Но нет и нашей крестьянской ужимистости, чувствуется старинная зажиточность, готовность усадить за стол хоть бы и две дюжины оголодавших путников.
Салфетки с вышитыми изречениями из Библии по стенам, литографии с библейскими сюжетами, часы-ходики в углу, а из роскоши только зеркало фут на два, да и то от дедов-прадедов в наследство. Чистота и уют, немножечко чуждый, но явственный…
… которого больше не будет.
Бабье царство, и у всех глаза на мокром месте, даже если и сухие. Бабы, они завсегда так — одной спиной только или походкой всю полноту чувств показать умеют, рождаются с этим. А когда их двенадцать, пусть даже сто раз патриархат, это такое ой!
Девки глаз не поднимают, только изредка тихохонько по делу скажут што, и всё — тишина, только шелест накрахмаленных передников. Такая тишина, от которой зубы сводит!
Тушёную с овощами картошку и вкуснейшее мясо с травами впихивал в себя через силу, и Дирк с папашей и ничего. Ну… привышные.
«— Иммунитет».
После завтрака начались короткие сборы, и такая тягость повисла над фермой, такой вой безмолвный, што словами и не передать. Будто только теперь осознали по-настоящему, што всё, назад дороги нет. Они уезжают, и скорее всего — навсегда, бросая дедом посаженный сад и неказистый, но прочный дом… их дом. Родной.
И ведь даже взять ничего толком нельзя! Потому как разъезжают по округе британские патрули, отправляющие всех подозрительных в концлагеря.
Ройаккеры едут в гости и только в гости, навестить родню. Памятные вещицы, любимые игрушки девчонок, немного одежды, оружие, и… всё.
Чернокожие слуги с глазами на мокром месте, тоже жалеют, воют беззвучно. Слёзы по физиономиям текут ручьями, хлюпают носами. На ходу кулаками утираются, и снова за сборы, а слёзы текут, текут…
Слуги потомственные, из рабских племён, спасённые некогда ещё дедом Айзека от куда как худшей участи рабства чёрного. Они тоже — Ройаккеры! Младшие, почти бесправные, но члены семьи. Так, по крайней мере, они себя воспринимают.
Уехали наконец… всего-то две повозки в сопровождении Дирка и нескольких чернокожих слуг из числа даже не особо доверенных, а тех, кто способен держать язык за зубами.
И опустело… стоит ещё большой самостройный дом в окаёме близких лесистых гор, окружённый многочисленными постройками-пристройками, сараюшками и загонами для скота. Открыты приветливо окна, колышутся занавески, виднеется самодельная мебель и всё то немудреное богатство, копившееся поколениями, дорогое даже и не ценой, а памятью. А дома уже нет… так, строение.
Папаша долго стоял бездвижно, глядя вслед удаляющимся повозкам и тихонечко молясь. Рядом Корнелиус, двое подошедших с утра невысоких мужчин гриква[63], одетые вполне европейски, и мы.
— Родня, — сказал папаша, поймав мой взгляд на гриква, — помогут.
Кивнув, не стал переспрашивать, буры немногословны, да и ни к чему знать мне степень их родства или сложные взаимозачёты. Гриква, бастеры и другие потомки смешанных союзов чаще всего селятся вместе, образуя этакие племенные союзы, и не самые слабые.
Но бывает, што селятся по соседству с белой роднёй, этакий своеобразный вассалитет выходит. Занимаются потихонечку хозяйством, торговлей или ремёслами, оказывая по мере необходимости какую-то помощь, хоть даже и с оружием в руках.
Тема очень непростая, потому как с одной стороны — родство, а с другой — британцы куда как лояльней относятся к цветным. Притом к цветным «вообще», а не только к родне.
Скорее всего, помимо родственных и вассальных связей, будут какие-то махинации со скотом, землёй и прочим имуществом. Ну… то их дело.
— Я, — нерешительно начал Санька, косясь на гриква, — подумал тут… Помнишь, нам в Училище про артиллерию рассказывали? Нет? А… да, ты тогда как раз тогда в Твери был, в командировке от газеты. В общем… лучше пойдём.
— Вот, — сказал он мне, но то и дело оглядываясь на папашу, и тыкая ногой в бревно, лежащее у дровяника, — ствол пушечный как есть! Древесина прочная, свилеватость волнами идёт, а потом — вот!
Несколько шагов в сторону, и брат ткнул ногой в лежащие под навесом желоба. Моют золотишко Ройаккеры, стал быть. Многие буры вот этак, в свободное от работы на ферме время. Золота, оно здесь чуть везде не под ногами, но не всегда выгодно прииск затевать.
— И? — чувствую себя дурак-дураком, да и папаша, судя по излишне невозмутимому виду, ничуть не лучше.
— Пушка, — совсем застеснялся Санька. Присев, он соединил половинки жёлоба и зачастил:
— Распополамить стволины, выскоблить изнутри, да хомутами железными соединить. А?! Картечью на раз точно хватит, нужно только испытания сделать.
— Уху… — Айзек присел, зачем-то потрогал ствол и задымил совсем отчаянно. Выпрямился… и это уже не пригасший мужчина, разом постаревший, а хищник, опаснее льва-людоеда.
— Мы, — блеснул он глазами, свирепо выколачивая трубку о каблук, — раньше порох сами делали. Дрянь порох, но всё для него есть, и как — тоже знаю.
Шесть пар мужских рук, привычных к работе, это немало. Часа не прошло, как раскололи несколько брёвен, из которых два пошли винтом. Гриква, Веит и Гирд[64], суетятся больше всех, и што-то мне вещует, што для них эти технологии — самое што ни на есть то! На безрыбье-то… Да и имена очень уж своеобразные, больше смахивающие на псевдонимы.
Лезет и лезет в голову всякое… заговорщицкое! Сам себя накрутил так, што чуть не каждая переглядка гриква наполнена высоким смыслом, и с большим трудом удаётся уговорить себя, што даже если и да, то мне какое дело?! Это их, ну и Ройаккеров, междусобойчик.
Сделали несколько вариантов — от относительно тонкостенной бревнины с жерлом чуть не на полведра, перетянутого канатами, до небольшой пушчонки, которую можно перетаскивать на хребте по зарослям, — гриква обтянули её кожей по какой-то хитрой технологии. С испытанием получился затык, за неимением должного количества пороха.
На творение пороха в сарайных условиях мы с братом глядели сперва со скепсисом, а потом издалека. Вышла, как и ожидалось, редкая дрянь — обычная механическая смесь селитры, серы и угля, сгорающая самым непредсказуемым образом.
— Нормально, — ничуть не смутился папаша, снаряжая первую пушку, — «Роёры» под такой порох и делали.
Толстостенность ружей пришла нам с Санькой в голову одновременно. Переглянувшись, отошли подальше, ведомые скепсисом и здоровой сцыкливостью.
К превеликому моему удивлению, все модели пушек бахнули уверенно по паре раз, не думая разлетаться на половинном заряде при стрельбе картечью. Дальше рисковать не стали, и началась подборка под…
… ситуацию…
— А как именно мы будем их применять, — озадачился Корнелиус, выпрямляясь с постнеющей на глазах физиономией.
А действительно?!
— Не воспринимайте кайзера всерьёз, господин президент, — предупредил Крюгера консул Трансвааля в Германии, — вся его риторика, все поступки сводятся к тому, чтобы расхаживать с важным видом, вставая в горделивые позы и бряцать невынутым из ножен мечом[65]. Ему хочется ощущать себя подобием Наполеона и походить на него, но без участия в битвах.
Не говоря ни слова, Крюгер остро глянул на дипломата, поправляя перед зеркалом орденскую ленту на сюртуке.
— Британские офицеры, — продолжил тот невозмутимо, — считают его дураком и называют «Дымящий Вилли», сравнивая с первым паровозом Стефенсона — скорее шумным и дымным, нежели полезным.
Дядюшка Поль кивнул, принимая сказанное к сведенью, и замер на миг.
— Родс и союзные ему британские промышленники, владеющие шахтами на наших землях, заигрались, — сказал он хрипловато, — до поры мы терпели их, помня о священном праве частной собственности, но англичане раз за разом показывают нам, что законов они придерживаются только тогда, когда их можно трактовать в свою пользу.
— Национализация… — выдохнул восторженно консул.
— Да, — кивнул Крюгер, начиная с неотвратимостью ледокола двигаться к выходу, спускаясь к экипажу, — сегодня в Претории зачитают моё письмо перед Фолксраадом. Мы не будем больше терпеть враждебные действия иностранных подданных.
— Думаю, — он усмехнулся суховато, — такое событие заставит Его Величество перейти от воинственной риторике к действиям.
Глава 32
— Развод караула, — негромко говорит Санька, не отрываясь от наблюдений за британцами.
— Угу… — щёлкаю крышкой часов и сверяю время, записывая в тетрадь. Хронометраж у нас абсолютный, насколько это вообще возможно.
У наблюдателей две тетради — одна с поминутным хронометражом, другая с наблюдениями. Кто из солдат близорук, кто хромает или несёт службу спустя рукава — всё заносится!
— … рыжий хромец мается животом, — в тон моим мыслям говорит Санька.
— Смените, — прошу гриква, видя братову усталость и всю его излишне напряжённую фигуру. Веит охотно подхватывает бинокль, поправив мимолётно тубусы из бумаги поверх окуляров. Может, и перестраховка, но чуть меньше шансов, што засекут отблеск стекла…
С биноклем осанка чернокожего полководца меняется, и прямо-таки вижу, как поверх потрёпанного пиджака вырастают офицерские эполеты. Ох и непрост… ну да не моё то дело, и если гриква имеют таки гражданское самосознание и собственное мнение о судьбах Африки, то кто я такой? Пусть.
Покачав головой, гляжу на Саньку, полуприкрывшему усталые глаза и затеявшего игру с изумрудной змейкой, переползающей на соседнюю ветку. Подставив руку, он шепчет што-то, и вот ей-ей, змея будто прислушивается, приподняв треугольную голову и переползая на руку.
— Чево? — поворачивается он на взгляд.
— Так… шаман, однако!
— Скажешь тоже! — качает тот головой, — Змеи, они никогда зазря не укусят!
В голосе убеждённость, которую не перешибить ничем.
— Ага, ага… а шепчешь тогда што?
— Так! — он краснеет буряково, делая вид независимый и вольный, — Бабка научила.
— Ты не подумай! — вскидывается он, поняв моё молчанье по своему, — Хочешь, научу?
— Потом, — задумчиво гляжу на змейку, пригревшуюся на его руке, обвившись причудливым браслетом поверх рукава рубахи. Вроде как и да… но лёгкая сцыкливость даёт о себе знать. Сильно подозреваю, што дело не в шепотках бабкиных, а в плавных движениях и уверенности брата, да и действительно — змеи по большей части совершенно не агрессивны… но проверять не хочется. По крайней мере, пока.
В высоком кустарнике влажная духота, пропахшая пряными запахами цветов и трав, жужжаньем насекомых и короткими перебежками ящерок, замирающих при каждом движении. Изредка проползёт по своим делам змея, да вспорхнёт на крохотную поляну мухоловка, обманутая нашей недвижностью.
Обмахиваемся изредка от насекомых и наблюдаем, наблюдаем, наблюдаем… Папаша с Корнелиусом, сменяясь, караулят в нескольких милях отсюда надёжно укрытую в одной из крохотных долин повозку и скот.
Подойдя к кустам, слегка сдвигаю ветки и разглядываю укрывшийся в небольшой долине концлагерь. Сейчас мне не нужны никакие биноклевые подробности, а просто наглядность перед глазами.
Долина узкая, трещиноватая, будто расколовшая гору. Стены не то штобы вовсе отвесные, и с немалым трудом можно вскарабкаться на склоны, которые чуть повыше становятся вполне себе пологими проходимыми, но дальше зась! Броди по ним хоть как, а проскользнуть мимо британцев из долины не выйдет, если только ты не опытный скалолаз.
Гриква с Корнелиусом за два дня обошли всю долину по гребню горы, и если они говорят нет, то это весомое нет. Выросли они в этих местах, и ходить по горам и промеж них умеют, а если не пройдут они, то женщины и дети, которых в лагере большинство, тем паче.
Шатры и палатки буров, а то и безлошадные повозки, раскинуты по всей узкой долине, тулясь в основном рядышком с двумя тонкими ручейками, стекающими с гор. Народ в лагере вялый, как это бывает от весенней бескормицы, да так оно и есть.
Видно, как народ ковыряется в земле, ища коренья и любую поживу. Везде проплешины — как бывает, если скот долго остаётся на месте.
Мишку видели пару раз, но мельком и вовсе уж издали. Вроде как без повязок, но што, как…
Фактически, единственный затык, это британский блокпост, перегораживающий долину на входе, но и тот скорее от побега, нежели для отражения врага. Колючая проволока широкой дугой, мешающая пройти заключённым к британцам, в паре десятков метров за ней мешки с песком, сложенные едва ли по грудь высотой, и наконец — палатки.
Парочка складских, с продовольствием, амуницией и патронов.
Офицерская, в которой обитает дрищеватого вида второй лейтенант с явно купленным офицерским патентом. Мальчишка, от силы лет семнадцати, с упоением играющийся в солдатики и старательно соблюдающий все законы и поконы Офицера и Джентельмена, часто утрированно и всегда — без должного понимания.
По утрам он делает зарядку, умывается над тазиком, шумно фыркая, отплёвываясь и отсмаркиваясь, и бреет прыщи, ходя потом с заклеенной бумагой физиономией. Затем лейтенант изволит устраивать смотр, завтракает, и развлекает себя шагистикой подчинённых и выполнением ружейных приёмов. Просителям лейтенант явно раздражается, полагая эту часть своих обязанностей низменными и тягостными.
В штабной палатке строго по одному принимают буров, и в ней же обитает сержант, переслуживший все сроки и тянущий лямку по инерции. Душевно вялый, немолодой, высохший, с замедленными движениями ревматика и въевшимся намертво индийским загаром. Производит впечатление служаки, сделавшего карьеру преимущественно в канцелярии, и собравшегося уже в отставку, но вот незадача… война!
Вся его натура уже на пенсии, и главное — дождаться наконец, скинуть опостылевший мундир… Старается не напрягаться лишний раз, будь то душевно или тем паче физически.
Две солдатские потрёпанные палатки четвёртого срока службы, в которых обитает семнадцать вояк, грозных скорее своей многочисленностью, нежели чем иным. Тот случай, когда второй сорт не брак.
Будь нас чуток побольше… Обрываю эти свои мысли, потому как затевать длительную перестрелку не по мне, да и защита, пусть даже и заметно худшая, у британцев не только со стороны концлагеря.
Въезд в долину перекрывают частично мешки, почему-то с одной только стороны, шлагбаум и колючая проволока в два ряда. Прорваться атакой можно, но буры атаки не любят, так што в принципе и да, вполне надёжно, тем более для тыла.
Какую-то часть бриттов можно пострелять со склонов, откуда мы за ними наблюдаем, но подумав как следует, оставляю эту мысль в сторону. Увы, но для прицельной стрельбы далеко. Штучный выстрел — быть может, но делать ставку… нет, точно нет.
Да и неизвестно, какие у них приказы — может быть, расстрелять или повесить в случае нападения «мятежников». Слыхивали про такие случаи. Женщинам и детям ничего не грозит, но Мишка…
В голове потихонечку вызревает план — невероятно авантюрный и рискованный, но за неименьем десятка-другого особо метких стрелков, пожалуй, што и единственный.
Начало темнеть, и мы, стараясь не потревожить лишний раз растительность и зверьё, криком орущее при нарушении покоя, спустились в лагерь, где уже вовсю булькал на костре ужин. Немного крупы, коренья и много-много мяса. Очень вкусно! Папаша расстарался, и хотя обычно буры обходятся в походе вяленым мясом и сухарями, готовить в походе мужчины умеют.
На меня поглядывают, чуя новости, но не спешу, говорить начинаю уже за кофе, тем паче чую, што спать нас севодня ложиться позднёхонько.
— Есть, — дую в кружку, — план. Намётки скорее. Схема такая себе… несложная и действенная…
— … но, — обвожу всех глазами, — суть в том, што для его выполнения нам потребуются стальные яйца.
Зафыркали, фраза в переводе не нуждается, понятна интуитивно. Молчу, жду ответа…
Решительно кивнул Санька… гриква… Переглянувшись, кивают буры, тут же вопрошая глазами о подробностях.
— Значит, так…
Не доезжая метров двадцати до шлагбаума, остановили быков. Папаша, пользуясь моментом, невозмутимо достал трубку и начал раскуривать. По правую сторону от него, зайдя чуть вперёд, переминаются гриква. Сбросившие дорогие их сердцу европейские одёжки и стоящие в одних набедренных повязках с грузом за спиной, выглядят они точь-в-точь как провинившиеся слуги, особенно если не слишком разбираться в расовых особенностях местных уроженцев.
— Оёёюшки, — поёжился брат, потянувшись лопатками назад и готовясь скинуть куртку.
— Ждём… — сидя в циновке поверх пушек с раскуренной сигарой в руке, шиплю я змей, — ждём, Саня…
Болезненного вида капрал, вышедший нам навстречу с двумя подчинёнными, требовательно махнул рукой.
— Стоять! — запоздало пролаял он, пока рядовые навели на нас ружья.
Папаша в ответ завёл медленный разговор, мешая африкаанс с дрянным британским, вставляя в речь имена Родса и чиновников Капской колонии. Сморщившись, как от зубной боли, капрал заглянул внутрь, но увидел двух мальчишек на груде барахла, и ощутимо расслабился, рявкнув што-то солдатикам, опустившим ружья.
В животе у него забурлило, и сделав отчаянное лицо, капрал дал знак проезжать, мелкими шагами засеменив назад. Не спеша, папаша сделал несколько затяжек, поделился с солдатами табаком, и только потом тронул вожжи.
Заведя быков, он развернул их задом, будто готовясь сгружать привезённое к складской палатке, где уже сгрудилось несколько солдат. Санька тут же соскочил, откидывая задний полог, и взмахом руки подзывая их.
Улыбнувшись рыжеватому молоденькому солдату с лицом вечного чмошника, заглянувшего в повозку, вжимаю сигару в запальное отверстие…
… и каменная дробь, да с близкого расстояния, сделала из них фарш. Оглушённый близким разрывом, я пропустил пару секунд, а когда очухался, успел увидеть присевшего за повозку папашу, выпускающего из магазинки пули с самой невозмутимой физиономией…
… Саньку, закружившегося с револьвером промеж палаток, подхватывающего на лету ружьё из пирамиды…
… вывалившегося из-под повозки Корнелиуса, передёргивающего затвор…
… и Веита, упавшего на четвереньки и склонившего голову. Выстрел из закреплённой на спине пушки смёл двух британцев и штабную палатку, а гриква уже вскакивал, а на четвереньки падал Гирд…
Выдернув из-под шкур карабин, включаюсь в веселье… и не успев сделать выстрела, понимаю, что всё, враги внезапно закончились.
— Это было… — стараюсь не глядеть не человечину, густо разбросанную по земле, — легко.
— Мы мужчины, — невозмутимо заметил Веит, слегка морщась при движениях. Всё-таки отбило ливер, несмотря на подстеленную под пушку доску и пару циновок.
— Со стальными яйцами, — широко улыбнулся Гирд.
Широко вздохнув похуделой грудью и сморгнув непрошенные слёзы, Бляйшман оглядел выстроившееся на площади коммандо… его коммандо! Триста человек отборных молодцев, и это только пока! Потом будет ого, а может даже и совсем два раза!
Фима уже видел сибе генералом с орденами, героически идущего по Одессе, на зависть всем, и особенно всяким, кто говорил разное. Да, за такое можно поступиться прибылью, особенно с надеждой на после войны.
Героические карьерные мечты прервал Бургер Шал, вышедший из Фолксраада вместе с парламентариями на принятие присяги.
— И всё-таки — почему? — неожиданно спросил он Бляйшмана в наступившей тишине.
— Мы… — Фима хотел было сказать заготовленные умные слова, но его таки вдохновенно понесло, в лучших традициях Привоза, только через высокое, — видим народ праведный на землях обетованных! Народ, который живёт по Книге, и имеет дерзновение говорить нет Сильным Мира Сего, и стоять за Правду вооружённой рукой!
— И… — он сглотнул и выдохнул жарко, на всю площадь, в каждое открывшееся ухо, — мы хотим встать рядом с вами, и отражать нашествие Врага, потому что так — правильно!
— А потом… — он оглянулся на коммандо, обведя взглядом, — те из нас, кто пожелает этого, осядет на освободившиеся от Врага земли, и заживёт так, как должно. По Книге.
Молчанье… и площадь будто выдохнула, а у некоторых буров увлажнились глаза.
«— Ой, — думал Фима озабоченно через несколько потом, закрывшись у себя в кабинете и делая вид через работу, — мине кажется, или я сказал такую сибе красоту, шо вышла уже таки политика? Ой вэй…»
— Зато, — попытался приободрить он сибе, — если это будет да, то я таки в истории и практически в сказке! Осталось только сделать её такой, где жили они долго, счастливо и богато!
Глава 33
Мишка моргает воспалёнными веками, щурясь на нас навстречу солнцу, время от времени прижмуривая их и распахивая вновь. В глубине его глаз — неверие в собственное счастье и отчаянное желание, што всё это не окажется сном.
— Вы… — и выдох счастливый, и плевать ему и нам на человеческое мясо под ногами. Шагнули, да и обнялись втроём, и долго-долго не распускали руки. Только три сердца бухали вразнобой, норовя проломить грудные клетки.
Расцепились когда, буры уже растаскивали колючую проволоку в сторону, деловито собирая чужие трофеи, прежде всего оружие. Ну… пусть, не тот случай, когда нужно считаться такими вещами.
Гриква ушли, как и не было, и упоминать о них, согласно уговору, нельзя. Не было и нет, а если кто и видел своими глазами, то обознался, вот! Такая себе политика с этнографией, которая хоть и любопытна, но лезть в неё с головой, становясь этаким Миклухо-Маклаем на здешний лад, ну никакого желания! А ежели без головы, то и оно и тово… буквально может осуществиться. Без понимания момента, но с дурным любопытством не к месту.
Это только на первый взгляд — аборигены объевропеенные, а на деле — за ними пастбища, пахотные земли и военная сила, не слишком шуточная по здешним диковатым местам. Политика здесь не проще, чем на Кавказе, а гриква и бастеры — вполне себе козырные карты в здешних раскладах.
Папаша, взобравшись на повозку, толкнул речь, надрывая глотку на все полторы сотни собравшихся, натягивая жилы на тощей шее и багровея лицом.
— … вот герои… — слова его время от времени пропадали для меня, и попытавшись протереть уши пальцем, я уставился на подсохшую кровь, осыпающуюся чешуйками.
«— Перепонки»
… знать бы ещё, што это, и насколько опасно…
— … подобно Иуде Маккавею[66], собрал всех ревнителей Бога… — голосина у папаши знатный, ну да здесь такое нормально. Окаём! Доорёшься пока до напарника, да через стадо голов сотни этак в полторы, то-то глотка лужёная станет!
Слух снова пропал, но взгляды у собравшихся в нашу сторону самые благожелательные и уважительные, так што сделал на всякий случай вид бравый и скромный, как и положено хвалимому. Судя по пунцовеющему Саньке и гордому нами Мишке, вроде как и да, хвалят.
Мы вроде как и со всеми, но чуть с краешку, не ввинчиваясь в толпу чужих для нас людей, едко пахнущих потом и болезнями.
Затем пели псалмы, и Мишка со всей серьёзностью, а мы с Чижиком и не так, штобы очень, но показываем как да. После псалмов на повозку влез Корнелиус, закатив проповедь, и судя по взглядам буров — зашло, да ещё как!
Закончилась проповедь, и сразу буднично всё, деловито. Бабы взялись кашеварить из найденных припасов, наводить какие-то жидкие болтушки. Мужики, знамо дело, за оружие да за инструменты, ну и так — любопытствовать.
Инвентаризация трофейного оружия не заняла много времени.
Девять винтовок «Ли-Метфорд», из которых одна пришла в полную негодность от картечи. Двенадцать винтовок «Ли-Энфилд», и почти три тысячи патронов к ним, почему-то преимущественно россыпью.
В палатке лейтенанта нашлось два охотничьих карабина, весьма недешёвых, и три револьвера, один из которых, украшенный перламутром и больше похожий на игрушку для светской дамы, озадаченные буры пустили по рукам.
Саблю за оружие не посчитали, но Санька вытребовал себе законный трофей.
— Так себе, — констатировал он пренебрежительно, проверив сталь и сделав пару взмахов, — металл качественный, а баланса толком нет, да и в руке плохо лежит.
— Над кроватью повешу, — не сдержал он сурового вида, расплываясь в совершенно мальчишеской улыбке.
— Там-тамы уже есть, осталось только щенка бульдога[67], — поддразнил я его.
— А и да? — брат раскраснелся, додумав недосказанную цитату.
— Да я разве против? — у меня пошёл откат после боя, и настроение дурашливое до глупости, — Главное, ты сам понял, чево хотишь!
— Да я-то да… — вздохнул он прерывисто, — а она… Надя ещё девчонка совсем.
Трофейное оружие, всё до последнего ствола, разобрали буры, причём по здешней патриархальности, исключительно мужчины. Я закусил было губу, и вознамерился набычиться и вмешаться, но Мишка успел уцепить меня за локоть.
— Не лезь, — тихохонько сказал он, подтягивая назад, — всё равно не послушают.
Войско наше приросло численностью, но вот грозность под сильным сомнением. Мужчины в лагере сплошь или престарелые, или пораненные. Отощавший Мишка, часто моргающий воспалёнными глазами и явно не отошёдший ещё на здешних скудных харчах от лёгких ранений, на их фоне вполне себе бравый вояка.
И… они никак с нами собрались!? Я-то думал выцепить Мишку, да и уйти тихохонько через горы кружным путём. Долго, но надёжно и почти полностью безопасно — с поправкой на неизбежные случайности. Втроём, да не спехом, избегая лишних встреч, оно вполне себе и действенный план.
Планы мои споткнулись о местные реалии, и после речи о Маккавеях народ воспринял всё несколько… буквально. Дескать, пойдут избранные Богом, войско грозное… религиозность буров, она иногда удивительно не к месту!
Сделал мысленную пометку, што Айзек Ройаккер недоговороспособен, потому как изначально уговаривались, што по окончанию операции он выделит нам трёх верховых лошадей, и будем уходить отдельно. А теперь, значица, так… глаза отводит, как и не помнит такого.
Дабы не наговорить всякого сгоряча, отошёл в сторонку и поглядел, как копают ямину для британцев. В живых никого не осталось, всех дурниной покрошили, н-да… Не спросишь даже, когда у них смена, или там пополнение, подвоз припасов… Неудачно получилось.
А другой стороны, чего Боженьку-то гневить?! Живы, целы, Мишка свободен, што ещё надо?! Уйти бы отсюдова целыми…
Место для могилы выбрали помягче, штоб не утруждать себя, и как это водится в Африке, лёгкая земля без особых каменьев, оказалась насквозь пропитанной ходами землероек, бурозубками, червями, многоножками и крохотными змейками. Едва ли не каждый взмах мотыгой перерубает пополам какую-то извивающуюся гадоту. Вёдрами для курей набирать можно.
— Самое то для бриттов, — мстительно сказал подошедший Мишка, ткнув в бешено извивающуюся многоножку носком ботинка, — знал бы ты…
— Так хреново?
— Ну… — он покусал потрескавшуюся губу, — особой жесточи не было, но паёк скудный, а списаться с родными на предмет помочь провизией, одеждой или хоть лекарствами запрещено. Такое, знаешь… цивилизованное скотство.
— Нецивилизованного тоже хватает…
Мишка поймал мой взгляд на папашу, суетящегося у повозок, и вздёрнул бровь. В нескольких словах объяснил всю суть, но к моему удивлению, брат не стал возмущаться, только похмыкал чему-то своему.
— Забудь, — сказал он наконец, — тот случай, когда што ни сделаешь — всё плохо. Я… хм, могу потом словами перемолвиться с нужными людьми в нужном месте, и будет у Ройаккера моральный долг.
— На безрыбье и рыбу раком, — нехотя соглашаюсь с Пономарёнком, — но всё равно раздражает. Если бы без платы, на одном патриотизме взялся…
— Забудь, — ещё раз повторил брат, — ну или если хочешь — дяде Фиме скажи, он ему деловую и прочую репутацию подпортит.
— Картечницу нашли! — добежал до нас Санька, ковырявшийся вместе с трофейщиками, — Айда!
Двухствольная картечница Гарднера, устаревшая и изрядно ненадёжная, без треноги и всего-то с парой сотен патронов, по здешним условиям пусть и не вундервафля, но вполне себе оружие. Гадать, почему она оказалась в ящике под бамбуковыми жердями, можно долго, но у лейтенанта уже не спросишь.
— К повозке приделать, а? — вопросительно посмотрел на меня Санька, — Штоб как с пушкой при нужде.
— Ну… можно, — соглашаюсь с ним, — только надо предусмотреть возможность палить не только с повозки.
Пока Санька объясняет бурам, што я слесарь не из последних, иду ковыряться в куче трофейного металла, на ходу придумывая возможные эрзац-станины. Несколько буров, не чуждых кузнечного искусства и знаний механики, взялись помогать.
В десяток рук сделали нехитрый вертлюг с раскладывающимися распорками, продырявив коловоротом дно повозки и укрепив отверстие металлом. Установили картечницу, отстреляли на пробу несколько патронов, правя заодно прицел. Нормально!
После обеда общее собрание, на котором постановили отложить выход на завтра. Повозок у нас всего три — папаши и две британских. А упереть надо продовольствие на всю толпу, да пяток обезноженных и полтора десятка тех, кто еле-еле ногами шоркает, от возраста или бескормицы.
Благо, быки и лошади не то што в избытке, но есть, так что взялись делать лёгонькие повозки с запасными колёсами из трофеев. За недостатком колёс и ненужности излишней крепости, возки делали самые простые: бамбуковый каркас, обшитый полотном, два колеса сзади, а спереди повозка жердинами опиралась на бычье ярмо.
Набежали тучи, и порывистый ветер сбросил на нас тяжёлые капли дождя. Пятнадцать минут ливня, когда вода бросается ветром со всех сторон, и всё, снова солнышко, только ручьи по раскисшей земле текут.
Снова закипела работа, а у меня в голове засело почему-то, как ветер повозки двигал, будто игрушки детские. Одна, почти готовая, обтянутая уже полотном, даже подлетела — к счастью, невысоко. Гвоздём в башке момент этот!
И будто я не я, а руки сами потянули бамбучины, а потом — ощущение полёта! Краешком этак, но…
… теперь я знаю, как. Делал. Именно такой, самодельный — на спор. Причины спора уже не помню, да они и не важны.
Набросав чертёж, и с трудом не то вспоминая, не то вычисляя заново нужное соотношение площади и веса, я мотанул головой братьям.
— Крылья, — отвечаю на незаданный вопрос, — увидите.
— Ф-фу… — тихохонько выдохнул Санька, и выставил вперёд ладонь, останавливая Мишку. Незаметные… как им кажется, переглядки… и вот мы в четыре руки делаем с Чижиком каркас, а Пономарёнок, наш бравый портняжка, уверенно кроит лейтенантскую палатку плотного шёлка.
Буры косятся, но не лезут, а уже вырубаю из жести кольца нужных размеров, скрепляя места стыков. И на всякий случай — верёвочками!
Дольше было обшивать каркас полотном, но бурские женщины то ли от любопытства, то ли в знак благодарности, взялись помогать, и за пару часов до заката дельтаплан был готов.
— Ну… — сердце колотится отчаянно, — бежим вместе, а когда скажу — отпускаете.
— Ага! То есть поняли! — отозвался Санька, на лице которого начало проявляться понимание, што может быть, я и не дуркую после контузии…
Разбег наш с пологого склона, смотрели, наверное, все буры…
— Отпускай! — поджимаю ноги, и воздух мягко подхватывает парусиновые крылья. Руки неуверенно пытаются вспомнить, как надо управлять неуклюжим летательным аппаратом, а в голове — эйфория!
… впрочем, скоро закончившаяся. Пролетев пару сотен метров, я так и не поймал восходящие потоки, и приземлился, гася скорость бегом. Оборачиваюсь…
… и вижу Корнелиуса, несущегося галопом на неосёдланной лошади. На морде лица — восторг неизбывный, как у человека, узревшего Чудо. За ним буры, братья… все вперемешку, в глазах сияние небесное.
Назад дельтаплан несли чуть не полсотни человек, настолько всем хотелось прикоснуться к Небу. Снова разбег, подживаю ноги, вдевая их в петлю, и… лечу!
И это не сон, подо мной — Африка! Крохотные фигурки людей машут руками, а у меня — счастье.
— Небо будет нашим! — ору я истошно, а на глазах — слёзы.
Глава 34
Круша африканскую твердь, мотыги мерно вгрызаются в землю, зарываясь всё глубже. Раз за разом вытягивается кожаное ведро на верёвке, и красноватая глинистая земля высыпается на растущий отвал земли.
Наконец могильщики выбираются из глубокой ямины и садятся на отвалы, закуривая трубки. Глаза сухие и кажется, даже умиротворённые, но…
… это только кажется. Кто сам не хоронил близких, умерших от болезней или злой бескормицы по весне, никогда не поймёт…
Короткая молитва, проповедь, пение псалмов, и маленькое тело Клааса, зашитое в парусину, опускается на протянутые руки.
— Никогда, наверное, не привыкну, — вздрогнул Санька, заслышав шорох осыпаемой земли, отворачиваясь с прикушенной губой.
Не первая смерть после освобождения, и скорее всего, не последняя.
Первым умер старый Франс с вытекшим от побоев глазом, всё радующийся, што умирает свободным и просящим похоронить его непременно на пригорке.
Потом Стэйн укусила какая-то ядовитая членистоногая гадота, и хотя обычно от укусов этой гадоты не умирали, но женщине, ослабленной длительным недоеданием, хватило.
Теперь вот четырёхлетний Клаас. В лагере ещё маялся животом, да так и не отошёл. Тяжело уходил, долго, искричался весь, а под самый конец — исхрипелся. Так вот…
— Я тут подумал, — начал Санька после ужина, да и замолчал, отвлёкшись на мысли.
— Ну?
— Ась?! А… о маскировке подумал, — брат подбросил дровишек в костёр, и пламя, затрещав искристо, начало облизывать смолистую толстую ветку, — У бриттов вон, поначалу все в красных мундирах были, а сейчас шалишь! В хаки переодеваются от бурских глаз, прицеливание штоб затруднить, да и так — не высмотришь уже колонну издалека.
— Ну и… — он взглянул на меня остро, — я тут за небо подумал. Эта… летадла твоя, она грязно-белая, так што сразу и не заметишь.
— Точнее, — он захмыкал весело, щуря глаза от дыма, — даже если глаза заметят, мозги не поверят.
— Ага, — весело отозвался Мишка, — люди не летают, и точка!
— Вот! — Санька вздел указательный перст, снисходительно кивнув Пономарёнку с видом гимназического учителя, и некоторое время они весело пихались, сталкивая друг дружку с брёвнышка, — О чём это я? А… И если немножечко помочь, раскраской… а? Контуры разлохматить, например — одни белее, другие серее. Штоб не треугольник твоей летадлы в небе виднелся, а такое себе… облачко рваное. Для обману глаз.
— Тогда и мне што-то шить надо.
— Угу… угу, — ещё раз повторил Мишка, меряя меня взглядом, — сейчас и начну.
— Охота тебе глаза трудить у костра!
— Охота или нет, — рассудительно отозвался брат, — а надо. Сам постоянно примочки к глазам после каждого полёта прикладываешь, а тут — тьфу! Тебе ж, по сути, два мешка балахонисто сшить, делов-то!
— Пойду баб озадачу, — поднялся Санька, — они тутейшие, наверняка ведь красят ткани, не могут не знать нужных трав.
Поутру подошёл ко мне папаша, выбранный в капитаны каравана, как местный и имеющий соответствующий опыт. Взгляд такой себе… между виноватым и задиристым. Когда человек осознаёт, што не прав, но и виноватым себя не считает, и как бы выпячивает, што если бы вдруг ещё — так же поступил бы!
Дёрнул губой на моё невставание с бревна, но смолчал, присев рядом с кружкой кофе и тощей лепёшкой в руках, поверх которой лежал кусище мяса фунта на полтора. Помолчали, подавили друг дружке нервы…
Я после его нарушенного слова перестал вести себя как бурский малолетка, равно как и Санька. Ну а што? Для маскировки, так больше и не надобно, а ради уважения… так разве только к возрасту, но — зась! Не уважаю.
Мишка же… я не сразу понял его слова насчёт переговорить и повлиять. А он, на минуточку, авторитетный боевой офицер, притом не назначенный, а выбранный в коммандо, што для европейца, а тем паче малолетки, такое себе ого! Собственно, даже и не ого, а единственный пока, прецедент.
И в лагере потом, из обмолвок буров, уверенно себя поставил… и мал-мала британцев построил, што и вовсе — не каждому дано. Мягко говоря.
Для меня-то он по-прежнему тот самый застенчивый хромоножка, вздыхающий на гоняющих мячик футболистов, а оно вишь ты как интересно вышло?! На деле же — офицер, притом настолько для буров свой, насколько это вообще возможно.
Будь у него опыт вождения именно караванов, хрен бы там Ройаккеру капитанство бы обломилось! Папаша наш не из последних людей, но среди освобождённых есть народ поавторитетней. Вылез он отчасти как местный, то бишь знающий местность до последней сурочьей норки, а отчасти — как освободитель. Но ни я, ни Корнелиус не намерены скрывать и не скрываем, што план по освобождению — мой!
Такая вот у нас в караване ерундистика, с высокими отношениями. Сложно закрученная.
— К полудню надо будет решать, куда поворачивать, — неспешно сказал папаша, кусанув мясо.
— Взлечу, — отвечаю после короткой паузы. Посидели так, поели… не то штобы хлеб переломили, но — вместе. Может, и в самом деле… моральный долг и всё такое? Надо будет уточнить у брата, што это вообще такое в понимании буров.
Трое мальчишек, выслушав Ройаккера, унеслись вдаль на рысях, разведывать подходящую площадку для подлёта. Я же забрался под… хм, летадлу, прячась от солнца.
Совестно немного вот этак, чуть не в паланкине ехать, а куда деваться? Ветрище на высоте ажно веки выворачивает, и без очков типа шофёрских — зась! Пялиться-то надо вовсю, навстречу ветер, на насекомые, ети их насекомьих мамаш!
После первого полёта глаза промывал, да с примочками лежал. Вот и сейчас — лежу, пока летадлу вместе со мной тянут по вельду три бабьих силы. А куда деваться?!
Переть-то я могу, сила в ногах есть, а вот глаза поберечь надо. Вслепую же по вельду тащиться, так это не до первой норы или кочки, так до второй! Вот… барствую.
… разбег…
— Пускай! — поджимаю ноги, вкладывая в лямки, и ощущая всеми крылами, как меня подхватывает ветер. Летадла моя тяжеловата в управлении, и вот ей-ей, есть там што править и переделывать! Но потом. А пока так, как есть, ибо работает — не тронь! В полевых-то условиях.
На высоте довольно холодно, и если бы не надетая заранее одёжка с преизбытком, да мешковатая братова парусиновая шинелка с ногами, так и совсем бы зазяб! Несколько минут набираю высоту, кружа вокруг да около каравана, и старательно примечая всё-всё…
Начинаю кружить по кривым спиралям, охватывая всё большую и большую территорию, и остро жалея об отсутствии фотоаппарата. Такие кадры! Но вот ей-ей, в Претории понаделаю — придумал уже, как и што. Единственная заковыка, так это выставить нужное расстояние, но и то — решаемо.
Горы, ущелья, складки местности и самомалейшие ручейки ложатся в голову, и я уже поворачиваю было назад, когда замечаю тонкую колонну в походном строю. Британцы! До полуроты людей, шесть… нет, всё-таки семь повозок, все верхом. Драгуны или полноценная кавалерия, с высоты не видно, а снижаться не хочу.
Пару минут трачу на запоминание и уточнение, привязку к координатам и соотношение масштабов. С высоты расстояние сильно иньше виднеется, так што помимо опыта из прошлой жизни, пытаюсь соотноситься с фигурками пасущихся буйволов, к примеру.
Кружанув, возвращаюсь назад, и подлетев к каравану, начинаю снижаться. Круг, ещё круг… ветер игриво подхватывает летадлу, и вместо мягко приземления, бегу на отбитых пятках, снижая скорость.
Летадлу подхватывают за бамбучины, не давая опуститься на кочкастую землю. Отношение к ней, да и отчасти ко мне, у буров самое трепетное. Сперва — глазами своими наблюдали человека в небе, притом вроде как по наитию — то бишь несомненно с Божьей помощью, в чём никто не сомневается.
Да и практическая польза сразу пошла — несколько взлётов всего, а маршрут поправить, навести охотников на стадо антилоп, вставших в распадке самым неудачным для себя образом. Уже немало.
— … до полуроты, — ещё раз повторяю старейшинам. Раф Ван Огтроп кусает губу, Ройаккер чуть крепче стискивает желтоватыми зубами черенок трубки, Веннер невозмутим.
Склонившись над картой, бурно обсуждают, где именно находятся британцы… Увы, но карту буры читают так плохо, што почти никак. Казалось бы, охотники и пастухи, а вот поди ты!
В голове курс географии держать могут, а вот соотнести нанесённые на бумагу кроки, сделанные по всем правилам науки — хрена! А ведь казалось бы, знакомые насквозь места. Наконец, делают привязку карту к своим заскорузлым мозгам, и в глаза читается явственное облегчение.
Мишка, внимательно слушая мои поясняющие ответы, поднимает руку, и… буры, ни разу не стеснительные, только што ругающие друг дружку только што не по матушке, замолкают. Што значит — репутация!
— Мимо нас они никак не пройдут, и значит, нужно принимать бой. Идём навстречу, форы у нас от шести до четырёх часов в худшем случае. Устраиваем засаду.
На лицах старейшин, вспомнивших было… ну хотя бы о возрасте… и открывших уже рты для возражений, проступает задумчивость. Засады они любят, умеют, практикуют.
— Пушка… — брат задумывается ненадолго, — установим здесь, на безлесном склоне.
— Ой ли? — вылезает у меня.
— Именно, — кивает он, улыбаясь по котячьи, — подвоха на голом склоне они искать не будут, проедут спокойно. А у нас — полно времени и есть буры, которые и к горным работам привычны, и охотники — первые в Африке. Неужели замаскироваться не сумеют?
Старейшины захмыкали, запушили бороды.
— Эти? — понял я братову игру, — Смогут.
— Ну вот, — чуть улыбнулся Мишка, подмигивая Чижу, взявшемуся рисовать нас, а заодно и погреть уши, — сколько там ещё пороха?
— Фунтов семьдесят, — подобрался папаша, мигом почуяв интересную возможность.
— Замечательно, — Ройакер расцвёл от улыбки брата, отчего я мысленно присвистнул — вот же… вырос мальчик! Людей строит, как так и надо! — сколько сможем собрать за короткий срок?
Буры заспорили, а потом как-то р-раз! И скачут уже верховые туда, готовить артиллерийские позиции, да намечать лучшие места для стрелков.
— Быть ему генералом, — посулил Чижик, глядя вслед Мишке, — вот помяни моё слово!
Британская колонна в походном строю втягивает в узкую лощину, протянувшуюся меж крутых склонов. Порядка шестидесяти человек в конном строю, семь на козлах, и сколько-то там в повозках.
Выглядывая из щели, стараюсь не пялиться слишком уж пристально, зная по опыту, што взгляд можно почуять. Капитан… многовато для маленького отряда. Немолодой, и сильно немолодой, как бы не выдернутый из резерва, куда ушёл лет этак десять-пятнадцать назад.
А значит… смутно припоминаю, што по британским законам — офицер, призванный на службу из резерва, поступает на службу с понижением в звании. Но это не точно! Целый майор, выходит? Однако…
Рядышком молодой второй лейтенант, ещё один офицер ближе к середине колонны. Патруль по всем правилам — конный разъезд, опережающий колонну на полмили. Проехали…
Ловлю себя на том, што начал грызть ногти, и спешно выдёргиваю их изо рта. Ну, ну…
Британцы проезжают мимо голых склонов, покрытых редким низкорослым кустарником, да чахлой травой. Дальше почва не сплошь глина с каменьями, и растительность вполне себе пышная. Самое то для засады! Но не вьются над деревьями потревоженные птицы, не шевелятся ветки… буры! Подготовив себе укрытия, вот уже два час без движения — так, што и фауна местная подуспокоилась.
Пусть ждал, но выстрелы всё равно прозвучали неожиданно. С седел слетели офицеры и сержанты, возничие повалились на козлах.
Вжимаю тлеющий фитиль, не забыв на этот раз заткнуть предварительно уши и отрыть рот. Выстрел! Несколько фунтов каменной дроби, да с расстояния всего-то метров пятнадцать, это… дымно. В унисон прозвучало ещё четыре пушечных выстрела, и безлесные склоны заволокло густым дымом, тут же почти рассеявшемся на протяжном ветру.
Установленные наискось, пушки собрали кровавую жатву. Кто там ранен, кто убит… выпускаю пулю за пулей, и с такого расстояния не промахиваюсь. Выцеливаю только ближних — тех, кто может как-то…
На дороге — месиво из человечьих тел и конских туш, бьющихся в агонии. Выстрел… руки тянутся за патронами…
… отбиваю летящий в грудь штык и качусь по склону, пытаясь подняться.
Санька влетает во вражину обеими ногами, отбрасывая в сторону, и ведомый инерцией, пробегает в самую гущу британцев. Тонкая фигурка начинает свой танец, уклоняясь от штыковых выпадов и отражая их ударами трофейной сабли.
В правой клинок, в левой револьвер… Секунды… Успеваю добить подранка ножом в шею, нашариваю патроны, и… нету! Выпали, пока катился по склону, и… у британцы — тоже!
— А-й, бля! — подхватив трофейное ружьё, криком заглушаю страх и бросаюсь на выручку брату. Двое — лучше, чем один.
Выпад! Капрал умело уклоняется, но поскальзывается на трупе товарища и падает, всплеснув руками в тщетной надежде уцепиться за воздух.
Увидев дикий взгляд Саньки за свою спину, пригибаюсь, и его револьвер ставит точку в жизненном пути немолодого британского солдата с натруженными руками горняка. Развернувшись на распоротой брюшине бритта, воющего на одной ноте, впечатываю приклад в колено молодого мужчины в щегольском френче, какие любят здешние искатели приключений, выскочившего из возка с револьвером. И тут же — коротким коли! Штык вошёл под подбородок, и до самого мозга.
Успеваю перехватить револьвер убитого, сделать два выстрела, и… всё, британцы закончились.
Четверо пленных, хотя зачем они нам… но вот положено, да и нет у буров озверения, даже после концлагеря. Женщины перевязывают раненых врагов и обихаживают своих. Я не лезу, ибо научен уже.
У нас погиб только старый Альберт Бахюсен, не получив ни малейшей царапины. Сердце. Но всё равно, смерть в бою. Достойно… пожалуй, это тот нечастый случай, когда не ощущаю печали. В неполные девяносто уйти вот так? Многие позавидуют.
Трофеев много, наконец-то вооружены все способные держать оружие, и даже если это женщины и десятилетние дети, это серьёзно. Они всё равно — буры.
Одна повозка подпорчена, и похоже — безвозвратно, добрая четверть лошадей убита, ещё четверть ранена, но всё же, всё же…
Мы с Санькой в сборе трофеев участия не принимаем, отмываемся поодаль, в протекающей мутноватой речке. Грязища, кровища, говнище… Выглядим мы, да и чувствуем себя, как два упыря.
Мерзко, и жосткий отходняк после боя. Саньку потряхивает, но вижу это только я, да подошедший Мишка — чистенький, насколько это вообще возможно после долгого перехода и лежания в засаде.
— Трофеи, — протягивает он мне медальон и документы от того непонятного, — Твой коллега, как оказалось.
«Уинстон Черчилль, газета Морнинг Пост».
Мелькнуло в самой глубине што-то похожее.
Глава 35
— Наши… — выдыхаю на земле встречающим, спешно отцепляя с пояса страховочный трос и скидывая шинелку. Не отходя далеко, начинаю делать кроки на подсунутом планшете, сев прямо на пыльную землю, скрестив ноги по туркски.
«Техники» из наземной команды, косясь любопытно, спешно утаскивают летадлу на повозку, проверяя ткань на разрыв, а бамбучины на трещиноватость. Необходимости в починке пока не возникало, но в теории, готовы они к любому сюрпризу.
— Наши, — подняв на миг голову, повторяю подошедшему Мишке, дорисовывая кроки без излишней спешки, — из Европейского Легиона. Ручаться не буду, но кажется, из коммандо Дзержинского, то бишь Первый Сарматский в европейской классификации.
— Вот здесь… — тыкаю карандашом в кроки, и надо мной склоняются физиономии командиров, — столкнулись с британцами, по виду совершеннейшее ополчение из Капской колонии.
— Так, так… — Ван Огтроп по извечной своей привычке начинает жевать нижнюю губу, обнажая желтоватые зубы, поредевшие после концлагеря, — численность?
— Около полусотни наших и сотня бриттов. Ну… то есть сейчас бриттов меньше, — поправляюсь я, и прямо-таки всей кожей чувствуя, какое облегчение сейчас у буров.
— Я так понимаю, — веду карандашом по карте, — сарматы их переиграли. Разведка получше поставлена, ну и вообще — вояки толковые, с нормальной выучкой. Подловили на марше растянутую колонну…
— Сверху хорошо видно, — прерываюсь для пояснений недоверчиво сощурившемуся Веннеру, — бриттские трупы так в колонне и легли, как шли.
Кивок, и я продолжаю.
— Наших меньше было, но порядка двадцати ополченцев они сразу выбили, в походном ещё строю. Десятка полтора-два чуть погодя, да и сейчас у них тактическое положение лучше. Бритты огрызаются, но отходят во-от сюда… — буры как заворожённые следят за карандашом, — а зацепиться им не дают.
— Поправьте, если я ошибаюсь, — и Мишка склонился над картой, водя перстом, — они либо вот по этому маршруту отходить станут, либо…
— Так, — каркнул Веннер, закивав и достав из кармана трубку, — это только кажется, что в вельде много путей!
Все закивали глубокомысленно, потому как это только бушмен гололожопый свободен идти на все стороны света. Росы лизнёт, ящерку сожрёт, и тем напоен и сыт бывает. А когда ты на лошади, да тем паче не в одиночку, всё иначе! Вода нужна, и много. А ещё проходимость дорог для лошадей, наличие для них годящей травы на маршруте и так далее.
— Огневой мешок? — предлагаю я, воспользовавшись паузой, — Пойти навстречу, да встать вот здесь… Аккурат с одной стороны холмы обрывистые, а с другой рощица акациевая тянется. Подготовить позиции, и нахрапом уже не возьмут, а выход картечницей перегородить.
— Дельно, — отозвался брат мгновенно, — только перегораживать не будем.
— Золотой мост, — коротко пояснил он, видя моё непонимание, и я полыхнул ушами. Сам же рассказывал ему о такой воинской стратегии, и на тебе!
— Крыса, загнанная в угол, может быть опасной, — разъяснил Мишка для буров, — оставим им мнимую возможность для бегства.
К чести буров, уклоняться от сражения никто не думал. Хотя… засады онилюбят, умеют, практикуют! Тем паче, уязвлённое после плена самолюбия требует умастить елеем побед душевные раны. Если бы африканеры были знакомы с милыми североамериканскими обычаями, бриттские трупы щеголяли бы не только отсутствием личных вещей и сапог, но и скальпов.
Повернули караван в нужную сторону, а детали плана обговаривались на ходу. Засев в поскрипывающую повозку, заспорили о мелочах, и как это бывает у африканеров, в качестве аргументов нередко приводились такие веские доводы, как длинна родословной и заслуги предков, ну и крепость в вере, куда ж без этого?! Мишка морщится еле заметно, но не перебивает.
Включённый в число командиров, я вместе с ними в повозке, то и дело уточняя и вспоминая. Пологи откинуты спереди и сзади, но горячий воздух недвижен и влажен, вплоть до душности, отчего я обливаюсь потом и дышу чаще.
Пахнет немытыми телами, больными зубами, табаком и почему-то зоопарком. К человеческой нечистоте примешиваются пряные запахи вельда, на выходе давая што-то душное и гнилостное. Вошки ещё… Почесавшись незаметно, ловлю понимающий взгляд брата, и вздыхаю.
К полудню вышли на искомую позицию, и выслав вперёд конную разведку, принялись готовиться к бою. Перво-наперво выбрали позицию под картечницу, не забывая притом о её невеликой надёжности. Поставили аккурат на краю акациевой рощи, обложив бруствером и накидав для пущей гадотности камней вокруг. Не то што конница ноги переломает, тут и пешком если идти, под ноги придётся глядеть!
Нарубленным колючим кустарником перегородили проходы в акациевой роще. Без особых изысков — ровно так, как это делают в вельде, огораживаясь на ночёвке от хищников. Напоследок соорудили брустверы, уже с ясной неохотой и не выше, чем по пояс.
Папаша, сидя неподалёку с ружьём наизготовку, всё вздыхает и печалится о потраченном порохе. Сейчас бы ещё фунтиков этак с десяток, и то-то славную можно было бы стрелядлу соорудить!
Наконец прискакали разведчики, вздымая копытами красноватую пыль.
— Гонят! — выдохнул главный из них, мальчишка лет восьми, гордый участием в самонастоящей войне, и своей в ней героической ролью, — Как заорали «Марга!», да в сабли! Ух!
Он спохватился, и приняв серьёзный вид, как и полагается почти взрослому буру, степенно рассказал подробности виденного. Переглянувшись и похмыкав многозначительно, будто и правда много поняли, разошлись по позициям.
Ожидание боя высушило губы и глотку, заболели глаза от нежелания моргать, но вот наконец раздался рокот копыт, и с пологого холма покатилась бриттская конница. Коней нахлёстывают так, што и знатоком быть не нужно, штобы увидеть панику! Р-раз! И оступившийся конь кубарем покатился по склону, ломая себя и седока.
«— И правда ополчение» — довольно констатировал я, прижимаясь к прикладу щекой и выжидая, пока первые всадники доскачут до условленного места. Рядом сопит сосредоточенно Санька, и это мерное сопенье почему-то успокаивает.
Защёлкали выстрелы, и передние ряды будто споткнулись, создавая затор. А с холма вытекают всё новые бритты, сталкиваясь с закружившимися на месте товарищами.
Посылаю в это месиво пулю за пулей, и от горячечного азарта не всегда попадая. Хоть и близко они, всего-то саженях в семидесяти, а такой хаос на дороге, такое мельтешение рук, ног, голов, вздыбленных коней и валяющихся на земле человечьих и конских тел, што и не передать! Пальба, ржанье, крики агонии и ярости, боли и ужаса.
Без надобности стрекотнула картечница — видимо, стрелку захотелось принять участие в бою, а не сидеть в засаде. Выстрелы, разрывающие тела пополам и отрывающие конечности, стали для англичан последней каплей.
— Сдаёмся! — послышался надрывный крик навеки сорванной глотки, — Сдаёмся!
Недружные поначалу крики слились в единый хор, и стрельба прекратилась. Под прицелом винтовок и грозно поводившей стволом картечницы, бритты выбирались из человеческого фарша, складывая в сторонке винтовки и сабли, совершенно сломленные.
Немного осталось… полтора десятка человек, это если считать раненных, добрая половина которых не переживёт и суток. Мишка тут же устроил короткий допрос — кто, откуда, с какой целью… Дико глядя на командующего степенными бородачами подростка, британцы накручивали в своих головах невесть што, отчаянно пугаясь.
Хозяйственные буры, ни мало не смущаясь кровавой гекатомбы, полезли растаскивать тела, обзаводясь трофеями. Одна из женщин, потянув за приглянувшийся сапог, вытащила его вместе с оторванной картечницей ногой, и откинула раздражённо в сторону.
Подобное мародёрство нельзя одобрить, но невозможно и осудить. Добрая половина бывших заключённых щеголяет бог весть в чём, а самая большая проблема как раз в отсутствии обувки. Ботинки не по ноге, подвязанные бечёвкой, как норма. Некоторые щеголяют в воняющей сыромятине, которую не так-то просто выделать в походных условиях.
Мы же с Санькой, брезгуя до рвоты таким несомненно важным делом, да и не слишком нуждаясь в трофеях, поднялись на гребень холма, куда уже подъезжали дзержинцы.
— Ну здорово, Котяра, — ухмыльнувшись, поприветствовал я командира.
— Окрестности Дурбана зачистили мало не под ноль, — степенно рассказывал Котяра устроившимся вокруг бурам, усевшись со всем удобством на нагретом солнцем валуне, и подбирая слова на голландском и немецком, — убитых мало, но поместий пожгли…
Он зажмурился сладко, и буры заухмылялись в бороды, перемигиваясь и пхаясь локтями. А… ну да, они ж и сами всю свою историю воюют, так што рассказ Котяры им не только елеем на сердце, но и насквозь понятен.
— В город… — друг зашарил по карманам, примолкнув, и один из бородачей понятливо поделился трофейной сигарой, подкурив заодно.
— Благодарствую, — кивнул друг, окутываясь клубом дыма, — в город тоже пробрались… Сэм! Сэмми!
Через ряды буров и европейцев протиснулся тощий техасец с лицом потомственного уголовника, скалящийся во все свои два десятка прокуренных зубов.
— Сэм, расскажи-ка, как ты в город пробрался!
— В город? — он осклабился, и начал рассказ, поминутно подмигивая, откашливаясь и отхаркиваясь. История его звучала, как сказка Шахрезады… очень, очень похабная и кровавая сказка!
— Но склады сгорели, — развёл руками Котяра в ответ на недоверчивые взгляды буров, и в глазах мужчин появилось задумчивое выражение. С таким примеряется на себя чужое приключение, и судя по африканерам, примерялось с трудом.
«— Отморозок» — отозвалось подсознание.
— Много убили британских солдат?! — протиснулся вперёд, задал вопросдавешний мальчишка-разведчик, чувствуя себя вправе стоять сегодня с взрослыми. Крепко сжатые кулачки прижаты к груди, взгляд горит жаждой подвига.
— Моя рота около двухсот британцев, — тотчас отозвался друг, — и вот ей-ей… не зряшная оговорочка, понятая взрослыми.
— Целящий в тебя не имеет возраста и пола, — отозвался Корнелиус, занявший в отряде место пастора, и африканеры согласно загудели.
— Ну… да, — кривовато улыбнулся Котяра, — потом изгоном пошли через Наталь, отреконь…
— Это… — он замолк, подбирая слова, и я поспешил перевести.
— Да! — сдвинув шляпу на затылок, кивнул Иван, — Как метлой прошли, подметая разрозненные отряды! Это слухи ещё пошли, сбились в отару. А так… десять, много двадцать человек, дважды и вовсе без выстрелов обходились, в сабли брали!
Он оскалился коротко и хищно, в глазах мелькнуло што-то очень тёмное… тут же исчезнувшее. Надолго ли?
— Мы пленных допрашивали, — продолжил он как ни в чём ни бывало, — так те в один голос говорили, что двинулись на помощь родне в Дурбане. Н-да… не всегда своей, но всегда командирской. Спешили спасти плантации.
Лицо его прорезала саркастическая ухмылка, и дёрнув подбородком, Иван указал на пленных, копавших могилы своим павшим товарищам.
— Вон… — ядовито сказал он, — плантаторы…
Глава 36
— Да-да! — рассеянно отозвался Максимов, не отрывая головы от документации. Подняв наконец голову, он часто заморгал и протёр красноватые, воспалённые от постоянного недосыпа глаза.
— Владимир Алексеевич? — осторожно осведомился он наконец, вставая навстречу.
— Он самый, Евгений Яковлевич, он самый! — радостно отозвался чисто выбритый и вкусно пахнущий Гиляровский, захватив руку и тряся её, а затем, не удовлетворившись этим, обнял подполковника, закружив по комнате.
— Решил своими глазами повидать, за што воюют мои мальчишки, — зажурчал Гиляровский, не выпуская руку, — да и приехал собственной персоной. И не один! Извольте!
С хохотком подхватив подполковника за талию, он перенёс его к распахнутому окну.
— Вот, — с гордостью расправив усы, констатировал Владимир Алексеевич, — мои молодцы! Ни много, ни мало, а семьдесят человек один к одному!
— Я, знаете ли, — зарокотал он в самое ухо, наклонившись самым доверительным образом, — и не думал даже, оно само как-то!
— Вечно у вас всё само, Владимир Алексеевич, — вздохнул Максимов, знакомый с ним не первый год. Гиляровский радостно заулыбался, будто услышав изысканный комплимент.
— Я, видите ли, — снова зарокотал он, — из Москвы выехать не успел, а уже почти десяток человек в отряд напросились! Да каких! Охотники, военные бывшие… а?!
Выпятив грудь, Владимир Алексеевич полюбовался на своих молодцев с видом полководца, ведущего смотр гвардии.
— В Одессу не успел приехать, как ещё нагнали, да-с… Ну и в Одессе, тут уже разный народец подоспел, потому как репутация!
— Вижу, — вздохнул Евгений Яковлевич, пристально разглядывая пресловутый «разный народец», ощутив внезапно холодок в кармане. Машинально охлопав его, он кашлянул смущённо и достал портсигар, якобы его и искал.
— Благодарю, — не чинясь, Гиляровский взял предложенную папиросу и прикурил, окутавшись клубом ароматного дыма, — я всё больше нюхательный, но иногда и не прочь побаловаться. Местный табачок?
— Верно, — подтвердил благодушно Максимов, — буры заядлые курильщики, а в здешних благодатных краях знатный табак вызревает! Ничуть, скажу я вам, не хуже кубинского.
— Вы не тревожьтесь, — заметив взгляд подполковника на новоприбывших, отозвался Гиляровский, — народец здесь всякий есть, это верно. Но не совсем уж… хм, всякой твари по паре. Откровенных тварей и тварюшек отсеяли сразу — есть, знаете ли, чутьё на подобную публику. Да и знаю я одесситов, а они меня. Если кто и помышляет чем, то разве што аферами и честной контрабандой.
— Честной, — поперхнувшись дымком, качнул головой Евгений Яковлевич, несколько успокоенный словами старого знакомого.
— Да, — расправил плечи Гиляровский, — и контрабанда может быть честной! Если бы…
— Господь с вами, Владимир Алексеевич! — замахал на него руками Максимов, — Помню я вашу позицию по этому вопросу, помню! Не согласен — да, есть такое, но помню.
— До самого конца войны пообещали держать в узде свои наклонности! — стукнул себя в выпяченную грудь Владимир Алексеевич.
— Хм… я так понимаю, по окончанию оной они развернутся? — иронически поинтересовался собеседник, приподняв слегка бровь и выпуская дым колечками.
— Разумеется! — будто бы даже удивился Гиляровский, — Но уверяю вас, государству они будут на пользу!
— Сложно с этим согласиться, — дёрнул головой Максимов.
— Евгений Яковлевич, голубчик! — Гиляровский аж руками всплеснул от переизбытка экспрессии, — Вы же бывший жандарм, и забыли азы своей профессии?! При любых раскладах настоящего мира здесь не видать ещё с десяток лет! Даже при полнейшей победе буров можно ожидать как минимум торговой блокады со стороны Британии, а мне ли вам говорить, как важны в такой ситуации становятся люди, способные провести утлые челны с контрабандой мимо сторожевых катеров?!
— М-да… уели, — согласился Максимов с улыбкой, — привык мыслить имперскими категориями.
— Только, изволите видеть, — Гиляровский тщетно попытался сделать виноватый вид, в то время как его распирало от гордости, — есть небольшая закавыка! Молодцы сии решили выбрать своим командиром меня.
Он развёл руками, и в светлой просторной комнате вмиг стало тесно. На усатом его лице через виноватый вид проступала довольная улыбка, комкаемая в гримасах скромности.
— Не вижу никаких проблем, Владимир Алексеевич, — благосклонно кивнул подполковник, — военный опыт у вас есть, тем более и воевали в пластунах. Я так понимаю, планируете вспомнить былое?
— Безусловно, — крутанул ус Гиляровский, — да и народ подобрался самый подходящий!
— Где остановились, — поинтересовался Максимов, — в чём нуждаетесь?
— Не извольте беспокоиться, Бляйшман озаботился, — отмахнулся Гиляровский, как от чего-то несущественного, и подполковник только крякнул, крутнув шеей. Ледисмит никак не изобилует свободными квартирами, несмотря на исход большинства жителей, — с полным пансионом на ближайшую неделю. Я вещи в свои комнаты закинул, ванну принял, побрился, да и сразу к вам.
«— Комнаты, ванна…» — Максимов почувствовал себя несколько уязвлённым. Подумать только — он, один из первых людей в гарнизоне, с трудом нашёл себе жили с достойными условиями, а тут какой-то Бляйшман…
Выбросив из головы охранительскую неприязнь к мятежному бывшему подданному, развернувшемуся на чужбине излишне широко, он подвинул к себе чернильницу и выписал Гиляровскому пропуск и документы ассистент-фельдкорнета.
— В ближайшую неделю-две побудет со своими людьми в городе, — деловито сказал Максимов, вручая бумаги, — Немного муштры и знакомства с африканскими реалиями вам не помешает.
— Угу… — рассеянно отозвался Владимир Алексеевич, с любопытством изучая документы, — а… мальчишки мои где? Соскучился, знаете ли…
Начало темнеть, и темнокожий босой официант прошёлся по залу ресторана, зажигая керосиновые лампы с видом человека, на которого возложена великая миссия.
— Масса, — извиняющимся тоном сказал он, приблизившись к нашему столу и снимая висящую над ней лампу. Сосредоточено пыхтя, подкрутил фитиль и достал из кармана белоснежного фартука массивную зажигалку. Крутанулось колёсико о кремень, и в белках глаз чернокожего служителя отразились огоньки пламени.
— Масса, — улыбнулся он с видом человека, выполнившего не иначе, как важный религиозный ритуал, и удалился наконец камергерской походкой.
— А у меня таких две сотни, — с тоской сказал Корнейчук, мельком глянув вслед служителю, зябка поёжившись от наступающей ночной прохлады и накинув на плечи куртку. Некоторое время молчали, наслаждаясь местной выпечкой с молоком, и глядя на пляшущих у огня ночных мотыльков.
Защитная сетка не даёт им обжечься о горячее стекло, но среди этой причудливой мохнокрылой братии нашлись свои хищники, и на наших глазах разыгрываются полные драматизма сцены. Чуть погодя под высокими потолками заметались маленькие летучие мышки, стремительными тенями появляющиеся и исчезающие. Этакие соколы ночи, страшненькие и притягательные одновременно.
— Забавно, — безразличным голосом сказал Николай, прикрыв ладонью кружку с молоком от насекомых, — я думал, что когда стану взрослым, то непременно буду курить трубку и пить вино.
— Не хочется?
— Не-а! — мотнул он головой и усмехнулся, — пара боёв, и приходит понимание, что не хочу ни под кого подстраиваться.
— Хер, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь[68], — вылезло у меня.
Коля расхохотался, утирая слёзы, и очень скоро вся наша вялая умственная усталость ушла, как и не было. Послышались шуточки в одесском стиле, и на смех начали было оборачиваться посетители, но заприметив за столом четырёх офицеров, лезть с приятельством не стали.
— Как дела в Южной Родезии? — поинтересовался я у Николая. Тот фыркнул и некоторое время молчал.
— Каша, — сказал он наконец неохотно, — матебеле и ндебеле восстали, но вояки из них… сами знаете. В девяносто втором матабеле, имея восемьдесят тысяч копейщиков и двадцать тысяч стрелков, вооружённых современным на тот момент огнестрельным оружием, были наголову разгромлены на своей территории. Противники — семьсот пятьдесят человек родезийской полиции, и около тысячи белых ополченцев.
— Прямая граница с германскими колониями, — веско добавил Мишка, с неохотой отодвигая от себя не лезущую уже выпечку, — и здесь уже начинается большая политика. Ба-альшой такой пряник перед носом кайзера и германских промышленников! Южная Родезия де юре не относится к землям Великобритании, а является владениями Британской Южно-Африканской Компании Родса.
— Частная собственность британских граждан священна, — дополнил я, — но всё-таки меняя священна, чем земли Короны.
— Угу, — кивнул Понмарёнок, откинувшись на спинку стула и широко зевая, — не факт, што буры смогут переварить национализированные компании Родса и иже с ним на землях Трансвааля, а тут кусок куда как побольше. Для элементарного развития придётся допускать иностранный капитал, смекаешь?
— О как, — сусликом замер Чиж, — это што… война?
— Ну… война или нет, это не нам решать, — рассудительно ответил Мишка, — но по мне — если будет большая драчка, то лучше пусть европейские государства за колонии дерутся. Здесь, а не там, не дома. В колониальные войны нас если и втащат, то разве што краешком. Не по нашим зубам пирог!
Ресторан начал заполняться, и причудливые тени заплясали колдовские пляски, изгибаясь под невероятными углами. Начали подходить знакомцы на поздороваться и перемолвиться парой слов, и разговор за большую политику пришлось прервать.
Сперва от нас оторвали Мишку по штабным делам. Раз, да два… и вот за соседним столиком фельдкорнет Пономарёнок проводит импровизированное то ли совещание, то ли штабные игры.
Санька выцепился как художник. Очень вежливый член фольксраада, приехавший в Ледисмит по делам, клещом вцепился в брата, уговариваясь о работе.
Накинул куртку, и разом стало тёплышко и славно, такое себе уютное гнёздышко посреди многолюдной и странной африканской ночи. Пришли тягучие мысли о том, што помимо Германии в земли Южной Родезии непременно должна вцепиться и Франция, потому как куш слишком велик. И буры, если не дураки, должны добиваться совместного протектората этих стран.
Франция больше тяготеет не к Англии даже, а против Германии, захватившей не так давно Эльзас и Лотарингию, но… можно. Даже если не вцепится в родезийские ресурсы, соблазнившись британскими посулами на иной кус, то всё равно — время! Договориться промышленникам и дипломатам, когда на кону такой куш, будет ох как непросто!
Пять-семь лет отыграть, пока серьёзные игроки делят добычу, сварятся из-за территорий и зон влияния. А за эти годы много можно успеть… да хотя бы — подготовиться к грядущей войне!
Будет у буров разумная иммиграционная политика и взрывное развитие промышленности и экономики, вполне достижимое при таких колоссальных ресурсах, смогут выстоять. Не выиграть… но хотя бы проиграть с наименьшими территориальными и человеческими потерями. А может быть…
Тряхнув головой, выбил из головы геополитические глупости. Как там у великого поэта? А… каждый мнит себя поэтом, видя бой со стороны[69]!
— … матабеле с бечуанами сцепились, — глуховато рассказывает Коля, чуть наклонившись вперёд. — В последней войне тсвана[70] на стороне британцев выступили, и вот теперь матабеле им мстят.
В голосе фаталистичность лёгкий пока што налёт цинизма, не въевшегося до самых глубин души.
— Противно?
— Так… — рот его прорезала кривоватая усмешка, — принцип меньшего зла. Какие уж там свары у матебеле и бечуанов были в давние времена, Бог весть. Да и не тянет разбираться, ежели по совести — больно уж история их легендарная, врака на враке сидит и эпосом с пафосом погоняют.
— Просто, — он усмехнулся ещё раз, вовсе уж криво, — есть свои и чужие, вот и всё.
— А вы-то как с Борей туда влетели?
— А это забавно было, — оживился Коля, — после госпиталя… а, ерундистика, не бери в голову! Меня по виску чиркануло — краешком, но лихорадка привязалась. Да… видишь? Ничего серьёзного, только шрам красивый остался, как у германских буршей! А Борке пуля в ляжку вошла — тоже, в общем-то, ничего серьёзного, но на костыле не повоюешь.
— Ну… — он прищурился усмешливо, вспоминая с явным удовольствием, — выздоровели уже почти, и сцепились в кабаке с уитлендерами. Хм… наваляли знатно.
— Такое, — хохотнул Корнейчук, — знаешь ли, приятное воспоминание! Удачно разодрались, н-да… А оказалось, что свидетелем нашей драчки стал Наяманда, он как раз тайно прибыл в Преторию на переговоры.
— Вождь матабеле?
— Угу. Свидетель и свидетель, увидел и забыл… ан нет! Нас к Де Вету после госпиталя командировали, делегатами связи от Европейского Легиона. Координация совместных действий и всё такое. Столкнулись там с Наямандой, и он чебе в голову втемяшил, што это знак.
— Посланники богов? — съехидничал я.
— Ну… — Коля захмыкал, алея ушами, но отмолчался.
— Погоди-ка… они тебе, случайно, девственниц не подсовывали? Для улучшения породы?
— Обоим, — он покраснел вовсе уж кипятково, но всё ж таки усмехнулся, — только знаешь… не для разговоров, ладно?
— Ладно, — пообещал я с лёгким сердцем, — а сюда чего? От гарема сбежал?
— И от него тоже, — засмеялся Корнейчук, — но всё больше по хозяйственной части. Наяманда узнал, что я лично знаю Бляйшмана, и вот…
— Он развёл руками…
— Иди ты?!
— Ага, — заулыбался Коля, — он у них там, походу, станет божеством, отвечающим за снабжение и хозяйственную деятельность.
— Дела-а… — в полном охренении провожу пятернёй по отросшим волосам, — человек при жизни в пантеон богов войдёт! А?! Вся Молдаванка… нет, вся Одесса от зависти кипятком уссытся!
— Слушай… — он улыбнулся смущённо, — мне морфин кололи, пока в госпитале лежал, ну и… виделось всякое. Я потом на это всякое стихами записал — вроде и бред…
— Давай!
— Ехали медведи на велосипеде[71], — с чувством начал Корнейчук, — а за ними кот, задом наперёд…
— Знаешь… а здорово! Да серьёзно — здорово!
— Скажешь тоже… — засмущался он.
Еле уговорил не бросать… вот же человек, а?!
— Слу-ушай… — Коля наклонился ко мне и зашептал азартно, — мне такое рассказывали… Есть якобы такой бур, парнишка ещё совсем, но англичан перебил — тьму! И всё больше голыми руками да саблей, а у самого — ну ни царапинки. Такой, дескать, ярый в бою, что местные его медоедом[72] прозвали. Знаешь такого, а?
Я ажно поперхнулся, но киваю — знаю, дескать, как не знать.
— Серьёзно? Познакомь! — оживился Коля, — Интересный же человек! Такой типаж!
— Вот, — говорю, — бур твой. Стоит, с заказчиком о картине договаривается.
— Саня? — он невольно повысил голос, — Медоед?!
Благо, русский в этом зале никто вроде бы не понимает…
— А чего они… — заалел Санька, услышав слова Корнейчука, — и вообще… они первые начали!
— Да-а… — Коля откинулся на спинку стула со странным выраженьем на лице, — Как же интересно я живу! А?!
Глава 37
Зайдя в ангар, построенный из жердей и полотнища, дядя Гиляй закрутил головой по сторонам, потерявшись в собственном любопытстве.
— А! Егорка! Вот ты где, — стукнулись кулаками по недавней традиции, и опекун мягким кошачьим шагом прошёлся вокруг, крутя носом по сторонам. Остановился у доски с расчётами и чертежами, и его ощутимо передёрнуло.
— Глядеть страшно! — выразительно сказал он, глядя на доску чуть сощурившись, — Ты в самом деле это всё понимаешь?!
— Канешно, — на ходу оттирая руки куском ветоши, я подошёл к нему, — вот формула…
— Не надо! — поспешно сказал он, подымая руки вверх, и отступая на шаг назад, а потом, для надёжности, ещё на парочку, — Не моё это, и настолько не моё, насколько ты вообще можешь представить! Формулы эти… в самом деле интересно?
В голосе явственное сомнение и готовность помочь, если вдруг меня, бедного и несчастного, удерживает в научном плену некая безусловно тёмная сила.
— Ага! Это как головоломка, понимаешь? Чистая дистиллированная наука, знания ради знаний, это ни разу не ко мне. А вот к примеру… видишь? — тыкаю в чертежи, — Расчёты по аэродинамике, то есть штука вполне прикладная, и именно по расчетам и строю… хм, летадлу.
— Это вот… — он остановился около бамбукового каркаса, подвешенного на расчалках, и осторожно ткнул его пальцем, — летает? Летадла?
В голосе явственное сомнение и одновременно — надежда на чудо.
— Ну да, — жму плечами, — собственно, именно на этой топорной конструкции и сделал больше десятка вылетов, проводя разведку. Оставил для истории — Сниман просил, хочет потом музей организовать.
— Планеры Лилиенталя более птичьи, — сказал он, разглядывая летадлу, — даже подобие маховых перьев сделаны.
Вместо ответа жму плечами, потому как што тут сказать? Планеры Лилиенталя безусловно красивее, они прямо-таки просятся на картины, будят фантазии и тормошат людей поднять наконец головы к небу. Но вот летать… с этим похуже.
— А это, — не дожидаясь ответа, дядя Гиляй остановился у небольшого двигателя, присев на корточки, — никак мотоцикл сделать решил? Самое то, штобы гонять по африканским просторам!
— Самолёт.
— Што?
— Самолёт. Та же летадла, но с мотором.
Крякнув, Владимир Алексеевич встал, пробормотав што-то навроде «Выросли детки».
— Вот так, просто сел и придумал? — спросил он, снова встав у летадлы с видом самым задумчивым, тыкая то и дело пальцем, и глядя как покачивается конструкция.
— Ну… да, — мне делается неловко, потому как в таком разе получаюсь чуть ли не гением, а на самом деле… такое и Саньке не хочу рассказывать, а скорее даже — не могу, физически.
— Говорили мне… — вздохнул он, — вот так, по наитию?
— Да какое наитие! — прорезалась у меня досада, — буры наговорили? Ну да, они ж не видели… Это как с приснившейся таблицей Менделеева, помнишь? Што он работал над ней десять лет, это мелочи, обыватели запомнят только полувраки о сне!
— Ну, не скажи, — покачал он головой, но развивать тему, видя моё нежелание, не стал.
— Сниман очень серьёзно к этим… — он дёрнул весело ус, — летадлам относится. Буры твои, как я гляжу, тоже?
— Разведка, — подвинув на верстаке полуразобранный двигатель, полученный недавно с трофеями, и вполне целого скорпиончика, я уселся на расчищенное место, — мы после того, как охрану концлагеря перебили, два боя выиграли за счёт разведки с воздуха.
— Слепой со зрячим, — пробормотал он, делая пометки в блокноте.
— Угу. Два боя выиграли, одного избежали, ну и так — выбрать лучший маршрут, тоже никак не лишнее.
— То-то буры твои так впечатлились…
Завздыхав, я беспокойно завертелся на верстаке. Буры, они да… впечатлились. «Ангел Трансвааля», н-да… не прознал бы кто, мне ещё религиозной мути вокруг себя не хватало! Широкая известность в очень узких кругах — одно, а европейская, да в таком контексте, оно явно лишнее.
Единственное — попросил их молчать, и молчат… вроде как. По крайней мере, слухов пока не ходит, да и добровольцы, вызвавшие помогать по части охраны и хозяйственной деятельности, совсем даже не лишние. Полдюжины престарелых охранников, они же работники, да четыре прачки-стряпухи с расчетом на вырост отряда, они совсем не лишние.
— А испытания? — полюбопытствовал он, снова пхнув пальцем бамбуковую конструкцию.
— По ночам. Вот… — соскочив с верстака, откидываю брезент с самолёта, — видишь?
— На палатку похоже, — скептически сказал опекун, — только што колья к парусине привязаны. Несуразно выглядит.
— Так и задумано! — потянув за жерди, я показал, как сложенная летадла становится треугольной.
— А этом, — тыкаю носком ботинка, — лишнее. Отстёгивается, и всё. В фургончик загрузили от лишних глаз, да и перевезли.
— Эк… — крякнул он, присаживаясь у самолёта и с любопытством изучая простую, но изысканно хитроумную механику, — шпионаж? Потому так усложнил?
— Он самый! Иностранных граждан в войсках хватает. Доброволец там или нет, а зарисовать летадлу, с целью патриотично передать чертежи собственному правительству, это каждый второй восхочет.
— Ага… а механика?
— Отдельно. Вот… простейшая трёхколёсная гондола, если кто и посмотрит, так обычная мотоколяска, только што пропеллер сзади, ну да и это не новость. Што я слесарь и механик, многие знают, про инвалидную коляску в патентах узнать тоже несложно.
— Обманка, — в дяде Гиляе проснулся мальчишка, и он забрасывает меня сотней «почему?», пару раз поставив в тупик. Незамыленный глаз увидел более простые решения некоторых проблем.
— Где ты раньше был?! — вырывается у меня, и дядя Гиляй распушил самодовольно усы, — Не поверишь, как не хватает рук, потому как…
— Шпионаж, — кивнул понятливо Владимир Алексеевич.
— Он самый! Иностранных подданных не рискую, а буры… здесь не то штобы грустно — есть мужики, которые слесарить умеют и в механике мал-мала разбираются, просто они уже — в артиллерии да при пулемётных командах, да всё больше на командных должностях.
Крутнув пропеллер, опекун вздохнул креслицу, рассчитанному явно не на его седалище, и отошёл, вздыхая и дёргая себя за усы. Обнадёживать дядю Гиляя скорой перспективой полётов не стал, ибо разница в массе у нас такая, што я вместе с двигателем вешу чуть не меньше его. То бишь конструкцию придётся пересчитывать под другие характеристики, и возможно, под другие материалы.
— Ночью сегодня полечу, заодно и фотоаппарат испытаю, — тоном искусителя сказал я, — есть желание поглядеть?
— Плохим бы я был репортёром, — фыркнул он, чуточку приободрившись.
Самолёт выгрузили из повозки, и мы с Санькой принялись собирать его, расправляя, соединяя и защёлкивая фиксаторы. Легонькая гондола, плетённая из бамбука и шёлковых шнуров, мотор, фотоаппарат…
Перекрестившись и перекрестив меня, дядя Гиляй отошёл в сторону. Зафырчал мотор, и самолёт начал разбег, подпрыгивая слегка на казалось бы расчищенном поле, покачивая крыльями и грозясь завалиться.
Рули вверх… начался набор высоты, окрашенная в цвета ночи парусина растворилась в ночи. Лишь мотор тихохонько покашливает, выдавая моё месторасположение, но вельд и ночью полон звуков.
Набрав высоту, я отключил мотор, и принялся планировать на потоках воздуха, описывая круги над лагерем буров. Задача — выяснить, можно ли ночью, сфотографировав костры и кострища, сориентировать полученное с лагерем буров?
Планируется наступление на Дурбан, и вроде как… што удивительно для буров… секретоносителей пока менее двух десятков, включая нас с Санькой, Мишку и што неудивительно — дядю Фиму, то бишь командора Бляйшмана, как логиста и снабженца. Воздушная разведка в таком случае — козырь не из последних, но хотя бы пару вылетов желательно сделать бы ночью, штоб не спугнуть. А днём уже летать фотографировать не Дурбан вообще, а интересоваться конкретными районами.
Самое сложное в ночном полёте — ориентиры. Вроде бы и знаю Ледисмит, и более-менее понимаю, где нахожусь, но тяжко… Мозги будто наизнос работают, пытаясь одновременно держать в голове всё эту топографию, ловить воздушные потоки и фотографировать.
Благоразумно не снижаясь, потому как бурам хватит тяму стрельнуть, и главное — попасть в непонятную страховидлу на фоне неба, делал снимки. Израсходовав пластины и зазябнув, не без труда вернулся назад. Воздушные потоки переменились, и пришлось включать двигатель, дабы нормально подлететь к освещённой кострами посадочной площадке.
«— Дражайший Ники!
В высшей степени радостные события в Африке предоставляют мне самый приятный повод для письма! Британия наконец получила чувствительнейшую оплеуху своему самолюбию, и весь мир увидел, что это не незыблемый титан, а колосс на глиняных ногах.
Бесчестная война против заведомо слабейшего противника обернулась небывалым фиаско, и народы Европы поняли, что могут избавиться наконец от навязчивой британской опеки.
Более всего меня радует дружное „Нет!“, сказанное европейскими народами британскому льву. Добровольцы со всего мира сражаются против британской гегемонии, и патриотический подъём у моих добрых подданных совершенно небывалый!
Наконец-то у меня появилась общая граница с государствами буров, и я могу оказывать им помощь, не совершая дипломатических демаршей, и не запрашивая у португальской Короны о проходе германского экспедиционного Корпуса через Мозамбик в помощь Крюгеру!
Ведомый долгом рыцаря и христианского государя, я приложу все силы, чтобы всемерно помочь бурам, удерживаясь меж тем от войны. Безмерный аппетит британского льва, страдающего ожирением и подагрой, нужно ограничить к его же пользе!
Мои добрые подданные задыхаются, лишённые жизненного пространства, меж тем как Британия, не в силах переварить уже захваченные территории, пытается ухватить ещё и ещё. В содружестве с бурами, как родственные народы германского корня, мы можем встать крепкой ногой в Африке, неся бремя Белого Человека к вящей славе Германской Нации во благо отсталых народов!
Сейчас и только сейчас мы с тобой можем одним решительным ударом покончить с гегемоний Британии! Вся мировая общественность возмущена действиями британской Короны, и нам нужна лишь решительно придерживаться одной линии.
Тебе достаточно двинуть войска в Азию, и Британия, озабоченная сохранность Индии и Афганистана, окажется скована в своих действиях на Африканском континенте. В свою очередь, обещаю действовать решительно и не медля.
Разумеется, решительность твоя не останется безответной, и могу обещать самое горячее содействие в получении концессий на африканском континенте, пересмотре ряда таможенных соглашений, выделению кредитов и прочего. Важно лишь твоё принципиальное согласие, о деталях договорятся наши министры.
Вилли.
Потсдам. 11.02.1900 г.»
— … командир… Михаил…
— А?! — тяжело заморгал ночевавший прямо в штабе Мишка, пытаясь разодрать глаза и понять, что же хочет от него часовой.
— Ваш брат пришёл, — доложил бур, — говорит — срочно.
— Да? Пропустить! — зевая, он сел на походной постели, и в комнату тут же ворвался возбуждённый донельзя Егор.
— Карта есть? Любая, только штоб ненужная?
Всё ещё не проснувшийся до конца, Пономарёнок несколько успокоился — в таком состоянии он видел брата не раз, и обычно это означало, што в голову ему втемяшилась какая-то идея. Встав, прошлёпал босыми ногами по дощатому полу, зажёг лампу и закопался в столе.
— Вот…
— Ага! — Егор нетерпеливо вырвал карту и разложил на столе, тут же расчертив на квадраты и пронумеровав их.
— Не ново, — скептически отозвался Мишка.
— А так? — брат нарисовал в одном из квадратов… крестики-нолики?! Только почему-то с цифрами от одного до девяти, закрученного улиткой.
— Вот так, — отстранившись от карты, Егор выпрямился и приподнял на брата бровь.
— Ага, ага… — с азартом склонился Пономарёнок над ней, желая самостоятельно разобрать предложенную головоломку, — двадцать четыре по горизонтали на шестьдесят три по вертикали, и… добавочные по улитке?
— Да! — Егор вскинул Мишкину руку, будто объявляя победителя, — Улитку… ну да, пусть улитку, её не обязательно чертить, можно мысленно представить в нужном квадрате. Ну? С точки зрения артиллериста?
— Здорово! — оценил поднатаскавшийся в штабе Пономарёнок.
— Так вот! — брат задрал нос, и тут же опустил, зачастив.
— Я… — жест ладонью над столом от лишних ушей, и Мишка кивнул — дескать, понятно, дальше давай, — и подумал, што фотографии иметь, это канешно здорово, но вот с точностью артиллерийского огня, да вслепую, могут быть проблемы. Воздушный шар для корректировки, это канешно здорово, но мало! И вот…
С трудом подавив желание немедля будить Снимана, Мишка задумался над перспективами, обхватив голову руками, а повернувшись, увидел брата, сладко сопящего на его постели.
Вздохнув, он достал из шкафа ещё один постельный комплект, и за неимением кровати расстелил прямо на столе.
Глава 38
— Водичка — самое то! — довольно сообщился мне Санька, выйдя из мутноватых вод Тугелы и прыгая на одной ноге, вытряхая воду их ушей.
— Н-да? — поглядев на поднимающееся над горизонтом красноватое солнце, скинул с себя одёжку и влетел с разбегу в реку. Вдосталь наплававшись саженками и стряхнув недосып, вылез на берег и принялся одеваться прямо на мокрое тело.
— Уже? — потянулся Санька, не спеша одеваться, но и не вылезая благоразумно из-под полотняного навеса, растянутого у берега. Африканское солнце куда как свирепее нашего среднерусского, учёные уже!
— В штаб. Хочу пораньше, пока там сутолока не началась. Есть несколько идей по организации нашего авиаотряда, ну и по части разведки.
— Может, позавтракаешь сперва?
Прислушавшись к брюху, мотнул отрицательно головой и начал наматывать обмотки.
— Позже… ну или при штабе угощусь.
— А… там же Мишка! Да, голодным не останешься.
Под жакарандой, раскинувшей свои ветви над внутренним двориком, расставлены столы, на которых разложены карты и документация. Сниман, Бота, командир Европейского Легиона Вильбуа-Морейль, Максимов, Бляйшман и ещё с десяток офицеров рангом пониже, среди которых и Понмарёнок.
Карты, документы, штабная суета, взлохмаченные адъютанты… Не нужно быть асом шпионажа, чтобы понять — готовится наступление. Часовой из Мишкиного коммандо, поприветствовав меня кивком, перегородил дорогу во дворик, выставив в проходе руку с винтовкой, не переставая притом жевать табак.
— А, Егор! — радостно заорал повернувшийся в этот момент дядя Фима, — давай-ка сюда, нам сильно не хватает твоей шахматной головы!
— Ой-вэй, — схватился он шутовски за голову, — совсем забыл, шо здесь не говорят на одесском! Я уже здесь и да, а они ещё нет, ну ты представляешь?!
Наморщив лоб, Бляйшман продублировал всё это на смеси немецкого и голландского. Короткая команда от Снимана, и часовой пропускает меня, дружелюбно осклабившись коричневыми от жевательного табака кусалками. Пройдя во двор, услышал за спиной харчок, и коричневая жижа сбила с ветки куста в паре метров от меня крупную многоножку. Снайпер, ети!
По нервенному поведению дяди Фимы, с его неуместными одессизмами, издали ясно, што ситуация может и не ой-вэй, но где-то рядышком.
— Решил постучаться в дурака? — интересуюсь на голландском у компаньона, пожимая руки всем присутствующим. Переводить смысл идиомы не потребовалось, и колючие взгляды Бота и Вильбуа-Марейля потеплели. Самоирония без самоуничижения приветствуется в любом нормальном обществе.
— Проблема в логистике, — Бляйшман уже серьёзен, и даже говорит без всегдашнего акцентика, подтянув меня за рукав к столу, распихивая штабных без малейшего пиетета.
— Нужно подтащить вперёд как можно больше припасов перед грядущим наступлением на Дурбан, не слишком встревожив англичан, — добавил Мишка, пошевелив затёкшими плечами, — Ну и по возможности — отвлечь их на других направлениях.
— Угу… можно карты и документацию?
Требуемое выдали, я уселся чуть поодаль, упав жопой на складной полотняный стул, изучать представленное.
— Вы не смотрите на возраст! — слышу краем уха дяди Фиминое, а затем и многословный хвалебный панегирик моим талантам, начиная от шахмат, заканчивая умением сходиться с людьми, финансовыми и почему-то — мастерством кулачного бойца, на которое он напирал особо.
Стараясь абстрагироваться, изучаю ситуацию, и голоса штабных вроде как и доносятся, но будто через толщу воды, искажаясь до полной неузнаваемости.
— Ага… — делаю себе пометочку, потом вторую… черкаю карандашом по предоставленной карте, наконец разгибаюсь…
… и удивлённо гляжу на солнце, давно перевалившее за полдень, а потом и пустой кувшин воды рядом со мной. Ага, брат позаботился, а я и не помню…
Встал, потянувшись всем своим затёкшим телом, и направился к штабным на заклание.
— По грузам есть несколько идей, из Палестины ещё, — пустив записи по рукам, начинаю рассказывать о сложной схеме движения грузов из Палестины. Тот случай, когда не хочется мараться о прямую контрабанду, но использовать лазейки в законах не только можно, но и нужно.
В тех диковатых краях сложилась интереснейшая ситуация, когда формально тамошние земли находятся под юрисдикцией Османской империи, но с превеликими исключениями. Сеттельменты[73], всевозможные уступки мелким вождям — как де-юре, так и де-факто. Переплетённые интересы Британии, Франции, Германии… не говоря уже об Османской империи, Персии и племенных вождях, контролирующих важный оазис.
Сперва — чистой воды любопытство, а потом на любопытство легла прибыль от торговли антиквариатом и поделками обитающих там племён. Юридические лазейки переплелись с каким-никаким, но знанием политической системы тех мест, и в голове начали рождаться разнообразные схемы. Чаще — абсолютно бесполезные, но иногда и действенные.
— Ага, ага… забормотал Бляйшман, цепко схватив бумаги и дальнозорко отставив их от себя, — а я-то гадал! Да, это изящней традиционных наработок, а это… Нет, к сожалению нет — времени не хватит на выстраиванье схемы. Но интересно… влезть можно?
— Плюс два процента в Африканской транспортной компании.
Некоторое время меряемся взглядами, потом слышу вздох, нижняя губа печально обвисает, и мне становится стыдно за обдирание на деньги такого хорошего человека. Быстро борю это нехорошее чувство, и Фима наконец кивает, печально обвиснув носом и щеками.
— Ф-фу… — выдохнул он, — голова, а?! Посидел молодой человек несколько часов, и наша логистическая проблема стала чуть менее проблемной!
— Большая часть наработок, увы — рассчитана только на мелкие партии товара, или же требует наличия времени, — поясняю я, — но всё-таки вписал их. Быть может, вы сможете как-то поправить мои схемы под нынешнюю ситуацию.
— Сможем, сможем, — Фима выдернул бумаги у Вильбуа-Морейля, ошалевшего от такой непринуждённости, и начал вчитываться ещё раз, — ага…
— И… — останавливаюсь в нерешительности, — я тут подумал…
— Так, — рядом материализовался Мишка, плотно сжимая поднятый кулак, отчего затих всякий шум. Однако…
— Нам ведь нужно не просто штурмовать подготовленные позиции, а желательно как-то выманить их, верно?
— Верно, — доброжелательно отозвался Сниман, нутром почуяв интересное для карьеры.
— А если нам воспользоваться той же логистикой и изобразить подготовку к обороне? Глядите… — подошёл к обычной школьной доске, подвешенной на ветвях жакаранды, и мелом изобразил примитивный чертёж Дурбана и Ледисмита.
— Наши войска, опираясь на Ледисмит, как на опорный пункт, препятствуют нормальному продвижению британских войск вглубь континента.
— Недостаточно, — буркнул француз, и хотел было сказать ещё што-то, но замолк, покосившись выразительно в сторону буров. Ну да, ну да… в первые недели войны буры имели все шансы занять Дурбан без боя, но то ли от нерешительности командующего, то ли надеясь на решение конфликта дипломатическим путём, не стали.
— Если, — провожу линию от Ледисмита к Дурбану, останавливаясь на полпути, — наши войска выстроят оборонительную линию чуть ближе, это сильно усложнит позицию британцев?
— Существенно, — медленно сказал Бота, но… — а-а! Обозначить?!
— Да! Заказать шанцевый инструмент, партии… ну не знаю… землекопов… есть такие?
— Всё есть, — Сниман азартно подался вперёд, грызя трубку крепкими зубами.
— Я так понимаю, — гляжу на европейца, — идея блокирования британцев не только осуществима, но и имеет ряд выгод?
— Можно существенно затянуть войну, — согласился он, задумчиво глядя на меня, — Такая половинчатость вполне в традициях буров, да простят меня присутствующие, да и с политической точки зрения несёт ряд выгод. Затягивание войны менее выгодно захвата Дурбана, но даёт возможность как-то отреагировать на ситуацию европейским государствам.
— Изображая подготовку к блокаде, выманиваем бриттов из Дурбана, — оживился Бота, — А войска, засевшие в осаде, и войска, приготовившиеся атаковать, но перехваченные на марше, это совсем разные войска…
Буры переглянулись, перевели взгляд на меня, и понятливый адъютант притащил поближе тот полотняный стульчик. Опустив на него зад, я понял, што отсижу его сегодня, как никогда, пусть даже сугубо в метафизическом смысле.
Сколько в тот день было издано приказов, отправлено писем и телеграмм, знают только адъютанты, ведущие такой подсчёт. Разошлись, когда начало уже темнеть, хотя Вильбуа-Морейль с Максимовым и пытались было закрыть все дела, но… буры. Основательность и неспешность этого народа не всегда к месту.
Каких-то великих откровений я в тот день больше не делал, да и по совести — сырая моя идея никак не тянет на откровение, тем паче великое. Её быстро и весьма основательно переделали под текущий момент, оставив де-факто только суть — выманивание британцев из Дурбана.
Но «стучались в дурака» буры в тот день частенько. И вроде как даже с толком, по крайней мере — не прогнали.
А вот по логистике — таки да! Горжусь собой и нами! Мы с Бляйшманом и привлечённым железнодорожником-голландцем, которого пришлось посвятить в тайну, перерешали кучу задач, и кажется — удачно. Железнодорожник нервничал, потел, переживал за свою нейтральность, но обещание тайны, а если што — гражданства и денег, примирило его с прямым участием в войне.
Буры разошлись, и мы немножечко, но выдохнули. Оказывается, всё это время мы немножечко, но втягивали животы и расправляли плечи в присутствии генералов, в том числе психологически. А когда такое немножко, но целый день, оно сильно выматывает.
— Ой вэй, — вздохнул дядя Фима, растягивая сюртук в стороны, — мине опять стало меньше! Шо скажет Эстер, когда мы снова да, я таки и не знаю!
— Да! — он обернулся на нас с Мишкой, — Мальчики, я не знаю за ваши планы, но сегодня они меняются за ужин со мной! Давайте кафра за Санечкой, и снова — как раньше!
За ужином была еда, едва и ещё раз еда — даже и молча, настолько устали! Даже Саня — ему сперва все дела по отряду за моим неимением решать пришлось, а потом рисовать плакаты для агитации, а это не только работа, но и куча споров впополам с творчеством.
Мы трое, дядя Фима с Ёсиком, Ицхак Габбай, и тишина, а?! К десерту немножечко отдохнули, особенно дядя Фима.
— Вот, — мотанул он головой на Ёсика, — вторым секретарём взял, Ицхак в одиночку с таким объёмом не справляется. И не вздыхай мине и нам!
— Он думал, — пожаловался дядя Фима, — шо если приехал, такой весь красивый и почти образованный, я его сразу адъютантом возьму, с большим званием через родство! И будет он скакать по Африке с саблей и ружжом, совершая красивые подвиги и позируя для газет. А пока напозировался только на дизентирию!
Ёсик вздохнул и отмолчался так красноречиво, што я преисполнился сочувствия.
— Я бы тоже так думал, — ответил дяде Фиме солидно, накладывая себе чуть-чуть ещё печенек через немогу, но вкусно, — если бы имел образование, но не имел нехорошего жизненного опыта. Сейчас, на базу образования, ляжет вся эта гадотная война, и будет Ёся к её окончанию бравым интендантом с суровым взглядом и хорошими знакомствами.
— Вот! — поднял палец компаньон, — Слушай и мотай! Подвиги, они всё больше сами совершаются, помимо желания, ты уж поверь моему и нашему опыту!
Мы втроём согласно закивали, и очень даже выразительно. Ёся хмыкнул еле слышно, но приободрился, и стал ждать подвигов, которые сами.
«— Здравствуй, дражайшая супруга моя, Агриппина! Пишить тибе собственноручно супружник твой Серафим, из-за далёково моря-окияну, из самой Афреки.
Дотоптался када до Адесы, то грех за враки на душиньку брать ни стану — хорошо там, тёплышко. Жидовки, шта миня встретили Игоровы, бабы добрые, даром шта христапродавки. На работу устроили, с комнатой памагли, слова плахова проних ни скажу!
Работа тяжкая, но для миня по силам и уму, потому как справный мужик, а не прощилыга какой. Мужики здеся шутковать любят, но когда узнают про Сенцово и Игора с Санькой, а ищо про жидовок тех, то сразу в приятели набиваются. Ну и я не плошал, блюл себя за всех Сенцовских.
Тока мастер в порту, он миня сразу нивозлюбил, и начал гнобить за политику, подводить под каторгу иль увальнение. А я жа мужик справный, и терпеть такое невмочно, ну и по уху ему, а потом на пароход миня взял грек здешний — Коста, то бишь на русскам Констатин. Справный тожи мужик, но на здешний тока Адеский лад.
И доплыли мы с ним и ищё с другими многими до самой Афреки, воевать за Христа и против Нагличан. Воюем мы навроде пластунов, и я такой ухватистый оказался, што Синцовских всех прославляю.
На довольствии стоим денежном, хлебном и ином, а ишо трофеи бывают. Посылаю тибе, дражайшая супруга моя, девять гиней, а ишо шестнадцать фунтов и часы золотые две пары, одни даже целые. Ишо перстень сиребряный, мидалонов два, один который золотой…»
Услыхав про деньги, женщина спешно положила письмо, и трясущимися руками вскрыла засургученный пакет, лежавший до того в сторонке. На скоблённый дощатый стол вывалился кисет, тяжко звякнув металлом.
— Сходится, — помертвело сказала она, пересчитав, и глядя вокруг дикими глазами, — сподобил Господь…
— Гля-кось! — выдохнул восторженно маленький сынишка, ухвативший фотографическую карточку, также вытряхнутую из пакета, — Папка!
— В костюме, — выхватив фотографию, заблажила бабка, — почитай господском! С часами, ружжом, ну чисто наш пристав, тока лучше!
Сельчане, набившиеся в избу, молчали, не зная, што и сказать. Кхекнув, рябой Фёдор начал сворачивать самокрутку, и тишину разом прорвало… Начался гомон, споры, потом дочитывали всем скопом письмо, разбирая каждое словцо и буковку, пытаясь найти тайный смысл там, где его отродясь не было.
— А, ебись оно конём! — плешивый Кондрат остервенело шваркнул шапкой о пол, — Чем так жить, лучше там жить! Вы как знаете, а я пачпорт выправлять!
Глава 39
«— … Подполковник Гурко Василий Иосифович, подвизающийся военным агентом[74] при армии буров, человек безусловно авантажный. Всегда любезный, щеголевато одетый, сдержанный на слова и эмоции, он удивительно к месту смотрелся бы на приёме парижского МИДа или в офицерском собрании гвардейского полка.
Настолько же неуместен он средь буров…»
Прервав чтение, Посников снял пенсне и помассировал переносицу, собираясь с мыслями. Растёт мальчишка… ещё полгода назад он не задумываясь бы, опубликовал письмо против Гурко, добившись немалого общественного резонанса. Немалого, но вряд ли достаточного!
— Растёт, — хмыкнул он, — уже понимает, что такое политическая кооперация и отсроченный удар.
«— … Вся его щеголеватая авантажность смотрится средь вооружившихся фермеров совершенно попугайски, раздражая одних и вызывая недоумение у других. Безукоризненно вежливый, любезный и опрятный, он вольно или невольно противопоставляет себя бурскому сообществу, будто поучая, как надо себя вести.
Особо нужно отметить, что подполковник Гурко, неизменно предупредительный по отношению к людям своего круга, весьма небрежно относится к нижестоящим. Вежливый с рядовыми бурами, держится с ними он отстранённо, множеством мелочей подчёркивая своё превосходство.
Неискушённые светской жизнью, буры не принимают это за оскорбление, но в свою очередь относятся к нему отчуждённо, перенося это отношение и на Российскую Империю…»
— Очаровательно, — улыбнулся Александр Сергеевич акульей улыбкой. Гурко, как одного из ярких представителей монархистов, он недолюбливал особо. А тут такая прелесть…
Он хоть и перестал быть редактором «Русских Ведомостей», но влияние, и немалое у него осталось. Письмо Егора — серьёзнейший козырь для московских либеральных кругов! И серьёзная же заявка на вхождение в пул репортёров, способных значимо повлиять на общество. Были значимые статьи и до того, но мастерство репортёра заключается не только в написании статей, способных выстрелить в нужное время в нужном месте, но и в таких вот подковёрных играх!
Мысли перескочили с Егора на собственное настоящее, которое — в том числе и благодаря мальчику, выглядит весьма многообещающе. Ведутся переговоры о деканстве Посникова в петербургском Политехническом институте, и на кафедру экономического отделения можно будет придти в блеске славы. Лекции политической экономии будут собирать аншлаги!
«… — Гурко весьма прохладен по отношению к соотечественникам низкого происхождения, пробиться к нему на приём, не будучи хотя бы разночинцем, русскому подданному в Африке достаточно проблематично. Да и добившись приёма, можно увидеть только вежливое выражение скуки на лице, да иногда — формальные заверения в содействии.
К подданным Российской Империи, приехавшим в Африку прежде всего ради честной работы и достойных заработков, Василий Иосифович относится с заведомым предубеждением, подозревая во всех смертных грехах…»
— С фактиками?! — восхитился Посников, перебирая добрый десяток листков, на которых были запечатлены случаи, да непременно с датами, именами и фамилиям.
— О, как мило… — зубасто умилился он приписке, что реальных случаев много больше, но своё согласие на обнародование персональных данных дали преимущественно те российские подданные, которые не имеют планов по возвращению в Российскую Империю, — И добрая треть решила не возвращаться после разговора с представителем Империи? Мило, мило… Всколыхнуло, так сказать… Грёзы о родных нивах споткнулись о золотопогонную действительность в лице военного агента Гурко.
«… — Опираясь на собственный опыт, могу заверить в совершеннейшей правдивости этих историй, и если и есть какие-то расхождения реальностью, то как правило, это фактор человеческой памяти. Расспрашивал я пристрастно и дотошно, в чём могу ручаться.
Обратившись к нему за помощью, пытаясь хотя бы узнать о судьбе попавшего в английский плен Михаила Ильича Пономарёнка, был крайне обескуражен. Василий Иосифович принял меня, будучи слегка выбрит и до синевы пьян, хотя и пытался держаться молодцом, почти твёрдо держась на ногах и обдавая парами мускатного ореха. Выразив самое формальное сочувствие, он не предпринял ни малейшей попытки оказать помощь ни делом, ни даже дельным советом…»
— Одна-ако… — удивился Александр Сергеевич, — о попадании в плен Понамарёнка я знал, равно как и об освобождении, но Василий Иосифович подал эту новость чуть ли не как личную заслугу!
Не доверяя свой памяти, он поднял документацию, и с некоторым разочарованием констатировал, что доклады Гурко, отрывки из которых иногда попадали в редакции, достаточно обтекаемы. Прямо о спасении Пономарёнка из плена не говорится, но сама подача данных как бы намекает на участие военного агента в этой операции, как минимум о дипломатической и организационной помощи. А тут такое!
— Придержал, значит? Охо-хо! Аукнется, — посулил он злорадно, — ох и аукнется! Государь, возможно, и простит, а вот общество — нет! Будь это хоть кто иной, можно было бы и замять, но мальчишка, ставший кумиром подростков доброй половины цивилизованного мира, случай резонансный.
— Василий Иосифович, Василий Иосифович… — покачал он головой, не скрывая лёгкого злорадства, — Не думал, что мальчишка так прославится? Или что? Неглупый ведь человек, а поди ты… Впрочем…
Вернувшись глазами назад, он ещё раз перечитал о прохладном и высокомерном отношении к нижестоящим, покивав задумчиво. Пажеский корпус, лейб-гвардия, академия Генерального штаба, офицер для поручений, адъютант, снова офицер для поручений, но уже штаб-офицер. Каста!
Неглуп, образован, но настоящей народной жизни не знает, и вся его блестящая армейская служба просквозила мимо непосредственного командования нижними чинами. В привычных ему рамках, наверное, достаточно эффективен, а вот за их пределами…
— Впрочем, — Посников задумался, — а действительно ли он умён? Или просто… сын прославленного и влиятельного генерал-фельдмаршала?! Где там свои заслуги, где отцовы…
Толстое, многостраничное письмо Александр Сергеевич читал предельно внимательно, и добравшись до тетрадки, подписанной как «Африканские записки», потерял счёт времени.
— … дорогой…
— А?! — вскинулся он на супругу, и заморгал, глядя на висящие на стене часы, — Однако…
— Прости, — повинился он, спешно одеваясь на приём, — зачитался. Очень уж интересное письмо, а потом ещё и такая, знаешь ли… Майн Ридовщина! Всё, милая, всё… идём…
Блиндированный наш состав ползёт довольно медленно, задерживаясь при всяком косогоре и подозрительном месте. Чуть начинается подъём, и паровоз начинает пыхтеть надсадно, выбрасывая в воздух клубы чорного, едко пахнущего дыма, оседающего вдоль всего состава. Из графика мы никак не выбиваемся, но слышать этот надсадный кашель, ощущать всем телом рывки состава, и вдыхать кисловатую угольную пыль, приятного мало.
Настежь приоткрытая вагонная дверь даёт приток несвежего воздуха, но при закрытии её — вообще зась! Африканское солнце изрядно накалило вагоны, а моё предложение наварить поверху штыри и натянуть полотняные навесы, не прошло.
Идею признали дельной, но увы — в несгоревшей угольной пыли вылетают подчас и кусочки несгоревшего раскалённого угля, губительного для полотнища. Натурные эксперименты отложили на потом, и как водится, времени на них решительно не осталось.
В товарном вагоне только мы с Санькой, самолёты, да всякое оборудование с запчастями. Охрана и хозяйственное отделение в соседних вагонах с обоих сторон.
Взяв губную гармошку, Санька принялся уселся в дверном проёме, наигрывая што-то бравурное, мотая в такт головой и босыми ногами. Я глянул в сторону аккордеона, но лениво. Разлёгшись на походной кровати, начал было подрёмывать, но несколько минут спустя в вагон заскочил Мишка, воспользовавшись очередной остановкой.
— Опять псалмы, — пожаловался он после недолгого молчания, когда вагоны снова тронулись, скрипя и лязгая.
— Буры, — односложно отозвался Чиж, прервав игру.
— Угу… планы говорены-переговорены, всё до мелочей в кои-то веки расписано, — продолжил изливать душу Пономарёнок, — так они то молятся, то псалмы…
— Может, в шахматы? — сменил он тему.
— А давай!
Достав подаренную недавно доску, я принялся расставлять фигурки, любуясь искусной и работой. Чорное дерево с платиновыми вставочками, да слоновая кость — с золотыми. Один из буров в охране вырезал на досуге, а другие — также на досуге, намыли золоту и платину. Щедр африканский континент, ох и щедр…
«— Такое если продать, — мелькнула непрошенная мысль, — всё Сенцово год кормить можно!»
Всколыхнувшуюся совесть успокоил школьными обедами и трудоустройством земляков на работу — хоть в Москву, а хоть и в Одессу! Отчаявшиеся да лёгкие на подъём получили возможность, а оставшиеся — землю. Хватит!
Получасом позже в вагон влез дядя Фима с Ёсиком, и я было подумал, шо к мине, но тот завёл разговор с Санькой, сговариваясь на героический портрет на фоне не то горы вражеских черепов, не то крокодилов, положенных поверх прайда львов. В общем, типичная дяди Фимина вкусовщина, с которой брат пускай сам и борется!
— Прогрессируешь, — похвалил я Мишку, наново расставляя фигурки.
— Всё равно продул, — отозвался тот.
— И не раз ещё продуешь, — киваю я, — фору в две пешки дать? Ты когда играть-то начал? Без году неделя, а уже каждая пятая партия на ничью сводится. А я, знаешь ли, игрок не из последних.
Ёсик, попытавшись успокоить папеле с его художественной вкусовщиной, отсел от него к нам, и как человек знающий, начал следить за партией.
— Шахматы — игра полководцев? — провокационно спросил он, явно надеясь на интересный спор и немножечко срача с милым его и нашему сердцу одесским антуражем. Скушно!
— Угу, — не подымаю головы от доски, — отчасти. Это скорее математика, чем чисто полководческие штучки. Просчитать я могу на несколько ходов вперёд, удерживая притом в голове не один десяток вариантов, а вот всякого рода социология — это к Мишке. Я могу, и без врак — хорошо, но он лучше.
— Все эти… — прервавшись ненадолго, зависаю над доской и таки делаю ход, — штучки по части человеческих душ, это скорее Мишка, с его прокачанным богословием. Поступки отдельных людей я могу предсказать немногим хуже, а массы — зась!
— Богословие, значит, — вздохнул Ёся, развалившись рядом, прямо на расстеленной на полу вагона соломе, — вот и папеле так же…
— Если не в ущерб, то очень полезно, — отозвался брат, сделав ответный ход, — в талмудическом обучении есть свои минусы, но парадоксальность мышления оно развивает вполне недурно. Правда, не всем.
— Вот и я о том же…
Ёся всё-таки втянул нас в богословские споры, пересекающиеся с социалистическими. Мишка спорил аргументировано, и даже немножко привычно. В среде думающих христиан, далёких от Синода, попытки скрестить христианство с социалистическими теориями всех мастей не новы, и подчас даже успешны.
— … нет, нет и ещё раз нет!
— Да ты послушай! — не отставал дядя Фима.
— Нарисуй классический китч, — посоветовал я, делая последний ход под сопенье Мишки, — толь што высокохудожественный!
— Китч?! Высокохудожественный!? — брат вложил в эти слова всё своё презрение с возмущением, — Ха! Хм… высокохудожественный, говоришь?
Он погрузился в размышления, а дядя Фима засиял давно нечищеным примусом и подсел на поговорить. Пока Чижик размышлял на тему китча, а Мишка с Ёсиком спорили за социализм и теократию, Бляйшману приспичило придумать от меня идею для коммерции. Он зудел, и зудел… а мне, как нарошно, не думалось.
— Ты не представляешь, — вздыхал он чесночно, — как это тяжко…
— Раздай, — брякнул я, и как-то так… призадумался… — В самом деле — раздай.
Надувшись жабой и краснея на глазах, дядя Фима начал делать возмущённое лицо, но я выставил вперёд палец, и он замолк.
— Та-ак… — заинтересованно сказал он, — я таки понимаю, шо это не глупость в христианском стиле, а очередная идея?
— Она. Не щедрою рукой, но многим, и прежде всего — армейцам. Сниману, Де Вету, прославленным офицерам и отдельно — своим служащим, из тех кто потолковей.
— Ага… — он протёр мигом вспотевший лоб, — много-много ниточек к разным полезным людям, которые будут считать мою компанию чуть-чуть своей?
— Угу. Война закончится, и буры могут не согласиться с тем, што «Африканская транспортная компания», разросшаяся не в последнюю очередь на войне, осталась бы в стране пусть не единственной, но основной.
— Не люблю, но надо, — вздохнул он, — лобби, да?
— Оно самое. Можешь ещё выделить какую-то долю дохода на… госпитали, к примеру. Или на армию, на строительство дорог.
— Да! — он хлопнул себя по лбу, — Я же зачем к тебе? Подтверждение пришло, зарегистрировали твои патенты на летадлы!
Мишка только головой качнул, и дядя Фима поспешил пояснить:
— Ты не думай за шпионаж! Есть такие патентные бюро, што ого-го как блюдут! Просто если вдруг кто и да, то вот они — документы с чертежами! Сама конструкция, она ведь проще простого, повторить на раз-два!
— Единственное, — почесал он в голове, — британцы могут таки подгадить с патентами, потому как у них не патентовали. Но тут уже международное право и прочее, можем устроить им похохотать.
Мы говорили, говорили, говорили… а потом состав начал тормозить, и технический состав засуетился, помогая выгружать самолёты. Приехали. За разговорами прошёл предполётный мандраж, а сейчас ему не уцепиться за деловитую суету.
Поймав взгляд дяди Фимы, я коротко кивнул, на што тот еле заметно улыбнулся, и безо всяких одессизмов!
Подготовленное поле оцеплено, по периметру любопытствующие, привлечённые невнятными слухами. Два самолёта, мой и Санькин, уже стоят на лётном поле, готовые к полёту. Техники заканчивают последние приготовления, помогая цеплять на расчалки маленькие зажигательные бомбы. Проверяем фотоаппараты, крепление бомб… готовы!
Короткая молитва, объятия со Сниманом и Мишкой, и под пение псалмов мы взлетаем. Пение стало столь громким и истовым, што нас едва ли не подбросило в воздух силой их Веры.
Сделав круг над лагерем буров, и вызвав взрыв энтузиазма, два крохотных самолёта, несущие опознавательные знаки Претории, направились в сторону Дурбана.
Глава 40
— Хая, давай-таки с нами, — качнулась обморочно тётя Песя, спустившись наконец со второго этажа, — мине што-то штормит, как будто мы с Сэменом Васильевичем немножечко добаловались, хотя я точно знаю, шо это и не так!
— Ну вот как знала? — чуточку напоказ вздохнула Хая, которая Кац, и самая умная баба если не Одессы и Молдаванки, то как минимум двора! — Куда ж ты и ви без мине?
Парой минут спустя она вышла, нарядная и красивая, пока подруга с дочкой сидели на лавочке во дворе.
— Фира, успокойся, — услышала Хая бубнение подруги, спустившись вниз, — успокойся, доча…
Вцепившись в руку дочки как в спасательный круг, до самых синяков и выпученных собственных глаз, норовящих закатиться под лоб, она гладила её ладошку и бубнила што-то, долженствующее успокоить дочку. На деле же выходило сильно наоборот, и Фира чем дальше, тем больше нагоняла мамеле красивой расцветкой лица с нежным зеленоватым оттенком.
Сердобольные соседи искренним своим участием и сомнительной ценности советами, подливали в уже разгорающийся костерок женской истерики прогорклое масло суеверий, и сомнительной ценности советов и замечаний.
— Гля, гля… — шептала на весь двор и парочку соседских та Хая, которая Рубин и не шибко штоб и сильна умом, — чисто как мясо с плесенью на морды лиц стали! Лёва! Я за такую ткань и говорила — зелёное штоб, как Песя сейчас! Ты мине понял или бедной ей нужно ещё раз пострадать за ради твоей непонятливости?
— Да тише ты, тише! — делала в ответ глаза Фейга, осаживая простодурую подругу, — И без тебя уже такие, шо думаю то ли за врача, то ли за раввина, то ли за всех обоих!
— Ша! — Хая Кац, немножечко расстроенная не фееричностью своего светского спуска в глазах так и не повернувшихся соседей, ловко вклинилась меж матерью и дочкой, рывком подымая их со скамьи, — Всем молчать, а если кто и да, то только добрые пожелания! Всем ясно, или мине повторить, нахмурив лицо?
Народ проникся и самую чуточку впечатлился — настолько, што отдельные энтузиасты из числа мальчишек и всяких там Рубинов забежали сильно вперёд — предупреждать народ за ша и грозное лицо Хаи Кац. Получилось такое себе интересное зрелище впополам с шествием, шо как бы и парад алле, но немножечко и театр, который народный.
— Как на Пасху у гоев! — громогласно заявил какой-то мелкий сопливый мальчишка, шумно зашмыгнув и сглотнув соплю назад и получше угнездившись на дереве, намереваясь не пропустить ничего и никого из зрелищной процессии.
— А то! — согласился такой же сопливый и замурзанный приятель, вытирая сопли рукавом и ёжась от холодного февральского ветра, — Только без песен!
К выходу с Молдаванки добралась большая толпа, и Хая, которая Кац, чуть не порвалась на две части — одна из которых негодовала за нервничанье подруги, а другая наслаждалась вниманьем и уваженьем. Вслед им махали долго, потому как от такого торжественного и многолюдного сборища у всех где-то под желудком родилось чувство, што будто бы и они самую капельку причастны к будущему экзамену Эсфири.
Пока извозчик, пока доехали до Гулевой, где Мариинская женская гимназия, Фира уже самую чуточку и оклемалась. Помощь тёти Хаи теперь только в нейтрализации чересчур впечатлительной мамеле, с её стремлением к интересному обмороку посреди улицы.
— Так это… — начал было извозчик, но получив полтину, с металлическим лязгом захлопнул челюсть и спешно уехал, пока не вспомнили за сдачу.
Встав напротив углового двухэтажного здания, две женщины и одна почти некоторое время собирались с духом, рассматривая этот дворец знаний как часть несомненно прекрасного будущего Фиры, проникаясь его и её величием. Выходило так себе, зато у ветра проникнуть и проникнуться — очень даже и да!
Чихнув, тётя Песя наконец опомнилась и засуетилась, заквохтав вокруг дочи.
— Ой же ж! Время, Фира, время! А кстати, сколько? — опомнилась она.
— Успеваем, — голос Хаи, которая Кац, напомнил бы человеку понимающему о творении пражского раввина Льва бен Бецалеля, — не суетись, как под клиентом! Ты мать и почтенная если не дама, то где-то рядом, а не сама знаешь кто по известному адресу!
Решительная и суровая, под взглядом сторожа она только вздёрнула голову, подходя к гимназии и волоча на себе остальных, но тот ничего и не, так што даже и обидно! Шумно почесав проволочной жёсткости бороду, завивающуюся чорными с серебром колечками, немолодой носатый мужчина мазнул предупреждённым взглядом по девочке и приоткрыл двери. Единственная его фронда и небрежение, замеченное только Хаей — не во всю ширь!
Кац сделал губы куриной жопкой, пообещав себе как только, так сразу! Мог бы и расстараться, а не вот так вот! У людей, может быть, событие на всю жизнь, нужно же понимать?!
По случаю воскресного дня, из народу в гимназии только комиссия и они. Песса Израилевна впечатлилась пустым вестибюлем, наполненным роскошью по её молдаванской мещанской душе и вкусу. В класс её не пустили, хотя женщина и пыталась пройти туда, с упорством то ли барана, то ли обезглавленной курицы, но всё ж таки — молча!
— Доча! — напоследок простонала она, царапая дверь ногтями, и была оттащена к окошку верной подругой.
— … Эсфирь Давидовна… — доносилось до девочки, как сквозь вату.
— … да, невеста…
Под оценивающими взглядами членов экзаменационной комиссии отчаянно хотелось съёжиться и закрыться руками. Возникло странное и нелепое чувство, што она сейчас как в бане, а стена — рухнула, и прохожие глазеют с дурным любопытством, мало не тыкая пальцами.
Преодолев неуместное чувство, она выпрямилась ещё сильней, натянувшись тугой струной, и по балетному поставила носки ног, как всегда учил Егор. Назло всему!
Переборов дурноту, девочка будто оказалась одна во Вселенной, и вместо звёзд — глаза членов комиссии. Задумчивые и доброжелательные — начальницы Мариинской гимназии, Патлаевской Анны Николаевны.
Глаза и лица…
— … причины Второй Пунической…
— … укажите на карте Больцано…
… и вердикт:
— В высшей степени превосходно!
От вспышек выстрелов снизу холодеет внутри, но я ещё раз захожу на разворот, пересиливая страх. Знаю ведь, што на такую высоту винтовка просто не застрелит, а пушки… да чорт их знает!
Теоретически британцы могут задрать лафеты пушек каким-то особо хитрым образом, в надежде сделать мне гадость. Долго, муторно, с сомнительным результатом… но учитывать всё-таки приходится. Ради этого и захожу на Дурбан с разных сторон, предусматривая возможность артиллерийской засады.
Есть! Потянул за петли, и несколько зажигательных бомбочек посыпались вниз. Кажется даже, на складах што-то загорелось… но это только кажется. Даже если так оно и есть, огонь не в силах разгореться так быстро.
Ан нет… горит, точно горит! Не иначе, тюки с хлопком или какая-то химия! Горит!
В порыве энтузиазма разворачиваю самолёт и пролетаю ещё раз, фотографируя пламя. И вспышки, вспышки, вспышки! В бессильной ярости стреляют в меня из ручного оружия едва ли не все защитники Дурбана.
Набрав высоту, кружусь некоторое время над городом, действуя на нервы, и только потом, издевательски качнув крылами, ухожу на посадку.
— Есть накрытие! — скинув очки и шлем, взбудоражено рассказываю встречающим, — Сань! Помнишь склад ближе к гавани? Тот, где в прошлый раз артиллерия наша крышу разнесла? Попал! Не знаю, што там, но горел, и горел хорошо!
Отчаянно гудя клаксоном и подпрыгивая слегка на кочках, подъехал штабной автомобиль, и водитель-немец лихо затормозил около нас, окутав пылью.
— Чортушко! — отряхаясь, привычно припечатал его Санька, на што тот только осклабился довольно. Уж такая у них дружба-вражда, человеку стороннему и не понять.
— В штаб! — пролаял Чортушко на своём дурном диалекте немецкого, — Генерал хочет уточнить диспозицию!
Скинув кожаный реглан, прыгаю в авто, и едва успеваю вцепиться в поручни, ездит немец лихо. Вообще — чем дальше, тем больше Сниман становится технократом. Оценив преимущества техники, он с упорством обдолбанной сороки тащит к себе любые механизмы. Нужны ли, нет… найдём применение!
С одной стороны — выходит иногда достаточно забавно и казусно, учитывая невеликое образование генерала. С другой — вполне себе подход. Обкатать технику в условиях боя для понимания её пригодности в широком применении. Такие себе натурные испытания под взглядами тысяч людей. И сдаётся мне, что буры, и без того не чуждые идеи технического прогресса, после войны прямо-таки ринутся развивать промышленность.
Сходу озадачив меня необходимостью срочного увеличения военно-воздушных сил Претории, Сниман увлёк меня на совещание. С того памятного раза он уверовал в мои таланты стратега, хотя пока што я ни разу не подтвердил их.
Однако же и штабные относятся ко мне вполне лояльно, то и дело апеллируя в спорах к очевидцу. Да и по совести, не все фотографии получаются удачными, так што живой свидетель, оно как-то надёжней.
Чуть погодя притащили фотографии, и Бота, разглядывая фотографии горящего склада, поздравил меня с большой удачей.
— Мелкая мошка зло кусает, — назидательно сказал он, — всего два летательных аппарата, а британцы вынуждены держать в тылу десятки пожарных команд!
— Допросы пленных показывают, — Сниман довольно погладил бороду, приязненно поглядев на меня, — что психологический эффект авиации…
Я невзначай покосился на Мишку, потревоженный обилием умных слов, и брат незаметно подмигнул. А, ну да… просвещает шефа! На то он и адъютант.
— … превысил самые смелые наши ожидания! Опасность с Неба угнетающе действует на солдат противника, и они сами рассказывают, что при всяких подозрительных звуках непроизвольно задирают головы вверх, что ведёт к дополнительным потерям!
— Главное всё же — разведка, — вставил свои копейки Вильбуа-Марейль, на што я непроизвольно кивнул.
Совещание несколько подзатянулось, и всё тот же Чортушко отвёз меня назад, на охраняемый пуще глаз аэродром.
— Двигатель я проверил, — доложил мне Санька, жуя на ходу што-то копчёное, — рама и полотнище тоже в порядке. Сейчас полетишь?
— Угу. Перекушу только. Не… — отмахиваюсь от предложенного мяса, — шоколадку погрызу, и в полёт. Да! Кофе только… хотя нет, лучше молока. Есть?
Запрошенное быстро принесли, и я уселся на лавочке рядом с братом, запивая шоколад свежим молоком.
— Как представлю, — задумчиво сказал Санька, перестав есть, — воюет человек, а потом с неба — херак! Бомба. И крутятся, крутятся над головой самолёты… ужас! Потом, канешно, народец попривыкнет так воевать.
— Да! — опомнился он, — Дядя Гиляй вечером звал. Из разведки вернулся, весь довольный и грязнющий… но и довольный, не передать! Обещался, што как отмоется и с докладом отпишется, вестового за нами зашлёт, хотя если мы и раньше придём, тоже не страшно.
— Славно! Ну, всё, до встречи на земле!
Мотор зафырчал, короткий разбег, и подпрыгнув несколько раз, еле заметно качаясь колёсами почвы, взлетаю. В голову само лезет требование Снимана, и я хмурю лоб… проблемка!
Самолёты, они в таком виде на грани грузоподъёмности. Соответственно, нужен лёгкий пилот, притом технически грамотный — пусть даже с прицелом на будущее, но всё же! Кого потяжелее, так фотоаппарат снимать, толку тогда с такого полёта?
Буры же… среди наших ровесников мы как бы и тово… мелковаты. По росту даже если и да, то костяк у здешних массивный, увесистый. Взрослые тем паче. Вон, Конелиус, небом заболел с первого взгляда, а летать — едва. Подъёмной силы хватает, но впритык почти.
Я-то, случись што неладное, хоть шанс имею — фотоаппарат хотя бы сбросить. А Корнелиус? Буду думать, буду экспериментировать, но пока глухо, а тем более — срочно.
Пускать в авиацию иностранцев, среди которых хватает технически подкованных худощавых низкоросликов? Не хочется как-то, вот ей-ей! А-а, с Мишкой потом посоветуюсь, с Санькой, с дядей Гиляем! Утро вечера…
Поймав поток, я закружил по широкой спирали, огибая Дурбан со стороны океана. Ждите, британцы, с неба надвигается Смерть!
Листая свежую французскую прессу, Сергей Александрович наткнулся взглядом на фотографию ничем непримечательного мальчишки в шофёрском шлеме и очках, улыбающегося свободно и открыто. Снова он… улыбается…
— Гадкий мальчишка, — еле слышно сказал Великий Князь, — гадкий…
Он перелистнул страницу, а там — снова мальчишка, но уже другой… и тоже — улыбается!
— Гадкие мальчишки, — произнёс он, и лицо сделалось холодным, безжизненным. Плохо сделанная восковая маска, на которой тусклыми болотными огоньками горели глаза.
Заглянул адъютант, очень красивый и изящный молодой человек в гвардейском мундире от лучшего портного, сидевшем на нём подобно лайковой перчатке. Полные его, чётко очёрченные губы, таящие лукавую усмешку, разом изогнулись уголками вниз, подобно луку купидона.
Осторожно прикрыв дверь, он снова уселся за стол в приёмной, полный мрачных и ревнивых мыслей. Вечер испорчен… г
Глава 41
Прислонившись лысеющей головой к холодному оконному стеклу, барон де Стааль невидящими глазами смотрел на улицу, не замечая течения Времени. Давно уже стемнело, но старый слуга, хорошо изучивший привычки российского посла в Соединённом Королевстве, не спешит зажигать газовый рожок, оберегая начальственный покой.
Выдохнув прерывисто, дипломат самолично открыл окно, и в кабинет начал медленно вползать знаменитый лондонский смог, пахнущий сгоревшим углём, химической и сталелитейной промышленностью, и конечно же — человеческими нечистотами. Закручиваясь от сквозняков в причудливые лохмотья, он оседал на поверхности предметов, оставляя влажный пахучий след с еле заметными разводами.
Едкий холодный воздух немного привёл в чувство барона, и в голове начали тесниться невесёлые мысли. Толпа под окнами посольства, выкрикивающая антироссийские лозунги — не в первый раз на его памяти, и скорее всего, не в последний.
В толпе лондонской черни, скорой на подъём, встречаются и достопочтенные граждане, выражающие своё негодование самыми простонародными способами. Грязная брань привычна, но до сих пор задевает, незачем лукавить перед самим собой. А вот гнилые овощи, тухлые яйца или прогнившие тушки крыс, кошек и мелких собак, летящие в посольство, это уже за гранью его понимания.
Неприятно, но это неотъемлемая часть работы дипломата — такая же, как светская жизнь, с приёмами на самом высоком уровне, посещением театров и будуаров светских львиц. Ах, как было бы славно… но уж как есть. В противном случае посланником был бы какой-нибудь светский фат, с должной родословной и близким родством с Императорским Домом.
Отношения между Российской Империей и Соединённым Королевством далеки от дружеских, с трудом удерживаясь в позиции холодного нейтралитета. Кажется порой, две бойцовые собаки рычат и перегавкиваются меж собой через невысокий заборчик, сдерживаемые только воспитанием, да жёстким хозяйским приказом.
Но в этот раз ситуация зашла очень далеко! Ещё чуть-чуть, и будет как тогда, на Кушке[75]… а возможно, и хуже. Доигрались!
Почти три тысячи русских подданных воюет на стороне буров, и британцы решительно отказываются понимать, что Российская Империя не имеет никакого отношения к этим… скверноподданым! По совести, он и сам порой сомневается, считая ситуацию частью Большой Игры, что уж говорить о возмущённых британцах?!
Поверить, что русские мужики сами… Нет, это решительно невозможно, нонсенс! Претория и Трансвааль должны быть буквально напичканы агентами русского Генштаба, потому как сдвинуть эту аморфную безвольную массу, направив её в нужную сторону, способны только кадровые разведчики!
Абиссиния[76] никак не пересекалась с интересами Российской Империи, а ведь было, было! Сперва — авантюрная экспедиция терца Ашинова, поддержанная общественностью и Церковью. Не вышло, но контакты, пусть даже и на сугубо личном уровне, наладить сумели. Затем — кубанец Машков при полной поддержке Военного Министерства, но чтобы не обострять отношения с Францией, в качестве корреспондента.
Есаул Леонтьев, уже официально, в качество военного советника. Сплошь казачня! Потому и не воспринималось всреьёз умными людьми. А вот кто был рядом, н-да… видимо, проглядели.
Авантюра, как есть авантюра! Опираясь на дружественную православную Эфиопию, создать резидентуры в Африке, дотянувшиеся до самой Капской колонии, достижение выдающееся, нужно признать таланты организатора. Его бы только в нужное русло!
Военная разведка влезла, преследуя сугубо свои, местнические цели, а получилось… думается, они и сами не ожидали такого оглушительного успеха, и просто заигрались. Заигрались, решительно не понимая политических последствий своих поступков! Или может быть, высокий покровитель?
Зная досконально политический расклад Двора, дипломат выстраивал в голове сложные схемы, всё больше сомневаясь в собственной осведомлённости. По всему выходило, что информация его сильно устарела, либо… ему целенаправленно скармливали дезинформацию! Годами!
Верить, что вчерашние земледельцы, шахтёры и мастеровые самоорганизовались… Он дипломат, и обязан верить официальным документам, предоставленным начальством. Обязан! Но не получается.
Ладно ещё шляхтич Джержинский, хотя ему и сложно поверить в организационные таланты гимназиста-недоучки. Марионетка? Агент русской разведки?
Но прочие?! Решительно невозможно! На стороне буров воюет почти три тысячи подданных Российской Империи, и если не считать миссии Красного Креста, то дворян и казаков там чуть больше двадцати, включая этого… польского марксиста.
Верить, что лучшие люди России не смогли занять приличествующее им положение, возглавив отряды русских крестьян самым естественным образом? Нет-с… никак невозможно!
Воюют чуть ли не рядовыми в Европейском Легионе, да в бурских коммандо, а русские мужички якобы наотрез отказываются признавать над собой власть природных господ! Да где это видано!? Самым решительным образом — невозможно!
Скорее он поверит в то, что какой-нибудь излишне ретивый исполнитель перестарался, проводя разграничения между верноподданными и… Да, именно что скверноподанными! Провёл, да и перестарался, не понимая политических нюансов! Именно такое демонстративное неприятие холопами своих былых господ и вызывает самые серьёзные подозрения.
А эти… мальчишки? Ну кто в здравом уме поверит в гениального четырнадцатилетнего подростка, впервые в истории покорившего Небо?
Пусть неглупый, пусть даже очень умён… но четырнадцать лет? Собрал свою… летадлу буквально из палок и полотнища за считанные часы, и взлетел?! Так. Не. Бывает!
Если же предположить, что рядом находится взрослый, искушённый в психологии и агентурной работе, то пазлы сходятся! Большая, сложная работа на перспективу, ведущаяся кем-то из близкого окружения Его Величества. Взять умного перспективного мальчишку, подтолкнуть в нужную сторону, направить… Возможно, гипноз? Хм… не исключено.
Наверняка эти летадлы придумали и испытали другие люди, а мальчишка… А мальчишка — марионетка, не подозревающая о том. Потянут в нужный момент за нужные ниточки, и вот у кукловода, притаившегося в тени, есть молодой и харизматичный лидер, искренне считающий себя самостоятельным. Ах, какая игра… и без него.
В груди теснилась обида: всего четыре года назад он отклонил предложение стать министром Иностранных дел в Российской Империи, и похоже, некие силы убрали его со счетов сразу после отказа. Операция с таким размахом не могла… не должна была пройти мимо него!
В общих чертах, но дипломаты его ранга владеют информацией такого рода. В конце концов, это неотъемлемая часть их работы!
Намекнуть, обрисовать в общих чертах… не зря же он посол в Соединённом Королевстве! Его обязанность — предусмотреть какие-то острые ситуации, сгладить их дипломатическими методами, и по возможности — заранее.
Два-три разговора на приёмах, короткая статья в одной из лондонских газет, и вот уже общественное мнение Британии подготовлено. Есть понимание, что Российская Империя и русские мужики в Южной Африке — не одно и тоже! Что царь встревожен, подозревая наличие в этой среде социалистов, ведущих агитацию и намеревающихся использовать золото и алмазы Южной Африки для финансирования своей деятельности.
Не сочли нужным предупредить его, дабы подготовить общественность? Что ж, пожинайте теперь плоды! Он умывает руки!
Настроение де Стааля вновь скакнуло, и он принялся размышлять о непосредственных руководителях африканского анабасиса[77].
Подполковник Максимов, безусловно являющийся центром этой паутины, человек большого ума и выдающихся талантов. Журналист, н-да… интересно, верит ли в это хоть кто-нибудь?
— Не доверяют, — глухо прошептал он, — после стольких лет…
На глаза непроизвольно навернулись лёгкие старческие слёзы, но дипломат не дал волю чувствам.
Да, у него есть друзья в Британии! Но положа руку на сердце — кто бы не обзавёлся друзьями, проведя в стране шестнадцать лет?!
— Не доверяют, — повторил он чуть громче, ожесточаясь сердцем, — что ж…
Он оборвал слова и мысли, выйдя из кабинета. На худое его лицо привычно легло выражение сердечной приветливости и важных государственных дум. Посланник Российской Империи шествовал по коридору, и каждый его шаг казался деянием, заслуживающим занесения в летописи. Профессиональный дипломат высокого класса за годы службы научился держать лицо.
Отчаянно дымя трубами и вибрируя всем своим стальным телом, испещрённым потёками ржавчины, старый пароход уходил от сторожевого корвета под британским флагом. Расстояние сокращалось медленно, но уверенно, и пароходик спасал только почтеннейший возраст корвета, которой в любой приличной стране давно бы списали на слом.
Британцы же, трактуя знаменитое «у короля много» по ситуации, держали подобные устаревшие корабли в колониях, справедливо полагая, что для «демонстрации флага» или усмирения туземцев, хватит и такого старья. Третьесортные корабли обслуживались такими же третьесортными экипажами, но как правило, для колоний хватало.
Территориальные воды Португалии не остановили пыл преследователей, и вскоре портовые власти Лоренсу-Маркиша с бессильной яростью наблюдали за вопиющим нарушением международного права, чувствуя себя униженными и оскорблёнными. Всем своим сердцем они болели за… а точнее — против англичан!
Драма разворачивалась, и никто уже не сомневался, что корвет нагонит гражданский пароход, и захватит его самым пиратским образом, на виду всего Лоренсу-Маркиша! Однако капитан парохода придерживался иного мнения, и резко изменив курс, выбросился на берег в нескольких милях от города, раздирая жестяное брюхо о прибрежные рифы.
Некоторое время корвет крейсировал вдоль берега, но затем удалился, и только тогда португальский сторожевик вышел из порта, спеша на помощь потерпевшим кораблекрушении. Впрочем, потерпевшие справились сами. Оценив состояние судна как безнадёжное, они организовали выгрузку людей и грузов, действуя на удивление слаженно, удивительным образом напоминая деловитых мурашей.
Подоспевших португальцев встретили деловитые бородачи, вызывающие неуловимые ассоциации с бурами. Русские…
Вникать, что это «другие русские», равно как и в религиозные заморочки схизматиков, расколовшихся на разные течения, португальцы не стали. Спешно организовав повозки до Лоренсу-Маркиш, они препроводили бородачей до консула Претории, и с нескрываемым облегчением посадили на поезд.
— Как буры, только русские, — глубокомысленно заключил капрал Алмейда, провожая взглядом тронувшийся состав и нашаривая в кармане трубку.
— Девки у них красивые, — мечтательно отозвался контуженный синими глазами молодой Родригеш, влюбчивый по молодости и романтическому характеру.
— Это да, — протянул более призёмлённый сослуживец, томно вздыхая, — я бы…
Вытянув вперёд толстые, изрядно вывернутые губы, выдававшие изрядную примесь негритянской крови, он причмокнул и сделал движение тазом.
— Забудьте! — прервал их мечтания сержант да Коста, сдвигая на затылок фуражку.
— Такие… — он дёрнул плечом, — Вы на девок пялились, а я по долгу службы со старейшинами их.
— Так поверите ли… — он замолк и пожевал задумчиво нижнюю губу, — всё время хотелось голову наклонить под благословение. Я даже сбился пару раз, назвал их святыми отцами, н-да…
— А они? — заинтересовался Родригешь.
— А ничего, — сержант достал портсигар, решительно не желая продолжать разговор, но всё-таки добавил:
— Педро, старший из моих братьев, иезуитский колледж оканчивал, так эти — один в один!
— Оканчивали?! — глупо пошутил капрал, и сам же заржал.
— Обучали, — сдержанно ответил сержант. Он замолк, и на его смуглом лбу появились вертикальные морщинки. Завтра… нет, сегодня же он посетит отца Переса и расскажет ему о русских переселенцах, и своём их восприятии.
К вящей славе Господней[78]!
Глава 42
Нелётная погода держится вот уже четвёртый день, и в редкое затишье в небо взмывают только воздушные шары да полужёсткий дирижабль, удерживаемые на привязи. Полчаса, много — час, и наземные службы вынуждены крутить рукояти барабана, наматывая тросы и возвращая экипажи на землю, где они долго приходят в чувство.
Прерывистый ветер, низки тучи и клочкастый туман не слишком способствуют воздушной разведке и корректировке огня, так што полёты аэронавтов скорее для успокоения совести, чем для пользы. Сниман, привыкший к свежим фотографиям Дурбана, полученным с воздуха, ходит мрачным, вечно окутанный клубами табашного дыма и смурным настроением.
Мы с братом на приколе, потому как летадлы куда как чувствительней к непогоде. Нырь носом вниз! И отпевай… Особенности конструкции, ети её. Знаю примерно, как нужно делать, но время, время…
Пока же, пользуясь предугаданным синоптиками перерывом в полётах, провёл отбор в отряд пилотов. Через дядю Фиму, ага… Мне, собственно, собой разницы не было, через кого организовывать, но всё ж таки компаньон, да и капиталец политический Бляйшману не помешает.
Среднего и ниже среднего роста, жилистые и выносливые, технически грамотные, стрессоустойчивые. Обязательно — способность ясно и быстро мыслить при дикой усталости и недосыпе.
Буры выставили было требование процедуры натурализации в одной из республик, временно́го и имущественного ценза, но зась! Вмешались союзники, и фолксраад пошёл на уступки, допустив в числе прочих и граждан дружественных государств. И вроде как… не ручаюсь, но Бляйшаман намекал, што Франция стала несколько более дружественной, в том числе и по этой причине.
Да уж, в верхней палате парламента обсуждали, сроду не подумал бы. Маленький Я в большой политике…
Отбор, а потом тесты, тесты, тесты… Умение читать чертежи и карты, разобраться в технике, в том числе и незнакомой, идеальная зрительная память, координация, мелкая моторика, и ещё не куча даже, а кучища вещей, которые только смог придумать мой извращённый мозг.
Кандидаты за трое суток спали не больше четырёх часов, и всё это время прыгали, бегали, кувыркались, висели до судорог на канатах, ходили по доске на высоте десятка метров над землёй. А ещё — решали задачки «с подвохом», требующие прежде всего внимательности и цепкого ума, а не гимназических знаний. Играли в быстрые шахматы, в карты, и снова — бег, кувырки, борьба, бокс…
Я сам за это время спал немногим больше. Постоянно то показывал, што надо делать, то вглядывался в лица боксирующих и фехтующих. Способны ли они, не мигая, встречать удар летящей в лицо перчатки? Клинка? Притом не тупо замирать, а как-то действовать! И как?
Способны, стоя у мишени, стоять не двигаясь, пока меткие стрелки пулями обрисовывают контуры их тел? И тут же — задачки на внимательность, светская беседа, тактические задачки от Мишки.
Абсолютно уверен, што большая часть требований избыточна, но откровенно говоря, я не горю желанием проверять свои педагогические таланты на сомнительном материале, предпочитая заготовки такого рода, которые достаточно слегка шлифануть. Да и престиж профессии, не без этого.
Поскольку испытания проходят открыто, и любопытствующие хоть и не толпятся вокруг, но присутствуют в достаточных количествах, уважения к прошедшим отбор — с избытком. Каждый ведь невольно примеряет на себя, и констатирует — не потяну…
Позже романтический и героический флер сгладится, а то и вовсе сойдёт почти на нет, но хочется отобрать таких людей, которые не потерялись бы и без меня. Да, отчасти тщеславие, но авиация создаётся здесь и сейчас.
Де факто и де юре я один из её создателей, но возможность создать ещё и костяк будущих прославленных пилотов, конструкторов и офицеров воздушного флота своих стран, это здорово! Греет душеньку, себе-то што врать?
Эффект скорее побочный, на первом месте всё ж таки желание качественного «человеческого материала», понимание политическое потом пришло, после намёкиваний дяди Фимы о моём вкладе во франко-бурские отношения. Что ж…
Идя вдоль жидкого строя, вглядываюсь в серые от усталости лица — не ошибся ли я, не потухли ли глаза? Не потухли…
Каждого помню, до последней запятой досье выучил, да и сам немало добавил. Характер, личные особенности, привычки, неприятие бытового или религиозного характера.
Военгский Илья Митрофанович, из поморов, двадцати восьми лет. Среднего роста, тощий и жилистый, со шрамом от нагайки поперёк иконописного лица. С детства зуйком[79] ходил на коче, потом Балтийский завод в Петербурге. Не сложилось — слишком независим оказался помор, права отстаивать вздумал, мерзавец этакий. Ну и влетел разом в политику, и как старообрядец — в оскорбление Церкви до кучи.
Ждать ареста и суда неправедного не стал, ушёл через Финляндию. Работал механиком на судах, на приисках в Калифорнии, помощником шерифа в Аризоне. В Преторию приехал пять лет назад, работал механиком в шахте. Натурализовался, имеет гражданство Претории.
Ивашкевич Адамусь Глебович, из Гродненских мещан, литвин двадцати трёх лет. Мелкорослый, с высоким лысеющим лбом, тонкогубый, с широким подбородком и льдистыми глазами. Работал на Харьковском паровозостроительном, и тоже — проблемный. Националист и социалист, равно ненавидит Петербург и Синод. Имеет свои взгляды на историю, считая Романовых завоевателями.
Арест, суд, бежал с этапа. Побег его — тема для приключенческой книги, а скитания — ещё для десятка. Приехал незадолго перед войной, да так и остался. Собирается натурализоваться, перешёл в кальвинизм, и кажется — искренне.
Франс Якуб Кучера, подданный Франца Иосифа, бывший житель Вены, по живости характера попавший под пристальное и недоброе внимание властей, от которого и перебрался в Африку почти десять лет назад. Социалист и чешский националист, хотя собственно немецкой крови в нём больше, чем три четверти. Типичный шваб с рублёной физиономией и взглядом бульдога, двадцати девяти лет.
Вольфганг Шульц, двадцати шести лет, уроженец Мюнхена, профессиональный механик и профсоюзный деятель, проблем с властями не имеет и не имел, в Германии деятельность социалистов вполне легальна. В Африку перебрался по зову сердца и в желании заработать на собственное дело. С началом войны перебрался в Преторию из германских колоний, и вступил в бурское коммандо.
Этьен Мария Тома, девятнадцати лет, некрасивый и сутуловатый, но очень обаятельный уроженец Марселя, сделавший перерыв в учёбе по причине безденежья. Студент Сорбонны, будущий инженер. В Африку приехал за экзотикой и в надежде быстро разбогатеть.
Матис (он же Мэтт) Леон Морель, двадцати двух лет. Американец, а точнее — луизианский креол французского происхождения. Смазливый по девичьи, отсюда и все его неприятности — с поножовщиной и последующими приключениями, не всегда приятными. В Африку приехал недавно, сугубо на войну с британцами, но уже бойко говорит на голландском.
— Господа курсанты, — выделил я голосом, и они подобрались, собрав остатки сил, — поздравляю вас с поступлением в пилотажную группу!
— Вот, Мишенька, — щурясь подслеповатыми глазами на оторопелого внука, сказал дед, — помирать я приехал.
— Ты, Филиппок, смерти не бойся, — старческая рука ласково погладила прильнувшего к старику малыша по голове, — нешто ты думаешь, што я сверху за тобой не досмотрю? Шалишь!
Рассмеявшись дребезжащим смехом, он утёр слёзы малышу и приобнял его.
— Ишь, рёва какой, — нежно сказал он, — ну, пореви, пореви…
— Дед, — беспомощно сказал Мишка, и замолк, не зная, што и сказать. Боевой офицер, он стоит сейчас, беспомощно опустив руки, и кроме нас с Санькой, да прочей родовы, вокруг и никого. С отдаления буры глядят, и будто бы даже понимают што-то.
— Я, Мишенька, — старик безмятежен и будто даже и в предвкушении, — зажился на Этом Свете. Давно уж на Том старуха моя ждёт, так-то! Если б не Филиппок, давно бы уж похоронили!
«— Закончился срок годности» — мелькнула непрошенная мысль. Для своих преклонных лет дед выглядит бодро и глядит прямо, но есть ощущение ветхости, потусторонности.
— А так-то, — старик усмехнулся неожиданно по-молодому, — с пользой хоть. Родина, Мишенька, начинается с того, што ты за землицу кровушку свою пролил — не сам ежели, так деды-прадеды твои. Так-то… кровью сперва её полить надобно, а потом и потом, когда на землице работаешь, вот тогда она твоя и становится. Но пока могилок родных в землице не появится, нет ещё её, Родины! Так-то…
— Я, Мишенька, — раздумчиво сказал он после молчания, — так думаю, што нужно мне в эту землицу лечь, так-то надёжней будет. Пока она ещё чужая, и если не меня, старого, возьмёт, так тебя или Филиппка.
— Дед… — повторил Мишка, ссутулившись.
— Давно уже дед, — закивал тот, — и прадед не единожды, и прапрадед… Говорю же, зажился!
— А я, Мишенька, — взгляд старика стал суровым и отчасти даже… хищным?! — с бриттами ещё за Крымскую не рассчитался.
Он молодеческим движением поправил свой старинный ополченческий картуз и встал во фрунт.
— Так што принимай мою присягу, господин офицер!
— Хорошо, — выдохнул брат, разом постарев на несколько лет, — приму.
— И винтовку штоб! — как-то по детски сказал старик.
— И винтовку, — согласился безропотно Мишка.
— Тогда, Мишенька, — засуетился он, — раз уж так всё… ты бы простил дядьку, а?
Вздох… тяжёлое молчание, и кивок.
— Ага, — обрадовался старик, — Филипп, — сбегай за дядькой, ладушки?
Утерев напоследок нос о живот деда, мальчишка припустил со всех ног, и мы с Санькой, переглянувшись, отошли. Это уже… интимно.
Со стороны только наблюдали, как Мишка говорит о чём-то с вышедшей из-за повозок роднёй, как они поочерёдно кланяются друг другу в пояс, снова говорят и снова кланяются.
— Всё, — выдохнул Санька облегчённо, — похристосовались! Ажно гора с плеч!
— Угу, — Мишка хоть и не говорил почти о родне, но видно — тяготился, когда всплывало. А теперь — шалишь! Какая ни есть, а своя. Всё легче!
— И никаких мине учебников! — погрозила Песса Израилевна доче, наряжаясь за водой, — От такой твоей учёбы чуть у мине мозговая горячка не приключалась, так што тебе и вовсе ша!
— Хорошо, — послушно согласилась Фирочка, заметно отживевшая, и не напоминающая больше красивую упокойницу, — до самой весны отдыхать стану.
— Доча! — всплеснув руками, мать села на кровать, чуть не промахнувшись мимо, — Ну до этой весны всего ничего, а ты опять и снова? Зачем? И так уже умница-разумница, четыре класса мариинской с отличием, так этим не каждая барышня из хорошей семьи похвастаться может!
— Или ты… — взгляд Пессы Израилевны наполнился подозрениями, и окончание предложения она выдохнула с ужасом, — в курсистки пойти хотишь? Или вовсе — в науку?! Ты таки думаешь за своё и наше будущее?! Егор приедет, а ты совсем зелёная, шо аж синяя, и вся такая некрасивая, как… как Рахиль, только ещё и с опрыщавевшим цветом лица!
Она начало нервно обмахиваться платком от переживаний и жары, потому как в комнатах натоплено не жалеючи, а на улице уже весна, несмотря на зиму. Оделась же Песса Израилевна не по погоде, а похвастать, и потому немножечко сильно жарко.
Услышав звонкий смех дочи, она несколько подуспокоилась и догадалась расстегнуть верхние пуговицы.
— До прозелени больше не буду, — со смешинками в глаза уверила девочка мамеле, от такого ответа разволновавшуюся ещё больше.
— Ну а што ещё делать? — рассудительно спросила Фира, — Шить за ради куска хлеба мине уже не надо, работаю только на синагогу и нас обшить, а всё што мимо — Рахиль на мою машинку берёт. Ей деньги в приданое нужны, и профессия с репутацией.
— Да, — с гордостью сказала Песса Израилевна, — мы хоть и на Молдаванке, но ты уже таки барышня из приличной семьи!
— Именно, — вздохнула девочка, изрядно скучавшая по лазанью через заборы и тому подобному интересному времяпрепровождению, от которого у неё остались только танцы и прогулки, — а значит, што?
— Што, — послушно спросила мать, на всякий случай налившись подозрением.
— Вести себя надо, как барышня из, так вот! Могу заниматься благотворительностью, што уже, — она начала загибать пальцы, — работать учительницей, но тут возраст.
— И… — короткая пауза, — учиться! Думаю, взяться за программу училища Ковриги. Не гимназия, но всё ж первого разряда, и вполне себе ступенечка!
— А потом? — вылез один из братьев, слушающих.
— А потом будет видно, — пожала Фира плечами, легонько щёлкнув того по оттопыренному уху.
— Ну ладно, — с видом великомученицы согласилась мать, решившая за ради такого зайти к одному из православных соседей, и выбрать получше — какую именно, потому што у гоев на этот всякий случай есть большой и интересный выбор, — если только в таком модерне! Но смотри!
Глава 43
Осаждённый Дурбан хорошо виден с высокого крутого холма, на котором расположился штаб Снимана. Дымки многочисленных пожаров, разрушенные здания, баррикады на широких улицах, вспышки орудийных выстрелов.
Осада ведётся по всем правилам европейской военной науки. Вдоволь наплясавшись на граблях партизанщины и ополченчества в первые месяцы войны, бурские военачальники, вслед за Сниманом, начали таки прислушиваться к советам европейских офицеров.
Буры, не разучившись метко стрелять, маскироваться и совершать дерзкие рейды по вражеским тылам, с некоторым трудом влезли в тесные для них рамки армейской дисциплины, научились возводить полноценные фортификационные сооружения и рассчитывать свои действия на несколько ходов вперёд. Не без оговорок, но войско получилась куда как боеспособное, и военная мощь бурских армий выросла кратно.
В каждом коммандо обретается ныне при штабе несколько европейских офицеров, обучая африканеров правильной штабной работе и консультируя их по вопросам европейской тактики и стратегии. К командованию войсками, впрочем, их за редким исключением не допускают, и как по мне — решительно верно.
Воспитанные в европейских военных традициях, европейцы мыслят категориями «у короля много», што для здешних реалий решительно недопустимо. Ну и разумеется — шагистика и прочие «важные» составляющие европейской военной науки. Для добровольческих армий, опирающихся на сознательность и родственно-соседские связи, это попросту лишняя трата времени, «чувство локтя» у них отменное.
По количеству европейских офицеров в войсках можно уверенно судить о степени заинтересованности конкретных стран. Решительно доминируют немцы, французы и неожиданно — янки. Европейской мелочи много, но за исключением бельгийцев, все они приехали сугубо на добровольных началах, не пользуясь неофициальной поддержкой правительства своих стран.
Офицеров из Российской Империи сравнительно немного, такой вот необычный вышел кунштюк. Подданных и бывших подданных великое множество, а офицеров — зась! Не сложилось по ряду причин.
А поскольку русские, жиды и поляки, обретающиеся в бурских армиях в превеликом множестве, решительно не идут под командование российских офицеров, то и буры относятся к ним безо особого пиетета. Определённые исключения, вроде того же Максимова и приснопамятного Ганецкого, имеются, но их немного.
— Ну-ка… есть! — зафиксировав стереотрубу[80], Мишка сделал несколько пометок в документах, время от времени вновь приникая к окулярам, — Глянь!
— Угу! — отзываюсь, прильнув к окулярам.
— Здание с часами видишь?
— Сейчас… а, понял!
— Нужны как можно более подробные снимки, што там сзади. Сможешь?
— Хм… — разглядываю здание в стереотрубу, пытаясь прикинуть возможности бриттов на этом участке, — да! Слева подлечу, там никакой возможности нет поставить пушки на возвышение.
— Когда же твои курсанты летать начнут, — прерывисто вздохнул брат. Ну што на такое скажешь?! Летать-то они могут, но пока невысоко и с опаской, пускать их над городом смысла никакого — либо собьют к чертям без всякого толка, либо их полёт будет носить эффект чисто психологический.
Рад бы… вот честное слово, славой бы поделился охотно. Вылетов у нас с Санькой на каждого по пять-семь в день, а это, скажу я вам, такое себе ого, што никому не желаю! А ещё и стратегию с тактикой в головах держать приходится, век бы о них не слышать!
Детальной картины не знаем, и слава Богу, но задачки нам ставятся не абы как, а с объяснением — што именно они хотят через нас высмотреть, а дальше мы уже сами решаем — сможем ли, да если сможем, то как. То бишь вводные изначально должны быть достаточно полными.
Даже и аэродром наш ныне у самого штаба, рядышком с дирижаблем и воздушными шарами. Штоб, значица, без задержек информация.
Помимо тактики и стратегии в уши льётся и высокая политика, куда ж без неё! Некоторое снисхождение к возрасту имеется, но в общем и целом — принимают на равных. А это, на минуточку, генералитет и старший офицерский состав! Да и члены фолксраада заезжают, погреться у костра военных действий, да решить какие-то свои вопросы.
В разговорах не таятся, и напротив — живо интересуются моим мнением, считая его «необычным и парадоксальным». Я для себя вывел — в дурака стучатся. Ну, пусть… Зато и знакомств полезных не куча даже, а кучища!
Буквально сотни пожатых рук, визитных карточек, рекомендательных писем и тому подобных вещей. Приходится вести подробный дневник с «Кто, што, когда» вкупе с картотекой, и честно говоря, не сильно хочется. Но надо! И Саньку заставляю, с прицелом на будущее.
Голова иногда пухнет от обилия стратегии с высокой политикой и политэкономией! Европа воинственно бряцает оружием, увидев в англо-бурской войне возможность дать укорот Британии, вцепившись заодно покрепче в здешние шахты да рудники.
Не дурные! Не на голое место приходят, а какая-никакая, но цивилизация. Железные дороги, мощности промышленные, люди обученные имеются. Всё не в джунглях стройку зачинать, когда выхлоп ожидается огромный, но сильно не скоро. А тут — нате! На блюдечке.
Активы покойного Сесиля Родса хоть по территории, хоть по доходности, бьют иные европейские страны, и возможность раздербанить их превысила соображения государственной осторожности. В территориальные споры с Британией, как я понимаю, союзники буров лезть не спешат, предоставляя эту честь бурам. А вот после, признав за африканерами новые территории, можно будет получить шахты и рудники по сходной цене.
«Паровозик Вилли», подстёгиваемый общественностью, промышленниками и военными разом, с дурной воинственностью бросился в омут, лихо подкручивая усы, произнося бравурные речи и потрясая благоразумно не вытаскиваемым из ножен оружием.
В кильватер пристроилась Австрия — впрочем, заметно более осторожная в действиях и высказываниях.
САСШ, как это у них водится, ведёт политические игры через «частную инициативу граждан». За инициативой этой каждый раз торчат если не уши непосредственно Вашингтона, то как минимум авторитетной группы сенаторов, но приличия соблюдены.
Франция долго выжидала, но под напором воинствующих граждан и ряда промышленников, вступила-таки в эту игру, потянув за собой Бельгию. Резко увеличились ассигнования на флот и министерство Колоний, начались военно-морские учения, и в несколько раз вырос поток колонистов, направляющихся в заморские владения Франции.
Французы с пруссаками ведут свою, сугубо местническую политику, норовя не только и не столько помочь бурам и противодействовать бриттам, сколько подставить ножку извечному сопернику. Увлекательнейшая игра, с учётом сильнейшего франкского парламентаризма и внутренней грызни фракций.
Пруссакам буры интересны прежде всего как союзники против британцев в деле освоения Африканского континента. Воевать против бриттов они готовы до последнего бура. Вторичная цель — не дать укрепиться в регионе французам, но пруссаки явно выбрали путь не столько военной, сколько экономической экспансии.
Франки заинтересованы в бурах, как в плацдарме против англичан, ну и разумеется — всеми силами противодействуют закреплению пруссаков в Южной Африке.
Янки просто торгуют, демонстративно избегая территориальных претензий и не влезая глубоко в Большую Политику.
Позиция России в этом конфликте в настоящее время выглядит самой необычной. Мешая воинственную риторику Военного министерства с бесконечными реверансами Лондону от МИДа, правительство Империи затеяло реформу казачьих войск, объявив о создании Туркестанского казачьего войска.
Подробности бесконечно туманны, трактовать такие высказывания можно в самом широком смысле — начиная от каких-то малозначимых реформ в Оренбургском казачьем войске, заканчивая походом на Индию через Афганистан. Последнее, разумеется, сильно вряд ли, но обустройство казачьих станиц вдоль афганской границы вполне вероятно.
Замес получается густой, и от попытки просто подумать на несколько шагов, чем же может обернуться ситуация, голова идёт кругом. Сплошь переменные, и все неизвестные!
Блиндированный состав начал тяжело тормозить, немногим не доехав до переднего края. Длинный, подпёртый сзади ещё одним паровозом, он останавливался тяжко, с превеликим скрежетом и буксованием.
Возчики, не дожидаясь полной остановки, уже нахлёстывают лошадей, с шиком разворачивая фургоны прямо к дверям вагонов. Стук распахиваемых дверей, и плечистые молодцы, сопровождавшие состав, споро начали перегрузку.
Среди фургонов мечется Бляйшман, как никогда нервенный и взъерошенный. Он орёт, божится, упрашивает… Наконец, не выдержав, залез на вагоны, и оттуда принялся руководить выгрузкой.
— Поспешаем, православные! — заорал он, надрывая глотку и морду, и потные его пейсы лихо развевались во время прыжков с вагона вагон. Сын опасливо поспешал за ним, примеряясь перед каждым прыжком, и дикими глазами глядя на героического папеле.
Сам же Фима, не обращая ни на што внимания, горит делом, искренне болея за работу. Логисты, которые и без того туго знают свое дело, огрызаются нервенно, но впрочем, беззлобно.
— У-у, морда жидовская! — пропыхтит кто-то, надрывая пуп под тяжеленным ящиком с бомбами, да и всё на этом. Здесь не Рассея, и привышные каждому православному извечные образы врага всего християнского мира претерпели изрядные трансформации.
Любви к жидовскому племени не добавилось, но неприязнь ушла — не до конца, но изрядно сдав позиции. Тем паче, одно дело — какие-то чужие где-то тамошние христопродавцы, и совсем другое — нашенский Бляйшман! Падел ещё тот, но сугубо для чужих!
Диссонансом Фиминому цирку артиллерийские офицеры, спокойные и деловитые.
Подъехавший штабной автомобиль окатил всех пылью из-под колёс, и Чортушко споро раздал свежеотпечатанные карты и фотографии Дурбана. Изучали их уже в сёдлах, не теряя ни минуты времени.
Медленно, но уверенно миномёты начали менять ситуацию. Буры, сперва косившиеся дико на вылетающую из родного окопа мину, быстро оценили новое чудо-оружие, и перешли в наступление, откусывая у обороняющихся один кусочек территории за другим.
Возможность обрушить «Гнев Небес» на закопавшегося в землю врага, не неся при этом почти никаких потерь, африканерам решительно понравилась. Артиллерийские и пулемётные позиции бриттов, ранее бывшие крепким орешком, поддававшимся только артиллерии, разгрызались на раз.
Чугунная плита летела на дно окопа, сверху толстостенная труба с упорами, минутка на уточнение вражеской диспозиции и наведение, и Божий Гнев обрушивался на солдат Антихриста! От богобоязненных буров требовалось только приникнуть к прицелам, выцеливая паникующих англичан, да не забывать молиться.
Кусочек за кусочком, неся минимальные потери, буры захватывали Дурбан, всё глубже вгрызаясь в территорию города. Единственный затык — необходимость постоянного огневого шквала. Логисты справлялись, подвозя снарядные и патронные ящики прямо на передний край, на обратном пути захватывая раненых и убитых.
Бляшман метался с возчиками, отслеживая картину в целом и не без грусти понимая, што как бы они не размахнулись с количеством мин, делать их нужно было в десять раз больше! Потому как если они есть, это хорошо! А если нет…
… — ой вэй, — нервенно сказал Фима, вжимаясь в землю после разрыва снаряда, угодившего аккурат в повозку с минами. Сейчас на том месте только воронка и мясное крошево, разбросанное на десятки саженей.
Оглядываясь назад, он ящерицей прополз через воронки и кочки, стёк в окоп и приподнял голову, оценивая обстановку. На душе разом запаскудело, такой гадоты он мог вспомнить по пальцам на раз-два, включая бурную молодость.
Британский снаряд разом уничтожил не только мины, но и командование отряда, а в настоящее время их обходят с тыла, и што печально — не в полный рост со знамёнами, а прячась в складках местности, будто и не англичане! Пара минут, и в штыки ударят, а это, говорят, больно.
Спереди их поменьше, но выкатывают пулемёт, минута-другая, и его установят… Подобравшись, он оценил расстояние и свистнул, привлекая внимание уцелевших бойцов. Несколько коротких слов, и…
— За мной, парни! — перемахнув через бруствер окопа, он бросился вперёд, не отпуская взглядом пулемётчика и сжимая револьвер до боли в ладони. Фима даже не знал, бегут за ним или нет… просто вот так вот, с оружием в руках, ему менее страшно, чем в окопе.
Полузадохнувшийся Бляйшман, прыгнув щучкой, навалился на пулемётчика, схватив его за горло и не думая ни о чём.
«— Не люблю быть героем» — мелькнула странноватая мысль, но лучше уж вот так, в сражении…
Дальше память работала урывками, отказываясь вспоминать эти ужасы. Успели… буры всё-таки поднялись в атаку и добежали, перебив немногочисленный пулемётный расчёт, и развернули оружие навстречу британцам, разом выкосив три четверти наступающих.
Дальше был сплошной героизм, што решительно не нравилось Бляйшману! Незадачливо так всё складывалось, што ты или да, или тебя и вовсе нет.
Пробиться к своим не удалось, и даже напротив, пришлось таки отступить в глубь вражеской территории, подхватив по пути таких незадачливых, но уже не буров. Парни из немецкого Европейского Легиона глядели браво, но привычка решать проблемы через величину погон, вбитая на подкорку, никуда не делась.
Бравый ассистент-фельдкорнет пучил глаза на шеврон коммандера и козырял, не к месту вспомнив о субординации. Прусского юнкера[81] не смутили даже пейсы коммандера, вкупе с ни разу ни арийским видом. Пришлось и дальше быть отцом-командиром, и в общем-то, получалось.
Удачно пройдясь то английским тылам, и собрав мелкие группки таких же ретивых вояк, Бляйшман нащупал-таки слабое место в британских позициях, ударив в тыл пулемётной части. И оказалось…
… они прорвали кольцо обороны. В прорыв вошла конница Дзержинского, и по широким улицах Дурбана галопом пролетел Первый Сарматский.
— Марга!
Глава 44
На похоронах собралось несколько тысяч человек, и я не могу вспомнить такой толпени, даже когда провожали Жубера. Русские, не совсем русские и совсем не русские, тысячи людей пришли проводить в последний пусть человека, с которым не были лично знакомы.
Рядовой ополченец, только што приехавший в страну и не успевший ничем собственно прославиться. А вот поди ж ты!
Бог весть почему, но гибель в бою ветхого старика стала чем-то очень значимым для этих людей. Я и сам не могу выразить подобного чувства словами, но где-то в глубине души ощущаю всю необычность этой смерти.
Губы сами шепчут «За други своя[82]», и сухие глаза немигающе глядят на опускающийся в землю гроб. Как и хотел — в бою с бриттами, с которыми недовоевал в Крымскую. И глубочайший, не вполне понятный, но болезненно ощущающийся символизм — заслонив собой от верной смерти молоденького бура, прибывшего координировать совместные действия.
Обняв, заслонил от шального по сути корабельного снаряда, расплескавшегося осколками, и на последних силах благословил юношу губами, из которых выплёскивается кровь. Што особенно впечатлило как самого бура, так и всех, кто присутствовал при сём событии — с улыбкой.
Позже, наверное, это обрастёт мифами, а количество очевидцев вырастет на два порядка. Пусть!
Сейчас, на похоронах, буры и русские смешались, не чувствуя отчуждения. Ещё не один народ, да наверное, и никогда не станут полностью единым, но… Русские не буры, но уже — африканеры[83]!
Среди собравшихся очень много знакомых лиц — по Одессе ещё, по Москве. Мишкина родова, Жжёный с чадами и домочадцами, стискивающий мне плечо дядя Гиляй, Коста, щеголяющие свежими повязками и сержантскими нашивками под артиллерийскими эмблемами Самуил с Товией.
С каждым знакомым лицом на сердце будто лопался какой-то обруч, и становилось легче дышать и просто жить. Африка разом стала близкой и родной.
Я дома.
Прижатые к береговой черте, бритты оказались под прикрытием судовой артиллерии. Пат.
Акватория Дурбана мелководна, изобилует отмелями и рифами, и к самому берегу может подойти разве што военно-морская мелочь, калибр и боезапас у которой ограничен, но…
… прикрывающий их крейсер типа «Элсвик», это уже достаточно серьёзно.
Сейчас между бриттами и африканерами тщательно выверено расстояние. Подтяни мы чуть ближе миномёты, и сможем в считанные часы перемолоть в фарш английские войска вместе с ополчением. Но верно и обратное, а попадать под выстрелы морской артиллерии как-то не хочется.
Пусть даже преимущество на нашей стороне, но терять в этой артиллерийской мясорубке несколько тысяч человек совсем не хочется. Да и нельзя… африканеров попросту мало, и начни мы побеждать таким манером, бритты попросту начнут войну на истощение, а долго мы не продержимся.
— Пат, — озвучил Мишка, отстраняясь от фотографий и перерисованных с них карт.
— Мои ещё не готовы, — отвечаю на невысказанный вопрос Евгения Яковлевича и Снимана разом, — да и не поможет. Сбрасывать бомбы без риска быть подстреленным, я могу только с большой высоты, а в таком случае разброс получается очень уж большим.
Сниман переглянулся с Ботой и с шипеньем втянул воздух через зубы, нехотя кивая.
— Я бы ещё сказал — время, — добавил меланхолично Вильбуа-Морейль, — бомбовая нагрузка в любом случае будет несущественной. С учётом же разброса и попаданий в акваторию, на нейтральную полосу и Бог весть, куда ещё, подобной бомбёжкой можно заниматься неделями, прежде чем потери бриттов не станут достаточно существенными.
— А тогда и страх перед Небом пропадёт, — констатировал Бота, досадливо дёрнув себя за ус, — да и подкрепление…
Повисла тяжёлая, давящая тишина, ведь по всему выходит, што нужен штурм! Или какая-то…
— А если… — я замер, и первоначальная дурная мысль начала вытесняться Идеей… — сыграть на страхе?!
— Вот! — вырвав лист из блокнота, лихорадочно пишу «Это могла быть бомба», — А?!
— И на таких вот крохотных листочках, — медленно начал Сниман, переглядываясь с Ботой, и на их лицах проступил одинаковый оскал, — чтоб по всей территории рассеялось!
— Да! Солдатня бриттов набрана преимущественно из жителей трущоб и деревенской голытьбы, а публика это такая, что образование даже если и есть, то дурной мистики и суеверий в головах много больше, чем здравого смысла!
— Они же каждый упавший листок будут видеть — бомбой! — выдохнул восторженно брат.
В походной типографии живо ухватились за работу, и затык оказался только в достаточно тонкой бумаге, которая не станет тотчас же размокать, попав на сырую землю. Фима, поиграв бровями, уверенно сказал за да и озадачил своих.
Пока суд да дело, я отправился в мастерскую, решив сделать пришедшую в голову приспособу, которая будет вытряхивать не все листки разом, а поочерёдно, будто карты из рук опытного банкомёта. Санька, как само собой разумеющееся, отирающийся вокруг Корнелиус, и вовсе неожиданно — Тадеуш Кошчельный.
Вечно сумрачный потомок ссыльных поляков и потомственный же ссыльный, рано полысевший, коренастый, с лицом страдающего запором бульдога, в общении он не слишком-то любезен. Это ровно тот случай, когда физиономия живо соответствует характеру.
Однако же и отказываться от услуг заскучавшего инженера-самоучки я не стал. Пусть мы и вечно гавкаемся, но как-то… на одной волне, што ли.
Да и мозги у него работают што надо! Придумать саму концепцию миномётов и их использования, а потом воплотить сырую идею в жизнь, да за короткие сроки, дано не каждому. И пусть злые языки говорят, што идея-де витала в воздухе, а бомбарды были известны со времён Раннего Средневековья, я таких языкатых предупредил, што буду посылать по известному адресу, притом публично.
Коммандер, не чинясь, переоделся в предложенный рабочий комбинезон, с любопытством оглядываясь по сторонам. Задачка для него слишком проста, да и по совести, здесь бы справился любой толковый слесарь, поставь ему такую цель. Но лично мне хочется унять зудящие руки и немножечко голову, в которой накопилось слишком много впечатлений. Кошчельный же, я полагаю, любопытствует по части авиации.
Слесарными работами в мастерской занимались всем авиаотрядом, включая не только курсантов, но и наземную команду дирижабля «Трансвааль», шумно толпившуюся вокруг, загораживая свет.
— Смир-рна! — не выдержал я, и те разом вспомнили за дисциплину и старшинство в званиях. Ну, сам виноват, разбаловал несколько равнодушием к чинам и некоторым панибратством. Как-то оно у меня не складывается с армией.
Взять вот хотя бы опекуна — при равных званиях он для меня безусловно старший, а со Сниманом и Бота могу и поспорить в полный голос. В общем, никакой субординации!
Проверили выпускающий механизм, загрузив пустые листки такого же формата, сброшенные далеко в стороне от лагеря. Действует! Заодно и нюансы работы чуть понятней стали.
Приземлившись, перепроверили заново летадлы, што уже в подкорку въелось.
— Полгода-год, — продолжая проверку, обещаю вздыхающему Корнелиусу, глядящему на меня с видом больной собаки, — и если не случится ничего не предвиденного, ты взлетишь!
Закивав мелко и закусив до крови губу, бур крутанул пропеллер, и отскочил. Тарахтение мотора… взлёт!
Уже в небе выцепил глазами Саньку, пристроившегося в хвост, и покачал крылами — не столько даже брату, сколько привет тем, кто остаётся на земле. Традицией уже стало.
Облетая бриттов, пожалел об отсутствии кинокамеры, и пообещал себе — как только, так сразу! Снять бы всю эту суету внизу… и-эх, какие бы кадры получились!
Санька, пролетев вперёд, сбросил несколько вымпелов, и я на глаз оценил скорость ветра и его направление на нужной высоте. Снова качаю крылами, и начинаю полого скользить вниз, открывая выпускающий механизм и стараясь не обращать внимания на яростную пальбу снизу.
Листовки белыми бабочками запорхали над лагерем бриттов, раскидываемые порывами ветра вдоль всей акватории. Санька, пролетев чуть дальше, повторил, и я смогу увидеть со стороны, насколько же это красиво!
Затявкали пушки канонерок, задравших пушки в зенит. Попасть в вёрткую цель, да в таком непривычном ракурсе, они могут разве што случайно, но вот ей-ей — каждый раз будто в прорубь с головой! Ни разу даже не радует, што эти падлы расходуют дуриком не бесконечные снаряды!
Набирая высоту, начал кружить по спирали, остро сожалея об отсутствии нормального рулевого управления, и вообще… нормального. Летадла, при своей конструкционной простоте, штука заведомо тупиковая, и нормальная управляемость — только малая часть из множества проблем.
Просто так не повернуть, не набрать высоты! Наличие мотора лишь облегчает полёт, но всё равно — в первую голову воздушные потоки, а весь пилотаж и даже рулёжка построены с опорой на воздушные потоки!
Яркое пятно в цветах британского флага, взмывающее во воздух, вызвало злой оскал. Шарики… ну-ну! Отстаёте в техническом развитии, господа бри…
Треск пулемётной очереди с воздушного шара оборвал мои мысли, и я опасно накренился на крыло, отчего бамбуковый каркас застонал протяжно. Не успел… негромкие хлопки, и шёлковые крылья пронзили пули, а одна из них расщепила бамбучину.
Мотор на форсаж, и не обращая уже внимания ни на какие выстрелы, стараюсь дотянуть к нашим. В уши больно ударили выстрелы с земли и торжествующий волчий вой англичан.
Оскалившись в ответ, ловлю себя на странной мысли, што умирать с матюгами, оно как-то неправильно… А дальше — никаких мыслей, а только быстрое снижение и треск ломающейся летадлы.
Успеваю только вспомнить физику, направив аппарат на песчаный склон одного из холмов, расположенного на нейтральной полосе, и по пологой траектории врезаюсь в землю. Вылетев из седушки, кубарем пролетаю в кусты и собираю, кажется все колючки и кочки…
… живой! Хромая на обе ноги и кривясь от боли в покорябанной морде, выбегаю оттуда, и не задерживаясь, спешу к своим. Услышав треск мотора над головой, задираю голову и успокаивающе машу руками, пытаясь докричаться до небес.
— Живой! Цел!
Нейтральную полосу начинают перепахивать английские снаряды, и падают ещё долго после того, как подскакавшие буры подхватили меня на седло.
— Жив?! — обеспокоенно защупал меня набежавший опекун, потом Бота, приземлившийся Санька… Кажется, меня перещупали все штабные, пытаясь одновременно доораться до меня и переорать друг друга.
Наконец успокаиваются, и я приказываю готовить аппарат.
— С ума спятил?! — возмущается брат, — Только што с небес сверзился?!
— Сверзили, — скалюсь я, да так удачно выходит, што все разом отступаются, и только краем уха…
— Такой же ёбнутый… недаром — братья!
Взлёт… недолгий полёт, и вот мы уже на месте. Британские воздухоплаватели, потерпев очевидную неудачу в попытке зацепить нас пулемётной очередью, видимо, о чём-то догадались, начав снижаться… Поздно!
Запыхав сигарой, прижимаю к ней фитиль динамитной шашки, и примерившись, бросаю вниз, целясь в оболочку шара. За мной Санька, потом снова я…
Кому из нас повезло, не знаю, но скомкавшись мятой тряпкой, воздушный шар начал стремительно падать на землю, и это — надёжно!
По приземлению нас встретил восторженный рёв африканеров, видевших первую в истории воздушную битву, и потому необыкновенно воодушевлённых. Рукопожатия, объятия…
Чувствую некоторое неудобство и вспоминаю о падении через колючки. Отпущенный наконец из удушливых дружеских объятий, не чинясь, скидываю реглан и рубаху, и выковыриваю колючки.
— Ага… — озадаченно гляжу на пулю, застрявшую аккурат между плечом и грудной мышцей, — не иначе, как на излёте…
… и не долго думая, выковыриваю её ножом.
— Действительно ёбнутый, — вздыхает Санька, забирая нож, — да ты никак башкой ударился? Ясненько… пошли-ка, брат, до врачей…
— Давненько я здесь не был, — проговариваю вслух, озираясь в госпитальной палатке, пока Санька помогает мне раздеваться.
— … ножом? — слышу голос Оттона Марковича за ширмой, и приглушённый смешок, — Действительно — братья!
— И вы туда же, — укоризненно говорит Санька, — Вот с чего у меня такая репутацию?
— Действительно, — Оттон Маркович вроде как и соглашается, но явно с подвохом…
— Здравствуйте, молодой человек… или лучше — господин офицер?
— Здравствуйте. Да без разницы.
— Надо же, — будто бы даже приятно удивляется медикус, — ну-с… Рану придётся почистить. Потерпите или морфия вколоть?
— Не-е… без морфия…
— Как прикажете, — соглашается он. Несколько минут он, и ассистирующая ему Ольга Александровна Баумгартнер обрабатывают раны и довольно болезненно прочищают пулевую. Боль чувствую, но отстранённо, и потому спокойно веду беседу, рассказывая о воздушном бое. Из первых, так сказать, рук.
— Вы бы, голубчик, остались на ночь у нас? — предлагает Оттон Маркович, — Мало ли, может залихорадит!
— Ну…
— Оставайся! — вмешивается брат, — Здесь хоть спокойно выспишься!
— Заодно и отужинаете с нами, — тоном коварной соблазнительницы предлагает Ольга Александровна.
— Ну… эх, ладно! Соблазнительница коварная!
— А-а! — вскочив на койке, нашариваю висящую в изголовье кровати кобуру «Маузера», и с дикими глазами выцеливая…
— В чём дело, голубчик?! — заскочивший в палату Эбергарт несколько нетрезв и изрядно встревожен, даже песне свалилось с переносья, удержавшись только на цепочке.
— Никак кошмар? — тоном опытного психиатра поинтересовался вошедший следом Чистович, што-то спешно дожёвывая и утирая рот салфеткой.
— А? Он самый… — никак не могу придти в себя, сердце до сих пор колотится…
— Ничего голубчик, — зажурчала профессионально поставленная речь, — вчерашнее событие не могло не сказаться…
— Да причём тут это?! Мне приснилось, што Фира замуж выходит, и не за меня!
После завтрака меня выписали, найдя состояние сносным.
— Вы уж, голубчик, поберегитесь, — попросил на прощание Оттон Маркович, — раны у вас из тех, что с одинаковым успехом могут как зажить за неделю, оставив незначительные шрамы, так и воспалиться, уложив вас на койку на долгие недели.
— Постараюсь, — отвечаю с некоторой неуверенностью, на што медик только вздыхает, скорбно поджав губы.
Раскланявшись с Гучковым, сажусь в присланное авто, и Чортушко, вопреки своему обыкновению, весьма деликатно доставляет меня на аэродром. Рассказав ещё раз подробности боя, падения и своих впечатлений, даю разрешение на полёты.
— Но! — подняв палец, разом затыкаю оглушительный рёв, — без какой-либо нагрузки! Это ясно!
— Прослежу, — обещает брат, обведя взглядом курсантов, и через несколько минут начинается подготовка к психической атаке. Проводив взглядом поочерёдно взлетевших курсантов, я сел разбираться с документацией. Не люблю… но надо!
Вечером уже, послонявшись по аэродрому и не находя себе места, вернулся в свою палатку, и взяв из футляра аккордеон, начал наигрывать всякое, поглядывая на деловитую суету.
А потом как-то само… пальцы пробежали по кнопкам, и…
- — Когда мы были на войне[84],
- Когда мы были на войне,
- Там каждый думал о своей
- Любимой или о жене.
- Там каждый думал о своей
- Любимой или о жене.
Даже дядя Гиляй, соскочивший с коня, так и встал рядышком, держа его под уздцы и поглаживая по бархатистой шее. Работа на аэродроме замедлилась, а из моей души лилась песня…
- — И я, конечно, думать мог,
- И я, конечно, думать мог,
- Когда на трубочку глядел,
- На голубой ее дымок.
- Когда на трубочку глядел,
- На голубой ее дымок.
- Как ты когда-то мне лгала,
- Как ты когда-то мне лгала,
- Что сердце девичье свое
- Давно другому отдала.
- Что сердце девичье свое
- Давно другому отдала.
- Но я не думал ни о чем,
- Но я не думал ни о чем,
- Я только трубочку курил
- С турецким горьким табачком.
- Я только трубочку курил
- С турецким горьким табачком.
- Я только верной пули жду,
- Я только верной пули жду,
- Чтоб усмирить печаль свою
- И чтоб пресечь нашу вражду.
- Чтоб усмирить печаль свою
- И чтоб пресечь нашу вражду.
- Когда мы будем на войне,
- Когда мы будем на войне,
- Навстречу пулям полечу
- На вороном своем коне.
- Навстречу пулям полечу
- На вороном своем коне.
- Но видно смерть не для меня,
- Но видно смерть не для меня.
- И снова конь мой вороной
- Меня выносит из огня.
- И снова конь мой вороной
- Меня выносит из огня.
— Да, — после длинного молчания сказал Владимир Алексеевич, будто вспомнивший што-то давнее, да не донца подзабытое, не зажившее толком, — так и было. Всё так… всё…
Нащупав в кармане трубочку, он принялся было искать кисет, но будто очнулся.
— Да! Я што прискакал-то! Британцы эвакуацию начали!
Эпилог
Откинувшись блаженно в кресле и полуприкрыв глаза, Сергей Александрович слушал, как молодые офицеры ангельскими голосами выводили один из любимых его цыганских романсов, исполняя женские партии. Подражая цыганкам, они поводили плечами, и аксельбанты на их грудях подрагивали. Это можно было бы принять за далеко зашедшую шутку дурного пошиба, но ревнивые взгляды, которые они бросали друг на друга[85], смутили бы и самого твердолобого человека.
Немолодой казачий генерал, сидящий по левую руку от Великого Князя, глядел на это с выражением величайшего изумления, кусая желтоватыми старческими зубами дряблую нижнюю губу, да беззвучно вдыхая полной грудью — так, будто ему не хватало воздуха. Время от времени он спохватывался, цепляя на лицо верноподданническое выражение и делая уставные глаза, но хватало его ненадолго.
Провинциальный служака плохо понимал суть происходящего, оглядываясь то и дело вопросительно на искушенных светской жизнью генералов Московского гарнизона, но те сидели с видом самым невозмутимым и привычным. Старый вояка спохватывался и снова цеплял на лицо уставное выражение, но сползало оно почти тотчас, уступая место изумлению и непониманию.
Романс закончился, и Великий Князь, выпрямившись в кресле, обвёл присутствующих блаженным взглядом человека, находящегося в раю. Встав, он с лёгкой улыбкой кивнул генералам, как бы прося подождать немного, и направился к хору.
Несколько минут Сергей Александрович общался с ними, и было в этом нечто противоестественное и интимное, так что у казака даже дёрнулась шея, а левая рука крепко вцепилась в эфес шашки.
Все эти деликатные прикосновения к плечу или груди, улыбки. Будто…
— Талантливые молодые люди, — молвил стоящий рядом свитский, чуть повернув аккуратно причёсанную седовласую голову к казачине. — Сергей Александрович, знаете ли, слабость к таким юношам питает, да-с… По службе продвигает всемерно, так что и они рады… стараться.
В глазах свитского лёгкая насмешка, но лицо самое серьёзное, а голос уважителен ровнёхонько в плепорцию. Видя, что от него ждут ответа, казак промычал что-то невразумительное, но собеседник, приятно улыбнувшись, слегка кивнул — так, будто провинциал ответил отменно ярко и остроумно.
— Стараются, — повторил он как бы даже и благожелательно, повернув голову в сторону хора, — потому как перед глазами примеры самой фантастической карьеры. Первый его… адъютант, Балясный Константин Александрович, ныне виленский вице-губернатор, так вот. Первые, они не забываются.
Садясь в экипаж, Сергей Александрович улыбнулся молоденькому адъютанту, держащемуся чуть холодно после сцены с хором. Тот повёл плечом с видом обиженной кокетки, но вскочил в качнувшуюся повозку вслед за шефом.
Глядя на своего любимца, обижено надувшего красивые губы, Великий Князь промурлыкал негромко…
Всем своим видом он обещал что-то необыкновенное, и адъютант чуть улыбнулся в ответ…
— … Великий Княже! — обмен взглядов прервал какой-то неказистый мужичок, возникший ниоткуда и метнувшийся чуть не под самые колёса лакированного экипажа. Весь его вид вызывал неприятие, напоминая о существовании той, неправильной России, существующей где-то в сухих статистических заметках и газетных строках.
— Христом Богом! — вцепившись в подножку, он дикими глазами глядел на Сергея Александровича. Бесцветная его кудлатая бородёнка моталась на сероватом измождённом лице старым мочалом, — Помогите! Голод у нас, Вашество…
Подоспевшие наконец охранники вцепились в просителя, пытаясь заломать ему руки, но он цепко впился в подножку, едва ли не дробя её на крошево. Наконец, изловчившись, мужичку аккуратно двинули в печень, и наконец-то вывернули руку, уводя прочь.
— Ивантеевские мы, вашество! — донеслось до Великого Князя, — Христом Богом… голод!
Ожёгши начальника охраны взглядом, от которого тот покрылся крупным потом, Сергей Александрович откинулся назад и замолчал. Адъютант вздохнул еле заметно, но чувствуя ситуацию, постарался слиться с обивкой экипажа. Какой момент…
По приезду на Волхонку Сергей Александрович немного оттаял, и грозовое его настроение сменилось сумрачным. Пройдясь по стройке музея Изобразительных искусств, и убедившись, что любимое детище его в надёжных руках, он окончательно отмяк, и свита тихонечко выдохнула. При всех достоинствах Великого Князя, человек он тяжёлый и характерный.
С удовольствием подискутировав с многознающим и неизменно деликатным Иваном Владимировичем Цветаевым[86], он проконсультировался с ним по греческой бронзовой статуэтке, купленной недавно за тысячу франков.
— Прекрасный образчик, — констатировал искусствовед, с удовольствием вертя в руках статуэтку, — и что особенно удачно, почти нетронута временем. Недаром о Вас, Сергей Александрович, отзываются как об одном из лучших знатоков античных древностей! Удивительно удачная покупка!
Разговор перетёк на строительство музея и сбор коллекции, и Великий Князь с лёгким сердцем пообещал выделить крупную сумму на Равенские мозаики.
— На это, — уверенно сказал он, — никаких денег не жалко!
— Пшёл! — тычок в поротую спину, и мужичонка влетел в камеру, едва удержавшись на ногах. Потоптавшись у входа с видом задиристым и отчаянным, но не находя в сокамерниках разбойного вида признаков, он осмелился сесть в углу нар, осторожно поглядывая по сторонам и готовясь если што, так и сразу! Но задир не находится, и по всему видно, што людям он не слишком-то и интересен, а история его окажется если не скучищей зевотной, так где-то рядышком.
В камере тягостная духота и полумрак, из окошка под самым потолком пробивается тусклый свете через отродясь немытое зарешеченное окно. Пахнет развешанными портянками, немытыми телами и почему-то капустой, неизменным запахом всех казённых учреждений, даже если там никто не ест.
В углу какие-то оборванцы, по виду нищие, играют в засаленные карты, и проигравших с дурным смехом лупят по опухлым красным ушам разбухшей колодой. Кто-то спит, накрыв голову армяком от лишнего шума, другие ведут негромкие разговоры, и в камере стоит постоянный негромкий гул.
Показав готовность дать отчаянный отпор, мужичок слегка отживел душой, разговорившись с соседями. Нашёлся и земляк, давным-давно отданный в учение портняжному делу и изрядно подзабывший родные края. Жизнь в Москве у земляка задалась не слишком, и от тово он не слишком задавался.
— … как же так, — всё не мог понять мужичок, — я ж с бедой нашей поклониться пришёл, и тут — нате! Меня ж обчество посылало, в кутузку-то за што? Глянул только, как на вошь, и на съезжую потащили. Сицилист, говорят! Замыслил противу властей!
— Дяр-ревня, — выдохнул земляк, даже и не пытаясь объяснить тому, в какую же кучищу тот вляпался со всего разбега, бо не поймёт пока!
— А я што? — заморгал Ивантеевский растерянно, — Я ничево… Я тока до властей донести, значица.
— Донёс, — хохотнул испитого вида молодой парень, слушавший разговор, — а потом и тебя донесли — на съезжую!
— Цыть! — повернулся к нему незадачливый портняжка, подвизающийся у хозяйчика, — Не вишь, человек не в сибе, а ты туда же! Вляп такой, што мал-мала не политика, а то и она, родимая!
— За што!? — взвыл ивантеевский.
— А за то самое, — смутно объяснил земляк, — ибо нехрен!