Агнес Грей бесплатное чтение
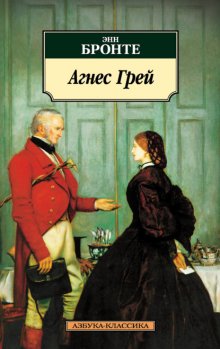
© И. Г. Гурова (наследник), перевод, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015
Издательство АЗБУКА®
Глава I. Дом при церкви
Все правдивые истории содержат мораль, хотя порой клад этот погребен очень глубоко и откопать его удается не сразу, после чего он оказывается столь скудным, что иссохшее ядрышко не оправдывает усилий, потраченных на то, чтобы расколоть скорлупу. Такова ли моя история, судить не мне. Порой мне кажется, что она может принести пользу одним и развлечь других, но пусть свет сам вынесет свой приговор. Надежно укрытая безвестностью, прошедшими годами и вымышленными именами, я не страшусь откровенно поведать читателям о том, чего не открыла бы самой задушевной подруге.
Мой отец был священником на севере Англии, пользовался заслуженным уважением всех его знавших и в молодости жил безбедно на жалованье младшего священника небольшого прихода и деньги, которые приносило крохотное именьице. Мама была дочерью помещика и вышла за него наперекор своим близким, но она умела поставить на своем. Тщетно ее убеждали, что, соединив судьбу с неимущим служителем Церкви, она должна будет отказаться от экипажа, от горничной, от роскоши и утонченности, даруемых богатством, – от всего, что с детства успело стать для нее необходимым. Экипаж и горничная, отвечала она, очень скрашивают жизнь, но, благодарение Небу, у нее есть ноги, и она сумеет добраться, куда ей понадобится, и у нее есть руки, чтобы самой делать для себя все, что нужно. Красивый дом и обширный парк – соблазн немалый, но она предпочитает жить в убогой хижине с Ричардом Греем, чем во дворце с кем-либо еще.
Убедившись в тщетности уговоров, ее отец в конце концов дал влюбленным согласие на их брак, раз уж им так заблагорассудилось, но предупредил, что тем самым его дочь лишится своей доли наследства. Подобная угроза, по его убеждению, должна была неминуемо охладить их пыл. Но он ошибся. Моего отца пленили душевные достоинства моей матери, он знал, какое сокровище найдет в ней, и был счастлив обрести ее на любых условиях, лишь бы она дала согласие украсить собой его скромный очаг. Она же готова была трудиться собственными руками, лишь бы не разлучаться с тем, кого полюбила, чье счастье с восторгом мечтала составить, с кем уже слилась сердцем и душой. И вот предназначавшаяся ей доля отцовского состояния пополнила кошелек ее более разумной сестры, отдавшей руку богатому набобу, она же, к удивлению и сострадательному огорчению всех ее знавших, погребла себя в смиренном домике при деревенской церкви в… Однако, вопреки всему этому, вопреки вспыльчивости моей матери и чудачествам моего отца, вы, я уверена, могли бы обыскать всю Англию и не найти более счастливой супружеской пары.
Судьба послала им шестерых детей, но только Мэри, моя сестра, и я выдержали все опасности младенчества и раннего детства. Я была моложе Мэри на шесть лет и оставалась «деточкой» и любимицей всей семьи: папа, мама, сестра меня избаловали – нет, не глупой снисходительностью, которая сделала бы меня капризной и непослушной, а ласковой заботливостью, приучившей меня к беспомощности и зависимости от них и не подготовившей к жизненным заботам, ударам судьбы и невзгодам.
Мы с Мэри росли в строгом уединении. Мама, отлично образованная и деятельная, занималась нашим воспитанием сама и учила нас всему, кроме латыни, преподавать которую нам взялся папа, а потому в пансион нас не отдали. Подходящих для нас подруг в округе не было, и наше знакомство с миром ограничивалось чопорными чаепитиями в обществе наиболее зажиточных местных фермеров и лавочников (устраиваемыми только для избежания обвинений в чванстве) да ежегодными поездками к дедушке по отцу, в чьем доме, кроме него самого, добрейшей нашей бабушки, незамужней тетушки да двух-трех пожилых дам, мы никого не видели. Иногда мама развлекала нас рассказами о своей юности, о всяких забавных происшествиях. Мы обе очень любили их слушать, и – во всяком случае, во мне – они часто пробуждали тайное желание самой повидать белый свет.
Как счастлива была в юности мама, думалось мне, однако она как будто не жалела о былом. Но папа, человек по натуре чуждый беспечной бодрости, часто беспричинно мучил себя мыслями о жертвах, которые принесла ему его милая жена, и без конца ломал голову над тем, как бы ради нее и нас с Мэри пополнить свои скромные доходы. Тщетно мама уверяла его, что всем довольна. Пусть он только откладывает кое-что на будущее для девочек, и мы ни в чем не будем нуждаться ни теперь, ни потом. Но умением экономить и откладывать мой отец совсем не обладал. Он не входил в долги (то есть мама внимательно следила, чтобы этого не случилось), но полагал, что деньги, пока они есть, надо тратить. Ему нравилось, что его дом хорошо обставлен, жена и дочки нарядно одеты и не вынуждены утруждать себя черной работой. Кроме того, он был очень добр и любил помогать неимущим в меру своих средств – и даже не в меру, как, возможно, считали некоторые.
И вот однажды любезный знакомый предложил ему способ разом удвоить его состояние, чтобы затем оно продолжало увеличиваться, сколько он ни пожелает. Знакомый этот был купцом очень предприимчивым и дальновидным, однако недостаток оборотного капитала несколько ограничивал его замыслы. Он щедро предложил моему отцу честную долю своих прибылей, если только тот доверит ему большую часть своего состояния: какой бы ни оказалась эта сумма, он ручается, что увеличится она по меньшей мере вдвое. Папа незамедлительно обратил свою недвижимость в деньги и все их вручил обязательному купцу, который тут же начал грузить корабль и готовить его в плавание.
Папа да и мы все с восторгом думали о том, что сулит нам будущее, хотя должны были довольствоваться отныне лишь жалованьем младшего священника. Впрочем, папа полагал, что нам вовсе не обязательно сокращать свои расходы до такой мизерной суммы, и вот, записывая на книжку у мистера Джонсона, у Смита и у Хобсона, мы зажили даже лучше, чем прежде, хотя мама полагала, что нам следует держать себя в границах, так как надежды на богатство оставались все-таки зыбкими, – пусть только папа положится на ее умение вести хозяйство, и ему не придется ни в чем себя урезывать. Однако он, против обыкновения, не желал ничего слушать.
Какие счастливые часы проводили мы с Мэри, сидя с рукоделием у огня, гуляя по вересковым холмам или отдыхая под плакучей березой – единственным более или менее тенистым деревом в нашем садике! Мы говорили о грядущем счастье – и нашем, и наших родителей, о том, что мы будем делать, что увидим, чем обзаведемся, а фундаментом наших воздушных замков были богатства, которыми одарят нас успешные торговые сделки почтенного купца. Папа тешил себя мечтами почти как мы, хотя и делал вид, будто просто посмеивается над нами, облекая свои радужные надежды и гордые ожидания в шуточки и поддразнивания, которые мне казались необыкновенно остроумными и милыми. Мама весело смеялась, радуясь его радости, но ее томили опасения, что он слишком уж многого ждет от своей затеи, – однажды я услышала, как она прошептала, выходя из комнаты:
– Дай-то бог, чтобы его не постигло разочарование. Просто не знаю, как он выдержит!
Но разочарование его постигло. И жестокое. Словно гром с ясного неба пришло известие, что корабль, на который мы так уповали, потерпел крушение и утонул со всем грузом, несколькими матросами и злополучным купцом.
Я горевала о его гибели, я горевала о наших рассыпавшихся в прах воздушных замках, но молодость отходчива, и вскоре я совсем оправилась от этого удара.
Хотя в богатстве была своя прелесть, бедность нисколько не страшила меня, молоденькую и совсем не знавшую жизни. Напротив, сказать правду, в мысли о нужде, с которой нам предстояло бороться, крылось что-то вдохновляющее. Я лишь жалела, что папа, мама и Мэри не разделяют мою точку зрения, ведь тогда, вместо того чтобы сетовать и оплакивать прошлые бедствия, мы могли бы, не унывая, взяться за дело вместе, чтобы все поправить, – и чем больше поджидало нас трудностей, чем горше было наше положение, с тем большей бодростью следовало нам сносить его и с тем большим упорством преодолевать эти трудности.
Мэри не сетовала вслух, но постоянно размышляла о случившемся и в конце концов погрузилась в тихую грусть, которую не могли рассеять никакие мои усилия. Убедить ее, как я убедила себя, что тут есть и своя светлая сторона, мне не удалось бы. А впрочем, опасаясь обвинений в детском легкомыслии или глупой бесчувственности, я старательно прятала свои умные выводы и бодрящие мысли, прекрасно зная, что одобрены они не будут.
Мама думала лишь о том, как утешить папу, уплатить долги и сократить насколько возможно наши расходы, но папа был совершенно сломлен обрушившимся на нас несчастьем – здоровье, силы, твердость духа не выдержали подобного удара, и он так до конца и не стал прежним. Тщетно мама старалась его ободрить, взывая к его благочестию, к его мужеству, к его любви, отданной ей и нам. Любовь эта обернулась для него величайшей мукой: ведь богатства он столь пылко жаждал лишь ради нас, лишь мысль о нас придавала его былым надеждам столь ослепительный блеск, а его разочарование сделала таким жестоким. Он терзался и упрекал себя, что не послушался маминых советов, которые хотя бы избавили его от дополнительного бремени долгов; он винил себя за то, что позволил ей отказаться от роскоши и довольства – чего ради? Чтобы она теперь разделяла с ним все заботы и труды нищеты! Его угнетала мысль, что наделенная всеми светскими талантами красавица, которая в юности знала лишь поклонение и восхищение, теперь превращена в подобие прислуги, что руки ее заняты домашней работой, а голова – расчетами, как и на чем можно сэкономить. Готовность же, с какой она исполняла подобные обязанности, бодрость, с какой она переносила невзгоды, доброта, с какой она избегала и тени упрека, лишь подхлестывали этого искусного самобичевателя. Вот так дух терзал плоть и расстраивал нервы, а они в свой черед усугубляли смятение духа, и так продолжалось, пока его здоровье не потерпело серьезный ущерб. И никому из нас не удавалось убедить его, что наше положение далеко не так мрачно и безнадежно, как рисовало ему болезненное воображение.
Практичную коляску продали вместе с крепким сытым коньком, нашим общим любимцем, – как твердо верили мы прежде, что он кончит свои дни у нас на покое и мы никогда-никогда не отдадим его в чужие руки! Маленький каретник сдали внаем вместе с конюшней, лакей и более опытная (а потому и более дорогая) горничная были уволены. Наши платья чинились, перелицовывались и штопались почти до неприличия; наша пища, и всегда простая, теперь стала совсем уж неприхотливой – не считая двух-трех любимых блюд папы; уголь и свечи строго экономились. Вместо двух свечей – одна, которая почти не зажигалась, уголь всячески сберегался, особенно когда папа отсутствовал по делам прихода или лежал больной в спальне – в таких случаях мы ставили ноги на каминную решетку, сгребали скудные тлеющие угли в кучку и подсыпали полсовка угольной пыли и крошева, только когда они грозили вовсе угаснуть. Ковры совсем истерлись, а заплат и штопки на них было даже больше, чем на нашей одежде. Чтобы не тратиться на садовника, мы с Мэри возделывали огород, а стряпней и уборкой, с которыми одна служанка справиться не могла, занимались мама с Мэри, иногда прибегая к моей помощи. Но лишь иногда, потому что, хотя я-то считала себя взрослой, они все еще видели во мне маленькую девочку. К тому же мама, как почти всегда случается с деятельными домовитыми женщинами, не привила эти качества своим дочерям – и по весьма простой причине: слишком уж умелой и хорошей хозяйкой была она сама, а потому не любила перепоручать что-либо другим, но, напротив, предпочитала думать и делать все за них. О чем бы ни шла речь, ей казалось, что никто не сумеет справиться с делом как следует, и обычно, предлагая себя ей в помощницы, я слышала ответы вроде: «Нет, душенька, это не для тебя, ты не сумеешь. Лучше помоги сестре или пойди с ней погулять – скажи, что нельзя все время сидеть дома, не то она совсем исхудает и поблекнет».
«Мэри, мама говорит, чтобы я тебе помогла или пошла бы с тобой погулять. Она говорит, что ты совсем исхудаешь и поблекнешь, если будешь все время сидеть дома».
«Помочь мне, Агнес, ты не сумеешь, а пойти погулять с тобой я никак не могу, потому что у меня очень много дел».
«Так поручи мне что-нибудь!»
«Деточка, это не для тебя. Пойди повтори гаммы или поиграй с котенком».
Шитья, правда, всегда было вдоволь, но кроить меня не научили, я умела только подрубать да знала один-два самых простых шва, а потому и тут помочь толком не могла. Мама же и Мэри хором утверждали, что проще сделать все самим, чем оставлять что-то для меня, и к тому же им гораздо приятнее смотреть, как я совершенствуюсь в своих знаниях или развлекаюсь, – у меня еще будет время сутулиться над работой, точно старушка, когда мой любимый котеночек станет чинной пожилой кошкой. Таким образом, хотя пользы от меня было немногим больше, чем от котенка, мое безделие имело некоторое оправдание.
За все время наших невзгод я лишь один раз слышала, как мама посетовала на то, что у нас нет денег. Однажды весной она сказала нам с Мэри:
– Как было бы хорошо вашему отцу провести несколько недель на курорте! Морской воздух и перемена обстановки, конечно, принесли бы ему огромную пользу. Но ведь вы знаете, что у нас нет таких денег, – докончила она со вздохом.
Нас обеих увлекла эта мысль, и мы горько сожалели, что она не может осуществиться.
– Ну-ну, – сказала мама, – жалобами делу не поможешь. А вот что-нибудь придумать нам, может быть, и удастся. Мэри, ты же прекрасно рисуешь! Так почему бы тебе не нарисовать еще несколько акварелей в лучшем своем стиле, не вставить их в рамочки вместе с теми, которые уже у тебя есть, и не попробовать предложить их какому-нибудь почтенному торговцу картинами, у которого хватит ума распознать их достоинства?
– Мама, я была бы очень рада, если, по вашему мнению, их купят, и не совсем уж за гроши.
– Во всяком случае, попытаться стоит, душечка. Рисуй акварели, а я подыщу покупателя.
– Как бы и мне хотелось чем-нибудь помочь! – сказала я.
– Неужели, Агнес? А впрочем, как знать! Ты тоже рисуешь недурно, и если подберешь какой-нибудь простенький сюжет, то, наверное, выйдет очень мило.
– Но я думала совсем о другом, мама, и уже давно, но только мне не хотелось об этом говорить.
– Ах вот как! И о чем же?
– Мне бы хотелось стать гувернанткой.
Мама ахнула и засмеялась. Мэри от удивления уронила шитье и воскликнула:
– Ты – гувернантка, Агнес? Да как это тебе в голову пришло?
– А что тут такого? Разумеется, учить больших девочек я не гожусь, но маленьких, наверное, сумею. И мне очень хочется! Я так люблю детишек! Мама, ну разрешите мне!
– Милочка, но ты еще не научилась заботиться даже о себе. А маленькие дети требуют гораздо больше и умения и опыта, чем дети постарше.
– Мама, мне уже девятнадцатый год, и я сумею заботиться и о себе и о других. Вы просто не знаете, какая я благоразумная и рассудительная, потому что у меня не было случая доказать это.
– Только представь себе, – сказала Мэри, – каково тебе придется в чужом доме, где не будет ни меня, ни мамы и ты должна будешь все делать и говорить сама за себя! Да еще ухаживать за кучей детей. И попросить совета тебе будет не у кого. Ты ведь даже не будешь знать, как одеться!
– Ты так думаешь, потому что я всегда все делаю так, как ты мне говоришь, и ничего не могу решать за себя. Но испытай меня, я ведь ничего другого не прошу, и ты увидишь, как справляюсь!
Тут вошел папа, и ему объяснили, о чем идет речь.
– Как! Моя малютка Агнес – гувернантка? – вскричал он и рассмеялся, на минуту забыв обычную грусть.
– Да, папа. И пожалуйста, хоть вы не возражайте! Мне так хочется, и я верю, что у меня все пойдет отлично.
– Но, деточка моя, ты нужна нам дома! – На глазах у него блеснули слезы, и он добавил: – Нет, нет! Как бы нам ни было тяжело, до этого мы еще не дошли!
– Разумеется, – сказала мама. – В этом нет ни малейшей нужды. Просто глупенькая прихоть. А потому прикуси язычок, гадкая девочка: хотя ты и готова нас покинуть, но мы с тобой расстаться никак не можем, и ты это знаешь.
И мне пришлось замолчать. На много дней. Но я не могла отказаться от своего заветного плана. Мэри теперь усердно писала акварели. Я тоже сидела с кисточками и красками, но мысли мои витали далеко. Как было бы чудесно стать гувернанткой! Увидеть мир! Начать совсем новую жизнь, самой все решать за себя, дать применение своим пропадающим втуне способностям, испробовать свои силы, самой содержать себя, откладывать что-то для папы, мамы и сестры, освободив их от необходимости кормить меня и одевать! Показать папе, чего может достигнуть малютка Агнес! Убедить маму и Мэри, что я вовсе не такая беспомощная и пустоголовая, какой они меня считают! Мне доверят заботиться о детях, учить их и воспитывать – как это чудесно! Вопреки всем возражениям, я не сомневалась, что такая задача мне по плечу: ясные воспоминания о моих собственных детских мыслях и чувствах послужат мне куда более надежной опорой, чем наставления самого зрелого советчика. Стоит только вообразить себя на месте моих маленьких учениц, и я сразу пойму, как завоевать их доверие и привязанность, как пробудить раскаяние шалуньи, как ободрить застенчивую, как утешить обиженную, как сделать Благонравие привычкой, Учение – увлекательным занятием, а Религию – понятной и дивной!
…Чудесный долг!
Учить младую мысль, как расцвести!
Лелеять юные деревца и наблюдать, как день за днем развертываются их свежие листочки!
И я решила не отступать от своего чарующего плана, хотя страх рассердить маму или огорчить папу вынуждал меня довольно долго хранить молчание. В конце концов я заговорила о нем наедине с мамой и не без труда добилась от нее обещания помочь мне в моих намерениях. Затем с большой неохотой дал свое разрешение папа, и, хотя Мэри все еще неодобрительно вздыхала, моя милая добрая мама начала подыскивать место для меня. Она написала родственникам папы и начала проглядывать объявления в газетах – со своими родственниками она давно уже не поддерживала никаких отношений. После ее замужества связь с ними ограничивалась редким обменом вежливыми письмами, и о том, чтобы обратиться к ним с подобным делом, разумеется, речи быть не могло. Однако мои родители так долго жили вдали от мира, что прошли месяцы, прежде чем нашлось что-то подходящее. Но наконец, к моей великой радости, мне было предложено взять на себя заботу о птенчиках некой миссис Блумфилд, которую моя добрая чопорная тетушка Грей, знававшая ее еще совсем молоденькой, аттестовала как очень приятную женщину. Правда, муж ее, торговец, удалившийся от дел, нажив кругленькое состояньице, не желал платить наставнице своих детей больше двадцати пяти фунтов. Я, однако, была рада дать согласие, хотя мои родители полагали, что мне следовало бы отказаться.
Несколько недель пришлось посвятить приготовлениям. Какими длинными, какими скучными показались они мне! Хотя в целом были счастливым временем, полным светлых надежд и пылких ожиданий. С каким удовольствием помогала я шить мой новый гардероб, а потом и укладывать мои сундучки! Впрочем, к последнему уже примешивалась горечь, а когда вещи были уложены и все было готово к моему отъезду наутро, какая страшная тоска вдруг переполнила мне сердце! Мои близкие смотрели на меня так печально и говорили со мной так ласково, что я с трудом сдерживала подступавшие к горлу слезы, но продолжала делать веселый вид. В последний раз я погуляла с Мэри по вересковым склонам, в последний раз обошла садик и дом. Вместе с ней покормила голубей – таких ручных, что они садились нам на ладони, – а когда они вспорхнули мне на колени, я погладила на прощание все их шелковистые головки. Моих же любимцев – пару белоснежных красавцев – нежно поцеловала. Я сыграла последнюю мелодию на стареньком любимом фортепьяно и в последний раз спела папе романс – то есть я надеялась, что не в последний, но до следующего раза было еще так далеко! И как знать, может быть, тогда все это я буду делать с совсем иным чувством: обстоятельства могут измениться, и этот дом уже навсегда останется для меня лишь временным приютом. Моя же киска, моя милая подружка, уж конечно, станет другой. Ведь она и теперь почти взрослая кошка, а к Рождеству, когда я приеду домой погостить, наверное, давно забудет и товарку своих игр, и все свои уморительные проказы. Я в последний раз затеяла с ней возню, а потом сидела, поглаживая ее пушистую шерстку, пока она, помурлыкав, не уснула у меня на коленях, – и уж тут мне было трудно скрыть свою грусть. А когда пришло время ложиться и я ушла с Мэри в нашу тихую спаленку, где мои ящики и мои полки в книжном шкафу были совсем пустыми – и где Мэри, как она выразилась, теперь предстояло спать в тоскливом одиночестве, – на сердце у меня стало совсем уж тяжело. Мне почудилось, что я поступаю себялюбиво и дурно, покидая ее, и когда я в последний раз опустилась на колени возле нашей кровати, то молилась о ней и наших родителях с незнакомым мне прежде жаром. Чтобы ничем не выдать свои чувства, я спрятала лицо в ладони, и они тут же стали мокрыми от слез. Поднимаясь с колен, я увидела, что Мэри тоже плакала, но мы обе промолчали и только теснее прильнули друг к другу, когда легли, потому что так скоро нас ждала разлука.
Однако утро вновь принесло надежды и бодрость духа. Отъезд был назначен на ранний час, чтобы увозивший меня экипаж (двуколка, нанятая у мистера Смита – суконщика, бакалейщика и торговца чаем в нашей деревушке) успел вернуться в тот же день. Я встала, умылась, оделась, наспех позавтракала, расцеловалась с папой, мамой и Мэри, поцеловала киску – к большому возмущению Салли, нашей служанки, пожала руку ей, забралась в двуколку, опустила вуаль и тогда – но только тогда! – залилась слезами. Двуколка покатила по дороге. Я оглянулась. Милая мама и милая Мэри все еще стояли в дверях и махали мне вслед. Я помахала им и от всей души призвала на них благословение Божье. Но тут мы начали спускаться с холма, и они скрылись из виду.
– Утро-то для вас холодновато, мисс Агнес, – заметил мистер Смит. – Вон и небо хмурится. Ну да ничего, домчим вас туда, прежде чем дождик припустит как следует.
– Да, конечно, – ответила я, стараясь говорить спокойно.
– Ночью-то сильно лило.
– Да.
– Ну, ветер хоть и холодный, а дождь, пожалуй что, и разгонит.
– Наверное.
На этом наша беседа закончилась. Долина осталась позади, и мы начали подниматься на противоположный склон. Я оглянулась и увидела колокольню, а за ней наш старый серый дом, на который как раз упал солнечный луч. Один-единственный – деревушка и холмы вокруг были в глубокой тени. Я обрадовалась, словно доброму предзнаменованию, и, сложив ладони, вновь призвала благословение на его обитателей, но тут же поспешно отвернулась, потому что луч заскользил прочь, а видеть дом погруженным в угрюмый сумрак мне не хотелось.
Глава II. Первый урок в искусстве воспитания
Двуколка катила вперед, ко мне вернулась бодрость, и я с удовольствием обратилась мыслями к новой жизни, которая меня ожидала. Но хотя еще только начиналась вторая половина сентября, из-за плотных туч и сильного северо-восточного ветра было очень холодно, и путь казался очень длинным, тем более что, как выразился Смит, дороги были «негодящие». Как и его лошадь – она еле-еле взбиралась по склону, вниз спускалась тихими шажками, а легкой рысцой утруждала себя, только когда дорога была ровной, как стол, или чуть наклонной, что в холмистой местности редкость, а потому до цели мы добрались лишь к часу дня. Едва мы, проехав внушительные чугунные ворота Уэлвуда, плавно покатили по гладкой, хорошо утрамбованной подъездной аллее между зелеными лужайками в купах молодых деревьев и увидели впереди среди платанов новый, но величественный дом, как мне снова стало страшно, и я пожалела, что он не расположен на несколько миль дальше. Впервые в жизни я осталась совсем одна, но отступать было поздно. Я должна войти в этот дом и жить с этих пор среди его неведомых мне обитателей. Но как? Хотя мне уже почти исполнилось девятнадцать, наша уединенная жизнь и ласковые попечения мамы и сестры плохо подготовили меня к этому, и я понимала, что многие девочки пятнадцати лет и даже моложе держались бы на моем месте с куда большей непринужденностью, уверенностью в себе и женским тактом. Впрочем, если миссис Блумфилд добра и радушна, то я как-нибудь справлюсь; с детьми, разумеется, я вскоре буду чувствовать себя совсем свободно, ну а мистер Блумфилд… оставалось только надеяться, что видеть его я буду редко.
«Будь спокойной, будь спокойной!» – твердила я про себя и с таким усердием выполняла этот совет, так старательно приводила в порядок свои нервы и утишала биение непослушного сердца, что не сразу сообразила ответить на вежливое приветствие миссис Блумфилд, когда меня проводил к ней открывший дверь лакей. А когда, точно во сне, пробормотала несколько слов, голос мой, вспоминала я потом, мог бы принадлежать умирающей. Впрочем, хозяйка дома, как я обнаружила, едва обретя способность что-то понимать, приняла меня довольно холодно. Она оказалась высокой, сухопарой, чопорной дамой, с густыми черными волосами, ледяными серыми глазами и очень нездоровым цветом лица.
Однако она достаточно вежливо сама поднялась со мной в мою комнату и оставила там, чтобы я могла привести себя в порядок. Увидев себя в зеркале, я ужаснулась: от холода мои руки покраснели и опухли, ветер спутал развившиеся волосы и придал моему лицу лиловатый оттенок. Добавьте к этому, что мой воротничок безобразно измялся, а платье было забрызгано грязью, как и новые ботинки на толстой подошве. Но мои сундучки еще не принесли, и мне оставалось только пригладить волосы, насколько это было возможно, кое-как расправить упрямый воротничок, спуститься, громко топая, по двум лестничным маршам и, утешаясь философскими размышлениями, не без труда отыскать комнату, где меня ожидала миссис Блумфилд.
Она проводила меня в столовую, где стол еще не был убран после семейного второго завтрака. Передо мной поставили тарелку с куском бифштекса и полуостывшим картофелем, и, пока я подкрепляла свои силы, миссис Блумфилд, сидя напротив, наблюдала за мной (как мне казалось) и пыталась поддерживать что-то вроде разговора, сухо произнося общепринятые фразы. Но, возможно, вина была моя: у меня просто не было сил разговаривать. По правде говоря, все мое внимание поглощал бифштекс, но не потому, что меня терзал голод, – просто он оказался очень жестким, а после пяти часов на холодном ветру руки меня почти не слушались. С какой радостью я ограничилась бы одним картофелем! Но было бы невоспитанным оставить бифштекс нетронутым. После бесчисленных тщетных попыток разрезать его ножом, разорвать вилкой или справиться с ним при помощи обоих этих инструментов – и все под взглядом грозной дамы напротив – я в отчаянии зажала нож и вилку в кулачках, точно двухлетний ребенок, и пустила в ход последние оставшиеся у меня силы. Сознавая, что мне следует как-то оправдаться, я испустила слабый смешок и сказала:
– Руки у меня так окостенели от холода, что мне даже трудно держать нож и вилку.
– Да, погода сегодня довольно холодная, – ответила она с ледяной невозмутимостью, которая отнюдь меня не ободрила.
Когда церемония завершилась, миссис Блумфилд увела меня в гостиную и послала за детьми.
– Вы, вероятно, найдете их знания несколько недостаточными, – сказала она. – Но у меня почти нет времени самой заниматься с ними, а для гувернантки они были, по нашему мнению, еще малы. Однако, мне кажется, они умны и очень понятливы, особенно мальчик. Право же, он украшение любой детской – благородный, с возвышенной душой. Им следует руководить, но не командовать. Нет, он просто удивителен! Всегда говорит правду и презирает всякий обман. («Прекрасно!» – подумала я.) Его сестра, Мэри Энн, – продолжала миссис Блумфилд, – требует внимательного наблюдения, но тоже очень хорошая девочка. Только я желала бы, чтобы она как можно реже бывала в детской. Ей ведь уже почти шесть лет, и она может перенять у няньки дурные привычки. Я распорядилась, чтобы ее кроватку поставили к вам в комнату, и, если вы будете столь любезны, что сами станете следить за ее умыванием, одеванием и одеждой, она обойдется совсем без няньки.
Я ответила, что с удовольствием возьму все это на себя, и тут в комнату вошли мои ученики в сопровождении младших сестричек. Мастер Том Блумфилд оказался рослым семилетним крепышом, с льняными волосами, голубыми глазами, курносым носом и розовыми щеками. Мэри Энн тоже отличалась высоким для своего возраста ростом. Она унаследовала темные волосы матери, но лицо у нее было круглым и румяным. Фанни, ее младшая сестра, показалась мне очень хорошенькой. Миссис Блумфилд объяснила, что она очень кроткий ребенок и нуждается в ободрении. Она еще ничему не училась, но на днях ей исполняется четыре года, и тогда ей придет пора браться за азбуку и заниматься в классной комнате. Самая младшая, Харриет, толстенькая, веселая, ласковая двухлетняя крошка, обворожила меня больше остальных – но она оставалась на попечении няни.
Я заговорила с моими маленькими учениками как могла приветливее и попыталась им понравиться, но, боюсь, без особого успеха, так как присутствие их маменьки очень меня стесняло. Они же, напротив, были на удивление лишены застенчивости и казались бойкими, живыми детьми. Я от души надеялась, что скоро завоюю их симпатии – особенно мальчика, которого мать представила в таком привлекательном свете. В Мэри Энн я с сожалением заметила неприятное кокетство, желание привлекать к себе внимание. Но мной всецело завладел ее брат. Заложив руки за спину, он стоял между мной и огнем и рассуждал как заправский оратор, иногда отвлекаясь от темы, чтобы прикрикнуть на сестер, если они пытались его перебить.
– Ах, Том, душечка! – воскликнула его маменька. – Подойди поцелуй мамочку, а потом не хочешь ли ты показать мисс Грей свою классную комнату и свои хорошенькие новые книжки?
– Целовать тебя, мама, я не хочу, но я покажу мисс Грей мою классную комнату и мои новые книжки.
– И мою классную комнату, и мои новые книжки, Том, – вмешалась Мэри Энн. – Они тоже мои, мои!
– Нет, мои, – ответил он решительно. – Идемте, мисс Грей. Я вас провожу.
Когда комната и книжки были показаны под перепалку между братом и сестрой, продолжавшуюся несмотря на мои усилия положить ей конец, Мэри Энн принесла показать мне свою куклу и начала подробно рассказывать, какие у куколки красивые платьица, какая кроватка, какой комодик и еще всякие разные вещи. Однако Том скоро приказал, чтобы она перестала трещать, – мисс Грей должна посмотреть его коня, которого он с важным видом притащил из угла, громогласно требуя моего внимания. Велев сестре подержать поводья, он взгромоздился на коня и заставил меня десять минут смотреть, как он качается, не жалея хлыста и шпор, точно лихой кавалерист. Впрочем, я ухитрилась одновременно полюбоваться куколкой Мэри Энн и всеми ее платьицами, а потом сказала мастеру Тому, что он отличный наездник, но я надеюсь, что, катаясь на живом пони, он не будет так жестоко хлестать его и шпорить.
– Обязательно буду! – ответил он, удваивая усилия. – Я его хорошенько отделаю. И-их! Он у меня попотеет, слово благородного человека!
Меня его ответ неприятно поразил, но я с надеждой подумала, что со временем сумею пробудить в нем добрые чувства.
– А теперь надевайте шляпку и шаль! – распорядился юный герой. – Я покажу вам мой садик.
– И мой! – крикнула Мэри Энн.
Том угрожающе занес кулак, девочка громко взвизгнула, убежала в другой конец комнаты и показала братцу язык.
– Но, Том, ты же, конечно, не ударишь свою сестричку! Надеюсь, мне ничего подобного видеть не придется.
– Нет, придется. Иногда. Я же должен следить, чтобы она хорошо себя вела.
– Но ведь следить за этим не твое дело, а…
– Идите наденьте шляпку!
– Право же… погода такая холодная, пасмурная. Вот-вот начнется дождь… И ты знаешь, я ехала так долго…
– Ну и пусть, а пойти вы должны: никаких извинений я не приму, – ответил высокомерный маленький джентльмен.
В честь первого дня нашего знакомства я решила уступить его прихоти. Мэри Энн выходить на такой холод было никак нельзя, и она осталась с любящей маменькой – к большому удовольствию ее братца, который не желал делить мое внимание ни с кем другим.
Сад оказался обширным и устроенным с большим вкусом. Еще цвели великолепные георгины и некоторые другие поздние цветы, но мой маленький спутник не дал мне времени полюбоваться ими, а потащил по мокрой траве в дальний отгороженный угол, самое замечательное место здесь, ибо там находился его собственный садик. Я увидела две круглые клумбы с разными растениями – в середине одной поднималось прелестное розовое деревце – и остановилась взглянуть на чудесные розы.
– Да идите же! – сказал мастер Том с невыразимым презрением. – Это всего только сад Мэри Энн. А вот МОЙ!
После того как я рассмотрела там каждый цветок и выслушала лекцию о каждом растении, мне было разрешено удалиться. Но прежде он величественно сорвал астру и вручил ее мне, словно удостаивая меня великой чести. Тут я, заметив в траве какие-то сооружения из палочек и шнурков, спросила, что это такое.
– Силки для птиц.
– Но для чего ты их ловишь?
– Папа говорит, что они вредные.
– А что ты с ними делаешь, когда поймаешь?
– Всякое. Иногда скармливаю кошке, иногда режу на кусочки моим перочинным ножиком. А вот следующую поджарю живьем.
– Но почему ты придумал такую ужасную вещь?
– Ну, я хочу поглядеть, сколько времени она проживет. А потом попробовать, какой у нее вкус.
– Но разве ты не знаешь, что поступать так дурно? Вспомни, птички ведь чувствуют боль так же, как и ты. Неужели тебе понравилось бы оказаться на их месте?
– Подумаешь! Я ведь не птица. И что бы я с ними ни делал, сам я ничего не чувствую.
– Но и тебе придется когда-нибудь это почувствовать, Том! Ты же знаешь, куда попадают дурные люди, когда умирают. И если ты не перестанешь мучить бедных, ни в чем не повинных птичек, то попадешь туда и будешь страдать, как заставлял страдать их!
– А вот и нет! Никуда я не попаду. Папа знает, что я с ними делаю, и никогда меня за это не бранит. Он говорит, что тоже их ловил, когда был маленьким. А летом он принес мне гнездо с воробьятами и смотрел, как я отрывал у них ноги, крылышки и головы, и сказал только, что они мерзкие твари и чтобы я не запачкал панталон. А дядя Робсон тоже смотрел, и засмеялся, и сказал, что я молодец.
– Но что сказала бы твоя мама?
– А ей все равно! Она говорит, что красивых певчих птичек убивать жаль, но с гадкими воробьями, мышами и крысами я могу делать что хочу. Вот видите, мисс Грей, ничего дурного тут нет!
– А по-моему, есть, Том. И полагаю, что твои папа и мама по размышлении согласились бы со мной.
Мысленно же прибавила: «Пусть они говорят что хотят, но, пока ты под моим присмотром, я ничего подобного не допущу!»
Потом он потащил меня через лужайку посмотреть свои ловушки на кротов, а оттуда на задний двор посмотреть ловушки на ласок, в одной из которых, к вящему его восторгу, оказался мертвый зверек, и дальше на конюшню посмотреть – нет, не выездных лошадей, а маленького косматого конька. Это его лошадь, сообщил он мне, и он начнет ездить на ней, как только ее научат ходить под седлом. Я старалась доставить удовольствие мальчугану и слушала его болтовню со всем возможным терпением, так как решила завоевать его привязанность, если только он способен к кому-нибудь привязаться. А вот тогда со временем я сумею помочь ему исправиться. Однако я тщетно старалась обнаружить ту благородную, возвышенную душу, о которой говорила его маменька, хотя ему нельзя было отказать в известной живости ума и сообразительности, когда ему было угодно ими похвастать.
Мы вернулись в дом перед самым чаем. Мастер Том сообщил мне, что папа в отъезде, а потому они с Мэри Энн будут пить чай с мамой. Она всегда устраивает им такой праздник и вместо второго завтрака обедает с ними, а не в шесть часов. Вскоре после чая Мэри Энн отправилась спать, но Том развлекал нас своим обществом и беседой до восьми. Когда он наконец удалился, миссис Блумфилд вновь принялась просвещать меня, подробно описывая особенности характера своих деток и их редкие способности, объясняла, чему их следует учить и как с ними обращаться, а в заключение предупредила, чтобы об их провинностях я ни с кем, кроме нее, не говорила. Но я вспомнила совет мамы – как можно реже сообщать о них именно ей, ведь люди не любят, когда им указывают на дурные черты или нехорошие поступки их детей, а потому решила, что обо всем подобном мне следует хранить полное молчание. Примерно в половине девятого миссис Блумфилд пригласила меня разделить с ней скудный ужин из холодного мяса с хлебом, а после чего взяла свечу и удалилась к себе в спальню, к большой моей радости, потому что, как я ни боролась с собой, ее общество чрезвычайно меня угнетало, и я волей-неволей пришла к выводу, что она холодна, строга и чванлива – то есть полная противоположность той доброй, ласковой и снисходительной матери семейства, какой я с надеждой рисовала ее в своем воображении.
Глава III. Еще несколько уроков
На следующий день, вопреки уже пережитым разочарованиям, я встала, полная радостных предвкушений, но тут же убедилась, что одевать Мэри Энн – обязанность не из легких: ее густые волосы требовалось расчесать, напомадить, заплести в три длинные косички и завязать банты. Мои непривычные пальцы справлялись со всем этим очень неловко, и она заявила, что няня причесала бы ее вдвое быстрее, и так вертелась и ерзала от нетерпения, что я и вовсе перестала справляться. Но всему приходит конец, и мы спустились в классную комнату, где нас уже ждал мой ученик, и я поболтала с ними, пока не настало время идти в столовую завтракать. Когда завтрак был кончен и мы с миссис Блумфилд обменялись несколькими вежливыми фразами, я увела детей наверх, чтобы начать занятия. Они оказались очень неразвитыми, хотя Том вовсе не был лишен способностей. Но напрягать их он решительно не любил. Мэри Энн не умела прочесть самые простые слова и была так рассеянна и невнимательна, что мне не удавалось ничего ей втолковать. Однако ценой огромных усилий и терпения к концу утра я добилась кое-каких успехов и отправилась с моими юными питомцами в сад погулять перед обедом. Там мы неплохо ладили, хотя сразу же выяснилось, что не я их веду, куда считаю нужным, а они тащат меня, куда заблагорассудится им. Мне полагалось стоять, ходить, бежать, как того хотели они. Разумеется, я считала, что все должно быть как раз наоборот, тем более, как я постоянно убеждалась, и в этот раз, и в следующие, их особенно влекли самые грязные места и самые глупые развлечения. В первый день особой приманкой для них был родник у дальнего края лужайки – около получаса они швыряли в него камешки и били по воде палками. Меня терзал страх, что их маменька выглянет в окно и разгневается на меня за то, что я допустила, чтобы они вымазались в грязи, промочили ноги и намочили рукава, тогда как им следовало чинно гулять по дорожкам. Однако никакими доводами, приказаниями и мольбами увести их оттуда не удавалось. Она, правда, их не увидела, зато их увидел джентльмен, который верхом на лошади въехал в ворота и направился к дому. Приблизившись к нам, он сдержал лошадь и сердитым, въедливым голосом приказал детям «держаться от воды подальше!».
– Мисс Грей! Вы ведь мисс Грей? Я удивлен, что вы допустили, чтобы они так перепачкались! Или вы не видите, как мисс Блумфилд изгадила свое платье? И что носки мастера Блумфилда мокры насквозь? И что они не надели перчаток? Гм-гм! Не будете ли вы так добры впредь следить, чтобы у них был хотя бы пристойный вид!
И, отвернувшись, он затрусил дальше. Это был мистер Блумфилд. Меня удивило, что своих детишек он величает «мисс Блумфилд» и «мастер Блумфилд», а еще больше – что он говорил столь невежливо со мной, их гувернанткой, которую увидел впервые в жизни. Вскоре звон обеденного колокола призвал нас в дом. В час дня я обедала с детьми, а мистер Блумфилд и его супруга за тем же столом вкушали второй завтрак. Поведение хозяина дома и тут не слишком подняло его в моих глазах. Лет тридцати пяти, годом больше, годом меньше, роста он был среднего, скорее даже ниже среднего, и скорее худощав, чем дороден. Его отличали широкий рот, бледный, землистый цвет лица, водянисто-голубые глаза и волосы цвета пакли. Перед ним стояла жареная баранья нога, и он отрезал по куску миссис Блумфилд, детям и мне, выразив желание, чтобы я измельчила порцию мастера Блумфилда и мисс Блумфилд. Затем, осмотрев жаркое и так и этак, и сверху и сбоку, он объявил, что есть его невозможно, и потребовал для себя холодной говядины.
– Чем вам не угодила баранина, дорогой? – осведомилась спутница его жизни.
– Пережарена. Неужели вы не заметили, что никакой сочности в ней не осталось? И неужели вы не видите, что подлива совсем высохла?
– Что же, полагаю, говядиной вы останетесь довольны.
Перед ним поставили говядину, и он взял нож, но с крайним неудовольствием.
– Чем вам не угодила говядина, мистер Блумфилд? Право, мне она показалась очень недурной.
– Она и была недурной. Кусок отличный, но он совершенно изуродован, – скорбно ответствовал мистер Блумфилд.
– Каким образом?
– Каким образом? Неужели вы не видите, как он искромсан? Гм-гм! Возмутительно!
– Значит, на кухне его резали не так. Вчера я разрезала его как полагается.
– Ну разумеется, искромсали его на кухне – варвары! Гм-гм! Был ли когда-нибудь такой великолепный кусок говядины настолько погублен? Потрудитесь в будущем позаботиться, чтобы на кухне не смели прикасаться к кушанью, убранному со стола почти нетронутым. Позаботьтесь об этом, миссис Блумфилд!
Но и от погубленного куска хозяин дома сумел отрезать себе несколько аппетитных ломтиков, половину которых уничтожил в молчании. А затем уже менее ворчливым тоном осведомился, что будет на обед.
– Индейка и рябчики, – последовал исчерпывающий ответ.
– А что еще?
– Рыба.
– Какая рыба?
– Не знаю.
– Не знаете? – вскричал он, поднимая мрачный взор от тарелки. Нож и вилка изумленно повисли в воздухе.
– Нет. Я велела повару приготовить рыбу, но не назвала, какую именно.
– Нет, вы только подумайте! Хозяйка дома даже не знает, какая рыба готовится для обеда! Заказывает рыбу – и не называет, какую именно!
– Может быть, мистер Блумфилд, в будущем вы будете заказывать себе обед сами?
На этом разговор завершился, и я с радостью увела моих учеников из столовой. Никогда в жизни мне не было так стыдно и неловко не за себя, а за других.
Днем мы снова занялись уроками, а потом снова вышли погулять, потом пили чай в классной комнате, потом я переодела Мэри Энн и, когда они с братцем спустились в столовую покушать десерт, воспользовалась случаем сесть за письмо домой. Но дети вернулись прежде, чем я написала хотя бы половину. В семь я должна была уложить Мэри Энн, потом до восьми играла с Томом, а когда и он ушел спать, кончила письмо, наконец-то распаковала мои сундучки, до которых прежде у меня не доходили руки, и легла сама.
Но это еще был очень удачный день.
Мои обязанности учить и следить за поведением не только не стали легче, когда мои питомцы и я свыклись друг с другом, но, напротив, делались все тяжелее по мере того, как раскрывались их характеры. Вскоре я убедилась, что гувернантка я только по названию: мои ученики умели слушаться не больше, чем дикие необъезженные жеребята. Страх перед кислой придирчивостью отца и наказаниями, на которые он не скупился в минуты раздражения, заставлял их сдерживаться в его присутствии. Девочки побаивались матери, а с Томом ей иногда удавалось сладить, обещав ему что-нибудь приятное. Мне же нечего было обещать, а что до наказаний, родители дали ясно понять, что это право они оставляют за собой, – и еще они ждали, что я научу детей вести себя примерно! Есть дети, которые не любят, чтобы на них сердились, и ищут одобрения, но юные Блумфилды ни к порицаниям, ни к похвалам чувствительны не были.
Мастер Том не просто не желал слушаться, он требовал, чтобы слушались его, и весьма решительно старался держать в узде не только сестренок, но и гувернантку с помощью рукоприкладства и ногоприкладства, а так как для своих лет он был высоким и сильным, то поползновения эти причиняли мне немало хлопот. Две-три оплеухи в такую минуту могли бы привести все к счастливой развязке, но в таком случае он наплел бы своей маменьке неизвестно что, а она бы свято ему поверила, ибо не допускала ни малейших сомнений в его правдивости – хотя и совершенно напрасно, как я уже не раз имела случай убедиться. Вот почему я твердо решила не поднимать на него руку, даже защищаясь, и, когда он особенно расходился, у меня оставался только один выход – опрокинуть его на спину и держать за руки и за ноги, пока он немного не успокаивался. К трудной задаче не допускать, чтобы он делал то, чего не следует, добавлялась другая, не менее трудная, – заставить его делать то, что следовало. Часто он наотрез отказывался слушать или повторять урок или хотя бы просто смотреть на страницу. И тут крепкая розга принесла бы немалую пользу. Но я должна была изыскивать способы, как лучше распорядиться крайне скудными средствами принуждения, какие мне не возбранялись.
Точные часы для занятий и игр нам не назначили, и я решила, что буду давать моим ученикам по небольшому заданию, выполнение которого при достаточном прилежании не могло занять много времени, – но уж пока оно не будет выполнено, из классной комнаты я их не выпущу, как бы ни была я измучена, как бы они ни упрямились. Пусть даже мне придется придвинуть мой стул к двери! Только прямое вмешательство родителей заставит меня отступить от этого правила! Мое единственное оружие – Терпение, Твердость и Настойчивость, и уж ими я воспользуюсь во всю меру! Всякую угрозу, всякое обещание следует выполнять неукоснительно и, значит, следить, чтобы они всегда были исполнимы. Я не позволю себе давать волю раздражению или вымещать на них свое дурное расположение духа. Если в какой-нибудь день они не станут капризничать и упрямиться, я буду с ними особенно доброй и ласковой, чтобы они почувствовали разницу между плохим и хорошим поведением. И я попробую их увещевать – самыми простыми и понятными словами. Бранить или отказывать в каком-нибудь удовольствии за гадкий поступок я буду с грустью, а не сурово. Молитвы и подходящие для детей духовные гимны я старательно им растолкую, а когда они будут молиться на сон грядущий и просить прощения у Боженьки, я напомню им об их грехах за прошедший день – очень серьезно, но без малейшего упрека, чтобы не пробудить злого чувства. Провинившийся должен будет петь гимн со словами раскаяния, радостный же гимн будет наградой за послушание. Обучать же их я попробую в живой беседе, словно просто желая их развлечь.
Вот как я надеялась со временем принести пользу детям и заслужить одобрение их родителей, а также убедить всех моих домашних, что я вовсе не такая легкомысленная неумеха, как они считали. Я понимала, что меня ждут большие трудности, но я знала (а точнее, верила), что терпеливая настойчивость их превозможет, о чем молилась ежеутренне и ежевечерне. Но либо дети были неисправимы, а их родители неразумны, либо я не сумела претворить мои замыслы на деле, либо они никуда не годились, но, как бы то ни было, самые лучшие мои намерения и все мои усилия не приводили ни к чему: дети делали все наперекор мне, их родители были недовольны, а я совсем измучилась.
Обучение оказалось утомительной задачей не только для духа, но и для тела. Я бегала за своими учениками, хватала их, тащила или несла на руках к столу и нередко силком их там удерживала, пока они не выучивали заданного урока. Тома я часто ставила в угол и загораживала ему выход стулом, на котором сидела, держа перед ним открытую книжку с маленьким уроком, который он должен был прочесть или заучить прежде, чем я отодвину стул. У него не хватало силенок оттолкнуть стул вместе со мной, и он извивался всем телом, строил страшные гримасы, возможно, смешные на взгляд постороннего наблюдателя, но нисколько меня не смешившие, и испускал громкие вопли и жалобные всхлипывания, изображая плач – но без сопровождения слез. Я понимала, что он просто хочет вывести меня из себя, и, внутренне дрожа от злости и нетерпения, изо всех сил изображала равнодушное спокойствие, ожидая, когда ему надоест ломаться и он заслужит право убежать в сад, прочитав или повторив несколько слов, не занимавших в книге и строки. Иногда он старательно писал плохо, и мне приходилось водить его рукой, чтобы он нарочно не сажал кляксы и не рвал бумагу. Часто я грозила дать ему написать еще строчку, если он не закончит эту как следует. Тогда он вообще отказывался писать дальше, и я, чтобы сдержать слово, прижимала его пальцы к перу и водила им по бумаге, пока строчка кое-как не завершалась.
Однако Том хотя бы иногда, к великой моей радости, решал, что ему же будет лучше, если он побыстрее сделает урок и будет играть в саду, пока я не приведу туда и Мэри Энн. Но последнее случалось далеко не всегда, так как Мэри Энн редко следовала его благому примеру. Видимо, больше всего ей нравилось валяться на полу, и она соскальзывала со стула, как свинцовая гиря. Когда же я с большим трудом водворяла ее обратно, мне приходилось крепко держать ее одной рукой, а другой подносить к ее лицу книжку. Когда рука изнемогала под весом обмякшей шестилетней толстушки, я ее меняла или же относила Мэри Энн в угол и говорила, что она может из него выйти, когда снова научится ходить и встанет на ноги. Но она чаще предпочитала лежать там бревном до обеда или чая, а уж тогда мне приходилось отменять свой запрет, потому что лишить ее еды я не смела, и она выползала из угла на четвереньках, а ее краснощекая физиономия сияла злорадным торжеством. Обычно она упрямо отказывалась произнести то или иное слово в заданном уроке, и теперь я сожалею о моих напрасных усилиях возобладать над ее упрямством. Для нас обеих было бы лучше, если бы я делала вид, что это совершеннейший пустяк, вместо того чтобы бесплодно настаивать на своем. Но я считала себя обязанной подавить столь вредную наклонность в самом зародыше. Бесспорно, сделать это следовало, будь я в силах. И наверное, мне удалось бы добиться послушания, если бы у меня были на то средства. Но при существующем положении вещей мы обе просто выжидали, кто возьмет верх, и очень часто он оставался за ней. А каждая новая победа словно укрепляла ее в желании добиваться все новых и новых. Тщетно я уговаривала, улещивала, упрашивала, угрожала, бранила. Тщетно я не разрешала ей играть, а если мы все-таки должны были отправиться на прогулку, отказывалась играть с ней, или ласково разговаривать, или отвечать ей. Тщетно я старалась показать, что послушных девочек любят и ласкают, а ее глупое упрямство приносит ей одни неприятности.
Порой, когда она просила меня о чем-нибудь, я отвечала:
– Хорошо, Мэри Энн, но только если ты скажешь это слово. Ну-ка, ну-ка! Вот скажешь, и все будет хорошо.
– Не скажу.
– Ну, тогда я для тебя ничего делать не буду.
Для меня в ее возрасте, да и раньше, не было страшнее наказания, если со мной переставали разговаривать или называли плохой девочкой, но ее это ничуть не трогало. Иногда, совсем выведенная из терпения, я сильно встряхивала ее за плечи, дергала за косичку или ставила в угол, а она карала меня громким, пронзительным визгом, вонзавшимся мне в уши, как нож. Она знала, что я этого не выношу, и, навизжавшись вдоволь, поглядывала на меня с мстительным удовлетворением, вопила: «Вот вам!» – и снова принималась визжать, пока я не выдерживала и не затыкала уши. Часто на ее жуткие вопли являлась миссис Блумфилд узнать, что случилось.
– Мэри Энн плохо ведет себя, сударыня.
– Но что означает этот невыносимый крик?
– Она раскапризничалась.
– Ничего подобного я в жизни не слышала. Нет, вы просто ее убивали! И почему она не в саду с братцем?
– Я не могу заставить ее ответить урок.
– Мэри Энн должна быть хорошей девочкой и ответить урок, – ласково наставляла маменька. – Но надеюсь, больше мне не придется слышать такого ужасного крика.
И, смерив меня холодным взглядом, истолковать который можно было только одним образом, она удалялась, закрыв за собой дверь.
Иногда я пыталась захватить гадкую упрямицу врасплох и небрежно спрашивала у нее роковое слово, когда она думала о чем-нибудь другом. И она начинала его произносить, но вдруг спохватывалась и бросала на меня хитренький взгляд, говоривший: «Ага! Не поймаешь! Ни за что не скажу!»
Как-то раз я сделала вид, будто забыла про все, разговаривала и играла с ней как обычно, а вечером, когда уложила ее и нагнулась к ее улыбающемуся довольному личику, сказала весело и ласково:
– Ну, Мэри Энн, скажи мне это слово, и я поцелую тебя на ночь. Сейчас ты очень хорошая девочка и, конечно, скажешь его.
– Не скажу.
– Тогда я тебя не поцелую.
– А мне все равно.
Напрасно я огорчалась вслух, напрасно ждала хоть малейших признаков раскаяния, но и когда ушла, оставив ее одну в темноте, это бессмысленное упрямство продолжало меня терзать. Сама я в детстве не могла вообразить кары ужаснее, чем отказ мамы поцеловать меня на сон грядущий. Об этом и помыслить было страшно. Впрочем, дальше воображения дело не пошло: к счастью, я ни разу не совершила проступка подобной тяжести. Но я помнила, как за какое-то прегрешение сестры мама не поцеловала ее, – не знаю, что испытывала Мэри, но свои сочувственные слезы и болезненную жалость к ней я забуду не скоро.
Много мучений доставляла мне и неисправимая склонность Мэри Энн убегать в детскую и играть там с младшими сестрами и нянькой, что было вполне понятно. Но, повинуясь прямо высказанному желанию миссис Блумфилд, я запрещала ей это и всячески старалась держать ее при себе, чем, разумеется, лишь подливала масла в огонь. Чем настойчивее пыталась я не допускать ее в детскую, тем чаще она ускользала туда и тем дольше там оставалась – к великому неудовольствию миссис Блумфилд, которая, как я прекрасно знала, возлагала всю вину на меня. Тяжким испытанием была и процедура утреннего одевания. То Мэри Энн не желала умываться, то кидала на пол платье, требуя другое – которое, как я знала, не нравилось ее маменьке, или с визгом убегала, едва я притрагивалась к ее волосам. И часто, когда после долгих усилий я наконец умудрялась привести ее в столовую, завтрак уже почти кончался, и мне приходилось терпеть негодующие взгляды маменьки, а также сердитые замечания папеньки по моему адресу, хотя и не обращенные прямо ко мне, – он особенно не терпел подобных нарушений пунктуальности. В довершение миссис Блумфилд сердило, что я не умею одеть девочку, а на ее волосы «смотреть неприлично». Иногда она, чтобы выразить мне свое неудовольствие, брала на себя роль камеристки, а потом горько сетовала, что ее вынуждают так затрудняться.
Когда в классную комнату пришла маленькая Фанни, я обрадовалась, что хоть в ней найду послушную и кроткую ученицу, но не понадобилось и двух-трех дней, если не двух-трех часов, чтобы эта иллюзия рассеялась. Она оказалась неисправимой и злокозненной лгуньей, уже умевшей хитрить и обманывать, а кроме того, при каждом удобном случае пускала в ход два своих любимых способа обороны и наступления – плевала в лицо тем, кто навлекал на себя ее гнев, и ревела во весь голос, если ей в чем-нибудь отказывали – пусть и в самом неразумном. Однако при родителях она вела себя тихо, и они считали ее на редкость милой девочкой, свято верили ее лжи, а громкий рев приписывали моему суровому и несправедливому с ней обращению. Когда же ее дурные склонности стали явными даже для их предубежденного взора, вину в своем разочаровании они возложили на меня.
– Какой непослушной сделалась Фанни! – замечала миссис Блумфилд своему супругу. – Вы обратили внимание, дорогой, как она изменилась с тех пор, как начала учиться? Вскоре она станет такой же, как старшие, а они, мне жаль сказать, совсем испортились.
– Верно-верно, – отвечал супруг. – Я совершенно согласен. Я полагал, если мы возьмем им гувернантку, они образумятся, но они становятся все хуже и хуже. Не знаю, чему они научились, но их поведение ничуть не улучшилось. Наоборот, с каждым днем они становятся все распущеннее, грубее и грязнее.
Я понимала, что говорится это в назидание мне, и подобные намеки ранили меня гораздо глубже любых прямых упреков, так как лишали возможности защищаться. И мне оставалось только подавлять любое желание возразить, прятать обиды и продолжать делать все, что было в моих силах, – ведь я не хотела терять свое место, несмотря ни на что. Мне надо только сохранять твердость и настойчивость, и дети со временем, конечно же, станут лучше. С каждым месяцем они будут чему-то учиться, а значит, ими будет легче руководить. Ведь десятилетний ребенок, такой же несдержанный и своевольный, как эти в свои шесть-семь лет, может быть только сумасшедшим.
Я утешалась мыслью, что, оставаясь здесь, я помогаю родителям и сестре. Как ни мало было мое жалованье, я все-таки что-то зарабатывала и, экономя во всем, могла даже кое-что уделить им – лишь бы они согласились взять! Кроме того, гувернанткой я стала по собственному настоянию и все эти испытания навлекла на себя сама, а потому была исполнена решимости выдержать их. И я даже не жалела ни о чем: я все еще жаждала показать моим близким, что справлюсь со взятыми на себя обязанностями, и справлюсь с честью. Если же мне станет невыносимо сносить безмолвно унижения и надрываться без минуты отдыха, я погляжу в сторону родного дома и скажу себе:
Пусть сокрушат, но дух мой не сломить!
Все помыслы мои – тебе, не им.
На Рождество мне было разрешено съездить домой, но всего на две недели.
– Вы же, – сказала миссис Блумфилд – еще так недавно видели своих близких, что я подумала, вам вряд ли захочется остаться там дольше.
Я не стала ее разуверять, но откуда ей было знать, какими долгими, какими тяжкими показались мне эти три с половиной месяца разлуки? Как я ждала моего отпуска и как горько было мне такое его сокращение! Но винить ее не приходилось. Я ведь не открывала ей свои чувства, так откуда же она могла о них догадаться? Пробыла я у них неполных полгода, и она имела право урезать мой отпуск.
Глава IV. Бабушка
Избавлю читателей от описания моих восторгов, когда я вернулась под отчий кров, моего счастливого пребывания там, наслаждения кратким отдыхом и свободой в милом, знакомом доме среди любящих и любимых людей – и горя, когда мне вновь пришлось надолго с ними проститься.
Однако я вернулась к своим обязанностям с неугасшим пылом – в должной мере оценить это могут лишь те, кому довелось испытать на себе, что это значит – учить и воспитывать буйных, злокозненных неслухов, которые, вопреки всем вашим усилиям, не делают того, что должны, а вы отвечаете за их поведение перед высшими властями, лишающими вас и помощи, и средств исполнять их же требования, то ли по лености, то ли из страха восстановить против себя вышеупомянутых неслухов. Трудно придумать более мучительное положение: как бы вы ни стремились к успеху, как бы ни старались исполнять свой долг, все ваши усилия сводятся на нет теми, кто вам подчинен, и несправедливо критикуются и обсуждаются теми, кому подчинены вы.
Я ведь не перечислила и половины дурных наклонностей моих учеников и неприятностей, сопряженных с моими многочисленными обязанностями, из опасения, что я уже и так слишком злоупотребила вниманием моих читателей. Однако эти последние страницы писались не для того, чтобы развлечь и позабавить, а чтобы принести пользу тем, кого все это может живо интересовать. Остальные же, вероятно, просто бегло их пролистали, быть может выбранив словоохотливость автора. Однако, если отец или мать семейства что-то почерпнули отсюда для себя или злополучная гувернантка нашла их полезными, я уже достаточно вознаграждена за свой труд.
Во избежание лишней путаницы я описывала моих учеников и особенности их характеров отдельно и по очереди, что не дает ни малейшего представления о том, каково было утихомиривать всех троих разом, и особенно когда они в очередной раз сговаривались «быть плохими и не слушаться мисс Грей, чтобы она злилась».
Порой в такие минуты я думала: «Если бы они могли увидеть меня сейчас!» – подразумевая, конечно, моих домашних, и при мысли об их жалости я так себя жалела, что еле скрывала слезы. И все-таки скрывала, пока мои маленькие мучители не спускались в столовую к десерту или не ложились спать – единственное время, когда я бывала избавлена от них, и вот в блаженном одиночестве я позволяла себе роскошь безудержно разрыдаться. Но этой слабости я уступала редко – слишком много было у меня обязанностей, слишком драгоценными были минуты редкого досуга, чтобы тратить их на бесплодные сетования.
Особенно мне запомнился один хмурый снежный день в январе вскоре после моего возвращения. Дети поднялись после обеда в классную комнату, громко возвещая о своем намерении «быть плохими», и выполнили его, хотя я охрипла и надорвала горло в тщетном старании уговорить их вести себя хорошо. Тома я заперла стулом в углу, сказав, что он не выйдет оттуда, пока не выучит урок. Тем временем Фанни, завладев моей рабочей корзинкой, рылась в ней и плевала внутрь. Я велела ей оставить корзинку в покое, но, конечно, она и внимания на мои слова не обратила.
– Сожги ее, Фанни! – скомандовал Том, и его приказание она, разумеется, поторопилась выполнить.
Я кинулась к камину спасать корзинку, а Том оттолкнул стул и побежал к двери с криком:
– Мэри Энн, выкинь ее ящик в окно!
И моя драгоценная шкатулка со всеми моими письмами, бумагами, скудными наличными и скромными украшениями чуть было не полетела вниз с третьего этажа. Я бросилась ей на выручку, а Том уже катился кубарем по лестнице в сопровождении Фанни. Поставив шкатулку повыше, я поспешила в погоню. Мэри Энн последовала за мной. Схватить их мне не удалось, все трое выскочили в сад и с торжествующими воплями принялись барахтаться в снегу.
Что мне было делать? Попробовать схватить их? Они, конечно, увернутся и убегут еще дальше от дома. Но иначе как мне заставить их вернуться? И что подумают обо мне их родители, если увидят или услышат, что их дети без шляп, без перчаток, без сапожек возятся в глубоком, мягком сугробе? Я продолжала стоять на пороге, пытаясь строгими взглядами и сердитыми окриками заставить их подчиниться, и тут услышала за спиной въедливый голос:
– Мисс Грей! Что здесь происходит? О чем, черт побери, вы думаете?
– Они не хотят возвращаться в дом, – сказала я и, обернувшись, узрела мистера Блумфилда. Его водянисто-голубые глаза выпучились, а волосы стояли дыбом.
– Но я требую, чтобы они немедленно вернулись! – крикнул он, подходя к двери с самым свирепым видом.
– В таком случае, сэр, не позовете ли вы их сами, потому что меня они не слушаются, – ответила я, отступая.
– Домой, паршивцы, не то я вас всех высеку! – взревел папенька, и они тотчас подчинились. – Ну, вот видите? Достаточно было одного слова!
– Да, от вас!
– По меньшей мере странно, что вы не в состоянии с ними сладить, хотя они поручены вашим заботам! Но где же они? Удрали наверх, даже снега с себя не отряхнули! Да идите же за ними, приведите их в пристойный вид, ради всего святого!
В доме тогда гостила его матушка, и, поднимаясь по лестнице мимо гостиной, я имела удовольствие услышать, как старуха громко втолковывает невестке (до меня доносились лишь обрывки фраз):
– Спаси и помилуй!.. никогда в жизни!.. насмерть простудились!.. Милочка, а вы уверены, что эта особа?.. Помяните мое слово…
Больше я ничего не услышала, но и этого было вполне достаточно.
Старшая миссис Блумфилд все время была со мной очень внимательна и обходительна и казалась мне приветливой, добросердечной, хотя и слишком разговорчивой старушкой. Она часто заглядывала ко мне в классную комнату и доверительно со мной беседовала, кивая и покачивая головой, всплескивая и разводя руками, возводя глаза к небу и мигая, как принято у пожилых дам, принадлежащих к определенному сословию, хотя до тех пор мне не доводилось видеть, чтобы эта манера так утрировалась. Она даже сочувствовала мне в моих хлопотах с детьми и, порой не договаривая, но выразительно кивая и подмигивая, давала мне понять, до чего она не одобряет их маменьку: так ограничить их власть над ними, а самой ни в чем не оказывать мне поддержки! Подобный способ выражать порицание был не в моем вкусе, и я как могла уклонялась, отвечая лишь на то, что говорилось прямо и без обиняков. Во всяком случае, я позволяла себе лишь молча соглашаться с тем, что при иных обстоятельствах мои обязанности могли бы оказаться легче и я бы просвещала и наставляла моих учеников с заметно большим успехом. Теперь же эту осторожность следовало удвоить. Я и прежде замечала у почтенной старушки кое-какие слабости (например, склонность разглагольствовать о своих добродетелях), но всегда старалась находить им извинения и принимать на веру все ее превосходные качества, в воображении награждая ее даже теми, о которых она пока умалчивала. Я успела истосковаться по ласковой доброжелательности, которая еще так недавно окружала меня, и с неизъяснимой благодарностью принимала любое ее подобие. Неудивительно, что мое сердце прониклось теплой признательностью к старушке, – я всегда радовалась ее приходу и огорчалась, когда она уходила.
Однако несколько слов, к счастью (или к несчастью) услышанных мимоходом, совершенно изменили мое представление о ней. Теперь она виделась мне льстивой и лживой лицемеркой, шпионящей за каждым моим словом и поступком. Без сомнения, в моих интересах было встречать ее прежней радостной улыбкой и сохранять прежний тон почтительной симпатии, но я бы не сумела этого, даже если бы хотела. Вместе с моими чувствами переменилось и внешнее их изъявление: я стала такой сдержанной и замкнутой, что она не могла этого не заметить. И сама тотчас переменилась – со мной здоровалась уже не дружеским кивком, но чопорным наклоном головы, вместо ласковой улыбки меня одаряли испепеляющим взглядом Горгоны, и свои словоохотливые излияния она обращала уже не ко мне, а к «миленьким деточкам», превосходя нелепостью похвал и баловства даже их маменьку.
Признаюсь, такая перемена меня встревожила, и, опасаясь последствий ее немилости, я даже попыталась вернуть себе утраченные позиции, причем удалось мне это с неожиданной легкостью – во всяком случае, внешне. Просто из вежливости я осведомилась о ее кашле. Тут же поджатые губки расцвели улыбкой, и она почтила меня длинной историей этого ее недомогания, а также всех прочих, а затем одарила рассуждениями о присущем ей благочестивом смирении в обычной своей декламационной манере, запечатлеть которую на бумаге невозможно.
– Но есть одно спасительное средство, душенька, и это – смирение (энергичный кивок), смирение перед Высшей Волей (руки всплескиваются, очи возводятся горе). Оно поддерживало меня во всех моих испытаниях, и на него я уповаю (кивки, кивки, кивки). Но не все могут сказать о себе то же (голова укоризненно покачивается). Однако я, мисс Грей, храню в сердце своем благочестие (многозначительнейший кивок). И, благодарение Небу, всегда хранила (еще кивок), и в том моя радость! (ладонь прижимается к ладони, голова смиренно наклоняется).
Не поскупившись на цитаты из Писания – неточные и не к месту, она с благочестивыми восклицаниями, воспроизводить которые я не стану, такую уморительность придавала им ее манера выражаться, удалилась, благосклонно кивнув напоследок большой головой, очень довольная – во всяком случае, сама собой, а мне внушив надежду, что правят ею слабости, а не злоба.
Когда она снова приехала погостить в Уэлвуд-Хаус, я позволила сказать себе, что рада видеть ее в таком добром здравии. Результат был магическим – простую вежливую фразу старушка приняла как самый лестный комплимент, ее лицо просияло, и с этой минуты она стала необыкновенно снисходительной и ласковой, по крайней мере в манере держаться со мной. Все это, как и болтовня детей, убедило меня, что я легко обрету ее сердечную дружбу, если буду льстить ей при каждом удобном случае. Но это было противно моим принципам, а потому капризная дама не замедлила вновь лишить меня своей милости, и у меня есть основания полагать, что исподтишка она вредила мне как могла.
Восстановить против меня миссис Блумфилд ей было, пожалуй, не по силам, так как они питали друг к другу взаимную неприязнь: свекровь не упускала случая побранить или очернить невестку у нее за спиной, а та с холодной вежливостью нигде не отступала от требований хорошего тона, и льстивость старшей не могла растопить стену льда, которую воздвигла между ними младшая. Зато сын готов был ее слушать при условии, что ей удавалось успокоить его раздражительность или же не рассердить его какой-нибудь своей нелепостью. И, насколько я могу судить, старушка во многом укрепила его предубеждение против меня. Она не уставала повторять, что я возмутительно пренебрегаю детьми, – да и его жена не оказывает им должного материнского внимания, а потому он обязан сам за ними следить, не то из них бог знает что вырастет.
После таких настояний мистер Блумфилд часто брал на себя труд следить из окна, как они играют, а порой отправлялся на их розыски и, к несчастью, почти всегда внезапно появлялся именно тогда, когда они возились у запретного родника, или болтали с кучером на конюшне, или блаженствовали среди грязи на скотном дворе, а я уныло стояла в стороне, измученная бесплодными попытками увести их оттуда. Очень часто он заглядывал в классную комнату во время завтрака или обеда и видел, как они проливают молоко на стол и на себя, суют пальцы в чашки – свою и чужие – и ссорятся из-за лакомых кусков, как тигрята. Если я в эту минуту не вмешивалась, значит я потакаю их невоспитанности, а если (как бывало чаще) я повышала голос, тщась водворить порядок, значит я позволяю недопустимую грубость и подаю девочкам дурной пример несдержанностью тона и выражений.
Мне запомнился весенний день, когда из-за дождя дети не могли пойти погулять. Но – чудо из чудес – они все послушно сделали уроки и не побежали вниз досаждать родителям, чего я всегда боялась, но чему, если шел дождь, редко могла помешать. Ведь внизу их обычно ждало что-то новое и интересное, особенно когда в доме кто-нибудь гостил, а маменька, хотя и требовала, чтобы я не выпускала их из классной комнаты, никогда им за это не выговаривала и не утруждалась отправить их назад.
Однако на этот раз их никуда не влекло, и – совсем уже чудо – они мирно играли между собой, не ссорясь и не требуя, чтобы я их развлекала. Правда, забаву они избрали непонятную: усевшись рядом на полу у окна над грудой сломанных игрушек и птичьих яиц, а вернее, скорлупок, так как содержимое, к счастью, давно было из них извлечено, дети сначала раздавили скорлупки, а теперь перетирали обломки в порошок. Зачем это им понадобилось, я не знала, но меня это не слишком интересовало, лишь бы они вели себя тихо и не устраивали гадких проказ. И я в непривычном покое сидела у огня, дошивая платье для куклы Мэри Энн, чтобы потом начать письмо к маме. Внезапно дверь отворилась, и в нее просунулась невзрачная физиономия мистера Блумфилда.
– Как тут тихо! Что вы делаете?
«Ну хотя бы сегодня – ничего дурного!» – подумала я, но папенька был другого мнения. Подойдя к окну, он раздраженно воскликнул:
– Что вы тут натворили?
– Мы толчем яичную скорлупу, папа! – весело ответил Том.
– Да как вы посмели развести такую грязь, паршивцы? Только посмотрите, во что вы превратили ковер! (Ковер этот был просто бурым половиком.) Мисс Грей, вы знали, чем они занимаются?
– Да, сэр.
– Вы знали?
– Да.
– Знали?! И сидели спокойно у камина и не запретили им?
– Мне казалось, что они ничего дурного не делают.
– Ничего дурного! Да вы поглядите! Нет, поглядите на ковер и скажите, видели ли вы что-нибудь подобное в приличном доме? Неудивительно, что ваша комната хуже хлева, что ваши ученики хуже поросят! Да, неудивительно. Тут никакого терпения не хватит! – И он вышел, захлопнув дверь с оглушительным стуком, а дети весело захохотали.
– И моего терпения тоже! – пробормотала я, схватывая кочергу, и принялась разбивать головни, чтобы под таким благовидным предлогом дать выход досаде.
После этого мистер Блумфилд завел обыкновение проверять, прибрана ли классная комната. А поскольку дети постоянно усыпали пол обломками игрушек, прутиками, камешками, листьями и другим мусором, который я не могла ни помешать им притаскивать в дом из сада, ни заставить потом собрать, горничные же наотрез отказывались «прибирать за ними», мне приходилось тратить значительную часть своего и без того короткого досуга на то, чтобы ползать на коленях по полу и наводить порядок. Как-то раз я объявила им, что они не получат ужина, пока не подберут с ковра все: Фанни должна собрать столько-то, Мэри Энн вдвое больше, а Том – все остальное. Как ни удивительно, девочки послушно убрали свою долю, но Том пришел в такую ярость, что подскочил к столу, смахнул молочник и хлеб на пол, ударил сестер, пинком перевернул совок с углем, попытался опрокинуть стол и стулья, словно намереваясь сокрушить все вокруг, но я схватила его, отправила Мэри Энн за миссис Блумфилд и продолжала держать его, как он ни брыкался, ни бил меня кулаками, ни вопил и ни сыпал ругательствами, пока не вошла любящая маменька.
– Что случилось с моим мальчиком? – спросила она, а выслушав объяснения, послала за нянькой и распорядилась, чтобы она убрала комнату и подала мистеру Блумфилду его ужин.
– Вот вам! – торжествующе завопил он, насколько ему позволял набитый рот. – Вот вам, мисс Грей! Вы грозились, а я получил ужин и ничегошеньки с ковра не поднял!
Во всем доме искренне сочувствовала мне одна лишь нянька, которая испытывала те же мучения, хотя и не в такой степени, потому что не обязана была их учить и меньше отвечала за их манеры.
– Ох, мисс Грей! – говорила она. – Нелегко вам с этими бесенятами!
– Совершенно верно, Бетти. Да ведь вы сами знаете.
– Уж знаю! Только я не надрываюсь из-за них, как вы. Да и шлепаю их, что греха таить. А маленьких-то и выпорю, коли придется. Другого ведь они не понимают. Ну да мне из-за этого уже от места отказали.
– Вот что, Бетти! Мне говорили, что вы уходите.
– Ухожу, дай вам бог здоровья. Хозяйка сказала, чтоб через три недели моего духу тут не было. Она мне перед Рождеством говорила, что выгонит, если я опять их хоть пальцем трону. Да разве тут удержишься? Уж и не знаю, как вы справляетесь. Мэри Энн ведь дрянь похуже своих сестричек.
Глава V. Дядюшка
Кроме бабушки, имелся еще один частый гость в доме, чьи визиты причиняли мне много неприятностей, – «дядя Робсон», брат миссис Блумфилд, коренастый, самодовольный, с темными волосами и нездоровым цветом лица, как у сестры, с носом, словно бы раз и навсегда презревшим землю, и серыми глазками, часто сощуренными от природной глупости и притворного пренебрежения ко всему вокруг. Он был плотного сложения, но при всем том отличался тонкой талией, которая вкупе с неестественной прямотой его осанки неопровержимо свидетельствовала, что доблестный мистер Робсон, возвышенный душой и ни во что не ставящий женский пол, ради щегольства носит корсет. Он редко снисходил до того, чтобы заметить мое существование, а если и обращался ко мне с двумя-тремя словами, то лишь с высокомерной наглостью, неопровержимо свидетельствовавшей, что он не джентльмен, хотя он прибегал к ней, тщась произвести прямо обратное впечатление. Но тягостны мне его визиты были главным образом из-за вреда, который он приносил детям, потакая самым дурным их наклонностям и за несколько минут уничтожая добрые семена, которые мне с таким трудом удавалось посеять за несколько месяцев.
До Фанни и малютки Харриет дядюшка снисходил редко, но Мэри Энн считалась его любимицей, и он постоянно поощрял в ней кокетливость (которую я всеми силами старалась подавить), расхваливал ее хорошенькое личико и набивал ей голову всякими глупостями о важности красивой внешности (которую я учила считать вздором в сравнении с образованностью ума и изяществом манер). Найти же другую маленькую девочку, столь падкую на лесть, было бы трудно. Он поощрял все худшее в ней и в ее братце если не прямым одобрением, так снисходительным смехом. Многие люди не отдают себе отчета, как они портят детей, посмеиваясь над их провинностями и обращая в веселую шутку то, к чему их истинные друзья внушали им глубокое отвращение.
Хотя мистер Робсон не был завзятым пьяницей, но вина он пил много, любил побаловать себя рюмкой-другой коньяка с водой и приучал племянника елико возможно следовать его примеру, внушая, что чем больше вина он выпьет и чем больше пристрастится к нему, тем больше будет похож на настоящего мужчину и неопровержимо докажет свое превосходство над сестрами. Мистер Блумфилд особенно не возражал, ибо сам из всех напитков предпочитал джин с водой, который поглощал в немалых количествах, понемногу прихлебывая его с утра до вечера, – чему, мне кажется, и был обязан как скверным цветом лица, так и мелочной раздражительностью.
Вдобавок мистер Робсон словом и делом поощрял склонность Тома мучить беззащитных существ. Причиной его визитов нередко было желание поохотиться в угодьях шурина, а потому он привозил с собой любимых собак, с которыми обращался так жестоко, что я с радостью уплатила бы соверен, лишь бы какая-нибудь его укусила – разумеется, если бы это сошло ей безнаказанно. Порой в особо благодушном настроении он отправлялся с детьми разорять птичьи гнезда, и это особенно бесило и огорчало меня, так как я льстила себя мыслью, что, настойчиво возвращаясь к этой теме вновь и вновь, сумела отчасти показать им, как дурно это развлечение, и даже надеялась со временем привить им более широкие понятия о справедливости и гуманности. Но десять минут поисков гнезд под началом дяди Робсона или просто его веселый хохот при воспоминании о прошлых их варварствах сводили насмарку все, чего мне удавалось достичь с помощью долгих бесед и убеждений. К счастью, в эту весну они, за исключением одного-единственного раза, находили гнезда либо пустыми, либо с яичками, а ждать, пока вылупятся птенцы, у них не хватало терпения. Но как-то Том, гулявший с дядюшкой в соседнем леске, примчался в сад вне себя от восторга, держа в ладонях целый выводок голеньких птенчиков. Мэри Энн и Фанни, которых я только что вывела погулять, подбежали к брату полюбоваться его добычей и принялись выпрашивать по птичке.
– Ни одной не дам! – крикнул Том. – Они все мои. Мне их дядя Робсон подарил. Раз, два, три, четыре, пять. А вы ни одной не получите. Вот вам! – продолжал он злорадно, положил гнездышко на землю и встал над ним, широко раздвинув ноги, наклонив голову, сунув руки в карманы и гримасничая от сладкого предвкушения. – Но вы можете посмотреть, как я с ними разделаюсь. Слово благородного человека, уж я им покажу! Провалиться мне, тут есть чем позабавиться!
– Том! – сказала я. – Мучить этих птичек я тебе не разрешу. Их надо либо сразу убить, либо отнести на прежнее место, чтобы родители могли их и дальше кормить.
– А вы, мисс, не знаете, где это место! Об этом только мы с дядей Робсоном знаем.
– Если ты мне не скажешь, я сама их убью, как мне это ни тяжело.
– А вот и не посмеете! Вы в жизни не посмеете к ним притронуться, потому что знаете, что папа, мама и дядя Робсон на вас рассердятся. Ха-ха-ха! Попались, мисс!
– Я поступлю, как считаю правильным. Если твои родители этого не одобрят, мне будет очень жаль, но мнение твоего дяди Робсона меня, разумеется, никак не трогает.
И побуждаемая чувством долга, рискуя испытать отвратительную дурноту и навлечь на себя гнев моих нанимателей, я подняла большой камень, которым садовник подпирал мышеловку, и после еще одной попытки убедить маленького тирана вернуть гнездо на место спросила, как он намерен поступить с птенчиками. С дьявольским упоением он начал перечислять всевозможные пытки, и тут я уронила камень на его несчастные жертвы, расплющив гнездо. Какие вопли, какие страшные ругательства вызвала столь возмутительная дерзость! В аллее показался дядя Робсон с ружьем и остановился дать пинка собаке. Том кинулся к нему, крича, чтобы он побил не Юнону, а мисс Грей. Мистер Робсон оперся на ружье и принялся хохотать над яростью своего племянника и над проклятиями и уничижительными эпитетами в мой адрес.
– Ну ты молодец! – воскликнул он наконец, поднял ружье и пошел к дому. – Разрази меня бог, а мальчишка умеет за себя постоять! Провалиться мне, если я когда-нибудь видел такой благородный дух в таком карапузе. Уже не дает юбкам собой командовать! Матери не слушается, бабушки, гувернантки! Ха-ха-ха! Ничего, Том, завтра я найду тебе другое гнездо.
– В таком случае, мистер Робсон, я убью и тех.
– Хм! – ответил он и, почтив меня наглым взглядом, который, вопреки его ожиданиям, я выдержала не моргнув и глазом, презрительно повернулся и вошел в дом. А Том побежал жаловаться маменьке. У нее не было обыкновения много говорить на какие бы то ни было темы, но когда мы встретились в этот день, выглядела она и держалась вдвое более высокомерно и холодно, чем всегда. Сказав несколько слов о погоде, она обронила:
– Мне очень жаль, мисс Грей, что вы сочли нужным вмешаться в развлечения мастера Блумфилда. Он был очень расстроен, что вы убили его птичек.
– Когда мастер Блумфилд для развлечения мучит живых существ, – ответила я, – вмешаться, мне кажется, мой долг.
– Видимо, вы забыли, – невозмутимо сказала она, – что все твари были только для того и созданы, чтобы мы распоряжались ими, как сочтем нужным.
Такая доктрина вызвала у меня некоторые сомнения, но я возразила только:
– Но это еще не значит, что мы можем их мучить забавы ради.
– Мне кажется, – заметила она, – что забавы ребенка много важнее того, что может случиться с бездушными тварями.
– Но подобные забавы не следует поощрять ради самого ребенка, – ответила я со всей возможной кротостью, чтобы как-то искупить столь неприличное упорство. – Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
– О, бесспорно! Но это ведь касается нашего поведения друг с другом.
– Милосердный человек милосерден и к скоту своему, – осмелилась я добавить.
– Я бы не сказала, что вы сами так уж были милосердны! – ответила она с коротким злым смешком. – Как жестоко – одним разом убить бедных пичужек и ввергнуть милого мальчика в такое горе в наказание за простую ребяческую прихоть!
Я сочла за благо промолчать. Это было единственное подобие ссоры между мной и миссис Блумфилд за все время моего пребывания в ее доме и единственное подобие разговора с ней, если не считать дня моего приезда.
Впрочем, не только старшая миссис Блумфилд и мистер Робсон, но и другие гости, приезжавшие в Уэлвуд-Хаус, причиняли мне много огорчений. И не потому, что они меня не замечали (хотя такая невоспитанность меня неприятно удивляла), а потому, что мне не удавалось не допускать к ним моих учеников, чего от меня строго требовали. Но Том рвался разговаривать с ними, а Мэри Энн жаждала похвал и восхищения. Ни брату, ни сестре застенчивость свойственна не была, не знали они и обычной детской стеснительности. Без малейшего смущения они громогласно вмешивались в разговоры старших, допекали их развязными расспросами, вцеплялись в рукава джентльменов, влезали к ним на колени без приглашения, висли у них на плечах или рылись в их карманах, дергали дам за оборки платья, растрепывали им волосы, мяли воротнички и клянчили в подарок всякие безделушки.
Миссис Блумфилд хватало благоразумия не одобрять такое их поведение и стыдиться его, однако ей не хватало ума воспрепятствовать ему – этого она требовала от меня.
Но разве могла я, одетая просто, такая привычная, говорящая им неприятную правду, увести их из гостиной, где нарядные дамы и господа из уважения к хозяевам дома хвалили их и снисходительно потакали их выходкам? Я напрягала все силы: пыталась отвлечь их, придумывала какие-нибудь новые игры, пускала в ход всю свою власть и всю строгость, на какую осмеливалась, лишь бы помешать им допекать гостей, стыдила их, объясняла, как невоспитанно они ведут себя, в надежде, что в следующий раз это их остановит. Но они не знали, что такое стыд, ничем не подкрепленная строгость их не пугала, ну а доброта и ласка… Либо они вовсе были лишены сердца, либо так хорошо охраняли и прятали свои сердечки, что я, как ни старалась, не могла отыскать пути к ним.
Но вскоре моим испытаниям пришел конец – раньше, чем я ожидала или хотела. В один прекрасный весенний вечер в мае, когда я радовалась приближению летнего отдыха и поздравляла себя с тем, что наконец чего-то достигла – не только кое-что вдолбила в головы моим ученикам, но в какой-то мере (увы, очень небольшой!) все-таки заставила их понять, что лучше сразу ответить уроки и пойти играть, чем день-деньской бессмысленно изводить себя и меня, – миссис Блумфилд неожиданно прислала за мной и с полным спокойствием сообщила мне, что с июля мои услуги им больше не потребуются. Она заверила меня, что вовсе не порицает мой характер или мое поведение в целом, но дети за то время, которое я пробыла здесь, показали очень мало успехов, и они с мистером Блумфилдом полагают, что их родительский долг – найти иной способ их воспитания. Хотя способностями они превосходят многих своих сверстников, но печально уступают им манерами – совсем не умеют себя вести и не умеют сдерживаться. Причина же, по ее мнению, заключается в том, что я была недостаточно тверда, настойчива и заботлива.