Моя жизнь бесплатное чтение
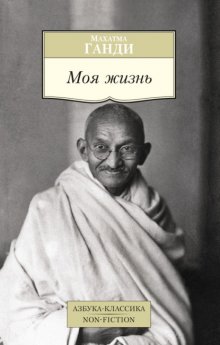
Текст печатается по изданию: Ганди М. Моя жизнь. М.: Издательство восточной литературы, 1959.
Перевод с английского Аллы Вязьминой и Евгения Панфилова
© А. М. Вязьмина (наследник), перевод, 1959
© Е. Г. Панфилов (наследник), перевод, 1959
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015 Издательство АЗБУКА®
Предисловие автора
Лет пять назад, по настоянию ближайших товарищей по работе, я согласился написать автобиографию. Но не успел закончить первую страницу, как в Бомбее вспыхнули волнения, и я вынужден был приостановить работу. Затем последовали события, завершившиеся заключением меня в тюрьму в Йерваде. Сидевший со мной в тюрьме адвокат Джерамдас советовал мне отложить все прочие дела и закончить автобиографию. Но я ответил ему, что уже составил себе программу действий и не могу думать о чем-либо другом, пока она не будет выполнена. Я бы написал автобиографию, если бы отсидел весь срок полностью, но меня освободили на год раньше. Теперь Свами Ананд снова повторил это предложение, а так как я закончил историю сатьяграхи в Южной Африке, то решил приняться за автобиографию для «Навадживана». Свами хотел, чтобы я выпустил ее отдельной книгой, но у меня не было свободного времени: я мог писать только по главе в неделю. Для «Навадживана» мне все равно надо было что-нибудь писать каждую неделю. Почему бы не писать автобиографию? Свами согласился с этим, и я усердно принялся за работу.
Между тем у одного из моих богобоязненных друзей возникли сомнения, которыми он поделился со мной в мой «день молчания».
«Что вас толкает на эту авантюру? – спросил он меня. – Писание автобиографий – обычай, присущий Западу. Я не знаю ни одного человека на Востоке, который занимался бы этим, за исключением лиц, подпавших под западное влияние. Что вы будете писать? Допустим, завтра вы откажетесь от положений, которые вы сегодня считаете принципиальными, или в будущем пересмотрите сегодняшние планы. Не окажется ли тогда, что люди, руководствующиеся в своих поступках вашим авторитетным словом, могут быть введены в заблуждение? Не лучше ли совсем отказаться от этого или хотя бы несколько повременить?»
Доводы эти произвели на меня некоторое впечатление. Но я и не собираюсь писать настоящую автобиографию. Я просто хочу рассказать историю моих поисков истины. А поскольку такие поиски составляют содержание моей жизни, то повествование о них действительно явится чем-то вроде автобиографии. Но я не буду против того, чтобы на каждой странице автобиографии говорить только о моих поисках. Я верю или по крайней мере стараюсь верить, что рассказ об этом принесет некоторую пользу читателю. Мои эксперименты в сфере политики известны теперь не только Индии, но до некоторой степени и всему «цивилизованному» миру. Для меня они не представляют большой ценности. Еще меньшую ценность имеет для меня звание «махатмы», которое я получил благодаря им. Этот титул часто сильно огорчал меня, и я не помню, чтобы он когда-либо радовал меня. Но мне, разумеется, хотелось бы рассказать об известных мне одному духовных поисках, в которых я черпал силы для моей деятельности в сфере политики. Если предположить, что мои искания действительно духовного характера, тогда здесь нет места для самовосхваления и мой рассказ может только способствовать моему смирению. Чем больше я размышляю и оглядываюсь в прошлое, тем яснее ощущаю свою ограниченность.
В течение тридцати лет я стремился к одному – самопознанию. Я хочу видеть Бога лицом к лицу, достигнуть состояния «мокша». Я живу, двигаюсь и существую только для достижения этой цели. Все, что я говорю и пишу, вся моя политическая деятельность – все направлено к этой цели… Будучи убежден, что возможное для одного – возможно для всех, я не держу в секрете свои эксперименты. Не думаю, что это снижает их духовную ценность. Есть вещи, которые известны только тебе и твоему Творцу. Их, конечно, нельзя разглашать. Эксперименты, о которых я хочу рассказать, другого рода. Они духовного или, скорее, морального плана, ибо сущностью религии является мораль.
В своем жизнеописании я буду говорить только о тех вопросах религии, которые одинаково понятны и взрослым, и детям. Если мне удастся рассказать о них смиренно и бесстрастно, то многие другие искатели истины почерпнут здесь силы для дальнейшего движения вперед. Я смотрю на свои эксперименты как ученый, который хотя и проводит их по возможности точно, тщательно и обдуманно, но никогда не претендует на окончательность своих выводов, а оставляет широкие возможности для размышлений. Я прошел через глубочайший самоанализ, тщательно проверил себя, исследовал и анализировал различные психологические моменты. И все же я далек от того, чтобы претендовать на окончательность или безусловность моих выводов. Единственное, на что я претендую, сводится к следующему: мне они представляются абсолютно правильными и для данного момента окончательными. Если бы это было не так, я не положил бы их в основу своей деятельности. Но на каждом шагу я либо принимал, либо отвергал их и поступал соответствующим образом. И пока мои действия удовлетворяют мой ум и мое сердце, я должен твердо придерживаться своих первоначальных выводов.
Если бы все дело сводилось для меня к обсуждению академических принципов, я, разумеется, не стал бы писать автобиографию. Но я ставил себе целью показать практическое применение этих принципов в различных случаях и потому назвал эти главы, к написанию которых я приступаю, «Историей моих поисков истины». Сюда должны войти опыты в области применения ненасилия, обета безбрачия и прочих принципов поведения, которые обычно рассматриваются как нечто отличное от истины. Но для меня истина – главенствующий принцип, включающий множество других принципов. Эта истина есть правдивость не только в слове, но и в мысли, не только относительная истина в нашем понимании, но и абсолютная истина, вечный принцип, т. е. Бог. Имеется бесконечное количество определений Бога, ибо проявления его бесчисленны. Они наполняют меня удивлением и благоговейным трепетом и на какой-то момент ошеломляют. Но я поклоняюсь Богу только как истине. Я еще не нашел его, но ищу. Я готов в этих поисках пожертвовать всем самым дорогим для меня. Я отдам даже жизнь, если это понадобится. Все же до тех пор, пока я не познал абсолютной истины, я должен придерживаться относительной истины в моем понимании ее. Эта относительная истина должна быть моим маяком, щитом и вехой. Хотя путь этот прям и узок, как острие бритвы, для меня он был самым быстрым и самым легким. Даже мои колоссальные промахи показались мне ничтожными благодаря тому, что я строго держался этого пути.
Этот путь спас меня от печали, и я продвигался вперед, руководствуясь внутренним светом, озарившим меня. Часто на этом пути я видел слабые проблески абсолютной истины, Бога, и с каждым днем во мне росло убеждение, что только он один реален, а все остальное нереально. Пусть те, кто захочет, познают, как во мне росло это убеждение, пусть они, если смогут, разделят мои эксперименты, а также мое убеждение. Во мне зрело все большее убеждение, что все, доступное мне, доступно даже ребенку; я говорю это с полным основанием. Практика этих экспериментов столь же проста, сколь трудны они сами. Они могут казаться совершенно недоступными высокомерному человеку и вполне доступными невинному младенцу. Ищущий истину должен быть смиреннее праха. Мир попирает прах, но ищущий истину должен настолько смириться, чтобы прах мог попрать его. И только тогда, а не до этого, он увидит проблески истины. Это становится абсолютно ясно из диалога между Васиштой и Вишвамитрой. Христианство и ислам также полностью подтверждают это.
Если читателю покажется, что в моих словах сквозит гордыня, значит, что-то неверно в моих экспериментах и я видел не проблески истины, а всего лишь мираж. Пусть погибнут сотни таких, как я, но восторжествует истина. Даже на волосок не следует отступать от истины при оценке действий таких заблуждающихся смертных, как я.
Я прошу, чтобы никто не считал советы, разбросанные по страницам последующих глав, авторитетными. Описываемые мной эксперименты следует рассматривать лишь как иллюстрации. Каждый, ознакомившись с ними, может производить свои собственные опыты в соответствии со своими наклонностями и способностями. Я полагаю, что с такой оговоркой предлагаемые мной иллюстрации будут действительно полезны, так как я не собираюсь скрывать или замазывать неприятные вещи, о которых следует говорить. Я надеюсь познакомить читателя со всеми своими ошибками и недостатками. Моя задача – описать мои искания в области сатьяграхи, а вовсе не рассказывать о том, какой я хороший. Оценивая самого себя, я постараюсь быть строгим, как истина, и хочу, чтобы другие были такими же. Применяя к себе такое мерило, я могу воскликнуть, как Сурдас:
- Есть на свете негодяй,
- Столь порочный и омерзительный, как я,
- Я отказался от своего Творца,
- Настолько я вероломен.
Ибо для меня вечная мука, что я все еще далек от него, который, как я доподлинно знаю, управляет каждым моим вздохом и от которого я веду свое начало. Я знаю, что мои дурные страсти отдаляют меня от него, но я еще не в силах освободиться от них.
Но пора кончать. В следующей главе я приступлю уже к повествованию о своей жизни.
М. К. Ганди
Ашрам. Сабармати.
26 ноября 1925 г.
Часть первая
I. Семья
Ганди принадлежат к касте бания, и, по-видимому, они когда-то были бакалейщиками. Но представители последних трех поколений, начиная с моего деда, были главными министрами в нескольких княжествах Катхиавара. Мой дед Оттамчанд Ганди, или, как его чаще называли, Ота Ганди, был, по всей вероятности, человеком принципиальным. Государственные интриги заставили его покинуть Порбандар, где он был диваном, и искать убежища в Джунагархе. Там он обычно приветствовал наваба левой рукой. Кто-то обратил внимание на такую явную неучтивость, и деда спросили, чем она вызвана. «Правая рука моя принадлежит Порбандару», – ответил он.
Ота Ганди, овдовев, женился второй раз. От первой жены у него было четыре сына, от второй – два. Помнится, в детстве я никогда не чувствовал и, пожалуй, даже не знал, что сыновья Оты Ганди были не от одной матери. Пятым из этих шести братьев был Карамчанд Ганди, или Каба Ганди, как его называли, шестым – Тулсидас Ганди. Оба брата, один за другим, пребывали на посту главного министра Порбандара. Каба Ганди – мой отец. Он был членом раджастханского суда. Сейчас этот суд больше не существует, но тогда это был очень влиятельный орган, разрешавший споры между главами и членами кланов. Каба Ганди был некоторое время главным министром в Раджкоте, а затем в Ванканере. До самой смерти он получал пенсию от правительства государства Раджкот.
Каба Ганди был женат четыре раза. Первые три жены умерли. От первого и второго браков у него остались две дочери. Четвертая жена, Путлибай, родила ему дочь и трех сыновей. Я был самым младшим.
Отец был предан своему роду, правдив, мужествен и великодушен, но вспыльчив. В известной мере он не мог жить без чувственных наслаждений. В четвертый раз он женился, когда ему было уже за сорок. Он был неподкупен и за свою беспристрастность пользовался уважением и в семье, и среди чужих. Хорошо известна была его лояльность по отношению к государству. Однажды помощник политического агента выразился оскорбительно о раджкотском такор-сахибе, у которого отец состоял на службе. На оскорбления отец ответил оскорблением. Агент рассердился и потребовал у Кабы Ганди извинения. Отец не извинился и был посажен под арест. Однако, увидев, что Каба Ганди непреклонен, агент велел через несколько часов выпустить его.
Отец никогда не стремился к богатству и оставил нам очень небольшое наследство.
Он не получил никакого образования, а лишь приобрел большой практический опыт; в лучшем случае он доучился до пятого класса гуджаратской школы. Об истории и географии отец не имел представления. Но богатый жизненный опыт помогал ему решать самые сложные вопросы и управлять сотнями людей. Он был мало образован и в религиозном отношении, но у него была та религиозная культура, которая свойственна многим индусам благодаря частому посещению храмов и слушанию религиозных проповедей. На склоне лет он по настоянию ученого брахмана, друга семьи, начал читать «Бхагаватгиту» и во время молитвы ежедневно вслух повторял из нее несколько стихов.
О матери я сохранил воспоминание как о святой женщине. Она была глубоко религиозна и не могла даже думать о еде, не совершив молитвы. Она считала своим долгом ежедневно посещать хавели – храм вишнуитов. Если мне не изменяет память, мать ни разу не пропустила чатурмаса. Она накладывала на себя строжайшие обеты и неукоснительно выполняла их. Помнится, однажды она заболела во время чандраяны, но и болезнь не помешала ей соблюдать пост. Для нее ничего не стоило поститься два или три дня подряд. У нее даже вошло в привычку во время чатурмаса принимать пищу раз в день. Не довольствуясь этим, во время одного чатурмаса она постилась через день. В другой раз во время чатурмаса она дала обет не принимать пищу, пока не увидит солнца. В такие дни мы, дети, не спускали глаз с неба, чтобы поскорее сообщить матери о появлении солнца. Всем известно, что в сезон дождей солнце очень часто совсем не показывается. Помню, как, бывало, мы мчались сломя голову, чтобы сказать матери о его внезапном появлении. Она прибегала, чтобы самой взглянуть на небо, но солнце успевало скрыться, и мать лишалась возможности поесть. «Ничего, – бодро говорила она, – Бог не пожелал, чтобы я сегодня ела». И возвращалась к своим обязанностям.
У матери было много здравого смысла. Она была прекрасно осведомлена о делах государства, и придворные дамы с уважением отзывались о ее уме. Пользуясь привилегией детского возраста, я часто сопровождал мать во дворец и до сих пор помню ее оживленные беседы с вдовствовавшей матерью такор-сахиба.
Я родился в Порбандаре, или Судамапури, 2 октября 1869 г. Там же провел детство. В школе мне не без труда далась таблица умножения, но вместе с другими детьми я научился ругать нашего учителя. Все это говорит о том, что ум мой тогда был неразвит, а память слаба.
II. Детство
Мне было около семи лет, когда отец переехал из Порбандара в Раджкот, где был назначен членом раджастханского суда. Я поступил в начальную школу. Я хорошо помню эти дни и даже имена и привычки учителей, обучавших меня. Но мне почти нечего сказать о моих занятиях там, как и о занятиях в Порбандаре. Я был, должно быть, весьма посредственным учеником. Из этой школы я перешел в пригородную, а из нее – в среднюю. Мне шел тогда двенадцатый год. Не помню, чтобы я хоть раз солгал учителям или школьным товарищам. Я был очень робок и избегал общества детей. Моими единственными друзьями были книги и уроки. Прибегать в школу точно к началу занятий и убегать домой немедленно по окончании занятий вошло у меня в привычку. Я в буквальном смысле слова убегал домой, так как терпеть не мог разговаривать с кем-нибудь. Я боялся, как бы надо мной не стали подтрунивать.
В первый год моего пребывания в средней школе на экзамене произошел случай, который следует отметить. Инспектор народного образования мистер Джайльс производил обследование нашей школы. Чтобы проверить наши познания в правописании, он заставил нас написать пять слов, в том числе слово «котел». Я неправильно написал это слово. Учитель, желая подсказать мне, толкнул меня ногой. Он хотел, чтобы я списал незнакомое слово у соседа. Но я считал, что учитель находится в классе для того, чтобы не давать нам списывать. Все ученики написали слова правильно. И только я оказался в глупом положении. Позже учитель пытался убедить меня, что я сглупил, но это ему не удалось. Я так и не смог постичь искусства «списывания».
Однако этот инцидент нисколько не умалил моего уважения к учителю. Я по натуре был слеп к недостаткам старших. Впоследствии я узнал и о многих других недостатках учителя, но сохранил к нему уважение, поскольку привык выполнять приказания старших, а не критиковать их действия.
В моей памяти сохранились еще два случая, относящиеся к тому же периоду. В общем я не любил читать и читал только учебники. Уроки я готовил каждый день, но лишь для того, чтобы избежать замечаний учителя; вместе с тем не хотелось и обманывать его. Поэтому часто я готовил уроки без всякого интереса. А уж если я даже уроки не выполнял должным образом, то нечего и говорить о постороннем чтении. Но как-то раз мне попалась книга, приобретенная отцом, – «Шравана Питрибакти Натака» (пьеса о преданности Шравана родителям). Я читал ее с неослабным интересом. Приблизительно в то же время к нам приехала группа бродячих актеров. В числе прочих представлений они показывали сценку, в которой Шраван, направляясь к святым местам, нес на ремнях, перекинутых через плечи, своих слепых родителей. Книга и сценки произвели на меня неизгладимое впечатление. «Вот пример, которому ты должен подражать», – сказал я себе. Душераздирающие причитания родителей, оплакивающих смерть Шравана, до сих пор свежи в моей памяти. Трогательная мелодия глубоко взволновала меня, и я исполнил ее на концертино, которое купил мне отец.
Почти в то же время отец разрешил мне посмотреть пьесу в исполнении драматической труппы. Пьеса называлась «Харишчандра» и совершенно покорила меня. Я мог смотреть ее бесчисленное количество раз. Но как часто мне будут разрешать это? Мысль об этом не давала мне покоя, и я сам без конца играл «Харишчандру». «Почему все люди не должны быть такими правдивыми, как Харишчандра?» Этот вопрос я задавал себе днем и ночью. Следовать истине и пройти через все испытания подобно Харишчандре – таков был мой девиз, навеянный пьесой. Я был убежден в достоверности рассказа о Харишчандре. Одна мысль о нем вызывала у меня слезы. Здравый смысл подсказывает мне теперь, что Харишчандра не мог быть историческим лицом. И все же Харишчандра и Шравана продолжают оставаться для меня действительно существовавшими людьми, и я думаю, что, если бы я перечитал эти пьесы теперь, они произвели бы на меня столь же сильное впечатление.
III. Детский брак
Мне очень не хотелось бы писать эту главу: придется воскресить много горьких воспоминаний для этого повествования. Но я не могу поступить иначе, так как не хочу отступать от истины. Я считаю своей тяжкой обязанностью рассказать о том, как меня женили в тринадцать лет. Когда я смотрю на ребят этого возраста, находящихся на моем попечении, и вспоминаю о своем браке, мне становится жаль себя и радостно при мысли, что их не постигла моя участь. Я не вижу никаких моральных доводов, которыми можно было бы оправдать столь нелепо ранние браки.
Пусть читатель не заблуждается: меня женили, а не обручили. На Катхиаваре существует два различных обряда – обручение и заключение брака. Обручение – это предварительное обещание родителей мальчика и девочки соединить их в будущем браком. Обещание это может быть нарушено. Смерть мальчика не влечет за собой вдовства для девочки. Это соглашение между родителями, и детей оно совершенно не касается. Часто они даже не знают о нем. По-видимому, я был обручен три раза, не зная об этом. Мне сказали, что две девочки, которых для меня выбрали, умерли одна за другой, и отсюда я делаю вывод, что был обручен три раза. У меня сохранилось слабое воспоминание о моем обручении в семилетием возрасте. Но я не помню, чтобы мне сообщили об этом. В этой главе я говорю уже о женитьбе, которую хорошо помню.
Как я сказал, нас было три брата. Старший был уже женат. Родители решили женить одновременно моего среднего брата, который был старше меня на два или три года, двоюродного брата, который был старше меня на год, и меня. При этом они мало думали о нашем благополучии и еще меньше – о наших желаниях; принимались во внимание только удобство и экономические соображения старших.
Браки у индусов – вещь сложная. Очень часто затраты на брачные обряды разоряют родителей жениха и невесты. Они теряют состояние и уйму времени. Месяцы уходят на изготовление одежды и украшений, на добывание денег для обедов. Один старается перещеголять другого числом и разнообразием предлагаемых блюд. Женщины, обладающие красивым голосом и безголосые, поют, не давая покоя соседям, до хрипоты, иногда даже заболевают. Соседи относятся ко всему этому шуму и гаму, ко всей грязи, остающейся после пиршества, совершенно спокойно, потому что знают, что придет время и они будут вести себя подобным же образом.
Старшие считали, что лучше покончить со всем этим в один прием: меньше расходов и больше блеска. Можно было тратить деньги не стесняясь, так как расходы предстояло делать не три раза, а один. Отец и дядя были уже в преклонном возрасте, а мы были последними детьми, которых предстояло женить. Возможно, им захотелось хорошенько повеселиться напоследок. Из этих соображений и было решено устроить тройную свадьбу.
Как я уже сказал, приготовления к торжеству заняли несколько месяцев. Только по этим приготовлениям мы узнали о предстоявшем событии. Мне кажется, что для меня оно было связано только с ожиданием новой одежды, барабанного боя, брачной процессии, роскошных обедов и чужой девочки для игры. Плотские желания пришли потом. Я опускаю занавес и не буду описывать ощущение стыда, которое я испытал. Я расскажу только о некоторых подробностях, но это будет позднее. Они не имеют отношения к основной идее, ради которой я начал писать книгу.
Итак, я и мой брат были перевезены из Раджкота в Порбандар. Финальной драме предшествовали кое-какие любопытные детали (например, наши тела натирали имбирной мазью), но все эти подробности я опускаю.
Мой отец, хотя и занимал пост дивана, все же был слугой, и его зависимое положение еще усиливалось тем, что он пользовался благосклонностью такор-сахиба. Тот до последнего момента не хотел отпускать его. А когда наконец согласился сделать это, то заказал для него особый экипаж, чтобы сократить путь на два дня. Но судьба решила иначе. Порбандар находится в ста двадцати милях пути от Раджкота, что составляет пять дней езды на лошадях. Отец проделал этот путь в три дня, но при смене третьих перекладных экипаж опрокинулся, и отец жестоко расшибся. Он приехал весь забинтованный. И наш и его интерес к предстоящему событию упал вследствие этого наполовину, но церемония все же должна была состояться. Разве можно было откладывать свадьбу? Однако детское восхищение свадебной церемонией заставило меня забыть горе, вызванное несчастным случаем, приключившимся с отцом.
Я был предан родителям, но не менее предан и велениям плоти. Лишь впоследствии я понял, что ради родителей следует жертвовать всем счастьем и всеми удовольствиями. И в наказание за мою жажду удовольствий произошел случай, который до сих пор терзает меня и о котором я расскажу позже.
Нишкулананд поет: «Отказ от предмета желаний без отказа от самих желаний бесплоден, чего бы он ни стоил». Когда я пою или слышу эту песню, я вспоминаю о печальном и неприятном событии и мне делается стыдно.
Отец мужественно превозмогал боль и принял самое деятельное участие в свадьбе. Даже сейчас я помню, где он сидел во время различных свадебных обрядов. Тогда я не предполагал, что со временем буду строго осуждать отца за то, что он женил меня ребенком. В тот день все выглядело правильным и приятным. Мне и самому очень хотелось, чтобы меня женили. А все, что делал отец, казалось безупречным. Я помню во всех подробностях события того дня: как мы сидели под свадебным балдахином, исполняли саптапади, как мы, молодые муж и жена, клали друг другу в рот сладкий кансар и как мы начали жить вместе. Та первая ночь! Двое невинных детей, волею случая брошенных в океан жизни. Жена брата старательно уведомила меня, как я должен вести себя в первую ночь. Кто наставлял мою жену, я не знаю. Я никогда не спрашивал ее об этом, да и теперь не намерен этого делать. Читатель может быть уверен, что мы так нервничали, что не могли взглянуть друг на друга. Мы, разумеется, были слишком робки. Как заговорить с ней, что сказать? Наставления не заходили так далеко. Да наставления и не нужны в подобных случаях. Впечатления, которые человек вобрал в себя в предыдущей жизни, настолько сильны, что всякие поучения излишни. Мы постепенно стали привыкать друг к другу и свободно беседовать. Хотя мы были одного возраста, я поспешил присвоить себе авторитет мужа.
IV. В роли мужа
Во времена, когда был заключен мой брак, издавались небольшие брошюрки ценой в одну пайсу или паи (я забыл точную цифру). В них говорилось о супружеской любви, бережливости, детских браках и т. и. Я прочитывал их от корки до корки, но тут же забывал все, что мне не нравилось, и принимал к сведению то, что нравилось. Вменяемая этими брошюрками в обязанность мужу верность жене в течение всей жизни навсегда запечатлелась в моем сердце. К тому же я любил правду и потому не мог лгать жене. Да и почти невероятно было бы, чтобы в таком юном возрасте я мог изменять ей.
Но урок верности имел и свою неприятную сторону. «Если я должен быть верен жене, то и жена должна быть верна мне», – думал я. Эта мысль сделала меня ревнивым мужем. Ее обязанность легко превращалась в мое право требовать от нее абсолютной верности, что вынуждало меня постоянно следить за ней. У меня не было совершенно никаких оснований сомневаться в верности жены, но ревность слепа ко всем доводам. Я следил за каждым ее шагом, она не смела выйти из дома без моего разрешения. Это сеяло семена раздора между нами. Налагаемый мной запрет был фактически чем-то вроде тюремного заключения, а Кастурбай была не такой девочкой, чтобы легко подчиниться подобным требованиям. Она желала ходить куда хочет и когда хочет. Чем больше я ей запрещал, тем больше она себе позволяла, и тем больше я злился. Мы, женатые дети, сплошь и рядом отказывались разговаривать друг с другом. Думаю, что Кастурбай не обращала внимания на мои запреты без всякой задней мысли. Какие запреты могла нарушить простодушная девочка тем, что уходила в храм или к подругам? И если я имел право запрещать ей что-либо, то разве у нее не было такого же права? Сейчас мне все это совершенно ясно. Но тогда я считал, что должен укреплять свой авторитет мужа.
Пусть, однако, читатель не думает, что наша жизнь была сплошным мучением. Все мои строгости проистекали от любви. Я хотел сделать мою жену идеальной. Я поставил себе целью заставить ее вести чистую жизнь, учиться тому, чему учился сам, жить и мыслить одинаково со мной.
Не знаю, стремилась ли к этому и Кастурбай. Она была неграмотна. От природы она была простой, независимой, настойчивой и, по крайней мере со мной, сдержанной. Собственное невежество не беспокоило ее, и я не припомню, чтобы мои занятия когда-либо побудили ее заниматься тем же. Поэтому я думаю, что был одинок в своем стремлении к познанию. Вся моя страсть сосредоточилась на одной женщине, и я требовал, чтобы мне платили тем же. Но даже без взаимности наша жизнь не могла быть сплошным страданием, ибо по крайней мере с одной стороны здесь была действительно любовь.
Должен сказать, что я был страстно влюблен в нее. Даже в школе я думал о ней. Мысль о предстоящей ночи и свидании никогда не покидала меня. Разлука была невыносима. Своей болтовней я не давал ей спать до глубокой ночи. Если бы при такой всепожирающей страсти у меня не было бы сильно развито чувство долга, я, наверное, стал бы жертвой болезни и рано умер или вынужден был бы влачить жалкое существование. Но я должен был каждое утро выполнять вмененные мне обязанности, а обманывать я не мог. Это и спасло меня от многих напастей.
Я уже сказал, что Кастурбай была неграмотна. Мне очень хотелось учить ее, но страстная любовь не оставляла времени для этого. К тому же обучать ее приходилось против ее воли и только ночью. В присутствии старших я не осмеливался не только разговаривать, но даже встречаться с ней. На Катхиаваре существовал и до известной степени существует и теперь никчемный и варварский обычай укрываться пардой. Обстоятельства, следовательно, не благоприятствовали нам. Я должен поэтому сознаться, что мои усилия обучить Кастурбай в дни юности были безуспешны. А когда я наконец очнулся и сбросил оковы похоти, я был уже увлечен общественной деятельностью и у меня оставалось мало свободного времени. Не удалась также моя попытка нанять для нее учителей. В результате Кастурбай и сейчас с трудом выводит буквы, говорит только на простонародном гуджарати. Я уверен, что она стала бы ученой женщиной, если бы моя любовь к ней была совершенно свободна от вожделения. Мне удалось бы тогда преодолеть ее отвращение к занятиям. Я знаю, что для чистой любви нет ничего невозможного.
Я уже упомянул об одном обстоятельстве, которое более или менее уберегло меня от разрушительного действия страсти. Следует отметить еще и другое. Многочисленные примеры убедили меня, что Бог спасает тех, кто чист в своих побуждениях.
Наряду с жестоким обычаем детских браков в индусском обществе существует другой обычай, до известной степени уменьшающий пагубные последствия первого. Родители не разрешают молодой паре долго оставаться вместе. Ребенок-жена больше половины времени проводит в доме своего отца. Так было и с нами. В течение первых пяти лет брачной жизни (в возрасте от 13 до 18 лет) мы оставались вместе в общей сложности не больше трех лет. Не проходило и шести месяцев, чтобы родители жены не приглашали ее к себе. В те дни подобные приглашения были очень неприятны, но они спасли нас обоих. Восемнадцати лет я поехал в Англию. Это означало длительную и благодетельную для нас разлуку. Но и после моего возвращения из Англии мы не оставались вместе более полугода, так как мне приходилось метаться между Раджкотом и Бомбеем. Потом меня пригласили в Южную Африку. Но к тому времени я уже в значительной степени освободился от чувственных вожделений.
V. В средней школе
Я уже говорил, что ко времени женитьбы учился в средней школе. В той же школе учились и оба брата. Старший на несколько классов опередил меня, а брат, который женился одновременно со мной, – всего на один класс. Женитьба заставила нас обоих потерять целый год. Для брата результаты ее были пагубнее, чем для меня: он в конце концов совсем бросил учение. Одному Небу известно, скольких юношей постигает та же участь. Ведь только в современном нам индусском обществе сочетаются учеба в школе и супружество.
Мои занятия продолжались. В средней школе меня не считали тупицей. Я всегда пользовался расположением учителей. Родители ежегодно получали свидетельства о моих успехах в учебе и поведении. У меня никогда не бывало плохих отметок. Второй класс я окончил даже с наградой, в пятом и шестом классах получал стипендии: первый раз – четыре, а второй – десять рупий. Они достались мне скорее по счастливой случайности, чем за какие-либо особые заслуги. Дело в том, что стипендии давали не всем, а только лучшим ученикам из округа Сорат на Катхиаваре. В классе из сорока – пятидесяти учеников было, конечно, не так уж много мальчиков из Сората.
Насколько помню, сам я был не особенно хорошего мнения о своих способностях. Я обычно удивлялся, когда получал награды или стипендии. При этом я был очень самолюбив, малейшее замечание вызывало у меня слезы. Для меня было совершенно невыносимо получать выговоры, даже если я заслуживал их. Помнится, однажды меня подвергли телесному наказанию. На меня подействовала не столько физическая боль, сколько то, что наказание оскорбляло мое достоинство. Я горько плакал. Я был тогда в первом или во втором классе. Аналогичный случай произошел, когда я учился в седьмом классе. Директором школы был тогда Дорабджи Эдульджи Гими. Он пользовался популярностью среди учеников, так как умел поддерживать дисциплину и был методичным и хорошим преподавателем. Он ввел для учеников старших классов гимнастику и крикет как обязательные предметы. Мне и то и другое не нравилось. Я ни разу не принимал участия в игре в крикет или футбол, пока они не стали обязательными предметами. Одной из причин, почему я уклонялся от игр, была моя робость. Теперь я вижу, что был не прав: у меня было тогда ложное представление, будто гимнастика не имеет отношения к образованию. Теперь я знаю, что физическому воспитанию должно уделяться столько же внимания, сколько и умственному.
Должен отметить, что, отказываясь от гимнастики и игр, я нашел им не такую уж плохую замену. Я прочел где-то о пользе длительных прогулок на свежем воздухе, и это понравилось мне. Я приучил себя много ходить и до сих пор сохранил эту привычку. Она закалила мой организм.
Причиной моей неприязни к гимнастике было также страстное желание ухаживать за отцом. Как только занятия кончались, я мчался домой и принимался прислуживать ему. Обязательные физические упражнения мешали мне в этом, и я попросил мистера Гими освободить меня от гимнастики, чтобы иметь возможность прислуживать отцу. Но он не слушал меня. Однажды в субботу занятия у нас были утром, а на гимнастику я должен был вернуться в школу к четырем часам. Часов у меня не было, а облака, закрывшие солнце, ввели меня в заблуждение. Когда я пришел, все мальчики уже разошлись. На следующее утро мистер Гими, просматривая список, увидел, что я отсутствовал. Он спросил меня о причине, и я объяснил, как это случилось. Но он не поверил мне и приказал заплатить штраф – одну или две анны (не помню уже, сколько именно).
Меня заподозрили во лжи! Это глубоко огорчило меня. Как я смогу доказать свою невиновность? Выхода не было. Я плакал от сильной душевной муки и понял, что правдивый человек должен быть аккуратен. Это был первый и последний случай моей неаккуратности в школе. Насколько помнится, мне удалось все-таки доказать свою правоту, и штраф с меня сняли. Было наконец получено и освобождение от гимнастики. Отец сам написал заведующему о том, что я нужен ему дома сразу после окончания занятий в школе.
Если отказ от гимнастики не причинил мне вреда, то за другие упущения я расплачиваюсь до сих пор. Не знаю, откуда я почерпнул идею о том, что хороший почерк вовсе не обязателен для образованного человека, и придерживался этого мнения, пока не попал в Англию. Впоследствии, особенно в Южной Африке, я видел, каким прекрасным почерком обладают адвокаты и вообще молодые люди, родившиеся и получившие образование в Южной Африке. Мне было стыдно, и я горько раскаивался в своей небрежности. Я понял, что плохой почерк – признак недостаточности образования. Впоследствии я пытался исправить свой почерк, но было поздно. Пусть мой пример послужит предостережением для юношей и девушек. Я считаю, что детей сначала следует учить рисованию, а потом уже переходить к написанию букв. Пусть ребенок выучит буквы, наблюдая различные предметы, такие как цветы, птицы и т. д., а чистописанию пусть учится, только когда сумеет изображать предметы. Тогда он будет писать уже натренированной рукой.
Мне хотелось бы рассказать еще о двух событиях моей школьной жизни. Из-за женитьбы я потерял год, и учитель хотел, чтобы я наверстал упущенное время и перепрыгнул через класс. Такие льготы обычно предоставляли прилежным ученикам. Поэтому в третьем классе я учился только шесть месяцев и после экзаменов, за которыми последовали летние каникулы, был переведен в четвертый. Начиная с этого класса большинство предметов преподавалось уже на английском языке, и я не знал, что делать. Появился новый предмет – геометрия, в котором я был не особенно силен, а преподавание на английском языке еще более затрудняло усвоение материала. Учитель объяснял прекрасно, но я не успевал следить за его рассуждениями. Часто я терял мужество и думал о том, чтобы вернуться в третий класс: я чувствовал, что взял на себя непосильную задачу, уложив два года занятий в один. Но такой поступок опозорил бы не только меня, но и учителя, так как он устроил мне переход в следующий класс, рассчитывая на мое усердие. Боязнь позора, и своего и его, заставила меня остаться на посту. Но когда я ценой больших усилий добрался до тринадцатой теоремы Эвклида, то вдруг понял, что все чрезвычайно просто. Предмет, требовавший лишь чистой и простой способности суждения, не мог быть трудным. С этого времени геометрия стала для меня легким и интересным предметом.
Более трудным оказался санскритский язык. В геометрии нечего было запоминать, а в санскрите, мне казалось, все надо было выучивать наизусть. Этот предмет тоже преподавали начиная с четвертого класса. В шестом классе я совсем упал духом. Учитель был очень требователен и, на мой взгляд, слишком утруждал учеников. Между ним и преподавателем персидского языка было что-то вроде соперничества. Учитель персидского был человеком весьма снисходительным. Мальчики говорили, что персидский язык очень легок, а преподаватель хороший и внимателен к ученикам. «Легкость» соблазнила меня, и в один прекрасный день я перешел в класс персидского языка. Учитель санскрита огорчился. Он подозвал меня к себе и сказал: «Как ты мог забыть, что ты сын отца, исповедующего вишнуизм? Неужели ты не хочешь изучить язык своей религии? Если ты столкнулся с трудностями, то почему не обратился ко мне? Я готов приложить все свои силы, чтобы научить вас, школьников, санскриту. Если ты продолжишь свои занятия, то найдешь в санскрите много интересного и увлекательного. Не падай духом и приходи снова в санскритский класс».
Его доброта смутила меня. Я не мог пренебречь вниманием учителя и теперь вспоминаю Кришнашанкара Пандья не иначе как с благодарностью. Мне было бы трудно изучать наши священные книги, если бы я не усвоил санскрит хотя бы в том скромном объеме, в каком я это сделал тогда. Я глубоко сожалею, что не изучил этот язык глубже. Впоследствии я пришел к убеждению, что все дети индусов, мальчики и девочки, должны хорошо разбираться в санскрите.
Я считаю, что во всех индийских средних школах надо, кроме родного языка, преподавать хинди, санскрит, персидский, арабский и английский. Пугаться этого длинного перечня не следует. Если бы у нас было больше системы в преподавании и если бы преподавание не велось на иностранном языке, я уверен, что изучение всех этих языков было бы удовольствием, а не утомительной обязанностью. Твердое знание одного языка в значительной степени облегчает изучение других.
В сущности, хинди, гуджарати и санскрит можно рассматривать как один язык, так же как персидский и арабский. Хотя персидский принадлежит к арийской, а арабский – к семитической группе языков, между ними существует тесное родство, так как оба они развивались в период складывания ислама. Урду я не считаю особым языком, так как он воспринял грамматику хинди, а в его словарном составе преобладает персидская и арабская лексика. Тот, кто хочет хорошо знать урду, должен знать персидский и арабский, а тот, кто хочет владеть гуджарати, хинди, бенгали или маратхи, должен изучить санскрит.
VI. Трагедия
Из немногих друзей по средней школе особенно близки мне были двое. Дружба с одним из них оказалась недолговечной, но не по моей вине. Друг отошел от меня, потому что я сошелся с другим. Вторую дружбу я считаю трагедией своей жизни. Она продолжалась долго. Я завязал ее, поставив себе целью исправить друга.
Друг этот был сначала приятелем моего старшего брата. Они были одноклассниками. Я знал его слабости, но считал верным другом. Мать, старший брат и жена предупреждали меня, считая, что я попал в плохую компанию. Я был слишком самолюбивым мужем, чтобы внять предостережениям жены. Но я не осмеливался противиться взглядам матери и старшего брата. Тем не менее я возражал им, заявляя: «Я знаю его слабости, о которых вы говорите, но вы не знаете его достоинств. Он не может сбить меня с пути, так как я сблизился с ним, чтобы исправить его.
Я уверен, что он будет прекрасным человеком, если изменит свое поведение. Прошу вас не беспокоиться за меня».
Не думаю, чтобы это удовлетворило их, но они приняли мои объяснения и оставили меня в покое.
Впоследствии я понял, что просчитался. Исправляющий никогда не должен находиться в слишком близких отношениях с исправляемым. Истинная дружба есть родство душ, редко встречающееся в этом мире. Дружба может быть длительной и ценной только между одинаковыми натурами. Друзья влияют один на другого. Следовательно, дружба вряд ли допускает исправление. Я полагаю, что вообще необходимо избегать слишком большой близости: человек гораздо быстрее воспринимает порок, чем добродетель. А тот, кто хочет быть в дружбе с Богом, должен оставаться одиноким или сделать друзьями весь мир. Может быть, я ошибаюсь, но все мои усилия завязать с кем-нибудь тесную дружбу оказались тщетными.
Когда я впервые столкнулся с этим другом, волна «реформ» захлестнула Раджкот. Он сообщил мне, что многие наши учителя тайком едят мясо и пьют вино. Он назвал и известных в Раджкоте лиц, которые делали то же самое, а также нескольких учащихся средней школы.
Я удивился и огорчился. Я спросил своего друга о причине этого явления, и он объяснил мне ее следующим образом: «Мы – слабый народ, потому что не едим мяса. Англичане питаются мясом, и потому они могут управлять нами. Ты ведь видел, какой я крепкий и как быстро я бегаю. Это потому, что я ем мясо. У тех, кто питается мясом, никогда не бывает нарывов и опухолей, а если и бывают, то быстро проходят. Ведь не дураки же наши учителя и другие известные в городе лица, питающиеся мясом. Они знают о преимуществе мяса. Ты должен последовать их примеру. Ничего не стоит попробовать. Попробуй, и сам увидишь, какую силу оно дает».
Все эти соображения в пользу употребления в пищу мяса были высказаны не сразу. Они отражают лишь сущность массы тщательно обдуманных доводов, которыми мой друг время от времени старался воздействовать на меня. Мой старший брат уже пал. Поэтому он поддерживал доводы друга. Я действительно выглядел худосочным рядом с братом и приятелем. Оба они были сильнее и смелее меня. Меня совершенно околдовала ловкость моего друга. Он мог бегать на большие расстояния и удивительно быстро. Он умел хорошо прыгать в высоту и в длину, мог вынести любое телесное наказание. Он часто хвастал передо мной своими успехами и ослеплял меня ими, потому что всегда нас ослепляют в других качества, которыми мы сами не обладаем. Все это вызывало во мне сильное желание подражать ему. Я плохо прыгал и бегал. Почему бы и мне не стать таким же сильным и ловким, как он?
Кроме того, я был трусом. Я боялся воров, духов и змей. Я не решался выйти ночью из дому. Темнота приводила меня в ужас. Я не мог спать в темноте, мне казалось, что духи подкрадываются ко мне с одной стороны, воры – с другой, змеи – с третьей. Поэтому я спал только со светом. Разве мог я рассказать о своих страхах жене, спавшей со мной рядом? Она уже не была ребенком, вступив на порог юности. Я знал, что она смелее меня, и мне было стыдно. Она не боялась ни духов, ни змей. Она могла пойти куда угодно в темноте. Друг знал о моих слабостях. Он рассказывал, что может взять в руки живых змей, не боится воров и не верит в духов. И все это потому, что он ест мясо.
Среди школьников бытовало плохонькое стихотворение гуджаратского поэта Нармада:
- Смотри на могучего англичанина:
- Он правит маленьким индусом,
- Потому что, питаясь мясом,
- Он вырос в пять локтей.
Оно произвело на меня надлежащее впечатление. Я был сражен. Мне начало казаться, что мясо сделает меня сильным и смелым и, если вся страна начнет питаться мясом, мы одолеем англичан.
День для опыта был наконец назначен. Его нужно было провести тайком. Ганди поклонялись Вишну. Мои родители были особенно ревностными вишнуитами. Они регулярно посещали хавели. Нашему роду принадлежали даже собственные храмы. В Гуджарате был силен джайнизм. Его влияние чувствовалось всюду и при всяких обстоятельствах. Нигде в Индии и даже за пределами ее не наблюдается такого отвращения к мясной пище, как среди джайнов и вишнуитов Гуджарата. Я вырос и воспитывался в этих традициях. Кроме того, я был очень предан родителям. Я знал, что они будут глубоко потрясены, если узнают, что я ем мясо. К тому же любовь к истине заставляла меня быть чрезвычайно осторожным. Не могу сказать, чтобы я не понимал, что шел на обман родителей, собираясь питаться мясом. Но мой ум был всецело поглощен «реформой». О возможности полакомиться я и не думал и фактически не знал даже, что мясо очень вкусно. Я хотел быть сильным и смелым и желал видеть такими же своих соотечественников, чтобы мы могли побороть англичан и освободить Индию. Слова «сварадж» я тогда еще не слыхал, но знал, что такое свобода. Меня ослепляло безумное увлечение «реформой», и я уговорил себя, что, скрывая свои поступки от родителей, я не согрешу против истины, если все действительно останется в тайне.
VII. Трагедия (продолжение)
Решительный день настал. Трудно передать мое тогдашнее состояние. С одной стороны, я был охвачен фантастическим стремлением к «реформе», с другой – меня увлекала новизна положения, сознание, что я делаю решительный шаг в моей жизни. Вместе с тем я сгорал от стыда из-за того, что принимался за это, как вор. Не могу сказать, какое чувство преобладало. Мы нашли укромный уголок на берегу реки, и там я впервые в жизни увидел мясо. Был также и хлеб из пекарни, которого я никогда не пробовал. Козлятина была жесткой, как подошва. Я просто не мог ее есть. Я ослабел и должен был отказаться от еды.
Ночь я провел очень скверно. Меня мучили кошмары. Едва я засыпал, как мне начинало казаться, что в моем желудке блеет живая коза, и я вскакивал, мучимый угрызениями совести. Но тут я вспоминал, что есть мясо мне повелевает долг, и тогда мне становилось легче.
Мой друг был не из тех, которые быстро сдаются. Он стал приготовлять изысканные мясные блюда в соблазнительной сервировке. Мы ели их уже не в укромном местечке на берегу реки, а в ресторане правительственного здания, где стоящи столы и стулья. Мой приятель сумел здесь договориться с главным поваром.
Я поддался соблазну, поборол свое отвращение к хлебу, справился с жалостью к козам и пристрастился к мясным блюдам, если не к самому мясу. Так продолжалось около года. Но этих пиршеств в общей сложности было не более шести, так как в правительственное здание пускали не каждый день, и, кроме того, было просто затруднительно часто заказывать дорогие мясные блюда. У меня не было денег, чтобы платить за «реформу». Моему другу постоянно приходилось изыскивать средства. Я не знаю, откуда он их брал. Но он их доставал, так как твердо решил приучить меня к мясу. Однако, видимо, и его возможности были ограничены, поэтому пиршества устраивались через большие промежутки времени.
В те дни, когда я принимал участие в этих тайных пиршествах, я не мог обедать дома. Мать звала меня и хотела знать причину моего отказа. Я обычно отвечал ей: «У меня сегодня нет аппетита, у меня что-то неладно с желудком». Придумывая отговорки, я испытывал угрызения совести, так как сознавал, что лгу, и притом лгу матери. Я знал также, что, если мать с отцом узнают о том, что я ем мясо, они будут ужасно огорчены. Мысль об этом терзала мое сердце.
Поэтому я сказал себе: «Хотя есть мясо, конечно, нужно и провести в нашей стране реформу питания необходимо, все же лгать отцу и матери хуже, чем не есть мясо. Следовательно, пока живы родители, надо отказаться от мяса. Когда их не станет и я буду свободным, я буду открыто есть мясо. Но до тех пор воздержусь от него».
Об этом решении я сообщил другу и с тех пор ни разу не прикоснулся к мясу. Мои родители так и не узнали, что двое из их сыновей ели мясо.
Я отказался от мяса, руководствуясь чистым желанием не лгать родителям. Но я не порвал с другом. Мое стремление исправить его оказалось гибельным для меня, но я совершенно не замечал этого.
Дружба с ним однажды чуть не довела меня до измены жене. Я спасся чудом. Друг повел меня в публичный дом. Он дал мне необходимые разъяснения. Все было предусмотрено заранее. Даже счет был оплачен. Я направился прямо в объятия греха, но Бог в своей безграничной милости спас меня от меня самого. Я внезапно оглох и ослеп в этом прибежище порока. Я сел около женщины на ее постель и молчал. Ей это, конечно, надоело, и, осыпав меня бранью и оскорблениями, она указала мне на дверь. Тогда я почувствовал, что унизили мое мужское достоинство, и готов был провалиться сквозь землю от стыда. Но впоследствии я не переставал благодарить Бога за то, что он спас меня. У меня были в жизни еще четыре подобных злоключения, и каждый раз меня спасала моя счастливая судьба, а не какое-либо усилие с моей стороны. С чисто этической точки зрения эти случаи необходимо рассматривать как моральное падение. Налицо было плотское желание, а это равносильно действию. Но с точки зрения обычной морали человек, физически устранившийся от греха, считается спасенным. Я был спасен именно в этом смысле. В некоторых случаях человек может избежать греха в силу счастливой случайности. Как только человек вновь обретет способность истинного познания, он благодарит Божественное милосердие за то, что ему удалось избежать грехопадения. Как известно, человек часто подвергается искушению, как бы он ни старался противостоять ему. Мы знаем также, что очень часто Провидение вмешивается и спасает его вопреки его желанию. Как все это происходит, в какой степени человек свободен и в какой степени он жертва стечения обстоятельств, в каких пределах имеет место свободное волеизъявление и когда на сцене появляется судьба – все это тайна и останется тайной.
Однако продолжим наше повествование.
Но и это не открыло мне глаза на порочность моего друга. Мне пришлось пережить еще более горькие разочарования, пока наконец мои глаза действительно раскрылись, ибо я наглядно убедился в некоторых его недостатках, о которых даже и не подозревал (о них я скажу дальше, так как наше повествование ведется в хронологическом порядке).
Должен отметить еще один факт, относящийся к тому же периоду. Безусловно, одной из причин моих разногласий с женой была дружба с этим человеком. Я был верным и в то же время ревнивым мужем, а друг всячески раздувал пламя моей подозрительности по отношению к жене. Я не мог сомневаться в его правдивости, и я никогда не прощу себе боль, которую я причинял жене, действуя по его наущению. Вероятно, только жена индуса может вынести подобную грубость. Поэтому я привык смотреть на женщину как на воплощенное терпение. Несправедливо заподозренный слуга может бросить работу, сын при аналогичных обстоятельствах может покинуть дом отца, друг – порвать дружбу. Жена же, если она и подозревает мужа, будет молчать, но, если он подозревает ее, – она погибла. Куда она пойдет? Жена индуса не может требовать развода судебным порядком. Закон ей не поможет. И потому я не могу забыть и простить себе, что доводил жену до отчаяния.
Яд подозрений исчез только тогда, когда я понял ахимсу во всех ее проявлениях. Я постиг все величие брахмачарии и понял, что жена не раба, а товарищ и помощник мужа, призванный делить с ним на равных правах все радости и печали. Как и муж, жена имеет право идти собственным путем. Когда я вспоминаю мрачные дни сомнений и подозрений, меня охватывает гнев. Я презираю себя за безумие и похотливую жестокость, за слепую преданность другу.
VIII. Воровство и возмездие
Я должен поведать еще о нескольких случаях своего падения, относящихся к периоду, когда я ел мясо, и до того, то есть еще до моей женитьбы или вскоре после нее.
Вместе с одним из моих родственников я пристрастился к курению. Нельзя сказать, чтобы курение или запах сигарет доставляли нам удовольствие. Просто нам нравилось пускать облака дыма изо рта. Дядя мой курил, и мы решили, что должны последовать его примеру, а так как денег у нас не было, мы принялись подбирать брошенные дядей окурки.
Но окурки не всегда можно было найти, и, кроме того, в них почти нечего было докуривать. Тогда мы стали красть у слуги медяки из его карманных денег и покупать на них индийские сигареты. Возник вопрос, где их хранить. Мы не смели, конечно, курить в присутствии старших. Несколько недель мы обходились ворованными медяками. Тем временем мы прослышали, что стебли какого-то растения обладают пористостью и их можно курить, как сигареты. Мы, разумеется, обзавелись ими.
Но этого было мало. Нам хотелось независимости. Казалось невыносимым, что ничего нельзя предпринять без разрешения старших. Наше недовольство в конце концов достигло такой степени, что мы решили покончить самоубийством.
Но как это сделать? Где достать яд? Откуда-то узнав, что семена датуры действуют как сильный яд, мы отправились за ними в джунгли и раздобыли их. Самым подходящим временем для свершения нашего дела нам казался вечер. Мы пошли в Кедарджи мандир, положили гхи в храмовый светильник, совершили даршан и стали искать укромный утолок. Но вдруг мужество покинуло нас. А что, если мы умрем не сразу? Да и что хорошего в том, чтобы самим убить себя? Не лучше ли примириться с отсутствием независимости? Но все-таки мы проглотили по два или три зерна, не отважившись на большее. Мы оба побороли страх перед смертью и решили отправиться в Рамаджи мандир, чтобы успокоиться и прогнать от себя мысль о самоубийстве.
Я понял, что гораздо легче задумать самоубийство, чем совершить его. И с тех пор, когда мне приходилось слышать угрозу покончить с собой, это не производило на меня почти никакого впечатления.
Эпизод с самоубийством закончился тем, что мы оба перестали подбирать окурки и красть медяки у прислуги для покупки сигарет.
Желания курить не появлялось у меня и когда я стал взрослым. Привычку эту я считаю варварской, нечистой и вредной.
Я никогда не понимал, почему во всем мире существует такое увлечение курением. Я не могу путешествовать, если в купе много курящих, – задыхаюсь.
Несколько позже я совершил еще более серьезную кражу, чем мелкие монеты у слуги. Медяки я воровал в двенадцать-тринадцать лет. Следующую кражу я совершил в пятнадцать лет. На этот раз я украл кусочек золота из запястья моего брата, того самого, который ел мясо. У брата как-то образовался долг в двадцать пять рупий. Он носил на руке тяжелое золотое запястье. Вынуть кусочек из него было совсем нетрудно.
Мы так и сделали, и долг был погашен. Но меня стала мучить совесть. Я дал себе слово никогда больше не красть и решил сознаться во всем отцу. Однако у меня не хватало смелости заговорить с ним об этом. Не то чтобы я боялся побоев. Нет. Я не помню, чтобы отец бил кого-нибудь из нас. Я боялся огорчить его. Но я чувствовал, что необходимо рискнуть. Нельзя было очиститься без чистосердечного признания.
Наконец я решил покаяться письменно: вручить текст отцу и попросить прощения. Я написал покаяние на листе бумаги и отдал отцу. В этой записке я не только сознался в своих грехах, но и просил назначить соответствующее наказание, а заканчивал письмо просьбой, чтобы не он сам наказывал меня. Я обещал никогда больше не красть.
Весь дрожа, я передал свою исповедь отцу. Он был тогда болен: у него был свищ и он вынужден был лежать. Постелью ему служили простые деревянные нары. Я отдал ему записку и сел напротив.
Отец прочел мое письмо и заплакал. Жемчужные капли катились по его щекам и падали на бумагу. На минуту он в задумчивости закрыл глаза, потом разорвал письмо. Читая письмо, он принял сидячее положение, теперь снова лег. Я тоже громко зарыдал. Я видел, как страдает отец. Будь я художником, я и сегодня мог бы воспроизвести эту картину – так жива она в моей памяти.
Жемчужные капли любви очистили мое сердце и смыли грех. Только тот, кто пережил любовь, знает, что это такое. В гимне поется:
- Только тот,
- Кто пронзен стрелами любви,
- Знает ее силу.
Для меня это был предметный урок по ахимсе. В то время я видел в происходившем только проявление отцовской любви, но сегодня я знаю, что это была настоящая ахимса. Когда ахимса бывает всеобъемлющей, она преобразует все, чего коснется. Тогда нет границ ее власти.
Так великодушно прощать отнюдь не было свойственно отцу. Я думал, что он будет сердиться, хмурить лоб и говорить резкие слова. Но он был удивительно спокоен. И я полагаю, что это произошло благодаря моему чистосердечному признанию. Чистосердечное признание и обещание никогда больше не грешить, данное тому, кто имеет право принять его, является наиболее чистой формой покаяния. Я знаю, что мое признание совершенно успокоило отца и беспредельно усилило его любовь ко мне.
IX. Смерть отца и мой двойной позор
Мне шел шестнадцатый год. Отец мой был прикован к постели: у него, как я уже говорил, был свищ. Ухаживали за ним главным образом мать, старая служанка и я. На мне лежали обязанности сиделки, которые в основном сводились к тому, что я делал перевязки, давал лекарства и составлял снадобья, если они приготовлялись дома. Каждую ночь я массировал отцу ноги и уходил только тогда, когда он просил об этом или просто засыпал. Мне было приятно выполнять эти обязанности, и я не помню, чтобы хоть раз пренебрег ими. Время, которым я располагал после выполнения своих ежедневных обязанностей, я делил между школой и уходом за отцом. Я выходил погулять только вечером, и то когда он давал разрешение или чувствовал себя хорошо.
Жена моя тогда ждала ребенка. Обстоятельство это, как я сейчас понимаю, усугубляет позор моего поведения. Во-первых, я не мог воздерживаться, как это полагалось учащемуся; во-вторых, плотское желание брало верх не только над моей обязанностью учиться, но и над еще более важной обязанностью – быть преданным родителям: ведь Шраван был с детства моим идеалом. А между тем каждую ночь, массируя ноги отцу, я мыслями был уже в спальне, и это в такое время, когда и религия, и медицина, и здравый смысл запрещают половые сношения. Я всегда с радостью освобождался от своих обязанностей и, попрощавшись с отцом, шел прямо в спальню.
Отцу с каждым днем становилось хуже. Аюрведические врачи испытали все свои мази, хакимы – все свои пластыри, а местные знахари – все свои средства от всех болезней. Наконец мы обратились к английскому врачу. Он предложил как единственное средство операцию. Но вмешался наш домашний врач. Он возражал против операции в таком преклонном возрасте. Авторитет домашнего врача был непререкаем, и его мнение одержало верх. От операции пришлось отказаться, а лекарства не помогли отцу. У меня такое впечатление, что, если бы домашний врач разрешил операцию, рана легко зажила бы, тем более что оперировать должен был известный в Бомбее хирург. Но Бог решил иначе. Когда смерть неминуема, средств спастись от нее не существует. Отец вернулся из Бомбея со всеми необходимыми для операции материалами, но все это теперь было не нужно. Его состояние было безнадежным. С каждым днем он становился все слабее. Его упрашивали производить отправление естественных потребностей, не вставая с постели. Но он до последней минуты отказывался. Правила вишнуитов относительно внешней чистоты неумолимо строги.
Такая чистоплотность, бесспорно, имеет большое значение, но западная медицина считает, что можно совершать все отправления в постели, включая мытье пациента, не причиняя ему никакого неудобства, и при этом постель останется безукоризненно чистой. Я считаю это вполне совместимым с требованиями вишнуизма. Но настойчивое желание отца вставать с постели поражало меня, вызывая восхищение.
Настала страшная ночь. Дядя мой был в это время в Раджкоте. Он приехал, получив известие, что отцу хуже. Братья были глубоко привязаны друг к другу. Дядя сидел возле больного весь день, а ночью, настояв на том, чтобы мы шли спать, лег возле кровати больного. Никто не думал, что эта ночь будет роковой.
Было половина одиннадцатого или одиннадцать часов вечера. Я массировал отца. Дядя предложил сменить меня. Я обрадовался и отправился в спальню. Жена моя, бедняжка, крепко спала. Но разве она смела спать в моем присутствии? Я разбудил ее. Однако через пять или шесть минут слуга постучал в дверь. Я в тревоге вскочил. «Вставайте, – сказал слуга, – отцу очень плохо». Я знал, что отец очень плох, и догадался, что означают в такой момент эти слова. Я вскочил с постели.
– Что случилось? Говори.
– Отца больше нет в живых…
Все было кончено! Мне оставалось только ломать себе руки в отчаянии. Мне было страшно стыдно, я чувствовал себя глубоко несчастным. Я помчался в комнату отца. Если бы животная страсть не ослепила меня, мне не пришлось бы мучиться раскаянием за разлуку с отцом за несколько минут до его смерти. Я массировал бы его, и он умер бы у меня на руках. А сейчас эта честь принадлежала дяде. Он был так предан старшему брату, что удостоился чести оказать ему последнюю услугу. Отец чувствовал приближение конца. Он попросил перо и бумагу и написал: «Приготовь все для последнего обряда». Затем он сорвал с руки амулет и с шеи золотое ожерелье из шариков туласи и отбросил их в сторону. Через минуту его не стало.
Мой позор, о котором я здесь говорю, заключался в том, что плотское желание охватило меня даже в час смерти отца, нуждавшегося в самом бдительном уходе. Никогда не смогу забыть и искупить это бесчестие. Моя преданность родителям не знала границ – я пожертвовал бы всем ради них. Но она была непростительно легковесна, и в такой момент я оказался во власти похоти. Поэтому я всегда считал себя хотя и верным, но похотливым супругом. Мне пришлось много поработать над собой, чтобы освободиться от оков похоти, пришлось пройти через много испытаний, прежде чем удалось избавиться от них.
Прежде чем закончить эту главу о моем двойном позоре, хочу еще сообщить, что бедный ребенок, родившийся у моей жены, прожил всего три или четыре дня. Иначе и не могло быть. Пусть мой пример послужит предостережением всем женатым.
X. Первое знакомство с религией
Школу я посещал с шести или семи лет до шестнадцати. Там меня учили всему, кроме религии. Я, пожалуй, не получил от учителей того, что они могли бы мне дать без особых усилий с их стороны. Но кое-какие крохи знаний я собрал от окружающих. Термин «религия» я употребляю здесь в самом широком смысле – как самопознание или познание самого себя.
Будучи по рождению вишнуитом, я часто должен был ходить в хавели. Но храм не привлекал меня. Мне не нравились его блеск и помпезность. Кроме того, до меня дошли слухи о совершавшихся там безнравственных вещах, и я потерял к нему всякий интерес. Таким образом, хавели не мог мне ничего дать.
Но то, чего я не получил там, дала мне моя няня, старая служанка нашей семьи. Я до сих пор с благодарностью вспоминаю о ее привязанности ко мне. Как я уже говорил, я боялся духов и привидений. Рамбха – так звали няню – предложила мне повторять «Рамаяну» и тем избавиться от этих страхов. Я больше верил ей, чем предложенному ею средству, но с самого раннего возраста повторял «Рамаяну», чтобы излечиться от страха перед духами и привидениями. Это продолжалось, правда, недолго, но хорошее семя, брошенное в душу ребенка, не пропадает даром. Я полагаю, что благодаря доброй Рамбхе «Рамаяна» для меня теперь абсолютно верное средство.
Приблизительно в то же самое время мой двоюродный брат, поклонник «Рамаяны», заставил меня и моего второго брата выучить «Рамаракшу». Мы заучивали ее наизусть и ежедневно, как правило, по утрам после купания повторяли вслух. Мы делали это все время, пока жили в Порбандаре, но, переехав в Раджкот, забыли о «Рамаракше». Я не слишком верил в нее и читал «Рамаракшу» отчасти из желания показать, что могу пересказывать ее наизусть с правильным произношением.
Большое впечатление произвела на меня «Рамаяна», когда ее читали отцу. В первый период своей болезни отец жил в Порбандаре. Каждый вечер он слушал «Рамаяну». Читал ее большой поклонник Рамы – Ладха Махарадж из Билешвара. Про него рассказывали, что он излечился от проказы без всяких лекарств, только тем, что прикладывал к пораженным местам листья билвы, принесенные в дар изображению Махадевы в Билешварском храме, и ежедневно аккуратно повторял «Рамаяну». «Вера излечила его», – говорили люди. Так это или нет, – мы этому верили. Во всяком случае, когда Ладха Махарадж читал отцу «Рамаяну», он не страдал проказой. У него был приятный голос. Он произносил нараспев дохи (куплеты) и чопаи (четверостишия) и разъяснял их, пускаясь в рассуждения и увлекая слушателей. Мне было тогда около тринадцати лет, но я помню, что был совершенно покорен его чтением. С этого времени началось увлечение «Рамаяной». Я считаю «Рамаяну» Тулси Даса величайшей из священных книг.
Несколько месяцев спустя мы переехали в Раджкот. Там уже не было чтений «Рамаяны». Но «Бхагават» читалась каждое экадаши. Иногда я присутствовал при чтении, но чтец не волновал меня. В настоящее время я считаю «Бхагават» книгой, способной вызвать религиозный энтузиазм. Я с неослабевающим интересом прочел ее на языке гуджарати. Но когда однажды во время моего трехнедельного поста мне ее прочитал в оригинале пандит Мадан Мохан Малавия, я пожалел, что не слышал ее в детстве из уст такого ревностного поклонника «Бхагаваты», каким был Малавия. Тогда я полюбил бы эту книгу с самого раннего возраста. Впечатления, воспринятые в детстве, пускают глубокие корни, и я всегда жалел, что мне в ту пору не читали побольше таких хороших книг.
Зато в Раджкоте я научился относиться терпимо ко всем сектам индуизма и родственным религиям. Мои родители посещали не только хавели, но и храмы Шивы и Рамы. Иногда они брали нас с собой, иногда посылали одних. Монахи-джайны часто бывали в доме отца и даже, изменяя своему обычаю, принимали от нас пищу, хотя мы не исповедовали джайнизм. Они беседовали с отцом на религиозные и светские темы.
У отца были также друзья среди мусульман и парсов. Они говорили с ним о своей вере, и он выслушивал их всегда с уважением и часто с интересом. Ухаживая за ним, я нередко присутствовал при этих беседах. Все это в совокупности выработало во мне большую веротерпимость.
Исключение в то время составляло христианство. К нему я испытывал чувство неприязни. И не без основания. Христианские мессионеры обычно располагались где-нибудь поблизости от школы и разглагольствовали, осыпая оскорблениями индусов и их богов. Этого я не мог вынести. Мне достаточно было раз остановиться и послушать их, чтобы потерять охоту повторить этот опыт. Примерно в это время я узнал, что один весьма известный индус обращен в христианство. Весь город говорил о том, что после крещения он стал есть мясо и пить спиртные напитки, переменил одежду, ходил в европейском платье и даже носил шляпу. Меня это возмущало. Какая же это религия, если она принуждает человека есть мясо, пить спиртные напитки и менять одежду? Мне рассказывали также, что новообращенный уже поносит религию своих предков, их обычаи и родину. Все это вызвало во мне антипатию к христианству.
Я научился быть терпимым к другим религиям, но это не значило, что во мне жила живая вера в Бога. Как-то мне попалась в руки книга «Манусмрити» из собрания отца. Рассказ о сотворении мира и другие сказания не произвели на меня большого впечатления, а, наоборот, несколько склонили к атеизму.
У меня был двоюродный брат (он жив и сейчас). Я был высокого мнения о его уме и обратился к нему со своими сомнениями. Но он не сумел разрешить их и потому постарался отделаться от меня, сказав: «Сам узнаешь, когда вырастешь. В твоем возрасте рано задавать такие вопросы». Я замолчал, но не удовлетворился. Главы из «Манусмрити» относительно диеты и тому подобных вопросов казались мне противоречащими тому, что я видел в повседневной жизни. Но на вопросы об этом также не получил исчерпывающего ответа. «Буду больше развивать свой ум, больше читать и тогда лучше разберусь во всем», – решил я.
«Манусмрити» не научила меня ахимсе. Я уже рассказал о попытке питаться мясом. «Манусмрити» как будто поддерживала это. Я пришел к заключению, что вполне допустимо с точки зрения морали убивать змей, клопов и им подобных. Помню, что в те годы, уничтожая клопов и других насекомых, я считал, что так и следует поступать.
Глубокие корни в моем сознании пустило лишь убеждение, что мораль есть основа всех поступков, а истина – сущность морали. Истина стала моей единственной целью. Я укреплялся в этой мысли с каждым днем, и мое понимание истины все расширялось.
Строфа из дидактической поэмы на гуджарати завладела моим умом и сердцем. Ее заповедь – отвечай добром на зло – стала для меня руководящим принципом. Эта заповедь настолько увлекла меня, что я начал проводить многочисленные опыты. Вот строки, так поразившие меня:
- За чашу с водой отблагодари хорошей пищей,
- В ответ на доброе приветствие отвесь низкий поклон,
- Давшему пенни отплати золотом,
- Если тебе спасают жизнь, не дорожи ею,
- Вот в чем смысл слов и дел мудреца.
- За каждую маленькую услугу тебе воздастся сторицей.
- Но истинно благородный человек знает всех людей как одного
- И с радостью платит добром за зло.
XI. Сборы в Англию
Выпускные экзамены на аттестат зрелости я сдал в 1887 г. Тогда их сдавали в Бомбее и в Ахмадабаде. Нищета, царившая в стране, естественно, понуждала учащихся Катхиавара ехать в город, расположенный поближе, где прожить можно было дешевле. Скудные средства моей семьи принудили меня сделать то же самое. Это была моя первая поездка из Раджкота в Ахмадабад, и впервые я уезжал один.
Родители хотели, чтобы, получив аттестат зрелости, я поступил в колледж. Колледжи имелись в Бавнагаре и Бомбее. Я решил отправиться в Бавнагар в Самалдасский колледж, так как это было дешевле. Оказавшись в колледже, я совершенно растерялся: мне было очень трудно слушать лекции, не говоря уже о том, чтобы интересоваться ими. Виноваты были не преподаватели, которые считались первоклассными, а я сам, так как был совершенно не подготовлен. По окончании первого семестра я вернулся домой.
Мавджи Даве – строгий и ученый брахман – был старым другом и советником нашей семьи. Дружеские отношения с ним сохранились и после смерти отца. Как-то во время моих каникул он зашел к нам и разговорился с матерью и старшим братом относительно моих занятий. Узнав, что я учусь в Самалдасском колледже, он сказал: «Времена изменились. Ни один из вас не может рассчитывать достигнуть гади вашего отца, не получив должного образования. Пока этот мальчик еще продолжает учиться, вы должны постараться, чтобы он получил гади. Чтобы стать бакалавром, ему потребуется четыре или пять лет, что даст ему в лучшем случае место с жалованьем шестьдесят рупий, но никак не звание дивана. Если он, как и мой сын, пойдет по юридической части, ему придется учиться дольше, а к тому времени, когда он кончит, будет тьма адвокатов, претендующих на пост дивана. Я послал бы его в Англию. Сын мой Кевалрам говорит, что стать адвокатом совсем нетрудно. Через три года он вернется. Расходы не превысят четырех или пяти тысяч рупий. Представьте себе адвоката, вернувшегося из Англии. По первой же просьбе он получит пост дивана. Я очень советовал бы послать Мохандаса в Англию в этом году. У Кевалрама там много друзей. Он даст рекомендательные письма к ним, и Мохандасу нетрудно будет устроиться».
Джошиджи – так обычно звали мы старого Мавджи Даве – обратился ко мне и спросил, нисколько не сомневаясь в утвердительном ответе: «Неправда ли, ты предпочтешь поехать в Англию, чем учиться здесь?» Ничего приятнее я не мог себе представить. Я изнемогал под бременем своих занятий. Потому я ухватился за предложение и заявил, что чем скорее меня пошлют, тем лучше. Однако быстро сдать экзамены не так легко. Нельзя ли послать меня на медицинский факультет?
Брат перебил меня: «Отец никогда не любил этой профессии. Он имел тебя в виду, когда говорил, что вишнуиты не должны иметь никакого отношения к вскрытию трупов. Отец предназначал тебя для адвокатской карьеры».
Джошиджи вступился: «Я не возражаю против профессии врача. Наши шастры ничего не имеют против нее. Но диплом врача не сделает из тебя дивана, а я хочу, чтобы ты был диваном и даже чем-нибудь повыше. Тогда ты сможешь обеспечить свою большую семью. Времена быстро меняются, и жить становится с каждым днем труднее. Самое мудрое – это стать адвокатом».
Затем он обратился к матери: «Мне пора уходить. Взвесьте, пожалуйста, все, что я сказал. Надеюсь, что, когда я приду сюда в следующий раз, я услышу о приготовлениях к отъезду в Англию. Дайте мне знать, если понадобится моя помощь».
Джошиджи ушел, а я принялся строить воздушные замки.
Старший брат был сильно обеспокоен. Где найти средства для моей поездки? И можно ли такого юношу, как я, посылать одного за границу?
Мать была совсем растревожена. Ей не хотелось отпускать меня. «Дядя, – говорила она, – сейчас старший в нашей семье. Прежде всего нужно посоветоваться с ним. Если он согласится, тогда решим».
У брата зародилась другая мысль: «Правительство Порбандара несколько обязано нам. Администратор мистер Лели хорошего мнения о нашей семье и очень ценит дядю. Возможно, он даст тебе государственную стипендию для обучения в Англии».
Мне это очень понравилось, и я решил съездить в Порбандар. Железной дороги туда в то время еще не было, нужно было ехать пять дней на буйволах. Как я уже говорил, я был труслив. Но желание поехать в Англию настолько овладело мной, что я сумел побороть трусость. Я нанял повозку и буйволов до Дораджи, а оттуда взял верблюда, чтобы добраться до Порбандара на день раньше. Это было мое первое путешествие на верблюде.
Приехав, я явился к дяде и подробно рассказал ему обо всем. Он подумал и сказал: «Я не уверен, что в Англии можно жить без ущерба для религии. Я сомневаюсь в этом на основании того, что мне пришлось наблюдать. Когда я встречаюсь с крупными адвокатами-индусами, то не вижу разницы между их образом жизни и образом жизни европейцев. Они неразборчивы в еде и не выпускают изо рта сигар. Они одеваются так же бесстыдно, как англичане. Все это не соответствует традициям нашей семьи. Я скоро отправлюсь в паломничество, да и жить мне осталось недолго. Как могу я на пороге смерти дать тебе разрешение ехать в Англию, переплывать моря? Но я не хочу быть и помехой. В данном случае важно получить разрешение матери. Если она разрешит – с богом. Скажи ей, что я препятствовать не стану. Ты поедешь с моим благословением».
«Ничего другого я от вас не ожидал, – сказал я. – Постараюсь теперь убедить мать. А вы не дадите мне рекомендательного письма к мистеру Лели?»
«Я не могу, – ответил дядя, – но он хороший человек. Попроси его о стипендии; расскажи, в чем дело. Он, без сомнения, поможет тебе».
Не знаю, почему дядя не дал мне рекомендательного письма. Мне кажется, ему не хотелось принимать непосредственного участия в моей поездке, которая была, по его мнению, все же антирелигиозным поступком.
Я написал мистеру Лели, и он пригласил меня к себе в резиденцию. Мы встретились с ним в тот момент, когда он входил в подъезд. Он коротко сказал мне: «Сначала сдайте экзамен на бакалавра, а затем приходите ко мне. Сейчас не могу оказать вам никакого содействия». И он стал подниматься по лестнице.
Я тщательно подготовился к разговору с ним, заучил фразы, которые хотел ему сказать, отвесил низкий поклон и приветствовал его обеими руками. Все оказалось напрасным.
Я вспомнил об украшениях жены. Подумал о старшем брате. На него я надеялся больше всего. Он чрезвычайно великодушен и любил меня, как сына.
Я вернулся из Порбандара в Раджкот и рассказал обо всем происшедшем. Поговорил с Джошиджи. Он посоветовал в случае необходимости даже занять у кого-нибудь нужную сумму. Я предложил продать украшения жены, это могло дать от двух до трех тысяч рупий. Брат также обещал достать кое-какую сумму.
Мать все еще возражала. Она начала собирать сведения. Кто-то сказал ей, что молодые люди неизменно погибают в Англии; другие говорили, что там привыкают есть мясо; третьи – что там не могут жить, не употребляя спиртных напитков. «Как же быть со всем этим?» – спросила она меня. Я сказал: «Ты веришь мне? Я не буду тебе лгать. Клянусь, что не дотронусь до этих вещей. Неужели Джошиджи отпустил бы меня, если бы была какая-нибудь опасность?»
«Сейчас я верю тебе, – сказала она. – Но как верить тебе, если ты будешь так далеко? Не знаю, что и делать. Спрошу Бечарджи Свами».
Бечарджи Свами прежде принадлежал к касте модбания, но потом стал монахом-джайном. Он был, как и Джошиджи, советником нашей семьи. Он пришел мне на помощь и сказал матери: «Я возьму с мальчика три торжественных обета, и его можно будет отпустить». Он приготовил все для обряда, и я поклялся не дотрагиваться до мяса, вина и женщин. После этого мать дала разрешение.
Средняя школа устроила мне проводы. Молодой человек из Раджкота, отправляющийся в Англию, представлял необычное явление. Дома я написал несколько слов благодарности, но на торжественных проводах смог лишь пролепетать их. Помню, как у меня кружилась голова и как я весь трясся, стоя перед провожавшими и читая слова благодарности.
Напутствуемый благословениями близких, я отправился в Бомбей. Это была моя первая поездка туда. Со мной ехал брат. Но не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. В Бомбее нам предстояло столкнуться с некоторыми трудностями.
XII. Вне касты
Получив разрешение и благословение матери, я уехал с радостным чувством, оставив дома жену с грудным ребенком. Но по прибытии в Бомбей тамошние наши друзья стали говорить брату, что в июне и июле в Индийском океане бывают бури и что, поскольку я отправлюсь в морское путешествие впервые, мне не следует пускаться в плавание раньше ноября. Кто-то рассказал, что во время последнего шторма затонул пароход. Брат был обеспокоен всем услышанным и отказался отпустить меня немедленно. Он оставил меня у своего приятеля в Бомбее, а сам вернулся в Раджкот, предварительно заручившись обещанием друзей оказать мне в случае надобности поддержку, а деньги, ассигнованные на мое путешествие, отдал на хранение своему зятю.
В Бомбее время тянулось для меня очень медленно. Я не переставал мечтать о поездке в Англию.
Между тем всполошились представители моей касты. Ни один модбания не был до сего времени в Англии, и, если я осмеливался на это, меня следовало призвать к ответу. Созвали общее собрание касты и вызвали меня. Я пошел. Сам не знаю, откуда у меня взялась такая смелость. Без страха и колебаний появился я на собрании. Шет – глава общины, находившийся со мной в отдаленном родстве и бывший в очень хороших отношениях с моим отцом, заявил мне: «Каста осуждает ваше намерение ехать в Англию. Наша религия запрещает путешествия за границу. Кроме того, мы слыхали, что там нельзя жить, не нарушая заветов нашей веры. Там надо будет есть и пить с европейцами!»
Я ответил: «Не думаю, чтобы поездка в Англию противоречила заветам нашей религии. Я хочу поехать, чтобы продолжать образование. И я торжественно обещал матери воздерживаться от трех вещей, которых вы больше всего боитесь. Я уверен, что клятва защитит меня».
«Но мы утверждаем, – сказал шет, – что там невозможно не изменить своей религии. Вы знаете, в каких отношениях я был с вашим отцом, и потому должны слушаться моих советов».
«Я знаю об этих отношениях, и вы старше меня. Но я ничего не могу поделать. Я не могу отказаться от своего решения ехать. Друг и советчик отца, ученый брахман, не видит ничего дурного в моей поездке в Англию. Брат и мать также дали мне свое разрешение».
«Вы осмеливаетесь не повиноваться велениям касты?»
«Я ничего не могу сделать. Мне кажется, что касте не следует вмешиваться в это дело».
Шет разгневался. Он выругал меня. Я сидел неподвижно. Тогда шет произнес свой приговор: «С сегодняшнего дня юноша этот считается вне касты. Кто окажет ему помощь или пойдет проводить на пристань, будет оштрафован на одну рупию и четыре анны».
Приговор не произвел на меня никакого впечатления, и я спокойно простился с шетом. Меня интересовало только, как примет это брат. К счастью, он остался тверд и написал мне, что, несмотря на распоряжение шета, разрешает мне ехать.
Событие это усилило мое желание уехать поскорее. А вдруг им удастся оказать давление на брата? А вдруг случится что-нибудь непредвиденное? Однажды в самый разгар таких волнений я узнал, что вакил из Джунагарха получил адвокатскую практику и едет в Англию с пароходом, уходящим 4 сентября. Я зашел к друзьям, которым брат поручил меня. Они согласились, что я не должен упускать такого случая. Времени оставалось мало, и я телеграфировал брату. Он незамедлительно прислал мне разрешение ехать. Я отправился к зятю за деньгами, но тот, сославшись на решение шета, заявил, что не может пойти против касты. Тогда я обратился к одному из друзей нашей семьи с просьбой дать мне денег на проезд и другие расходы, с тем что брат возместит ему эту сумму. Моя просьба не только была удовлетворена, но тот, к кому я обратился, постарался всячески ободрить меня. Я был ему очень благодарен. Часть денег я тут же истратил на билет. Затем мне предстояло приобрести соответствующую одежду для дороги. По этой части специалистом оказался другой мой приятель. Он купил мне все необходимое. Одни принадлежности европейской одежды мне нравились, другие нет. Галстук, приводивший меня впоследствии в восторг, в первый момент вызвал во мне настоящее отвращение. Короткий пиджак показался мне неприличным. Но все это были пустяки по сравнению с моим желанием ехать в Англию. Я запасся также достаточным количеством провизии на дорогу. Друзья забронировали мне место в той же каюте, в которой ехал адвокат Трьямбакрай Мазмудар, вакил из Джунагарха, и просили его присмотреть за мной. Он был человеком с опытом, средних лет, знавшим свет, а я – совершенно неопытным восемнадцатилетним мальчишкой. Вакил заверил моих друзей, что они могут быть совершенно спокойны за меня. 4 сентября я покинул Бомбей.
XIII. Наконец в Лондоне
Я не страдал морской болезнью, но чем дальше, тем больше мною овладевало беспокойство. Я стеснялся разговаривать даже с прислугой на пароходе. Все пассажиры второго класса, за исключением Мазмудара, были англичане, а я не привык говорить по-английски. Я с трудом понимал, когда со мной заговаривали, а если понимал, то не в состоянии был ответить. Мне нужно было предварительно составить каждое предложение в уме, и только потом я мог произнести его. Кроме того, я совершенно не знал, как употреблять ножи и вилки, и боялся спросить, какие блюда приготовлялись из мяса. Поэтому я всегда ел в каюте и главным образом сласти и фрукты, взятые с собой. Ехавший со мной вакил Мазмудар не испытывал никакого стеснения и умел быстро найти общий язык со всеми. Он свободно разгуливал по палубе, тогда как я целыми днями прятался в каюте и решался показаться на палубе, только когда там было мало народа. Мазмудар убеждал меня знакомиться с пассажирами и держаться свободнее. «Адвокат должен иметь длинный язык», – говорил он. Он рассказывал о своей адвокатской практике и советовал пользоваться всякой возможностью говорить по-английски, не смущаясь ошибок, неизбежных при разговоре на иностранном языке. Но ничто не могло победить мою робость.
Один из пассажиров – англичанин, немного постарше меня, почувствовав ко мне расположение, вовлек меня однажды в беседу. Он расспрашивал, что я ем, кто я, куда еду и почему так робок; он также посоветовал мне обедать за общим столом и смеялся над тем, что я упорно отказывался от мяса. Когда мы были в Красном море, он дружески сказал мне: «Сейчас это хорошо, но в Бискайском заливе вы откажетесь от своего упорства. А в Англии так холодно, что совершенно невозможно жить без мяса».
«Но я слыхал, что и там есть люди, которые могут обходиться без мяса!»
«Можете быть уверены, что это неправда. Насколько мне известно, там не найдется ни одного человека, который не ел бы мяса. Ведь я не убеждаю вас пить спиртные напитки, хотя сам пью. Но я считаю, что вы будете есть мясо, так как не сможете жить без него».
Мы вошли в Бискайский залив, но я не почувствовал необходимости ни в мясе, ни в спиртных напитках. Мне посоветовали запастись справкой, что я не ем мяса. Я попросил своего знакомого англичанина выдать мне такое удостоверение. Он охотно согласился, и я хранил его некоторое время. Но когда я узнал, что можно получить такую справку и преспокойно есть мясо, она утратила для меня всякое значение. Если не поверят моему слову, на что мне такое удостоверение?
В Саутгемптон мы прибыли, насколько я помню, в субботу. На пароходе я ходил все время в черном костюме, а белую фланелевую пару, которую мне достали друзья, приберегал ко дню прибытия. Я считал, что белое мне больше всего к лицу, и вышел на берег в белом фланелевом костюме. Стоял уже конец сентября, и в белом костюме был я один. Присмотревшись, как поступали другие, я оставил агенту «Гриндлея и Кº» весь свой багаж вместе с ключами.
У меня было четыре рекомендательных письма: к доктору П. Дж. Мехте, к адвокату Далпатраму Шукле, к принцу Ранджитсинджи и к Дадабхаю Наороджи. Кто-то еще на пароходе посоветовал мне остановиться в Лондоне в отеле «Виктория». Мы с Мазмударом направились туда, причем я сгорал от стыда за свой белый костюм. В отеле мне сказали, что багаж из «Гриндлея» мне доставят только на другой день, так как мы приехали в Лондон в воскресенье. Я был в отчаянии.
Доктор Мехта, которому я телеграфировал из Саутгемптона, ждал меня у себя в день приезда в восемь часов вечера. Он встретил меня очень радушно, но улыбнулся при виде моего костюма. Во время разговора я случайно взял его цилиндр и, желая узнать, насколько он гладок, нечаянно провел рукой против ворса. Доктор Мехта несколько раздраженно остановил меня. Это было предупреждением на будущее и первым уроком европейского этикета, который доктор Мехта преподал мне в шутливой форме.
«Никогда не трогайте чужих вещей, – сказал он. – Не задавайте, как это делается в Индии, при первом же знакомстве вопросов, не говорите громко, не обращайтесь ни к кому со словом „сэр“, как мы это делаем в Индии. Здесь так обращаются только слуги к хозяину». И так далее и так далее…
Он сказал мне также, что в отеле жизнь очень дорога, и посоветовал устроиться частным образом в какой-нибудь семье. Обсуждение деловых вопросов мы отложили на понедельник.
Вакил Мазмудар также находил, что в отеле жить очень дорого и к тому же неудобно. В пути он подружился с синдхом с острова Мальты. Тот был своим человеком в Лондоне и предложил помочь нам найти комнаты. Мы согласились, и в понедельник, получив багаж, заплатили по счету в отеле и переехали в комнаты, которые нам подыскал наш знакомый. Помню, что пребывание в отеле обошлось мне в три фунта стерлингов, что страшно поразило меня, причем я буквально умирал с голоду. Мне все было не по вкусу, а когда вместо ненравившегося блюда я заказывал другое, мне приходилось платить за оба. Фактически я питался продуктами, привезенными с собой из Бомбея.
Мне было не по себе и в новом помещении. Я тосковал по дому, по родине. Я тосковал по материнской любви. По ночам слезы текли по моим щекам и воспоминания о доме не давали возможности заснуть. Мне не с кем было разделить мое горе. И если бы и было с кем, какая от этого польза? Я не знал средства, которое облегчило бы мою боль. Все было чужое: народ, его обычаи и даже жилища. Я был абсолютным новичком в вопросах английского этикета и все время должен был держаться настороже. Мой обет вегетарианства причинял мне большие неудобства. Те блюда, которые я мог есть, были безвкусны. Я очутился между Сциллой и Харибдой. Англия была мне не по нутру. Но не могло быть и речи о том, чтобы вернуться в Индию. «Раз ты сюда приехал, то должен пробыть положенные три года», – подсказывал мне внутренний голос.
XIV. Мой выбор
В понедельник доктор Мехта приехал ко мне в отель «Виктория». Узнав там мой новый адрес, он тотчас же разыскал меня.
По собственной глупости я умудрился получить раздражение кожи. На пароходе мы умывались морской водой, в которой мыло не растворяется, но я пользовался мылом, считая это признаком цивилизации. От этого кожа не только не очищалась, а, наоборот, загрязнялась еще больше, и у меня образовались гнойнички. Я показал их доктору Мехте, а он велел мне промыть кожу уксусной кислотой. Кислота жгла, и я плакал от боли. Доктор Мехта осмотрел мою комнату, обстановку и неодобрительно покачал головой.
«Это помещение не годится, – сказал он. – Мы приезжаем в Англию не столько для того, чтобы учиться, сколько для того, чтобы знакомиться с английскими нравами и обычаями. Поэтому вам следует поселиться в английской семье, а пока вы ко всему привыкнете, самое полезное было бы пожить некоторое время у моих знакомых».
Я с благодарностью принял его предложение и переехал на квартиру к другу доктора Мехты. Этот друг был сама доброта и внимание, отнесся ко мне как к родному брату, знакомил с английскими обычаями и приучал говорить по-английски. Много хлопот доставлял вопрос о моем питании. Я не мог есть вареные овощи, приготовленные без соли и других приправ. Хозяйка не знала, чем меня кормить. На завтрак мне давали овсяную кашу, что было довольно сытно. Но после второго завтрака и обеда я оставался совершенно голодным. Приятель убеждал меня есть мясо, но я ссылался на свой обет и прекращал разговор на эту тему. На второй завтрак и обед нам подавали шпинат, хлеб и джем. Я любил поесть, и желудок у меня был вместительный. Но я стеснялся брать больше двух-трех кусочков хлеба, так как считал это неприличным. К тому же ни за завтраком, ни за обедом не давали молока. Наконец мой приятель рассердился.
«Я отправил бы вас обратно, если бы вы были моим братом. Что значит клятва, данная невежественной матери и при полном незнании здешних условий? Такой обет не имеет силы, и соблюдать его было бы чистейшим предрассудком. Это упорство не приведет ни к чему хорошему. Вы ведь сознаетесь, что ели уже мясо и делали это, когда в этом не было никакой надобности. А теперь это необходимо, и вы отказываетесь, а жаль!»
Но я был тверд.
Изо дня в день мой друг настаивал на своем, но у меня хватило сил противостоять искушению. Чем больше он настаивал, тем более непреклонным я становился. Я ежедневно молил Бога о поддержке и получал ее. Я не могу сказать, что имел определенное представление о Боге. Это была простая вера, семена которой бросила в мою душу добрая няня Рамбха.
Как-то раз мой друг начал мне читать «Теорию утилитарности» Бентама. Я совершенно растерялся. Язык был настолько труден, что я ничего не понимал. Он стал разъяснять. Тогда я сказал: «Извините меня, пожалуйста. Эти мудрые изречения недоступны моему пониманию. Я допускаю, что необходимо есть мясо. Но я не могу нарушить данный мною обет и не хочу спорить на эту тему. Я уверен, что моя аргументация будет слабее вашей. Но, пожалуйста, оставьте меня в покое, как поступают с глупыми или упрямыми. Я ценю вашу любовь и знаю, что вы желаете мне только добра. Знаю также, что вы будете говорить об этом до бесконечности, потому что переживаете за меня. Но я ничего не могу сделать. Обет есть обет, и он не может быть нарушен».
Друг с удивлением посмотрел на меня. Потом закрыл книгу и сказал: «Хорошо. Не будем больше говорить на эту тему».
Я очень обрадовался. И мы действительно не возвращались к ней. Но он не переставал беспокоиться обо мне. Он курил и пил, но никогда не уговаривал меня следовать его примеру. По правде говоря, он даже убеждал меня не притрагиваться к табаку и спиртному. Его беспокоило лишь, чтобы я не очень ослабел без мяса и моя жизнь в Англии не была бы слишком трудной.
Так прошел первый месяц моего пребывания в Англии. Друг доктора Мехта жил в Ричмонде, и в Лондон я мог ездить не больше одного или двух раз в неделю. Тогда доктор Мехта и адвокат Далпатрам Шукла решили, что лучше поместить меня в какую-нибудь семью. Шукла нашел подходящую англо-индийскую семью в Вест Кенсингтоне, и я поселился там. Хозяйка была вдовой. Я рассказал ей о своем обете, и она обещала помочь мне. Но и здесь мне пришлось голодать. Я написал домой и просил выслать мне сласти и другие продукты, но посылка задерживалась в пути. Все было невкусно. Каждый день старушка-хозяйка спрашивала, нравятся ли мне кушанья. Но что она могла сделать? Я еще по-прежнему был робок и не решался за столом просить прибавки. У хозяйки были две дочери. Они настояли на том, чтобы мне подавали лишний кусочек или два хлеба, не понимая, что меня мог удовлетворить только целый каравай.
Но теперь я знал, что делать. Я еще не начал заниматься регулярно, но под влиянием адвоката Шуклы стал читать газеты. В Индии я никогда не читал газет, но здесь благодаря регулярному чтению сумел пристраститься к ним. Я постоянно просматривал «Дейли ньюс», «Дейли телеграф» и «Пел-мель-газет». Это занимало у меня менее часа в день. Затем я начал бродить по городу. Я стал подыскивать вегетарианский ресторан. Хозяйка сказала мне, что в Сити имеются и такие. Я отмеривал в день по десять – двенадцать миль, заходил в дешевенький ресторан и наедался хлебом, но все же постоянно ощущал голод. Во время этих странствований я попал однажды в вегетарианский ресторан на Фаррингтон-стрит. При виде его я испытал чувство радости, какое испытывает ребенок, получив давно желанную игрушку. ЕСри входе я заметил в окне у дверей книги, выставленные для продажи. Среди них была книга Солта «В защиту вегетарианства». Я купил ее за шиллинг и прошел в столовую. Здесь я впервые со времени приезда в Англию сытно поел. Бог пришел мне на помощь.
Я прочел книгу Солта от корки до корки, и она произвела на меня большое впечатление. С тех пор я стал вегетарианцем по убеждению. Я благословил тот день, когда дал клятву матери. До сих пор я воздерживался от употребления мяса потому, что не хотел лгать и нарушать обета, но в то же время желал, чтобы все индийцы стали есть мясо, и предполагал, что со временем и сам буду свободно и открыто делать это и склонять к этому других. Теперь я сделал выбор в пользу вегетарианства, и распространение его стало моей миссией.
XV. Я становлюсь английским джентльменом
Моя вера в пользу вегетарианства крепла с каждым днем. Книга Солта пробудила во мне интерес к изучению диететики, и я стал читать всевозможные книги о вегетарианстве. Одна из таких книг – «Этика диетического питания» Говарда Уильямса – включала «историю литературы по гуманной диететике и биографии вегетарианцев с древнейших времен до наших дней». Автор пытался доказать, что все философы и пророки от Пифагора и Иисуса до наших дней – вегетарианцы. Книга Анны Кингсфорд «Пути усовершенствования диетического питания» также была увлекательной. Очень помогла мне книга доктора Аллинсона о здоровье и гигиене. Он пропагандирует оздоровительный метод, основанный на регулировании диеты пациентов. Будучи сам вегетарианцем, он предписывал своим пациентам строго придерживаться вегетарианской диеты. В результате чтения всей этой литературы диететические опыты заняли видное место в моей жизни. Для начала этих опытов основным принципиальным соображением послужила забота о здоровье. Но впоследствии главным мотивом стала религия.
Тем временем мой друг не переставал заботиться обо мне. Его любовь ко мне внушала ему мысль о том, что если я по-прежнему не буду употреблять в пищу мясо, то не только ослабею физически, но перестану развиваться и умственно, так как всегда буду чувствовать себя чужим в английском обществе. Узнав, что я начал интересоваться книгами о вегетарианстве, он испугался, как бы эти занятия не вызвали путаницы у меня в голове. Он считал, что, проводя эти опыты, я растрачиваю силы по мелочам, забываю о своей основной цели и становлюсь чудаком. Поэтому он предпринял последнюю попытку реформировать меня. Однажды он пригласил меня в театр. До начала спектакля мы договорились пообедать в ресторане «Холборн», который мне казался великолепным еще и потому, что я не бывал в таких крупных ресторанах с тех пор, как уехал из отеля «Виктория». Жизнь в этом отеле мало чему меня научила. Мой друг пригласил меня в ресторан в расчете на то, что я из скромности не буду задавать вопросов. Мы сели за стол, где уже обедали многие другие. На первое подали суп. Я не знал, из чего он приготовлен, но не решался спросить об этом моего друга. Поэтому я подозвал официанта. Друг, увидев это, спросил через стол, в чем дело. После длительного колебания я сказал ему, что хотел узнать, мясной это суп или вегетарианский.
«Ты ведешь себя слишком нетактично в приличном обществе! – гневно воскликнул он. – Если ты не умеешь вести себя, тебе лучше уйти. Поешь в другом ресторане и жди меня на улице». Это обрадовало меня. Я ушел. Поблизости находился вегетарианский ресторан, который, однако, оказался закрытым, и я остался голодным. Мы пошли в театр. Друг никогда больше не упоминал об этом инциденте. Я, разумеется, тоже молчал.
Это была наша последняя дружеская стычка. Она нисколько не повлияла на наши отношения. Я понимал, что все его поступки продиктованы любовью ко мне, и ценил это. Мое уважение к нему росло, несмотря на различия в образе мышления и поступках.
Я решил успокоить его и заверить, что больше не буду бестактным, что попытаюсь стать безукоризненным и придать своему вегетарианству такую форму, которая не мешала бы мне находиться в приличном обществе. Ради этого я взял на себя непосильную задачу – стать английским джентльменом.
Я решил, что костюмы, сшитые в Бомбее, не годятся для английского общества, и приобрел себе новые в магазине армии и флота. Я купил себе также цилиндр за девятнадцать шиллингов. Цена эта по тому времени была довольно высокой. Не удовольствовавшись этим, я истратил десять фунтов стерлингов на вечерний костюм в магазине на Бонд-стрит – центре лондонских мод. Кроме того, я заставил моего доброго и благородного брата выслать мне двойную золотую цепочку для часов. Носить готовые галстуки я считал неприличным и научился искусству завязывать изящный узел. В Индии зеркало было предметом роскоши. Мне разрешали пользоваться им только в те дни, когда наш семейный парикмахер брил меня. Здесь я ежедневно проводил по десять минут перед огромным зеркалом, приводя в порядок прическу и завязывая галстук. Волосы у меня были очень жесткие, и ежедневно я подолгу приглаживал их щеткой. Каждый день перед зеркалом я снимал и надевал шляпу, а другой рукой автоматически приглаживал волосы. Я усвоил и другие жесты, принятые в приличном обществе.
Но поскольку этого было недостаточно, чтобы стать английским джентльменом, я принял меры, приближавшие меня к цели. Мне сказали, что необходимо брать уроки танцев, французского языка и красноречия. Французский язык был не только языком соседней Франции, но и языком континента, о путешествии по которому я страстно мечтал.
Я решил поступить в танцевальный класс и уплатил за курс три фунта стерлингов. Мне должны были преподать шесть уроков в течение трех недель. Но ритмические движения были для меня чем-то совершенно недостижимым. Я не мог следить за музыкой и сбивался с такта. Что же было делать? В одной сказке говорится, что отшельник взял кошку, чтобы ловить крыс, потом корову, чтобы поить кошку молоком, потом человека, чтобы ухаживать за коровой и т. д. Мое честолюбие вело меня приблизительно по тому же пути. Я решил приучить ухо к западной музыке и стал учиться играть на скрипке. Я истратил три фунта на скрипку и несколько большую сумму уплатил за уроки. Затем я взял учителя красноречия и заплатил ему вперед гинею. Он рекомендовал мне учебник красноречия Белла. Я его купил и начал с речи Питта.