Мобилизованное Средневековье. Том II. Средневековая история на службе национальной и государственной идеологии в России бесплатное чтение
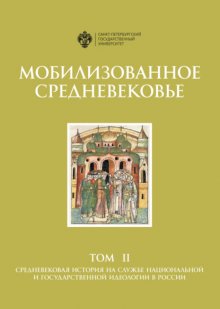
Коллектив авторов:
Д. Е. Алимов, Е. С. Дилигул, Е. А. Колосков, Д. Д. Копанева, Н. Г. Минченкова, Н. Н. Мутья, Е. А. Ростовцев, А. В. Сиренов, Д. А. Сосницкий, А. И. Филюшкин
Рецензенты:
д-р ист. наук П. В. Седов (С.-Петерб. ин-т истории РАН);
канд. ист. наук, доц. Т. В. Буркова (С.-Петерб. гос. ун-т)
Рекомендовано к печати Научной комиссией в области истории и археологии Санкт-Петербургского государственного университета
Введение. Российский вариант мобилизации средневековья
Уж и есть за что,
Русь могучая,
Полюбить тебя,
Назвать матерью.
И. С. Никитин
Я убежал в Древнюю Русь и нашел там прекрасную страну
А. М. Панченко
В 2016–2018 гг. коллектив ученых Санкт-Петербургского государственного университета работал по гранту Российского научного фонда № 16-18-10080: «“Мобилизованное Средневековье”: обращение к средневековым образам в дискурсах национального и государственного строительства в России и странах Центрально-Восточной Европы и Балкан в Новое и Новейшее время». Итогом стала двухтомная коллективная монография. Первый том увидел свет в 2021 г. и был посвящен медиевализму у зарубежных славян и их соседей по Центрально-Восточной Европе, Балканам и Прибалтике[1]. Второй том, посвященный русскому медиевализму и аналогичным процессам у славянских соседей по постсоветскому пространству, украинцев и белорусов, предлагается вашему вниманию.
У российского медиевализма было несколько особенностей, которые существенно отличают его от сходных феноменов в других странах Восточной Европы. Первая особенность – довольно сложное представление о том, что такое Средневековье. Причем сложность здесь присутствует как в плане выбора объекта, так и в хронологии.
В культуре одновременно реализуется несколько медиевальных сценариев: в качестве востребованных средневековых образов выступают Древняя Русь (для русских, белорусов, украинцев), Золотая Орда (для тюркских народов Российской Федерации), Великое княжество Литовское (для белорусов). Свои медиевальные сценарии есть у северокавказских народов[2]. Причем эти сценарии часто не просто не пересекаются, а радикально противопоставляются друг другу. Эта полифония делает медиевализм на пространстве Восточной Европы и Евразии довольно неотчетливым.
Немногим лучше обстоит дело с тем, что, собственно, считать Средними веками. Начиная с эпохи Петра и вплоть до первых десятилетий XIX в. идет формирование понятий «древней» и «новой» России. И хотя в официальном дискурсе эпоха допетровской Руси (в особенности домонгольский период) на протяжении всего XVIII столетия идеализироваласьза исключением последнего десятилетия перед приходом к власти Петра I, постепенно она стала восприниматься как период, аналогичный европейскому Средневековью[3]. В этом контексте в российском обществе XIX–XX вв. появляется точка зрения, созвучная европейскому взгляду на Средние века как на «дикое», «дремучее» время, предшествующее последующим европеизации и «цивилизации».
Проблема в том, что для России не работают те маркеры, которые в Европе отделяют Средневековье от раннего Нового времени – в ней не было ни Ренессанса, ни Реформации, и эпоха Великих географических открытий сюда тоже приходит поздно – только в конце XVI в. Россия начинает свое продвижение в Сибирь; поэтому рубеж Средневековья и раннего Нового времени здесь устанавливается не без затруднений. А. А. Зимин очень осторожно писал о России первой трети XVI в. как о стоящей на пороге этого времени[4]. Но когда она порог перешагнула? Сегодня в историографии нет четкого конвенционального ответа на этот вопрос. По аналогии с Европой XVI и особенно XVII в. преимущественно относят к раннему Новому времени[5]. Хотя по ряду параметров в культурном плане Россия XVI–XVII вв. ближе к Руси XIV–XV вв., чем к петровской России. Смута, воспринимавшаяся обществом как божественное наказание за отступничество от традиций, сама по себе способствовала коренной перестройке исторического сознания российского общества[6]. Характерно, что «рубежность» Смутного времени как начала «новой эпохи» очень хорошо понималась ведущими российскими историками XVIII – начала XIX в. (В. Н. Татищевым, М. М. Щербатовым, Н. М. Карамзиным), которые заканчивали ею свои грандиозные исторические нарративы, а сама Смута уже в XVII в. становится фундаментальным мифом российской национальной памяти[7]. Только в XIX столетии с выработкой концепта новой России и формированием нового пространства памяти возникают новые схемы периодизации российской истории, в котором Смутное время как рубеж уступает Петровским реформам.
Для нашей книги вопрос о Смуте как историческом рубеже актуален, поскольку он определяет хронологические рамки того, что понимать под русским медиевализмом. Не углубляясь в дискуссию о периодизации отечественной истории (поскольку это отдельная тема), мы решили границу, разделяющую эпохи, обозначить концом XVI – началом XVII в., когда пресеклась династия Рюриковичей, правившая русскими землями все Средневековье, и наступила Смута – социально-политический конфликт нового типа, принципиально отличающийся от княжеских междоусобиц и борьбы с удельной системой предыдущих периодов. В XVII столетии мы видим слишком много нового; кроме того, в это время возникает отношение к предшествующим столетиям как к далекой, иной древности («медиевализм до медиевализма»), в то время как эпоха Ивана Грозного еще ощущает себя неразрывным продолжением средневековой Руси московских Калитичей и Ивана III. Под русским медиевализмом мы будем понимать обращение к истории IX–XVI вв. в последующие эпохи для использования исторических образов в современной культурной, политической деятельности и нациестроительстве. Тем самым хронологические рамки нашего второго тома несколько шире, чем первого, где мы в соответствии с европейской традицией в трактовке рамок Средневековья не поднимали их выше XV в.
Следующая особенность в том, что Россия – единственная славянская держава, которая с XV в. ни разу не теряла своего суверенитета. Следовательно, период Средневековья не мог, как у зарубежных славянских и балканских народов, выступать для нее в качестве утраченного идеала национальной независимости, поскольку с XV в. она ее не лишалась. Наоборот, 250 лет русского Средневековья в национальной культурной памяти прочно были связаны с мрачным периодом «монгольского ига» и отражением шведской, тевтонской и прочей агрессии.
Вот почему русский медиевализм был меньше связан с национализмом, чем у южных и западных славян. В России не было национальных «будителей», призывавших нацию воспрять ото сна и вернуться к идеалам средневековых королевств. Русский национализм возник и рос в ином контексте – внутри суверенной державы, прочно стоявшей на ногах Российской империи XIX в., причем многонациональной империи. Для него медиевальная тематика оказывалась в тени актуальных событий современности или ближайшей истории (100–200 лет, до петровского времени включительно). Суворовская легендарная фраза при взятии Измаила: «Мы русские! Ура! Какой восторг!», память об Отечественной войне 1812 г., чувство гордости за русское оружие при освобождении Балкан в 1877 г. были гораздо важнее для русского национализма и патриотизма, чем воспоминание о древнерусских князьях. Русский медиевализм не мог дать национализму тех уникальных образов, какие несла воображенная история свободных средневековых королевств для входящих в чужие империи славянских народов. Русский медиевализм, бесспорно, поставлял образы славных предков, бившихся на Куликовом поле или на льду Чудского озера, но хватало более актуальных и животрепещущих примеров доблести и подвигов. Имперская политика памяти, впервые сформулированная в Петровскую эпоху[8] и существенно модернизированная во времена правления Екатерины II[9], исправно формировала пантеон выдающихся россиян – государственных деятелей, полководцев, деятелей искусства. Герои были рядом, не было необходимости искать их в Средневековье.
Отсюда вытекала третья особенность – у русских медиевализм сразу выступал составной частью официальной государственной идеологии (в контексте всей национальной истории). Он оказывался востребован в традиционных государственных схемах: легендах об «origo gentis», патриотическом воспитании, апеллировавшем к памяти о подвигах предков, локальном патриотизме и т. д. Интересы нации и государства здесь не противопоставлялись, а были едины. Между тем у поляков, чехов, сербов, хорватов, словенцев, словаков и других славянских народов до обретения ими своего суверенитета медиевализм часто противопоставлялся государственной идеологии, поскольку государство было представлено «иными» и олицетворяло чужую империю. Только после создания своих национальных государств медиевализм как инструмент национализма становится для этих народов частью официальной исторической политики. В Российской империи и особенно в СССР медиевализм на поздних этапах мог выступать частью оппозиционной идеологии (либеральные воззрения декабристов, апеллировавших к вечевым идеалам древнерусской демократии, лозунг «Я эмигрировал в Древнюю Русь» в советскую эпоху и т. д.). Его использовали националисты окраин империи, сепаратисты, борющиеся за свой суверенитет, за эмансипацию от империи или СССР. Но эти идеи всегда были маргинальными и обрели некоторую силу только в последние десятилетия как составная часть национализмов на постсоветском пространстве. До XXI в. медиевализм в Российской империи / СССР всегда был в большей степени связан с государственной, а не оппозиционной идеологией.
Таким образом, можно говорить о четвертой особенности русского медиевализма. Раз он был частью государственной идеологии и исторической политики, то он оказался вовлечен в споры о русском государстве и путях его развития. Здесь он оказался не просто востребован, но стал принципиально важным идеологическим инструментом. Петр европеизировал Россию, и спустя несколько десятилетий после его правления Екатерина II произносила фразу «Россия есть европейская держава» уже как аксиому. Р. Уортман справедливо заметил, что идеология русской монархии была дуалистична: она одновременно ориентировалась на иностранные образцы и опиралась на традицию, но интерес к Западу при этом превалировал[10]. Кстати, с этой европеизацией в Россию пришел и западноевропейский медиевализм, русские дворяне стали изображать себя на картинах в доспехах европейских рыцарей, дамы зачитываться рыцарскими романами и т. д. Возникает романтический образ Европы с ее великой культурой, которым так восторгались отечественные западники. В рамках комплекса мемориальных практик происходит процесс присвоения европейской истории российским обществом.
Однако часть российского общества, прежде всего в лице дворянской элиты и отдельных интеллектуалов, видела в Петровских реформах опасность утраты национальной идентичности. Конечно, они формулировали это в других терминах и смутно понимали, что имеется в виду, но важно, что они интуитивно чувствовали некую угрозу «самости», исходящую от европеизации. Эти настроения проявлялись в рассуждениях об упадке нравов, забвении традиций, неуважении к предкам, неприятии Петровских реформ и т. д. (ср. сочинение М. М. Щербатова «О повреждении нравов в России», записку Н. М. Карамзина «О древней и новой России» и др.). Постепенно, по мере культурного и интеллектуального развития общества, эти неясные чувства стали формулироваться четче и вылились в постановку проблемы «Россия и Запад», в споры о том, что же такое «подлинная Россия», «русская духовность», в спор западников и славянофилов, консерваторов и либералов и т. п.
Вот тут-то и оказался востребован русский медиевализм. Образы Средневековья стали все активнее привлекаться для противопоставления «настоящей», древней России, носительницы истинного русского духа и правильных традиций, и новой России, которая впала в «европейский соблазн». Медиевализм в России возник не только в качестве культурного феномена (по аналогии с Европой), не как часть национальной памяти об утраченных свободе и величии (как на Балканах и в Центрально-Восточной Европе), но как часть романтического национализма (в сплаве с государственной идеологией) и как набор аргументов в споре о путях развития страны. Причем к нему апеллировали с диаметрально противоположных позиций – монархисты подчеркивали исконную тягу русского народа к самодержавию, а демократы вспоминали вечевой строй древнерусских городов. Аргументов в русской истории хватало для любых политических взглядов и идеологий.
Этот спор в разные годы шел вокруг многих идей, в нем участвовали Ломоносов и Байер, Болтин и Леклерк, Екатерина II и Новиков, либеральное окружение Александра II и Карамзин, западники и славянофилы и др. Именно апелляцией к средневековым страницам истории России Екатерина II обосновывала сходство России и Европы[11]. К медиевальным дискурсам обращались для обоснования своего исторического пути, воспевания роли традиций и «старины», в которых видели нравственное спасение от негативного влияния современности. К средневековой тематике прибегали сторонники традиционализма, политического консерватизма, славянофильства и почвенничества, защитники России от «иноземной клеветы». В то же время к идеалам соборности, вечевого строя обращались сторонники либеральных взглядов[12].
В этом оказалась особая роль русского медиевализма. Западный медиевализм развивал культуру и искусство, так как расширял область востребованных художественных образов и смыслов. Медиевализм славянских стран звал к светлому будущему, освобождению от гнета империй и созданию своих национальных государств. Русский медиевализм внес свой вклад в культуру (знаменитый «русский стиль» в архитектуре), отдал дань традициям романтического национализма, когда в далеком «золотом веке» разные национальные движения черпали образы для своих идеалов, но он оказался востребован прежде всего в идеологии. Консерваторы считали: чтобы спасти страну, уберечь ее от вызовов современности, надо опрокинуть ее в прошлое, ориентироваться не на модернизацию и прогресс по европейскому образцу, а на традицию и старину. Либералы же клеймили современный деспотизм как архаизм, пережиток древнего, отжившего прошлого и добрым словом поминали средневековый Новгород как символ республиканского строя. Русский медиевализм стал инструментом высвечивания преимуществ, достоинств старины, для каждой политической группировки – «своей», воображенной старины. На практике это была не реконструкция подлинной средневековой истории, а презентизм, приписывание прошлому консервативных или либеральных идеалов XIX – начала XX в.
В этом была опасность, потому что исторически всегда побеждают общественные силы, нацеленные на будущее, а не на прошлое. Конечно, в революции, поражении русских правых и гибели монархии в начале XX столетия, а также в крахе либерального движения, оказавшегося неспособным в 1917 г. возглавить процесс перемен, виноват не медиевализм. Но увлечение им явилось одним из характерных симптомов погружения российского общества в кризис, закончившийся 1917 г. Страна пошла не за сторонниками национальных традиций, а за теми, кто обещал будущее в виде коммунистической утопии (у большевиков на медиевализм нет и намека). Всеми идеалами прошлого носители «нового мира» легко пренебрегли, а защитники «старого мира» неожиданно для всех оказались неспособными его отстоять, защитить.
Как писал мыслитель В. В. Розанов, «Русь слиняла в два дня. Самое большее – в три. Даже “Новое время”[13] нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей»[14]. Показательно, что философ говорит не «Россия», а «Русь», отсылая тем самым к исконным, древним началам. Н. А. Бердяев расставил акценты иначе. Он утверждал, что революция была победой «нового Средневековья», торжеством «народной»/московской культуры и стихии над «западной»/европейской/петербургской[15], или, как писал Г. П. Федотов, победой «варварской»/ азиатской/татарской Руси[16]. Ее жертвы пытались осмыслить причины революции, обращаясь за ответом к русскому Средневековью.
СССР, основанный на идеях пролетарского интернационализма, не нуждался в медиевализме, что и проявилось в его быстром и полном забвении после 1917 г. В рамках новой коммунистической версии исторической памяти сама история Российского государства становится периферийным объектом, а ее «предисловие», каким воспринималась допетровская Русь, кажется вдвойне второстепенным. Впрочем, нельзя сказать, что и в этот период сюжеты, связанные со средневековой историей, полностью игнорировались в официальном дискурсе. Например, в условиях агрессивной атеистической пропаганды первых лет советской власти в текстах, ориентированных на массового читателя, древность изображалась в негативном контексте, связанном не только с угнетением масс, но и с церковным лицемерием и невежеством[17]. Однако широкое обращение к средневековым сюжетам происходит лишь с началом поворота к национальным идеалам в 1930-х гг. и в особенности в годы Великой Отечественной войны, когда о необходимости обращения к национальной культуре и истории вспомнили в связи с востребованностью патриотизма. Тогда-то и оказались нужными князья-полководцы, Александр Невский с Дмитрием Донским, память о Ледовом побоище и Куликовской битве[18]. В гимне СССР в 1943 г. появляется апелляция к прошлому как исторической скрепе: «Союз нерушимый республик свободных / Сплотила навеки великая Русь».
Некоторая инерция этой установки сохранялась в послевоенные десятилетия, когда медиевализм занял свое законное, пусть и скромное, место в советской культурной сфере. После Великой Отечественной войны импульс медиевализму был задан общим настроем на восстановление утраченного, реабилитацию после понесенных потерь. Реставрация памятников старины, разрушенных фашистскими оккупантами, психологически вписывалась в эту тенденцию и со временем расширяла сферу своего культурного влияния. Реанимация памяти о прошлом становилась патриотической идеей, далеко не всегда совпадающей с официальным трендом, зато популярной в обществе. Рост общественного интереса к культуре Древней Руси (туристический маршрут «Золотое кольцо» и т. п.) способствовал даже своеобразному духовному диссидентству («Я эмигрировал в Древнюю Русь…»). Не случайно, с либерализацией режима, на исходе советского периода появляются ориентированные на медиевализм русские национальные движения (в качестве одного из них можно назвать общество «Память», чье название перекликалось с романом В. Чивилихина, посвященным в том числе древнерусской истории).
Медиевализм всегда тесно связан с национальной компонентой, а в СССР она была специфическая и медиевализм проявлялся слабо. Развитие национальных культур в республиках (например, политика украинизации в УССР) оперировало образами и категориями современности или недавнего прошлого, Средневековье там было задействовано минимально.
Необходимо упомянуть еще одну особенность русского медиевализма, которая проявлялась как в дореволюционную, так и в советскую эпоху. Это роль церкви. Она была весьма многогранной. С одной стороны, церковь изначально выступала хранителем священных преданий, памяти о святых, несла эту память, воплощенную в чудотворных иконах, мощах святых, древних храмах и т. д. С другой стороны, после никоновских реформ второй половины XVII столетия в сознании части русского населения, симпатизирующей старообрядчеству, церковь перестала быть носителем «правильных» старинных обычаев. Официальные церковные структуры эту репутацию всячески оправдывали, в том числе и в образно-визуальной сфере (запрет Никона на строительство шатровых колоколен в древнерусском стиле). Многочисленные перестройки храмов в XVIII–XIX вв., закрашивание древних фресок и т. д. привели к утрате многих памятников древнерусского наследия. Изменения коснулись и церковного пения: на смену многовекового господства знаменной монодии пришел юго-западный партесный многоголосный стиль.
Кроме того, после синодальной реформы Петра I и секуляризации Екатерины II церковь приобрела характеристику неправедно гонимой властями. В общественной мысли возник образ воскрешения той церкви, какой она была «до гонений», как носителя праведности и старины. Разумеется, еще бóльшие основания этот образ приобрел в советскую эпоху репрессий против церкви и разрушения храмов. С историей церкви, охраной и восстановлением древнерусских святынь стало связываться возрождение русской духовности, а этот процесс носил во многом медиевальный характер. Медиевализм оказался неотделим от духовно-культурных тенденций, связанных с ролью церкви в обществе.
Постсоветский период принес новые тенденции. Возникновение на обломках СССР новых национальных государств, в том числе рост национализма в республиках и автономных образованиях Российской Федерации, сопровождались ростом медиевализма. Работало уже неоднократно фигурировавшее в первом томе нашего исследования правило: там, где развивается национализм, всегда в той или иной форме обращаются к медиевализму. Особенно это видно на примерах республик, развивающих в качестве основы своей идентичности культ Золотой Орды, на попытках Украины объявить себя единственной подлинной наследницей Древней Руси, на культе Великого княжества Литовского в Белоруссии и т. д.
В России интерес к Средневековью также нарастает, правда, он связан не столько с повышением роли национальных идей и движений, сколько с государственной политикой. Медиевализм развивается в тех республиках Российской Федерации, где образы прошлого активно востребованы для легитимизации политических задач настоящего (в Татарстане, Калмыкии, Бурятии, северокавказских республиках). Парадоксально, но в наименьшей степени это происходит в регионах с преимущественно русским населением, где национальные движения слабы, не имеют представительства в органах власти и занимают весьма ограниченный сегмент в информационном пространстве. К тому же в своей идеологии они больше апеллируют не к медиевализму, а к эпохе Российской империи, преимущественно рубежа XIX и XX вв. Носителем медиевальных идей и посылок в области культуры, национального развития, исторической политики в современной России, как и в XIX столетии, выступает преимущественно государство. Также проводником этих идей выступает Русская православная церковь, но ее культурная политика в отношении медиевализма совпадает с государственной[19]. В обществе эти идеи получают самостоятельное, независимое от государства развитие в основном на уровне локального патриотизма, местных идентичностей (гордость за местных героев и знаменитостей, за местные достопримечательности), движения исторических реконструкторов, некоторых культурных тенденций (например, феномена «славянского фэнтези») или в маргинальных течениях вроде неоязычества.
Доминирование государственного над национальным проявляется в монументальной политике, в использовании медиевальных идей в межгосударственных «войнах памяти», в коммеморациях, в коммерческо-туристической деятельности. Апелляция к Средневековью здесь понятна: в отношении истории СССР и России последних Романовых (связанной с революцией 1917 г.) общество идеологически расколото, причем весьма болезненно и бескомпромиссно. А Древняя и Московская Русь выступают своеобразным «полем консенсуса», относительно их высокой роли все более-менее согласны. Хотя и здесь находятся символические фигуры, вызывающие ожесточенные споры (например, Иван Грозный). Причем, безусловно, это не только споры о реальной роли этих лиц, но прежде всего о воплощении в их образах политических идеалов и антиидеалов современности. Перед нами – классический медиевалистский феномен.
Стоит также подчеркнуть, что в связи с глобализацией, прежде всего в области культуры, в России также проявляются все те глобалистские факторы, которые влияют на развитие медиевализма в мире (дигитализация, геймеризация, коммерциализация истории как индустрии развлечений, рост ретротопии и ностальгии как формы психологического сопротивления настоящему и т. д.).
На актуализацию образов Средневековья влияет и изменение в человеческой культуре восприятия времени, связанное с кризисом темпорального режима модерна[20]. Граница между прошлым и настоящим становится все более размытой, возникает концепция «сплошного настоящего». Прошлое оказывается необычайно востребованным современностью. Недаром говорят, что в России сегодня больше спорят о прошлом, нежели обсуждают будущее. Отсюда рост презентизма в современной исторической политике и восприятии истории. Если раньше влияние современных взглядов на историю расценивалось негативно, считалось признаком конъюнктуры, то сейчас все больше побеждает точка зрения, согласно которой история представляет ценность только тогда, когда имеет значение для современности, и прошлое должно оцениваться с позиций настоящего[21]. Но это же чистая медиевалистская ситуация: использование актуализированных средневековых образов (вернее, образов, сконструированных под Средневековые) для осмысления современных исторических процессов, поэтому споры об Александре Невском и Иване Грозном звучат столь же злободневно, как обсуждение последних политических новостей. В контексте споров о государственной политике памяти широко обсуждается феномен неомедиевализма, связанный с эксплуатацией Средневековья как ресурса национальной политической культуры, в которой одни представляют «средневековые методы» организации социальной жизни, в частности опричнину / защиту государства как «исконную» и позитивную черту российского общества, а их оппоненты в этом контексте прямо связывают процессы усиления неомедиевализма с процессами ресталинизации в российском обществе[22].
По сравнению с советской эпохой сейчас происходит настоящий медиевальный бум, в городах ставят сотни памятников средневековым персонажам, снимают фильмы, устраивают бугурты реконструкторов, создают компьютерные игры и т. д. Но этот процесс выглядит интенсивным только по сравнению с предыдущими эпохами. Например, за XIX и XX столетия в Российской империи и СССР было поставлено около 20 памятников средневековым персонажам, а за последние 20 лет – более 400. В фантастической литературе романы о так называемых «попаданцах» (персонажах, попадающих в другие временны́е пласты), построенные на конструировании альтернативной истории России, сюжеты, связанные с «переписыванием» истории, начиная с Древней Руси и в особенности с периода Ивана IV и Смутного времени, являются одними из наиболее востребованных. В большей части таких произведений будущее перестраивается таким образом, чтобы избежать ошибок и исторических травм Нового времени, «исправить» историю России в соответствии с современными запросами[23].
Правда, если брать все поле исторической памяти, то медиевальные сюжеты намного уступают по востребованности сюжетам об истории XX в., в частности об эпохе последнего российского императора Николая II, о Первой мировой войне, Гражданской войне и еще больше – о Великой Отечественной войне и советском времени. Актуальное поле исторической политики в современной России – это история последних десятилетий Российской империи, СССР и 1990-х гг.[24] По сравнению с ними русский медиевализм отходит на второй план.
Все вышеназванные сюжеты и тенденции мы постараемся осветить и проанализировать на страницах второго тома нашей книги об исследовании медиевализма в Центрально-Восточной Европе и на Балканах. Он целиком посвящен России в географических рамках Российской империи, СССР и постсоветского пространства (в исследование мы не включили Кавказ, Сибирь и Среднюю Азию как регионы со своей спецификой, которую невозможно изучать вне азиатского контекста, а это тема отдельной самостоятельной работы). Понятно, что охватить абсолютно все сферы и примеры проявления медиевализма в рамках одной книги невозможно, поэтому мы попытались выявить наиболее важные тенденции и в рамках case studies рассмотреть их проявления.
Тема является практически неизученной – русский медиевализм почти не был предметом научного рассмотрения. Его историография насчитывает сравнительно немного работ[25], хотя литература, посвященная формированию мифов о тех или иных персонажах и событиях русских Средних веков, достаточно обширна[26]. Действительно, в основном к интересующей нас историографической традиции можно отнести труды, которые посвящены освещению тех или иных средневековых сюжетов глазами современников и потомков, хотя авторы при этом не обращаются к методологии медиевализма. Издавались документы[27], в частности, существовавшего в начале XX в. Общества возрождения художественной Руси[28]. Изучалась семантика культурных символов, идущих из Средневековья и получивших применение в культурных контекстах Нового времени[29]. Разумеется, помимо литературных текстов, в сферу внимания историографии попадает широкий круг иных источников формирования памяти (и аспектов политики памяти) о Средневековье в Новое и Новейшее время – церковные практики и атрибуты (церковные месяцесловы[30], иконы[31], церковное пение[32], практики канонизации[33]), историческая живопись[34], гравюры[35], памятники народного искусства[36], памятники историописания[37], монументальная скульптура[38], практики реконструкторского движения[39], коммеморации[40], телевизионная продукция[41], русский стиль в архитектуре[42] и др. Некоторые исследования относятся скорее к культуральной истории и связаны с конкретными объектами исторической памяти. Проблемы русского медиевализма затрагивались в рамках изучения политики памяти, исторической политики, но редко были объектами специального и тем более монографического изучения.
Среди монографий можно выделить изучение истории трансформации на протяжении нескольких эпох образа Валаамского монастыря в книге финского историка К. Парппей[43] и ее же исследование образа Куликовской битвы[44]. Следует упомянуть монографию А. С. Ищенко, в центре внимания которой – фигура Владимира Мономаха[45]. Феномен славянского фэнтези и использование славянского метасюжета в современной культуре проанализированы в книге К. М. Королева[46]. Многочисленные тексты посвящены практикам мобилизации памяти о других героях русского Средневековья – Владимире Святом[47], Александре Невском[48], Сергии Радонежском[49], Иване Грозном[50] и др. Однако такого рода работы можно отнести к историографии, которая получила образное определение «раскрошенной», с ее локальными мало сопоставимыми задачами, методами и исследовательскими горизонтами[51].
Авторы еще раз, как и в первом томе, выражают благодарность прежде всего Российскому научному фонду, благодаря поддержке которого это исследование стало возможным. Кроме того, необходимо еще раз выразить признательность Санкт-Петербургскому государственному университету, в котором выполнялись научные работы, а также коллегам, своими советами и добрыми замечаниями, уберегшими нас от ряда ошибок и сомнительных высказываний. Неоценимую помощь оказали Т. В. Буркова, А. Ю. Прокопьев (СПбГУ), П. В. Седов (Санкт-Петербургский институт истории РАН), Г. Ф. Матвеев (МГУ), И. М. Кудрявина (Издательство СПбГУ). Хочется также поблагодарить коллег, которые оказали большую техническую поддержку проекту в процессе его реализации: Д. Ю. Хваткову, В. А. Чикину, А. С. Шишкову, И. Г. Андрееву, Е. И. Зубкова, Е. Ю. Клецкову, Н. А. Ефимову, О. А. Абеленцеву. Особые слова благодарности адресованы С. С. Смирновой. Книга была закончена только благодаря ее терпению и помощи.
Настоящая монография является коллективным трудом. Общее научное редактирование осуществлялось А. И. Филюшкиным. Авторы разделов и параграфов указаны в оглавлении.
Согласно издательской практике, которой придерживается Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, в именной указатель не внесены фамилии авторов, упоминаемые исключительно как часть библиографических описаний, размещенных в сносках.
Глава I
Медиевализм до медиевализма: этногенетическое послание средневековой Руси
Еще не зная употребления букв, народы уже любят Историю: старец указывает юноше на высокую могилу и повествует о делах лежащего в ней Героя… И вымыслы нравятся; но для полного удовольствия должно обманывать себя и думать, что они истина. История, отверзая гробы, поднимая мертвых, влагая им жизнь в сердце и слово в уста, из тления вновь созидая Царства и представляя воображению ряд веков с их отличными страстями, нравами, деяниями, расширяет пределы нашего собственного бытия; ее творческою силою мы живем с людьми всех времен, видим и слышим их, любим и ненавидим; еще не думая о пользе, уже наслаждаемся созерцанием многообразных случаев и характеров, которые занимают ум или питают чувствительность.
Н. М. Карамзин
Историческое воображение древнерусского летописца и «origo gentis». Между «Византийским содружеством» и «младшей Европой»
Изучение становления древнерусского историописания в сравнительно-исторической перспективе позволяет выявить в древнейшем памятнике русской исторической мысли «Повести временных лет» (ПВЛ)[52], помимо элементов книжного знания, пришедшего из Византии, те формы исторического воображения, которые находят показательные аналогии в трудах чешских, польских, скандинавских и англо-саксонских хронистов[53]. Помимо универсальности стиля воображения социальной реальности в широких рамках средневекового христианского мира (pax Christiana)[54], нельзя не отметить и важный факт цивилизационной открытости ранней Руси, ее восприимчивости к культурным влияниям. Они приходили не только из Византии, откуда было воспринято христианство, но и – в не меньшей, а то и в большей степени – из стран Северной и Центральной Европы[55]. Они принадлежали, подобно Руси, к той части христианской ойкумены, которая, не испытав прямого влияния античных традиций, сохраняла в своем социокультурном ландшафте архаичные черты «варварской Европы»[56]. Этот общий социокультурный фундамент Центральной, Восточной и Северной Европы, восходящий ко временам варварской архаики, не только существенно облегчал культурные контакты между странами, но и заметно сглаживал на этом пространстве постепенно формировавшиеся цивилизационные различия между pax Orthodoxa и pax Romana[57].
Давно замечено, что раннесредневековые Чехию, Венгрию, Польшу, как и скандинавские страны, сближала между собой принадлежность ко второму эшелону европеизации, то есть почти одновременное приобщение этих стран к христианской вере и сформировавшимся к тому времени на западе Европы социально-политическим институтам. В отличие от «варварских королевств» готов, франков, лангобардов и т. п., начавших складываться во фронтирной зоне Римской империи еще в V–VI вв., новые христианские государства Центральной и Северной Европы формировались несколькими веками позже на границах христианских держав, объявивших себя преемниками Рима – «Римских империй» Каролингов и Людольфингов, хотя сами механизмы взаимодействия варваров с имперскими структурами при этом являлись весьма схожими[58]. Для обозначения соответствующей группы молодых христианских государств некоторыми историками стал использоваться термин «младшая Европа»[59], где под Европой понимается именно западная цивилизация – pax Romana. Связям Руси со странами «младшей Европы» в период христианизации должна была немало способствовать и относительная синхронность протекавших в этих странах процессов политогенеза, в ходе которых нельзя исключать и прямого трансфера технологий политического строительства: так, в современной историографии отмечается, что сформировавшаяся в 980–990-х гг. «держава Владимира»[60] имела организационную структуру, весьма сходную с устройством ранних государств Центральной Европы, в первую очередь Чехии, где подобная структура появилась несколькими десятилетиями ранее[61].
Русь, связанная со странами «младшей Европы» общим социокультурным фундаментом, отличалась от них тем, что христианство было воспринято ею не с Запада, а из Византии, из Византии же пришел и сопровождавший христианизацию «культурный пакет». Это обстоятельство традиционно представляется многим историкам достаточным для включения Руси в другую культурно-цивилизационную общность, получившую в историографии название «Византийское содружество», введенное Д. Оболенским[62]. Между тем степень культурной византинизации была на Руси несоизмеримо меньшей, нежели в классической стране «Византийского содружества» – Болгарии[63], а интенсивность контактов с латинской Европой, особенно с ее обозначенной выше «младшей» частью, напротив, весьма высока[64]. Памятуя об условности обоих понятий – «Византийского содружества» и «младшей Европы», – необходимо, однако же, принимать во внимание те соображения, которые позволяли серьезным исследователям ими оперировать. В этом смысле нахождение Руси на своего рода перекрестке «Византийского содружества» и «младшей Европы» способно многое объяснить в специфике древнерусской культуры домонгольской эпохи.
Все сказанное сохраняет свою актуальность и при обращении к такой сфере культуры, как историописание, которое, как специально отмечается в современной историографии, формируется на Руси и в славянских странах латинской Европы не только синхронно[65], но и в схожих – нарративной и анналистической – формах. Отмечая это последнее обстоятельство, исследователь древнерусского летописания А. А. Гиппиус подчеркивает, что «раннее киевское летописание, в обоих образующих его началах, не вписывается в византийскую культурную парадигму; при этом оно обнаруживает принципиальное сходство с западно- и центральноевропейской историографией. Ничего удивительного в этом нет. В целом ряде других социокультурных параметров Киевская Русь конца X–XI вв. точно так же сближается не с Византией, а с молодыми христианскими государствами средней Европы – Чехией, Венгрией, Польшей, скандинавскими странами»[66].
Древнейшим этапом формирования русской исторической традиции, как считают многие исследователи, было создание текста, в котором описывались деяния первых русских князей до Владимира (980–1015) включительно. В историографии этот текст принято именовать «Древнейшим сказанием» или «Сказанием о первых князьях». Впоследствии, согласно авторитетной схеме развития летописания, восходящей к исследованиям А. А. Шахматова, древнейшее русское историческое сочинение времен Владимира и/или Ярослава Мудрого вошло в состав летописного свода, созданного в 1070-х гг. в Киево-Печерском монастыре (так называемый «Никоновский свод»), и – в составе последнего – в так называемый Начальный свод 1093 г., текст которого, согласно А. А. Шахматову, отразился в Новгородской первой летописи младшего извода (НПЛмл). Именно Начальный свод, в соответствии с данной схемой развития русского летописания, стал основным источником сведений о русской истории для автора ПВЛ – произведения, созданного в 1110-х гг.[67]
Облик и содержание «Древнейшего сказания», которое по некоторым прикидкам могло быть создано еще на исходе правления Владимира, реконструируется, по понятным причинам, сугубо гипотетически. Исследователи согласны в том, что погодная датировка событий здесь еще отсутствовала. Вместе с тем, вопреки распространенному мнению, что повествование, организованное в погодную сетку, появилось лишь на исходе XI в., на этапе составления Никоновского или Начального свода, в последнее время были выдвинуты весомые аргументы, что оно появилось уже в правление Ярослава Мудрого, то есть более или менее синхронно с возникновением анналистической традиции в Чехии и Польше[68].
Продолжающаяся в современной историографии дискуссия об этапах историописания, предшествовавших составлению ПВЛ, ничуть не меняет того обстоятельства, что сама по себе ПВЛ является целостным произведением, связанным единым замыслом[69]. Каково бы ни было происхождение отдельных пластов информации, задействованных в ПВЛ для объяснения происхождения русского народа и русского государства, ее автор предстает перед нами не бездумным компилятором, а глубокомысленным историком, сумевшим, используя разнородные данные, дать свой, ставший убедительным для многих поколений русских людей ответ на вопрос, откуда есть пошла Русская земля. Несомненно, что именно искусность и профессионализм, при помощи которых летописец справился с этой задачей, предопределили доверие к летописной версии начала Руси со стороны историков даже в период формирования критической историографии, хотя, казалось бы, сам факт временной дистанции между текстом начала XII в. и описываемыми в нем событиями IX–X вв. должен был серьезно насторожить позднейших историков, пытавшихся разобраться в началах русского народа и государства. Как заметил по этому поводу А. П. Толочко, предпринявший попытку реконструировать раннюю историю Руси, максимально дистанцировавшись при этом от летописного повествования, «ни в какой другой области наука не оказалась так зависима от летописной повести, как в суждениях о возникновении Киевского государства»[70].
Попытки проникнуть в творческую лабораторию древнерусского историка, создавшего столь убедительную картину «начала Руси», предпринимались в науке неоднократно. Оставляя в стороне сугубо текстологические изыскания, обратим внимание на те исследовательские результаты, которые напрямую относятся к проблематике исторического воображения и его взаимосвязи с этническим дискурсом. Начать здесь следует с самого общего наблюдения, что ПВЛ демонстрирует принципиальное сходство с памятниками раннесредневековой западноевропейской (в широком смысле) историографии, повествующими об истории варварских народов из локальной («национальной») перспективы. Произведения такого жанра, являвшие собой или включавшие в себя в качестве ключевого элемента «рассказ о происхождении народа» («origo gentis»), появлялись на протяжении Средневековья в разных странах «старшей» и «младшей» Европы от Остготского королевства VI в. (Кассиодор Сенатор) до Дании XIII в. (Саксон Грамматик). На этом фоне своеобразие начального русского летописания, по удачному определению А. А. Гиппиуса, состоит «в том, что на Руси эти общие “невизантийские” принципы реализовались в литературной среде, в целом ориентированной на византийские образцы и модели»[71]. Замечая, что на раннем этапе формирования исторической традиции главным, если не единственным, таким образцом были кирилло-мефодиевские переводы библейских текстов, исследователь констатирует дальнейшее обращение русских летописцев к специфическим византийским моделям, называя этот процесс византинизацией первоначальной основы русского летописания[72].
Совершенно очевидно при этом, что византинизация не сводилась к одним лишь заимствованиям тех или иных элементов книжного знания. Одним из главных следствий этого процесса явилось представление истории Русской земли в характерной для византийской хронографии и апокалиптики «имперско-эсхатологической»[73] перспективе. Наиболее ярко следование этой перспективе выразилось в привязке «начала Русской земли» к началу правления византийского императора Михаила III (842–867 гг.), ошибочно отнесенному в НПЛмл к 854 г., а в ПВЛ – к 852 г. Основывавшаяся на заимствованном из византийского хронографа известии о походе народа русь на Константинополь (случившемся, как известно, в 860 г. и закончившемся крещением новоявленных варваров патриархом Фотием) эта хронологическая привязка была нужна летописцу не просто для определения исходной точки русской истории – прежде всего она позволяла вписать новый варварский народ в историю универсальной христианской империи.
Этому имперско-эсхатологическому видению истории народа русь, которого, по мнению Гиппиуса, придерживался прежде всего автор отразившегося в НПЛмл Начального свода, исследователь справедливо противопоставляет так называемое «космографическое введение» ПВЛ, в котором дана широкая панорама этнической истории Восточной Европы, говорится о расселении разных славянских групп, включая киевских полян, а корни единого славянского народа прослеживаются до времен сыновей Ноя[74]. Отразившаяся в этой части ПВЛ артикуляция славянской этногенетической традиции действительно контрастирует с описанной выше империоцентричной оптикой, максимально сближая в этом плане русскую летопись с классическими европейскими произведениями жанра «origo gentis». Вместе с тем не стоит забывать, что мотивы, весьма характерные для европейских «origo gentis» и «origo regni», обнаруживаются не только в летописном рассказе о происхождении славян, но и в таких общих для НПЛмл и ПВЛ сюжетах, как история об основании Киева тремя братьями Кием, Щеком и Хоривом, служившая в том числе целям исторической репрезентации полянской общности, и, конечно, рассказ о призвании трех варяжских князей – событии, положившем, согласно летописцу, начало образованию Русской земли.
Присутствие элементов двух вышеобозначенных подходов в одном и том же источнике, будь то реконструируемый на основе НПЛмл Начальный свод или ПВЛ, разумеется, не является чем-то странным, но, напротив, естественным образом отражает генезис русского исторического сознания на пересечении двух существовавших практик структурирования прошлого, которые условно могут быть определены как имперская универсалистская и этноцентрическая практики. В то время как первая практика была целиком и полностью заимствована из Византии, генезис второй более сложен и до конца не ясен. Здесь могли сказаться и влияние византийских источников, нередко в тех или иных целях проявлявших внимание к варварам и описывавших их историю на манер античной этнографии, и культурные импульсы из стран латинской (особенно «младшей») Европы, и, наконец, общие социокультурные корни раннесредневекового кельтско-германско-славянского варварского мира, способствовавшие продуцированию в разных его частях схожих форм социального знания[75]. Осознавая всю сложность и гетерогенность этноисторических воззрений русского летописца, сфокусируемся лишь на тех сюжетах ПВЛ, которые обнаруживают наибольшее сходство с теми матрицами исторического воображения, которые реализовывались в средневековых текстах жанра «origo gentis».
«Origo gentis Sclavorum»
Одной из наиболее важных черт картины мира автора ПВЛ, справедливо отмечаемой многими исследователями, является его ярко выраженное славянское самосознание, сопряженное с представлением о славянах как о едином народе, имеющем общее происхождение и общую историческую судьбу[76]. На страницах ПВЛ это представление летописца отразилось прежде всего в так называемом космографическом введении, содержащем подробный и красочный рассказ о происхождении и древнейшей истории славян, а также в тематически связанной с ним летописной статье 898 г., где повествуется о создании Кириллом и Мефодием славянской письменности[77].
При этом необходимо сразу отметить, что славянское самосознание, столь ярко проявившееся на страницах ПВЛ, никоим образом не являлось случайным эпизодом, порожденным западничеством или, напротив, греческой ученостью летописца, а было вполне естественным порождением его социального знания, сформировавшегося в условиях реально существовавшего на момент создания летописи культурного единства христианского славянского мира. Говоря о культурных связях Руси со славянскими землями, следует особо выделить интегрирующую роль кирилло-мефодиевского наследия, в первую очередь старославянского языка, способствовавшего формированию общего культурного пространства[78]. Неслучайно облик христианской цивилизации ранней Руси демонстрирует значительное сходство с тем, что в X–XI вв. наблюдалось именно в тех странах, которые унаследовали культурную традицию Великой Моравии, то есть в первую очередь в Чехии и Болгарии. Так, на Руси получила широкое распространение славянская письменность (не только кириллица, но и глаголица[79]), пользовался особым почитанием св. Климент Римский[80], культ которого был характерен, в частности, для Чехии (где он утвердился вследствие кирилло-мефодиевской миссии), сложился культ святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, находящий ближайшую аналогию в чешском культе св. Вацлава[81], почитавшегося также и на Руси[82]. В 996 г. князем Владимиром[83] для воздвигнутой им в Киеве церкви Успения Богородицы была введена характерная для Чехии и Польши форма материального обеспечения церкви – десятина от княжеских доходов[84]. Все перечисленное позволяет говорить о существовании в X–XI столетиях единого культурного пространства христианского славянского мира (Slavia Christiana)[85], еще не распавшегося на западный (римско-славянский) и восточный (греко-славянский) сегменты.
Вместе с тем, согласно преобладающему в историографии мнению, во фрагментах летописного текста, посвященных происхождению славян и славянской письменности, отразился более ранний источник, включенный в летописный свод на этапе создания ПВЛ. А. А. Шахматов, впервые выдвинувший данную гипотезу на основании осуществленного им текстологического изучения ПВЛ, предложил именовать этот гипотетический славянский источник «Сказанием о преложении книг на славянский язык». На основании содержащихся в нем сведений исследователь приписывал «Сказанию» западнославянское (моравское или чешское) происхождение и был склонен датировать его создание эпохой, когда в славянских землях, находившихся в юрисдикции Римской церкви, стала создаваться угроза для использования в богослужении славянского языка[86]. Хотя идея Шахматова об использовании древнерусским летописцем «Сказания о преложении книг на славянский язык» в своем общем виде была поддержана многими исследователями, происхождение, состав и датировка этого гипотетического источника (в широких хронологических пределах X – конца XI в.) стали предметом непрекращающейся дискуссии[87], в ходе которой, наряду с развитием многообещающей гипотезы о создании первоначального текста «Сказания» в важном очаге кирилло-мефодиевской традиции – бенедиктинском Сазавском монастыре в Чехии[88], имевшем с Русью довольно тесные связи, – высказывались и вполне резонные скептические замечания в адрес правомерности отнесения к «Сказанию» сведений о расселении славян из космографического введения ПВЛ[89].
При всей перспективности текстологических поисков, несомненно, способных приоткрыть завесу над тайной появления тех или иных элементов летописного рассказа о происхождении славян, не стоит забывать, что в целом этот рассказ является отражением того самого социального знания, которое являлось отражением вышеупомянутого культурного единства Slavia Christiana. Поэтому трудно не согласиться с Б. А. Рыбаковым, резонно предостерегавшим историков от того, чтобы возводить к некоему письменному источнику любое упоминание о западных и южных славянах в древнерусской летописи[90]. Здесь, наверное, нелишне напомнить, что постулируемое летописцем единство славянского мира не было лишь изобретением кирилло-мефодиевских книжников. Торговые контакты между Киевом, Краковом и Прагой, осуществлявшиеся по «пути из немец в хазары»[91] и способствовавшие приобретению славофонными сообществами знаний друг о друге, существовали задолго до Крещения Руси[92], не говоря уж о том, что этнографическая граница между западными и восточными славянами в верховьях Сана и Буга была не столько наследием племенного периода, сколько результатом формирования и экспансии политических структур Рюриковичей и Пястов, поделивших между собой некогда единые или близкие друг другу племена[93].
Поэтому, несколько абстрагируясь от современных текстологических изысканий, попробуем прежде всего распознать в летописном рассказе о происхождении и расселении славян логику, определявшуюся этим социальным знанием. В первую очередь необходимо подчеркнуть, что сами по себе мотивы прародины народа и его миграции на новое место жительства, как показывает сравнительное изучение этногенетических мифов, являлись ключевыми элементами структурно организованной репрезентации прошлого под углом зрения этнического дискурса. Следовательно, весь летописный рассказ о древнейшей истории славян может быть осмыслен как характерная для средневекового историописания этногенетическая легенда, что вполне оправдывает условное определение «Origo gentis Sclavorum», которое счел возможным дать этому рассказу словацкий медиевист М. Хомза[94].
Сюжет о миграции славян со своей прародины, которую летописец локализует на Среднем Дунае (о чем будет сказано ниже), оказывается встроенным в летописи в более широкую историческую перспективу, начинающуюся с традиционного для средневековой историографии сообщения об уделах (жребиях) трех сыновей Ноя – Сима, Хама и Иафета (Афета). Описание каждого из уделов содержит подробные перечни народов, в которых отразилось использование летописцем византийских хронографических источников[95], в первую очередь славянских переводов Хроники Георгия Амартола и Хроники Иоанна Малалы[96]. Задача летописца при обращении к византийскому историописанию состояла, однако, не просто в обеспечении общей исторической канвы своего рассказа, но и в определении конкретного исторического места славян среди других древних и современных ему народов. Так, уже при перечислении земель, составивших жребий Иафета, летописец – впервые в тексте космографического введения – упоминает словен: в перечне они помещены между Иллириком и Лухитией, то есть областью древнего македонского Лихнида – средневекового Охрида. Подобная локализация словен соответствует информации, восходящей, как считается, к «Сказанию о преложении книг» летописной статьи 898 г., где в сообщении о миссии апостола Павла в Иллирике говорится, что именно там первоначально жили словене. Таким образом, использовав некую древнюю традицию о проживании словен в Иллирике, летописец включил словен в перечень народов, восходящий в данном случае к хронике Георгия Амартола.
Следующее упоминание о словенах, в полном соответствии с общепринятой последовательностью презентации истории народов, основанной на Библии, содержится в рассказе о разделении языков, последовавшем после строительства Вавилонской башни. Летописец снова упоминает уделы трех сыновей Ноя, на сей раз определяя их по сторонам света, после чего сообщает: «От сихъ же 70 и 2 языку бысть языкъ словѣнескъ, от племени Афетова, нарци, еже суть словѣне»[97]. Хотя в историографии давно установлено, что нарцами здесь именуются норики, то есть жители римской провинции Норик (что, очевидно, отражает знакомство летописца или его источника с памятником, подобным хронике Ипполита Римского или Пасхальной хронике, где также фигурирует этот народ, упоминаемый в перечне 72 народов вслед за паннонцами[98]), источник отождествления нориков со словенами остается неясным[99]. Остается только констатировать, что такое уподобление в целом хорошо вписывается в локализацию летописцем славянской прародины послебиблейского периода, к описанию местоположения которой автор переходит сразу после упоминания о нарцах.
Переходя к следующему, послебиблейскому, периоду своего исторического повествования о славянах, летописец сообщает: «По мнозѣхъ же времянѣх сѣли суть словѣни по Дунаеви, гдѣ есть ныне Угорьска земля и Болгарьска»[100]. Если местоположение «Угорской земли», под которой, несомненно, подразумевалось современное автору Венгерское государство, охватывавшее в то время почти всю территорию Карпатской котловины, не вызывает вопросов, то значение термина «Болгарская земля» нуждается в уточнении, так как ко времени составления ПВЛ прошло уже почти 100 лет с момента исчезновения Болгарского государства с политической карты Европы.
Как недавно показал сербский исследователь П. Коматина, проанализировав обширный массив свидетельств о Болгарии греческих, латинских и славянских источников XI–XII вв., в эту эпоху Болгарией именовалась исключительно территория Охридской архиепископии. Причем представление о границах Болгарии, обусловленных длительным вхождением тех или иных епархий в церковную юрисдикцию Охрида, обладало относительной устойчивостью[101]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что вопреки традиционным для историографии представлениям в пределы той части славянской прародины, которая в период составления ПВЛ находилась в составе «Болгарской земли», едва ли могли включаться области Нижнего Подунавья, входившие в раннее Средневековье в состав Первого Болгарского царства: византийские источники XI–XII столетий эти территории обозначали понятием «Мизия», а не «Болгария»[102]. Следовательно, в регионе Подунавья летописная Болгарская земля могла охватывать лишь области находившихся здесь четырех епархий Охридской архиепископии – Сремской, Белградской, Браничевской и Видинской.
Весьма важным в связи с этим представляется и то, что, если не считать составляющего совершенно особый эпизод в этногеографическом введении ПВЛ рассказа о путешествии апостола Андрея Первозванного (в котором район Новгорода, в соответствии с летописным известием о поселении на озере Ильмень сохранивших свое древнее название словен с Дуная, именуется «Словенской землей»)[103], понятие Словенской земли, то есть страны славян, летописец использует именно к очерченной выше территории Среднего Подунавья[104]. Впервые это этногеографическое обозначение среднедунайского региона используется летописцем в историческом экскурсе, следующем уже после рассказов о расселении славян, путешествии Андрея Первозванного, основании Киева и описания расселения современных летописцу славянских и неславянских народов Восточной Европы. Возвращаясь, таким образом, спустя много времени к дунайским славянам, летописец сообщает о приходе на Дунай болгар, затем белых угров: «Словѣньску же языку, яко же рекохомъ, живущю на Дунаи, придоша от скуфъ, рекше от козаръ, рекомии болгаре и сѣдоша по Дунаеви, и насѣлници словѣном быша. Посемъ придоша угри бѣлии, и наслѣдиша землю словѣньску. Си бо угри почаша быти при Ираклии цари, иже находиша на Хоздроя, царя перьскаго. Въ си же времяна быша и обри, иже ходиша на Ираклия царя и мало его не яша»[105].
Исследования процитированного фрагмента давно показали, что комплекс включенных в него исторических сведений (об обрах, уграх, Хосрове и Ираклии) был почерпнут летописцем из славянского перевода хроники Георгия Амартола. К этому же источнику восходит и использованное летописцем при описании происхождения болгар выражение «рекше от козаръ»[106]. Не менее важным является то обстоятельство, что сходное описание водворения болгар на Дунае содержится в другом письменном памятнике – «Повести полезной о латинах», написанной предположительно в XII столетии. В свое время А. А. Шахматов выдвинул гипотезу, согласно которой «Повесть полезная о латинах», так же как и ПВЛ, при описании древнейшей истории славян опиралась на «Сказание о преложении книг на славянский язык». Однако в последнее время болгарским исследователем А. Николовым было высказано убедительное мнение, согласно которому ПВЛ заимствовала информацию о болгарах напрямую из «Повести полезной о латинах», правда, существенно модифицировав при этом ее содержание[107]. Дело в том, что в этом памятнике, в отличие от ПВЛ, сообщается об овладении болгарами Мизией и расселении их родов к западу до Иллирика. Как видно, географическая номенклатура «Повести полезной о латинах» находится в полном соответствии с византийскими географическими представлениями, что совсем неудивительно: по мнению А. Николова, она была переводом с греческого, созданным на Балканах в конце XI или самом начале XII в.[108] Как считает болгарский исследователь, превратить болгар в «насельников» в славянской земле побудило древнерусского летописца упоминание в тексте Иллирика, который в летописной статье 898 г. локализуется в Словенской земле[109].
Собственно статья 898 г., основное содержание которой посвящено изобретению славянской письменности Кириллом и Мефодием, продолжает рассказ об исторических судьбах дунайских славян, начатый в космографическом введении. При этом история Словенской земли на Среднем Дунае снова тесно связывается летописцем с событиями в Восточной Европе, что хорошо видно уже в начальном пассаже статьи: «Идоша угре мимо Киевъ горою, еже ся зоветь нынѣ Угорьское, и пришедше къ Днѣпру, сташа вежами; бѣша бо ходяще, яко и половци. И пришедше от въстока и устремишася чересъ горы великыя, иже прозвашася горы Угорьскыя, и почаша воевати на живущая ту. Сѣдяху бо ту преже словене и волохове, переяша землю словеньску. Посемъ же угре прогнаша волохы, и наслѣдиша землю ту, и сѣдоша съ словеньми, покоривше я подъ ся. И оттолѣ прозвася земля Угорьска. И начаша воевати угре на Грѣкы, и пополниша землю Фрачьскую и Македоньску доже и до Селуня. И начаша воевати на Мораву и на Чехы. Бѣ бо единъ языкъ словѣнѣскъ: словѣнѣ, иже сѣдяху по Дунаю, ихъже прияша угре, и морава, и чеси, и ляховѣ, и поляне, яже нынѣ зовемая русь. Симъ бо пѣрвѣе положены книгы моравѣ, яже и прозвася грамота словеньская, яже грамота е в Руси и в болгарехъ дунайскых»[110].
Содержащиеся в приведенном пассаже известия о волохах, которые «прияша землю словеньску», и уграх, которые изгнали волохов и «наследиша землю ту», многократно и тщательно анализировались в историографии. При сохраняющейся дискуссионности вопроса об источнике этих сведений практически всеми исследователями признается, что они хорошо отражают этнополитическую историю Карпатской котловины в конце VIII–IX в. – сначала господство франков (волохов) в Паннонии, а затем занятие ее территории венграми. Таким образом, географическая привязка фигурирующей здесь Словенской земли (Карпатская котловина или по крайней мере ее западная часть – Паннония) не вызывает сомнений. Данный вывод необходимо сопоставить с дальнейшим рассказом этой же летописной статьи о кирилло-мефодиевской миссии в Моравии и Паннонии, в котором славянские правители Ростислав, Святополк и Коцел совокупно именуются князьями Словенской земли. Следовательно, под Словенской землею здесь подразумевается пространство трех славянских княжеств, расположенных в Среднем Подунавье, – Моравского (Ростислав), Нитранского (Святополк) и Паннонского (Коцел).
Казалось бы, то обстоятельство, что Словенская земля в летописной статье 898 г. включает в себя те политические образования, на территории которых разворачивалась деятельность Кирилла, Мефодия и их учеников, может быть расценено как свидетельство сугубо книжного характера понятия «Словенская земля», а именно его возникновения под воздействием кирилло-мефодиевской агиографии. В свою очередь предполагаемое совпадение территории Словенской земли из летописной статьи 898 г. с областью первичного обитания словен на Дунае, обрисованной в космографическом введении, может даже навести на мысль, что и сама этногенетическая концепция летописца возникла под впечатлением от знакомства с паннонскими житиями свв. Кирилла и Мефодия. Похожую идею недавно высказал А. П. Толочко: ввиду того, что в ПВЛ представление о существовании единого славянского народа неразрывно связано с обладанием этим народом особой письменностью, источником представлений летописца о Словенской земле в Подунавье исследователь счел письменные памятники кирилло-мефодиевского круга[111].
Между тем еще Н. К. Никольским было справедливо замечено, что содержащийся в ПВЛ рассказ о расселении славян с Дуная обнаруживает сходство с картинами ранней славянской истории, изображенными в памятниках средневекового историописания Центральной Европы[112]. Так, в «Баварской хронике императоров и пап», написанной в конце XIII в. и характеризующейся повышенным вниманием к истории славянских народов, сообщается о том, что предки чехов и поляков обрели новые земли для поселения, выйдя с территории Венгрии, откуда они якобы были изгнаны византийским императором Юстинианом II[113]. В качестве прародины славян Паннония эксплицитно фигурирует в Великопольской хронике[114], вводная часть которой («Пролог»), содержащая подробный и насыщенный деталями рассказ о происхождении и расселении славян, была создана во второй половине XIV в. К сожалению, в современной историографии так и не удалось выяснить корни этногенетических представлений упомянутых баварского и польского авторов, а в одной из последних работ, посвященных «Прологу» Великопольской хроники, даже высказывается мнение, что в качестве прародины славян Паннония в этом памятнике появилась под влиянием ПВЛ[115], что маловероятно. Для нас, однако, важно подчеркнуть, что о каком-либо влиянии на эти памятники кирилло-мефодиевской агиографии говорить явно не приходится, что свидетельствует об отражении в них независимой традиции, происхождение которой остается неизвестным.
Не менее важным является присутствие в письменных памятниках Центральной Европы представления о Карпатской котловине как о стране славян, совершенно сходного с тем, что наблюдается в ПВЛ. Наиболее ранним среди памятников, содержащих такое представление, является «Венгерско-польская хроника», созданная в 1220–1230-х гг. при дворе герцога Хорватии Коломана, брата венгерского короля Белы IV[116]. Наблюдаемое в «Венгерско-польской хронике» использование понятия «Склавония» для обозначения всей территории Карпатской котловины находит прямое соответствие в использовании в ПВЛ для обозначения этой же территории термина «Словенская земля». На это обстоятельство обратил внимание М. Хомза, справедливо заметив, что само известие «Венгерско-польской хроники» о том, как первый король венгров Аквила переименовал Склавонию в Венгрию[117], побуждает вспомнить сообщение летописной статьи 898 г., где говорится, что после того как венгры изгнали «волохов» и унаследовали Словенскую землю, последняя стала именоваться Венгрией[118]. В условиях отсутствия более ранней письменной традиции, которая бы могла повлиять на присутствие практически одинаковых этногеографических представлений в двух никак не связанных друг с другом письменных памятниках, остается считать, что эти представления были отражением этноисторических реалий раннего Средневековья, а именно зоны первичного распространения славянской идентичности в Среднем Подунавье, за пределами которой обозначение «словене» как элемент обиходной этносоциальной категоризации славофонного населения первоначально не использовалось[119].
Очертив в этногеографическом введении пространство славянской прародины, совпадавшей, как мы могли убедиться, с пространством раннесредневековой «Словенской земли» в Среднем Подунавье, летописец переходит к сюжету о миграции (расселении) славян из «Словенской земли» на другие территории Центральной Европы (в земли будущих Чехии и Польши), а также в Восточную Европу. Этот сюжет, как уже отмечалось выше, необходимо рассматривать в качестве необходимого структурного элемента повествования о начале народа, то есть «origo gentis». Славофонные народы, населявшие на момент составления ПВЛ различные области Европы, неизменно рассматриваются летописцем как произошедшие из одного корня, то есть составляющие, по сути, один народ. То, что при этом эти народы имели разные названия, летописец объяснил тем, что, прибывая на новые места поселения, разные группы единого словенского народа принимали названия, образованные от названий рек и прочих географических обозначений: «И от тѣх словѣнъ разидошася по зѣмле и прозвашася имены своими, гдѣ сѣдше на которомъ мѣстѣ»[120].
Вместе с тем расселение славян в представлении летописца было поэтапным. Первыми от древа единого словенского народа «отпочковались» мораване, чехи и ляхи, поселившиеся в областях, наиболее географически близких к Словенской земле, то есть к территории Карпатской котловины. В свою очередь от ляхов, чьи предки покинули пределы Словенской земли под давлением «волохов» (франков), произошли современные летописцу «лехитские» общности – поляне (поляки), мазовшане, поморяне и лютичи. Южнославянские народы (сербы, «белые» (по всей видимости, далматинские) хорваты, хорутане (карантанцы)) упомянуты летописцем отдельно, а наиболее подробно, что вполне ожидаемо, описано расселение славян на пространстве будущей Русской земли, приведшее к появлению таких общностей, как поляне, древляне, полочане, северяне и словене-новгородцы.
Картина расселения словен из этногеографического введения хорошо коррелирует и с процитированным выше фрагментом из летописной статьи 898 г., где, говоря о единстве славянского народа, летописец непосредственно перед киевскими полянами снова упоминает мораван, чехов и ляхов. Как справедливо заметил по этому поводу Н. К. Никольский, эти три славянских народа играют в летописном повествовании особую роль словенского ядра[121]. Объяснение этой особенности летописного «origo gentis Sclavorum», на наш взгляд, так же, как и в случае со Словенской землей в Среднем Подунавье, следует искать в социальном знании, обусловленном историей реальных контактов между славофонными народами. В первую очередь здесь следует вспомнить, что мораване, чехи и лендзяне (к последнему названию восходит древнерусский этноним «ляхи»), были народами, входившими в IX столетии в состав Великой Моравии, а позднее, в середине X столетия, в состав унаследовавшей кирилло-мефодиевские традиции державы Пржемысловичей, которую с Киевом связывали интенсивные торговые контакты по упоминавшемуся выше пути «из немец в хазары». В связи с этим можно предположить, что само выделение летописцем мораван, чехов и ляхов в качестве древнейших ответвлений единого словенского народа было связано с политическим единством этих народов в период существования если не Великой Моравии, то по крайней мере державы Пржемысловичей, лишь в конце X в. утратившей свой контроль над проживавшими на востоке лендзянами[122]. Такая трактовка кажется привлекательной и в свете свидетельств раннесредневекового еврейского источника – книги «Иосиппон» (Х в.), где в перечне общностей, именуемых «славянами» («Склави»), фигурирует народ «Ляхин»[123], который, как можно понять из перечня, был самым восточным славянским народом, известным еврейскому автору[124].
Важным в связи с этим является и упоминание в процитированной выше фразе из статьи 898 г. в ряду общностей единого словенского народа киевских полян сразу вслед за ляхами. Если, согласно этногеографическому введению, от ляхов «прозвались» польские поляне, то в статье 898 года сразу вслед за ляхами следуют поляне киевские, то есть «поляне, яже нынѣ зовемая русь». По мнению В. Я. Петрухина, летописец в данном случае отождествил польских полян, упоминавшихся в использовавшемся им «Сказании о преложении книг» вслед за ляхами в числе народов ляшского корня, с киевскими полянами, чтобы объяснить появление на Руси славянской грамоты[125]. Подобное объяснение выглядит логичным, но в свете допускаемых нами в летописном повествовании реминисценций эпохи существования многоплеменной державы Пржемысловичей можно, думается, допустить и другую интерпретацию соединения летописцем ляхов с киевскими полянами[126], усмотрев в ней рефлексию летописца на тему контактов Киева с ляхами (лендзянами) по пути «из немец в хазары»[127].
Этногенетическая концепция летописца, предполагавшая видеть в киевских полянах (руси) «днепровское ответвление» единого словенского народа, позволила летописцу сконструировать и свою оригинальную концепцию приобщения словен-руси к христианской вере. Так, завершая свой рассказ о деятельности Кирилла и Мефодия в Словенской земле, летописец отмечает: «Посем же Коцел князь постави Мефодья епископа въ Пании, на столе святого Онъдроника апостола, единого от 70, ученика святого апостола Павла. Мефодий же посади 2 попа скорописца зело, и преложи вся книги исполнь от гречьска языка в словенеск 6-ю месяць, начен от марта месяца до двудесяту и 6-ю день октября месяца. Оконьчав же, достойну хвалу и славу Богу въздасть, дающему таку благодать епископу Мефодью, настольнику Анъдроникову. Тем же словеньску языку учитель есть Анъдроник апостолъ. В Моравы бо ходил и апостол Павелъ учил ту; ту бо есть Илюрик, его же доходил апостол Павел; ту бо беша словене первое. Тем же и словеньску языку учитель есть Павел, от него же языка и мы есмо Русь, темъ же и нам Руси учитель есть Павел, понеже учил есть языкъ словенеск и поставил есть епископа и намесника по себе Андроника словеньску языку. А словеньскый язык и рускый одно есть, от варяг бо прозвашася Русью, а первое беша словене; аще и поляне звахуся, но словеньская речь бе. Полями же прозвани быши, зане в поли седяху, а язык словенски един»[128].
Информация о поставлении по инициативе паннонского князя Коцела Мефодия епископом «на стол Андроника апостола» была, естественно, почерпнута летописцем из Паннонского жития св. Мефодия[129]. Однако вся последующая конструкция, устанавливавшая связь между апостолом Павлом, Моравией, славянской прародиной в Иллирике и, наконец, полянами и русью, является оригинальной концепцией древнерусского историка. Первое, на что необходимо обратить внимание, – это то, что летописец установил связь между Мефодием и апостолом Павлом через фигуру преемника Павла апостола Андроника из числа 70 апостолов. О том, что апостол Павел, распространяя веру, «доходил до Иллирика», известно из Священного Писания (Рим. 15:19). Андроник же еще в раннесредневековой традиции фигурировал как епископ Паннонии[130]. Как мы видим, летописец дополнил эту информацию новыми элементами: во-первых, он локализовал Иллирик в пределах Словенской земли – поприща деятельности Кирилла и Мефодия; во-вторых, он сообщил, что именно в Ил-лирике первоначально, то есть, видимо, еще до образования среднедунайской Словенской земли, проживали славяне.
Как уже отмечалось выше, истоки традиции, связывавшие первоначальное место обитания славян с Иллириком, остаются не вполне ясными. Примечательно, однако, что представление о том, что славяне искони проживали на Балканах, являясь, таким образом, восприемниками апостольской проповеди, было свойственно в Средневековье отнюдь не только древнерусскому летописцу. Взгляда на историю христианизации славян, подобного тому, что отражен в ПВЛ, придерживались, к примеру, римские первосвященники. О том, что в папской курии славяне считались автохтонными жителями Балкан, воспринявшими христианство еще во времена Древнего Рима, позволяют судить письмо папы Иоанна VIII (872–882), адресованное «склавинскому» (видимо, сербскому) князю Мутимиру[131], и письмо папы Иоанна X (914–928), адресованное правителям Хорватского и Захумского княжеств Томиславу и Михаилу, а также «всему клиру, жупанам и народу» этих стран[132]. Судя по данным рескрипта папы Иннокентия IV, разрешившего в 1248 г. в ответ на запрос епископа хорватского города Сень Филиппа вести богослужение на славянском языке и использовать глаголические письмена в Сеньской епископии[133], к этому времени в Хорватии уже существовала некая традиция, согласно которой изобретателем славянской азбуки (глаголицы) был Иероним Блаженный. Так как Иероним был уроженцем города Стридон, располагавшегося, по данным античных источников, на границе Далмации и Паннонии, эта традиция естественным образом вытекала из представления о славянах как об автохтонных жителях Иллирика[134]. Наконец, можно вспомнить и известия чешского источника начала XIV в. «Так называемой хроники Далимила», согласно которой первоначальным местом проживания славян после Вавилонского столпотворения стали земли Иллирика, в том числе Хорватия, откуда в Богемию якобы и пришел праотец Чех[135].
По мнению словацкого слависта А. Авенариуса, именно существовавшая в древней Хорватии традиция об автохтонном происхождении южных славян обусловила появление в ПВЛ представления об Иллирике как области первоначального проживания славян[136]. Вместе с тем территория Хорватии, Захумского и Сербского княжеств, пусть и располагавшихся на землях, обычно именовавшихся и в поздней Античности, и в раннем Средневековье Иллириком, не были частью Словенской земли в том виде, в каком она очерчена на страницах ПВЛ. Размещая Иллирик на территории Моравии (и Паннонии), то есть Словенской земли, летописец мог, конечно, принимать во внимание границы позднеантичной префектуры Иллирик, включавшей в свой состав Паннонию[137]. В этом случае Словенская земля занимала бы часть исторического Иллирика.
Однако можно предложить и иное толкование, которое позволяет, напротив, считать Иллирик частью Словенской земли, заметно сузив, таким образом, территорию первоначального поселения славян в ее рамках. Такое толкование можно предложить, основываясь на упоминании Иллирика и Паннонии в трактате императора Константина VII Багрянородного «Об управлении империей» (середина X в.)[138]. Как показал недавно хорватский историк Х. Грачанин, Иллириком в трактате поименована территория Срема[139]. Если летописный Иллирик – это Срем, то летописец нисколько не ошибался, включив территорию Иллирика в состав Словенской земли, особенно если учесть, что в 860-х гг. Срем, вероятнее всего, входил в состав владений паннонского князя Коцела[140]. В таком случае именно факт церковной юрисдикции Охридской архиепископии над Сремом в XI–XII столетиях мог обусловить упоминание летописцем Болгарской земли в качестве страны, которая, наряду с Угорской землей, охватывала область первоначального проживания славян в Среднем Подунавье.
Как бы там ни было, но летописной апелляции к апостолу Павлу трудно отказать в логике. Коль скоро Иллирик полностью или частично находился в Словенской земле, то получалось, что славяне впервые были приобщены к христианству именно апостолом Павлом. При этом на апостольское наследие может с полным правом претендовать и русь, ведь поляне, получившие от варяг название «русь», в действительности являются словенами, а точнее, их восточным, днепровским ответвлением – выходцами из расположенной в Среднем Подунавье Словенской земли. Таким образом, этнически киевляне суть те же словене, и лишь новая среда обитания «в полях» привела к появлению у них нового названия. Что же касается новгородцев, то им даже не пришлось менять названия – они, будучи такой же частью единого народа словен, принесли его с собой на берега Волхова прямо с Дуная.
«Origo gentis Russorum»
Актуальная дискуссия об этапах формирования древнерусской исторической традиции, начатая сто лет назад трудами А. А. Шахматова и обогатившая за это время историческую науку многими интересными результатами, продолжается по сей день. Одна из ключевых проблем связана с реконструкцией текста Начального свода, отразившегося, по мнению Шахматова, в НПЛмл, и с его соотношением с текстом ПВЛ.
Для реконструкции формирования древнерусской исторической традиции этот спор имеет важное значение, так как в НПЛмл сюжеты происхождения русского народа и Русской земли изложены несколько иначе, нежели в ПВЛ. Древнейшая история Руси излагается здесь в летописной статье, помещенной под 6362 (854) г. и носящей показательное название «Начало Русской земли». В ней описывается история основания Киева братьями Кием, Щеком и Хоривом, после чего, вслед за заимствованным из византийских источников сообщением о походе руси на Царьград, следует сюжет о полянской дани хазарам и говорится о княжении Аскольда и Дира в Киеве. Затем следует подробный рассказ о призвании северными племенами на княжение трех братьев-варягов Рюрика, Синеуса и Трувора, после чего следует не менее обстоятельное повествование о том, как сын Рюрика Игорь и его воевода Олег овладели Киевом.
Все названные сюжеты с более или менее существенными расхождениями в отдельных деталях описываются и в ПВЛ, однако контекст их представления заметно отличается. В первую очередь бросается в глаза наличие в ПВЛ обширного космографического введения[141], в котором, помимо рассмотренного выше рассказа о происхождении и расселении славян, мы встречаем и рассказ об основании Киева тремя братьями-полянами. Таким образом, история Кия, Щека и Хорива воспроизводится в ПВЛ в ее недатированной, не содержащей хронологической сетки части, то есть отнесена к своего рода предыстории руси. Другие упомянутые выше сюжеты, напротив, оказываются разнесены по разным летописным статьям. Так, о призвании варягов ПВЛ сообщает в отдельной статье, помещенной под 862 г., в то время как о завоевании Киева Олегом, фигурирующем здесь не в качестве воеводы, а в качестве князя, правившего в малолетство Игоря, – под 882 г.
В одном из недавних исследований, посвященных проблеме соотношения НПЛмл и ПВЛ, П. С. Стефанович, развивая разделяемую многими исследователями гипотезу А. А. Шахматова об отражении в НПЛмл Начального свода, предложил трактовать всю летописную статью 854 г. как «Origo gentis Russorum» – единое и связное, выполненное по всем канонам жанра, повествование о начале русского народа и Русской земли. Помимо соображений текстологического характера, побудивших исследователя считать названную статью новгородской летописи целостным историческим произведением, восходящим к древнейшему этапу формирования русской исторической традиции, в обоснование интерпретации летописного рассказа именно как «origo gentis» Стефанович привел еще одно важное соображение. Исследователь счел возможным идентифицировать в летописном рассказе элемент, который в сравнительно-исторических исследованиях этногенетических традиций давно рассматривается как один из наиболее важных компонентов в структуре «origo gentis». Речь идет о так называемом «изначальном деянии» (нем. primordiale Tat) – некоем переломном или из ряда вон выходящем событии, знаменовавшем выход нового народа на историческую арену[142]. В этногенетических легендах таким событием могла быть победа над могущественным противником, переход через реку и т. п. Ссылаясь на примеры присутствия среди такого рода «изначальных деяний» судьбоносных побед, одержанных благодаря хитрости, Стефанович причисляет к ним и летописный сюжет о захвате Киева Олегом, обманувшим Аскольда и Дира, – событии, положившем начало образованию «Русской земли»[143].
Появление в современной историографии этой весьма привлекательной гипотезы знаменует собой, как нам представляется, очередной шаг в направлении интерпретации древнерусской исторической традиции как вполне обычного для раннесредневековой Европы комплекса исторических представлений, отражающего на уровне своей общей структуры закономерности конструирования прошлого под углом зрения этнического (этнополитического) дискурса. При этом в отношении отдельных сюжетов, составляющих этот комплекс, подобные выводы, основанные на анализе широкого круга европейских аналогий, в историографии уже неоднократно делались. Прочные и весьма показательные результаты были, в частности, получены при анализе таких центральных для русской исторической традиции сюжетов, как основание Киева и призвание варягов, что позволяет нам, не углубляясь в посвященную этим летописным сюжетам богатейшую историографию, сфокусировать внимание на наиболее важных для нашей темы выводах исследователей.
Автор ПВЛ помещает сюжет об основании Киева во вводную, недатированную, часть своего исторического сочинения, логично связав его с рассказом о расселении словен из Словенской земли и появлении их днепровского ответвления – полян. Летописный рассказ о Кие, Щеке и Хориве неоднократно становился предметом анализа в историографии как отдельно, так и в сопоставлении с аналогичным рассказом НПЛмл, отличающимся рядом существенных деталей[144]. В ходе исследований была выявлена сложность и многослойность летописного повествования о Кие. Нашли свое довольно убедительное, хотя и по понятным причинам гипотетическое, объяснение факультативные для центрального сюжета легенды известия о Кие-перевозчике и Кие-князе, якобы ходившем на Дунай и к византийскому цесарю.
Для нас в данном случае важно подчеркнуть, что в своем ядре предание об основании Киева может быть интерпретировано как отчасти этиологическая, отчасти этногенетическая легенда, повествующая о рождении «упорядоченной» социальной общности. Первенствующими в ней, несомненно, являются неотделимые друг от друга мотивы появления новой культурной общности и легитимной власти. В связи с этим, как показал польский историк Я. Банашкевич, предание о Кие может быть поставлено в один ряд с рассказом чешского хрониста Козьмы Пражского о начале Чехии, где роли, аналогичные роли Кия, играют Крок (судья-законотворец, устроитель социального порядка) и Пржемысл (первый князь и устроитель монархического порядка), а также с рассказом польского хрониста Винцентия Кадлубка о Краке – первом правителе и законотворце лехитов[145].
Правда, на фоне названных чешского и польского нарративов киевская легенда может показаться слишком лаконичной, а потому архаичной и сугубо локальной по своему происхождению, лишь искусственно встроенной в контекст летописного «Origo gentis Russorum». Неудивительно, что в историографии долгое время обсуждалась проблема фольклорных истоков легенды и ее локального, киевского, исторического контекста. Более того, на основании выявленного Н. Я. Марром[146] сходства мотивов и, как могло показаться, даже отдельных имен собственных из легенды о Кие и приводимого в армянской «Истории Тарона» (VIII в.) рассказа о происхождении рода Мамиконянов от трех братьев Куара, Мелтея и Хореана в историографии стала популярной идея о глубокой древности киевской легенды (не позднее VII–VIII вв.!), о ее непосредственной связи с этногенетическими мифами «яфетических» (в терминологии Н. Я. Марра)[147] или по крайней мере скифо-сарматских народов.
Даже если оставить за скобками параллели с армянской легендой, многие из которых признаются в современной историографии натянутыми или совершенно случайными[148], невозможно не задаться вопросом: не является ли легенда о Кие и его братьях, особенно если вынести за скобки сюжеты о Кие-перевозчике и Кие-князе, лишь локальным топонимическим мифом, который был зафиксирован летописцем, выступившем здесь в роли своего рода этнографа, изучающего племя полян, лишь вследствие своего киевского происхождения? К отрицательному ответу на этот вопрос склоняет прежде всего место, какое данная легенда занимает в повествовании о начале руси, а также сам характер общности, задачам легитимации которой эта легенда служила.
Долгое время в историографии считалось, что легенда о Кие является мифом полян – славянского племени, якобы проживавшего в районе Киева еще до того, как здесь вырос древнерусский город. Между тем племя с подобным названием не упоминается ни в одном из ранних источников, за исключением летописной традиции. Выявить ясные археологические маркеры полянской племенной территории, несмотря на все старания, предпринятые археологами, также не удалось. Наконец, и сам летописец в контексте рассказа о полянах упоминает лишь Киев, очевидно, отождествляя полян с жителями киевских гор. Есть поэтому веские основания считать, что племени полян никогда не существовало[149].
Население Киева, превратившегося в заметный поселенческий центр лишь на исходе IX в., уже в X в. было весьма гетерогенным, что совершенно естественно для поселения, возвысившегося благодаря появлению здесь центра власти и находившегося под его контролем торжища. Таким образом, киевских полян можно трактовать как новую гетерогенную квазиэтническую общность, возникшую не ранее IX–X вв.
Это наблюдение над характером реальной полянской общности хорошо соотносится и с тем, как полянскую общность воспринимал сам летописец. Из содержания летописной статьи 898 г. следует, что именно поляне, совершенно тождественные в данном случае киевлянам, превратились в русь после того, как в городе закрепились пришедшие с Олегом и Игорем варяги. Наблюдаемое в ПВЛ отождествление полян и руси (в ее новом «постпереселенческом» облике) позволяет рассматривать полянскую идентичность как одну из базовых для формирующейся в Среднем Поднепровье новой этносоциальной общности.
В этом этногенетическом контексте легенда о Кие и его братьях приобретает уже не локальное, а общегосударственное значение, являясь, таким образом, органической частью целостного «Origo gentis/regni Russorum». Сказанное, разумеется, не означает, что, будучи таким органическим элементом, легенда возникла сразу, в ее целостном виде. Проблема в данном случае заключается в ограниченности наших возможностей при попытке расслоить легенду, выявив те или иные элементы, которые бы можно было считать первичными.
Имена братьев Щека и Хорива, а также их сестры Лыбеди, очевидно, произведенные от локальных географических названий, если и несут в себе некую историческую информацию, то вряд ли связанную с самим сюжетом легенды. Неудивительно, что на этом фоне попытки историков выявить древнейшее ядро легенды разнятся между собой весьма существенно. В то время как, с одной точки зрения, троичная структура легенды принадлежит чуть ли не к основным ее характеристикам, с другой – первоначально действовал лишь один первопредок Кий, тогда как другие братья были добавлены уже на этапе литературной обработки предания.
В такой ситуации в гораздо более выгодном положении находится историк, фокусирующий внимание не на выявлении разновременных слоев, а, напротив, на вневременных (естественно в рамках Средневековья) структурах интерпретации социальной реальности, как это сделал в уже цитировавшемся исследовании Я. Банашкевич. Как заметил польский исследователь, продолжая свое сопоставление русского Кия с чешским Кроком и польским Краком, отсутствие в киевской легенде присущего чешской и польской легендам мотива принятия общего закона, на первый взгляд свидетельствующее против аналогии с летописным рассказом, в действительности более чем адекватно возмещается мотивом основания города, ведь именно город является символом единого иерархически выстроенного общества, своего рода антитезой конгломерату родов, живущих без закона и короля (sine lege et rege)[150].
В качестве одного из примеров тесной связи основания города и появления общего закона в средневековом сознании польский исследователь приводит, на наш взгляд, очень показательный пример из «Истории бриттов» Гальфрида Монмутского – основание Новой Трои (Лондона) прибывшим из Трои легендарным первым королем британцев Брутом[151]. Описывая это событие, Гальфрид сообщает: «Покончив с разделом королевства, Брут загорелся неудержимым желанием выстроить город. Стремясь осуществить это намерение, он обошел вдоль и поперек всю страну, чтобы найти подходящее для этого города место. Подойдя к реке Темзе, он прошел вдоль ее берегов и обнаружил пригодное для воплощения своего замысла место. Итак, он основал город и тут же назвал его Новою Троей. <…> Итак, после того, как вышеназванный вождь основал вышеназванный город, он по праву победителя предоставил его своим людям для заселения и дал им законы, дабы между ними царили мир и согласие»[152].
Сопоставление предания о Кие с процитированным известием из «Истории бриттов», считающейся ярчайшим образцом исторического воображения эпохи западноевропейского ренессанса XII в., показательно прежде всего с точки зрения проблемы соотношения фольклора и исторических конструкций средневековых интеллектуалов, традиционно противопоставляемых друг другу в исследованиях повествований жанра «origo gentis» и «origo regni». Очевидно, что данное противопоставление, если и не является искусственным, то по крайней мере мало что дает для объяснения генезиса исторического воображения, отразившегося в средневековом историописании. Этих сложностей позволяет избежать концепция единого для (раннего) Средневековья социального знания, характеризующего авторов средневековых исторических сочинений в большей степени как людей своего времени, нежели как носителей некой эксклюзивной цивилизационной или элитарной культурной традиции.
Примечательно в связи с этим, что, согласно Банашкевичу, сознательно отказывающемуся от противопоставления племенных мифов и государственных легенд жанра «origo regni», на роль Кия как правителя-законотворца указывает и сама этимология его имени: согласно одной из наиболее убедительных версий, имя легендарного героя происходит от славянского слова «кий» (палка, жезл), что может хорошо коррелировать с именами чешского Крока и польского Крака, если принять их этимологию от славянского «кракула» (изогнутый посох). Имя Кия, подобно тому, как это обстояло с именами Крока и Крака, могло, таким образом, ассоциироваться с (изогнутым) посохом – древним общепризнанным символом верховной власти[153]. К этому можно добавить и то, что сама полянская идентичность, как недавно прекрасно показал П. Жмудский, очевидно апеллировала к универсальному символу поля как пространства цивилизованной, социально обустроенной жизни[154]. Если данные интерпретации верны, то получается, что мотив устроения власти был изначально присущ киевской легенде, какой бы облик она при этом ни имела.
К настоящему времени исследователями тщательнейшим образом изучено и «Сказание о призвании варягов», помещенное в ПВЛ под 862 г. В отличие от легенды о Кие, довольно редко становившейся источником для собственно исторических реконструкций, поиски исторического зерна в легенде о трех братьях-варягах не прекращаются даже в современной историографии. Между тем, если эти поиски хотя бы отчасти оправданы, то исключительно наличием в легенде трех аутентичных скандинавских антропонимов, которые, в отличие от киевской легенды, явно не произведены от локальной топонимики, но едва ли упоминанием в ней географических и этнографических реалий современной летописцу эпохи.
Если оставить в стороне основанные на этих реалиях рискованные построения исследователей вроде существования в середине IX в. на севере Восточной Европы некой племенной конфедерации и/или договора, якобы заключенного местными туземцами с прибывшими в Ладогу викингами, то как минимум заслуживает внимания тождество имени главного персонажа варяжской легенды и хорошо известного по западным источникам датского конунга Рорика, который, что особенно примечательно, действовал в ту же самую эпоху, в какую правление Рюрика поместил русский летописец. Рорик, принадлежавший к харизматическому датскому роду Скьёльдунгов, был весьма активным воином и политиком, одно время тесно связанным с империей Каролингов: став вассалом франкского короля Лотаря, он получил от него владения во Фрисландии, включая знаменитый эмпорий Дорестад[155].
Говорить на основании предполагаемого тождества Рюрика Ладожского и Рорика Фрисландского о формировании датчанами в 860-х гг. потестарной структуры в Поволховье с центрами в Алдейгьюборге (Ладога) и Хольмгарде (Рюриково городище), как это, похоже, готовы делать некоторые современные исследователи, едва ли правомерно: мы даже не знаем, бывал ли этот прославленный воитель там, куда помещает его (если это действительно он) «Сказание о призвании варягов». Однако сама по себе апелляция древнерусского политико-династического мифа к Рорику (если это действительно Рорик) может являться ценным для историка маркером, позволяющим конкретизировать культурный контекст формирования мифа.
Еще более ценными для воссоздания этого контекста являются структурные и нарративные параллели. В отличие от легенды о Кие, обнаруживающей яркие параллели на славянском материале, все сколько-нибудь значимые аналогии варяжской легенде обнаруживаются в культуре германских народов Северной Европы[156]. Наиболее близкой параллелью справедливо признается знаменитый рассказ из «Деяний саксов» Видукинда Корвейского (960–970-е гг.) о призвании бриттами саксов в Британию. Помимо самого по себе структурно близкого варяжской легенде сюжета о призвании бриттами воителей из-за моря, известного и предшественникам Видукинда – Гильдасу (VI в.) и Беде Достопочтенному (VIII в.), в рассказе Видукинда послы бриттов обращаются к саксам со словами, совершенно аналогичными тем, что русский летописец вложил в уста представителям северных племен: «обширную и бескрайнюю свою страну, изобилующую разными благами, готовы вручить вашей власти»[157].
Похожие по структуре сюжеты обнаруживаются и в других, напрямую не связанных друг с другом источниках. Таковым, например, является написанное в стихах в X–XI столетиях, а позднее дополненное прозаическим комментарием Предисловие к древнеирландскому «Поучению Морана», в котором рассказывается о призвании потомков благородных ирландских родов «из-за моря» – из Шотландии – ирландскими племенами, оставшимися без своих законных правителей. Причем подобно тому, как это описывается в «Сказании о призвании варягов», прибывшие в Ирландию из Шотландии трое принцев заключают договор с призвавшими их племенами, после чего делят между собой Ирландию на три части и становятся родоначальниками ирландских правящих домов[158]. Еще более близкую параллель к варяжской легенде обнаруживает рассказ о прибытии в Ирландию «остманов» (норманнов), помещенный в «Истории и топографии Ирландии» Гиральда Камбрийского (XII в.). Здесь, почти так же, как и в русской легенде, рассказывается о трех братьях-предводителях Олафе, Сигдриге и Иваре, прибывших в «прекрасную страну» Ирландию на кораблях из Норвегии и «северных островов» и с согласия ирландских правителей основавших в Ирландии три первых города – Дублин, Уотерфорд и Лимерик, после чего с течением времени города стали строиться по всей Ирландии[159].
Объяснить эти сходства какими бы то ни было культурными контактами или литературными заимствованиями, даже в наиболее поразительном случае текстуального совпадения между автором ПВЛ и Видукиндом Корвейским, за более чем сотню лет исследовательских поисков так и не удалось. Поэтому, как и в случае с рассмотренным выше преданием о Кие, современным исследователям для объяснения этих параллелей остается апеллировать к неким устойчивым схемам истолкования социальной реальности, то есть к тому, что обычно именуется социальным знанием. Так, по мнению В. Я. Петрухина, с которым, как нам представляется, есть все основания согласиться, «общие мотивы и формулы, характерные для варяжской и саксонской легенд, очевидно, восходят к тому общему эпическому фонду “переселенческих сказаний”, который и сформировался в эпоху Великого переселения народов и становления варварских государств на севере Европы, от Англии до Руси»[160].
Подобно тому как это произошло с легендой о Кие и его братьях, легенда о Рюрике и его братьях, каково бы ни было ее первоначальное содержание и значение, оказалась тесно интегрирована в единое повествование о началах руси – «Origo gentis Russorum», приобретя в нем дополнительные, ранее, возможно, ей не свойственные, этнополитические коннотации. Дело в том, что именно Рюрик в представлении древнерусского летописца привел с собой в Восточную Европу русь – тот самый народ, который затем, после прихода в Киев Олега и Игоря, передал свое имя летописным полянам – днепровскому ответвлению словен.
При этом породившие безбрежную научную литературу споры о том, что именно являла собой эта древнейшая русь на самом деле[161], едва ли релевантны для понимания летописного текста. Для автора ПВЛ первоначальная русь, безусловно, была одним из северных народов: в космографическом введении она упомянута в числе народов «Иафетова колена», проживающих на берегах Балтийского и Северного морей. Однако в представлении летописца эта русь отнюдь не была тождественна той руси, которая в его время проживала в Киеве. Этой «новой русью» были словенские поляне, получившие новое название благодаря появившимся в Киеве варяжским русским князьям[162].
Историческое воображение раннего русского Средневековья из перспективы позднего
При рассмотрении проблемы преемственности форм средневекового русского исторического воображения от домонгольской Русской земли к Московскому государству в центре внимания оказываются основополагающие принципы групповой самоидентификации, структурировавшие образ далекого прошлого, иерархия этих принципов и их соотношение друг с другом. Коль скоро в Московском государстве конфессиональный и государственный (династический) принципы формирования групповой идентичности и структурируемой ею исторической памяти фактически замещали собой европейскую традицию «origo gentis», в чем справедливо усматривается одно из ключевых отличий в историческом воображении России и стран латинской Европы[163], то неминуемо возникает вопрос: являлось ли это обстоятельство наследием византинизации восточнославянской культуры, происходившей еще в киевскую эпоху[164], или же маргинализация этногенетического дискурса произошла позднее, в период формирования Московского государства?
Приведенные выше наблюдения над историческим воображением русского летописца, основанные главным образом на имеющихся к настоящему времени прочных результатах сравнительных исследований русского, византийского и европейского историописания, свидетельствуют скорее в пользу принципиального сходства исторического воображения автора ПВЛ и его западных коллег из стран «младшей Европы», а также заметной роли этногенетического дискурса в структурировании описания далекого прошлого в начальном русском летописании, что сближает летописные рассказы о происхождении славян и руси с классическими европейскими образцами жанра «origo gentis».
Неэтнические параметры ранней русской идентичности, на которые обычно обращают внимание исследователи, склонные артикулировать религиозный и политический аспекты концепта «народ русь», на наш взгляд, не стоит абсолютизировать; ведь и в странах «младшей Европы» новые «государственные» идентичности христианской эпохи, приходившие на смену «догосударственным» гентильным идентичностям, корни которых лежали в языческом прошлом, по определению не могли изначально иметь этнического характера в собственном смысле слова. Интегративная функция этих новых идентичностей, их социальная престижность и перформативность обеспечивались на начальном этапе прежде всего присущими им религиозными и политическими коннотациями[165], в то время как полноформатная их «этнизация», выразившаяся, в частности, в появлении мифологических фигур этнических прародителей (Чех, Лех), была делом более или менее отдаленного будущего[166].
В связи с этим отсутствие на страницах ПВЛ фигуры условного «праотца Руса» едва ли должно нас удивлять. Внимания, однако, заслуживает вопрос, почему такой или подобный ему персонаж не появился в Северо-Восточной Руси и Московском государстве вплоть до возникновения в XVII в. знаменитого «Сказания о Словене и Русе»[167]. Сомневаясь в том, что специфические ментальные установки, определившие в исторической перспективе преобладание династических и конфессиональных дискурсов в историописании Московского государства, были раз и навсегда заданы изначальным характером русской идентичности, кирилло-мефодиевским и византийским наследием, позволим себе высказать догадку, что ключевые факторы, ответственные за появление этих установок, необходимо искать уже за пределами киевского периода.
Какую оптику взгляда на народ русь заложил летописец?
Перед летописцем стояла сложная задача – вписать в известные ему исторические схемы историю общности русь. Со схемами были проблемы: русь не упоминалась в Библии, то есть ей надо было придумать место среди библейских «языцей» (народов). Упоминание «князя Роша, Мешеха и Фувала» в эсхатологическом контексте (Иез. 38: 2–3, 18) не подходило. В византийских хрониках, которые выступали образцами жанра для летописца, были фрагментарные упоминания «народа рос», которые можно интерпретировать по-разному, и затруднительно сблизить с русью в контексте задач, которые стояли перед летописцем. Он должен был представить свой народ, свою страну на международной арене, найти ему место, ввести в мировую историю. Какие-то созвучные племена, мелькающие на страницах хроник, не могли служить для создания величественной картины новой истории новой страны.
За основу летописец взял идею Священного Писания: история народа есть история его пути к Богу. На этом пути «языци» проходят множество испытаний: нашествие иноземцев, плен, странствия в поисках земли обетованной, искушения в пути, гнев и кары от нечестивых правителей, но в итоге, если народ того заслуживает, то он обретает свой язык, которым умеет говорить с Богом, обретает свою землю и заключает с Богом Завет.
Повествование ПВЛ строится по этой схеме. Славянам найдено место в колене Иафета, потомка праотца Ноя. Они были язычниками и на своем пути многое претерпели: завоевание иноплеменными («легенда об обрах», «сказание о хазарской дани»), жизнь во грехе (описание нравов славянских племен), мятежи и смуты (рассказ о том, как «встал род на род» накануне призвания варягов) и т. д. Но они смогли благодаря апостолам Кириллу и Мефодию обрести язык, которым возможно говорить с Богом. Осталось обрести Русскую землю как Землю обетованную, завоевать ее и выполнить высшую миссию народов на земле – стать народом Бога. Собственно, этим сюжетам и посвящены дальнейшие страницы «Повести временных лет» – избавление от хазарской дани и приход Олега во главе руси в Киев, как отметил В. Я. Петрухин, сопоставимо с библейским Исходом[168]. И. Н. Данилевский аргументированно отождествил то, что названо «нашей страной» в Начальном своде, «Русской землей» в «Повести временных лет» и библейскую Землю обетованную[169]. Далее при Владимире последовало Крещение как Завет с Богом нового богоизбранного народа и торжество православия, просиявшего в Русской земле и ее князьях и святителях. Тем самым, основные компоненты библейской концепции были воплощены летописцем в истории Руси. Эта история была оформлена под понятные и, главное, в представлении автора летописи, единственно правильные исторические схемы.
Изначально этногенетические концепции, на основе которых создавалась история происхождения Руси, имели, кроме вышеотмеченного общего для эпохи социального знания, в значительной степени религиозную направленность. Мы до сих пор говорили об усвоении и творческом осмыслении русским летописцем ветхозаветной модели. Но над ней в православии довлела новозаветная модель, согласно которой народ, стремящийся стать «народом Божьим», лишается всех этнических черт, они совершенно не важны, потому что своей кровью Христос «искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени» (Откр. 5: 9). Во Вселенской церкви «…нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (Кол. 3: 11). Именно поэтому из летописи после Крещения (988 г.) стремительно исчезают все славянские племена – никого из персонажей летописец не называет полянином, древлянином или кривичем[170]. Возникает восточнославянское единство, единая Русская земля, населенная народом русь, как особое духовное пространство, богоизбранная земля с избранным народом, любимым Господом.
Большее развитие получил дискурс о сакральных «длящихся городах», центрах христианской веры – дискурс перехода к столицам, выполняющим символическую роль Иерусалима и Рима. Новым Иерусалимом в Средневековье стал византийский Константинополь. Однако при Крещении Руси символика нового Иерусалима, в том числе воплощенная в архитектурных и пространственных решениях, культивировалась на Руси применительно к Киеву[171]. В «Памяти и похвале» Иакова Мниха прямо сказано: «Оле чудо! Яко второй Иерусалим на земли явися Киев»[172]. О. Дзярнович связывает с этим дискурсом не просто сакральную идею о переносе религиозного, духовного центра, но первичную рецепцию концепции о византийском наследстве[173]. Большую роль в прославлении Киева играет Андреевская легенда – присутствующий еще в ПВЛ рассказ об апостоле Андрее Первозванном и посещении им днепровских гор, где в будущем будет воздвигнут Киев. В раннее Новое время легенда актуализируется, обрастает деталями и всячески способствует возвеличиванию города на Днепре.
Новоиерусалимская символика в дальнейшем проявлялась не только в Киеве, но и в других центрах Восточной Европы – во Владимире[174], Великом Новгороде[175] и т. д. Она получает мощный новый толчок в XVII в. В 1620 г. в связи с рукоположением киевского митрополита иерусалимским патриархом Феофаном в образованных кругах Киева опять начинает активно муссироваться идея о тесных связях Киева и Иерусалима[176]. В России в XVII в. происходит всплеск новоиерусалимской идеи[177], наиболее ярким воплощением которой считается Новоиерусалимский монастырь на р. Истре – резиденция патриарха Никона[178]. В то же время требовалось объяснить роль Киева в этой системе. Есть следы хождения идеи Москвы как «второго Киева»[179]. Как верно заметил Ч. Гальперин, она так и не была четко и однозначно сформулирована, хотя К. Ю. Ерусалимский указывает на примеры ее бытования в посольском дискурсе[180].
Ярким примером конструирования истории Руси как истории богоизбранной страны является известный рассказ ПВЛ о пребываниях на землях будущей Руси апостола Андрея Первозванного[181]. В представлении летописца, в апостольские времена славяне уже обитали в киевских и новгородских землях. Вместе с тем апостол Андрей Первозванный в летописном рассказе не выступает в роли крестителя – он лишь благословляет землю, которую спустя тысячу лет, в правление князя Владимира, осенит благодать крещения. Это обстоятельство, однако, не умаляет важности апостольской легитимации будущей русской христианизации: используя свойственную средневековому христианскому мировоззрению провиденциалистскую перспективу, летописец создает конструкцию, искусно увязывающую два события – апостольское благословение киевских гор на заре христианской истории и произошедшее через тысячу лет крещение киевлян.
Эта тесная связь со славянским миром, понимание единства с остальным славянством проявлялась и в типологии первых святых. Для Руси это св. мученики Борис и Глеб, канонизированные в 1072 г.[182] Их культ был близок к культу св. Вацлава в Чехии[183]. Князья-мученики, так же как и св. Вацлав для Чешского королевства, выступали покровителями Русской земли и «небесными помощниками» ее правителей. В «Сказании о Борисе и Глебе» говорится: «Поистине вы цесаря цесарем и князя кънязем… Вы бо тем и нам оружие, земля Русьскыя забрала и утвьржение и меча обоюдуостра, има же дьрзость поганьскую низълагаем и дияволя шатания в земли попираем… вы не о единомь бо граде, ни о дъву, ни о вьси попечение и молитву въздаета, нъ о всей земли Русьскей!»[184]
При этом нельзя сказать, чтобы летописец был совсем лишен представлений об этничности. Он четко различает народ русь и его соседей, но эти различия, как показал А. В. Лаушкин, основываются на этноконфессиональных критериях: «…исследуемые слова еще не имеют прямого этнонимического смысла. Связь между ними и часто встречающимся рядом понятием “Русская земля” носит скорее корреляционный характер. Однако… в текстах уже налицо совершенно определенное культурное “ощущение” – такое, из каких в конечном счете и вырастает этническое самосознание»[185]. Но при этом, несмотря на постулат о богоизбранности, эти зачатки этнического самосознания были, по выражению А. В. Лаушкина, «лишены априоризма этнического и культурного превосходства Руси» (то, что Г. П. Федотов несколько модернистски назвал отсутствием в Древней Руси «злобного национализма»)[186].
Обратим внимание, что летописец почти не знает легендарных этнических прародителей, дававших имена народам, то есть не следует классической схеме легенд «origo gentis». Русь у него – народ, пришедший с Рюриком «из-за моря», но не потомок праотца Руса. Единственная пара, которую можно рассмотреть в данном качестве, – некие мифические братья Радим и Вятко, от которых произошли соответственно радимичи и вятичи. Но никакого развития этот сюжет в этногенетической концепции летописца не получает, потому что и радимичи, и вятичи после Крещения вливаются в народ русь, и вятичи далее иногда фигурируют в летописи именно как недобитые язычники.
Приведенные нами примеры показывают, что этнокультурные воззрения летописца полностью вписывались в средневековую парадигму и с трудом могли быть адекватно прочитаны в Новое время. Национальные идеологи XVIII–XIX вв. обращались к летописным текстам с презентистских позиций и вычитывали там смысл, созвучный идеям романтического национализма или государственнической идеологии более поздней эпохи. В этом смысле русский медиевализм был в большей степени продуктом Нового времени и в меньшей степени опирался на средневековую традицию, чем в странах, где было большее влияние западноевропейской культуры. По всей видимости, это обусловлено тем культурным разрывом с традицией, который возникает в России в результате Петровских реформ.
Учеными неоднократно отмечалось происхождение термина «русь» как не этнонима, а политонима. Он выступал термином, объединяющим подвластное население под влиянием социальной страты, в которой большинство (на каком-то этапе) составляли представители варягов-руси (в вопрос об этнической принадлежности варягов не будем здесь углубляться ввиду безграничности научных споров на эту тему). Но это означало, что для элиты тема этнической принадлежности оказывалась второстепенной. Помимо конфессионального маркера, для правящей элиты важной оказывалась принадлежность к династии. Отсюда и особая роль династических легенд в становлении русского самосознания в средневековый период.
Формирование династического мифа и его развитие в XV–XVI веках
Формирование единого централизованного государства в конце X–XVI в. предполагало формулирование представлений о его происхождении и месте в мире. Арсенал отечественного исторического опыта сводился к генеалогическим сюжетам. Действительно, московский князь владел Московским княжеством по праву наследования. Российское государство образовывалось и расширялось в результате присоединения новых территорий и государственных образований к Московскому княжеству. Природа власти великого московского князя при этом не менялась. Окончательно усвоив в XV в. титул великих князей Владимирских, московские князья продолжали оставаться прежде всего князьями Московскими, поскольку и ранее, в XIV столетии, они имели право на великое княжение и периодически становились великими князьями Владимирскими. В любом случае право и на этот титул, впрочем, воспринимавшийся в XVI в. как анахронизм, подтверждалось генеалогическими аргументами. Московские князья имели право на титул великих князей Владимирских, поскольку принадлежали к династии Рюриковичей.
Проблема, которая стояла перед московскими князьями, заключалась в необходимости выделить из всего Дома Рюриковичей одну династическую линию, а именно – предков московских князей. В статье «А се князь русьстии», составление первоначального текста которой относится, вероятнее всего, ко второй четверти XIV в.[187], московские князья и их непосредственные предки фигурируют с прозвищами: Владимир Мономах, Юрий Долгорукий, Всеволод Великое Гнездо, Александр Невский или Великий, Даниил Московский, Иван Калита[188]. Почти все прозвища были изобретены книжником – возможно, составителем рассматриваемого текста. Впрочем, если прозвище уже существовало в письменной или устной традиции, то оно заимствовалось[189]. Но по большей части московские князья и их предки прижизненных прозвищ не имели, и их приходилось придумывать, чтобы выделить эту династическую линию из сонма многочисленных князей Рюриковичей. В XV или начале XVI в. своеобразный именослов московских князей пополнился еще одним прозвищем: московского князя Дмитрия Ивановича стали называть Дмитрием Донским, по-видимому, под влиянием «Сказания о Мамаевом побоище»[190]. В XVI в. Симеона Ивановича, сына Ивана Калиты, стали называть Гордым[191]. Что характерно, на этом именословное творчество московских книжников иссякло. Московские князья XV в. Василий Дмитриевич и Иван III остались без прозвищ, а Василия Васильевича стали называть Темным уже в XVIII в.[192]
Другая попытка маркировать предков царствующей династии заключалась в канонизационной политике. Среди непосредственных предков московских князей имелось только два святых князя: креститель Руси Владимир Святославович и Александр Невский. В середине XVI в. имела место попытка организовать церковное почитание Даниила Московского, но эта инициатива до конца доведена не была, и обретение его мощей произошло только в 1652 г., когда этот князь как династ рассматриваться не мог[193]. Фигура князя Владимира стала использоваться в идеологических целях еще в XV в., когда появилось летописное известие о крещении Владимиром Суздальской земли и основании города Владимира на Клязьме. Таким образом, князь Владимир воспринимался как креститель не только Киевской Руси, но и Северо-Восточной тоже[194].
Александра Невского московские самодержцы воспринимали как святого предка-воина. Отправляясь в Казанский поход 1550 г., Иван IV молился у гроба Александра Невского. В житии святого князя, который почитался как преподобный, были вставлены рассказы о том, как Александр Невский помог Дмитрию Донскому в Куликовской битве, а Ивану IV – в сражении при Молодех. В обоих случаях был использован сюжет из первоначальной редакции, восходящей к XIII в., – так называемое «Видение Пелгусия». Ижорский староста Пелгусий увидел в небе свв. Бориса и Глеба, спешивших помочь «своему сроднику» Александру в Невской битве. Соответственно, в редакциях XVI в. Александр Невский отправлялся помогать «своим сродникам» Дмитрию Донскому и Ивану IV[195].
В середине XVI в., когда перед правительством Ивана IV была поставлена задача добиться признания его царского титула со стороны иностранных держав, решили просить константинопольского патриарха и собор восточных иерархов выдать грамоту о признании титула. Эта кампания была предварена рассылкой по монастырям и кафедрам православного Востока так называемого Царского синодика, который содержал имена царских предков – для поминания, которое щедро оплачивалось из Москвы. Параллельно с этим практика поминания древнерусских князей – предков царствующего Дома – утвердилась и внутри государства. Наконец, в 1560-х гг. была составлена «Степенная книга» – сочинение о русской истории, в которой каждая эпоха в становлении Руси-России соотносилась с очередным поколением династии московских Рюриковичей.
Необходимо было повысить исторический статус династии Рюриковичей, вывести ее на уровень мировых династий, способных конкурировать с византийскими императорами и европейскими королями. В ПВЛ содержится легенда о происхождении правящего рода Рюриковичей. Согласно ей, в 859 г. варяги «из-за моря» взимали дань с чуди, мери, ильменских словен и кривичей. В 862 г. племена взбунтовались и изгнали пришельцев. Дань платить они отказались. Освобождение от варягов нарушило хрупкое единство. Для восстановления порядка был призван варяг Рюрик, который и дал начало княжеской династии[196]. Эта легенда в более поздние эпохи была переосмыслена и мифологизирована в соответствии с запросами времени. В научной литературе она известна под названием Августианской легенды.
Имя римского императора Октавиана Августа (63 г. до н. э. – 14 г. н. э.) в качестве отправной точки генеалогии возникло неслучайно. Именно на правление Августа приходится рождение Иисуса Христа. В средневековой христологической литературе Август фигурирует как верховный правитель. Русская же Августианская легенда повествует о происхождении Рюрика, основателя династии древнерусских князей, от некоего Пруса, который назван родным братом Октавиана Августа.
Августианская легенда пользовалась широкой популярностью в XVI в. Она проникла в историописание (например, в «Воскресенскую летопись» и «Степенную книгу») и публицистику («Сказание о князьях Владимирских»), обсуждалась в дипломатической переписке (послание Ивана IV князю А. И. Полубинскому, письма Стефана Батория)[197].
Прежде всего, следует определить среду и время, в которое возникла Августианская легенда. Наиболее ранний ее вариант дошел в своеобразной трилогии, состоящей из трех разных текстов: собственно Августианской легенды, легенды о происхождении царских регалий («о дарах Мономаха») и родословия литовских князей. Один вариант этой трилогии носит название «Сказание о князьях Владимирских», а другой – «Послание Спиридона-Саввы».
Еще в литературе XIX в. был поставлен вопрос: какой из этих вариантов первичен? На него ответила Р. П. Дмитриева в своей кандидатской диссертации, изданной в 1955 г. в виде монографии. Р. П. Дмитриева текстологически доказала первичность текста, известного как «Послание Спиридона-Саввы», или «Послание о Мономаховом венце». Труднее оказалось датировать это произведение. Несомненной остается предложенная еще И. Н. Ждановым атрибуция автора как бывшего литовского митрополита Спиридона. Правда, против такого отождествления выступил В. И. Ульяновский, который отметил противоречия между фактами, изложенными в Послании, фактами в других произведениях митрополита Спиридона[198]. Однако предложенное В. И. Ульяновским объяснение этих противоречий едва ли можно признать приемлемым. Исследователь полагает, что Послание написано другим Спиридоном: не литовским митрополитом, а архимандритом Троице-Сергиева монастыря. Обратим внимание на первые слова Послания: «О Святем Дусе, Спиридон рекомый, Сава глаголемый, сынови смирениа нашего имярек радоватися, аще ти в потребу молитва смирения нашего с благословением»[199]. «Нашим смирением» называли себя в своих посланиях только церковные иерархи. Полагаем, что атрибуция данного текста архимандриту Спиридону несостоятельна[200].
Обратимся к тексту «Послания о Мономаховом венце». Как указано выше, в нем явственно различимы три сюжета: 1) происхождение Рюрика от брата императора Августа – Августианская легенда; 2) передача Владимиру Мономаху царских регалий из Византии – легенда о Мономаховых дарах; 3) родословие литовских князей. Первый сюжет рассказывает о восхождении родословной Рюриковичей к римским императорам. Этот сюжет встречается в средневековой культуре разных стран. А. Л. Гольдберг отмечал, что аналогичные легенды существовали в болгарской и сербской традициях[201]. Ближе других к Августианской легенде оказывается сербское предание, согласно которому сын родоначальника династии Неманичей Стефан Первовенчанный объявлен родственником Октавиана Августа, а относительно последнего сказано, что при нем родился Иисус Христос[202].
То же содержание, по существу, имеет и Августианская легенда. Она повествует о разделении «вселенной», т. е. тогдашнего цивилизованного мира, римским императором Августом после того, как он был увенчан регалиями древних царей: одеяниями первого египетского царя Сеостра, митрой индийского царя Пора и плащом («окровницей») царя Филикса. Август разделил «вселенную» между своими родственниками и приближенными. Среди них упоминается его брат Прус, который получил себе в удел берега реки Вислы с городами Марбороком, Торунью, Хвойницей и Гданьском, а также земли на восток до реки Неман. Призванный новгородцами Рюрик, согласно Августианской легенде, был потомком Пруса. А. Л. Гольдберг обратил внимание на прусскую тематику и попытался ее объяснить. Начиная с 1517 г. развивались дипломатические отношения России с Тевтонским орденом, который имел территориальные претензии к Польше. Правительство Василия III стремилось использовать слабый в военном отношении Тевтонский орден в предстоящей войне с Литвой и ее союзницей Польшей. Русско-ливонские договоры содержат перечисление польских городов, на которые претендовал Тевтонский орден. Важно, что только в договоре 1520 г. перечень этих городов точно совпадает с Августианской легендой: «магистру дело делати с тем нашым недругом с нами заодин и доставати ему тех своих городов, которые король держит за собою его городы прусские неправдою: Гданеск, Торунь, Марборок, Хвойницу»[203]. Таким образом, Августианская легенда в ее настоящем виде не могла появиться ранее 1520 г.
Другой важный вопрос, который следует из наблюдения А. Л. Гольдберга, касается авторства текста Августианской легенды. Исследователь резонно обратил внимание на знакомство автора с внешнеполитической конъюнктурой Русского государства начала 1520-х гг. Помещенный в текст Августианской легенды прусский сюжет имел политическое значение с 1517 по 1522 г., когда Россия и Тевтонский орден выступали союзниками против Польши. Разумеется, эта тенденция в политике не была у всех на слуху, и едва ли можно ожидать, что с нею был знаком девяностолетний митрополит Спиридон. Гольдберг предположил, что автором Августианской легенды был дипломат и переводчик Дмитрий Герасимов, живший в первой трети XVI в. Среди его дипломатических поручений была поездка в Кёнигсберг к гроссмейстеру Тевтонского ордена. В 1525 г. в разговоре с итальянским гуманистом Паоло Джовио Герасимов рассказал в числе прочего о том, где Пруссия и Ливония граничат с Россией, показал себя сведущим в вопросе о венчании на царство, а также перечислил те известные русским сюжеты античной истории, которые получили отражение в Августианской легенде: деяния Александра Македонского, римских императоров, Марка Антония и Клеопатры[204].
Второй сюжет Послания Спиридона-Саввы касается передачи царских регалий от византийского императора Константина Мономаха его внуку, киевскому князю Владимиру Мономаху. Этому дару предшествовал успешный завоевательный поход русских войск в византийскую провинцию Дакию. В ответ на грабительский поход русских войск Константин Мономах, согласно легенде, отправляет в Киев посольство во главе с эфесским митрополитом Неофитом, которое привезло киевскому князю Владимиру Мономаху богатые дары. Среди них выделяются царский венец (его снял со своей головы Константин Мономах), а также личные вещи кесаря Августа: ожерелье и коробочка (крабица) из сердолика. Относительно функционального предназначения коробочки сказано, что «из нея же Август, кесарь римскый, веселяшеся»[205].
Эта крабица, как и царский венец, впоследствии получивший название шапки Мономаха, были извлечены из великокняжеской казны непосредственно перед венчанием Дмитрия-внука. До этого обе драгоценные вещи хранились в казне московских князей. Они упоминаются еще в духовных грамотах Ивана Калиты как «золотая шапка» и «коропка сердоничная». По всей видимости, это были самые подходящие для венчания атрибуты. Шапкой Дмитрий был коронован, а коробочку ему торжественно подарил Иван III на пиру после венчания.
Позднее источники не упоминают коробочку. Вероятно, она пропала после ареста Дмитрия-внука в 1502 г.[206] Тем неожиданнее ее появление как «сердоликовой крабицы» в легенде о Мономаховых дарах. По всей видимости, о реальной коробочке уже успели забыть, но как царская регалия она должна была существовать. Так, в 1535 г. новгородский архиепископ Макарий в свой приезд в Москву поднес Ивану IV символические дары: наперстный крест и хрустальную крабицу, как полагаем, намекая на будущее венчание на царство. В позднейшее время за «сердоликовую крабицу» выдавали чашу из яшмы, которую при венчании на царство использовали как сосуд для мира[207]. Итак, упоминание в числе царских регалий сердоликовой коробочки указывает на конец XV в. как на время появления легенды о Мономаховых дарах.
Третья часть рассматриваемого комплекса содержит текст, называемый в научной литературе родословием литовских князей. В начале XVI в. представители литовской династии Гедиминовичей, выезжавшие из Литвы на службу московским князьям на протяжении XV – начала XVI в., при великокняжеском дворе соперничали с Рюриковичами и представителями старомосковских боярских родов, поэтому вопросы родословия разных групп придворной элиты были весьма актуальны. Так, родословие литовских князей, помещенное в официальный «Государев родословец» середины XVI в., выводит род Гедимина от полоцких князей. Родословие литовских князей, включенное в качестве третьей части в рассматриваемый комплекс текстов, рассказывает о родоначальнике литовских князей совсем иначе.
Гедимин, согласно этой родословной легенде, был рабом, конюхом некоего смоленского князя Витеня, сбежавшего из Руси после татаро-монгольского нашествия и поселившегося в семье литовского бортника, женившись на его дочери. Как отметила Р. П. Дмитриева, приведенная родословная легенда имеет источником тевтонскую хронику XV в.[208] Имеется в виду так называемый «Суммариум Ягайла и Витовта» – сочинение неизвестного рыцаря Тевтонского ордена, которое было написано после Грюнвальдской битвы. В этом сочинении Гедимин назван конюшим (pferdemarschalck) Витеня[209]. Р. П. Дмитриева считала, что заимствование из прусской хроники XV в. противоречит предположению А. Л. Гольдберга о причастности дипломатов 1520-х гг. к созданию этих текстов. На наш взгляд, напротив, это еще одно свидетельство знакомства автора с культурой Тевтонского ордена, а таковое могло быть именно у дипломатов и скорее всего в 1520-х гг.
Легенда, повествующая о происхождении Рюрика от Пруса, явилась важным конструктивным элементом формировавшейся в то время концепции династической монархии. Она была создана в парадигме западного подхода к истории, свойственного тому времени и утверждавшего происхождение современных государственных и политических институций от античности[210]. Спиридон-Савва как бывший литовский митрополит должен был хорошо знать придуманную в конце XV в. легенду о древнеримском полководце Палемоне и его дружине, которые якобы являлись предками литовской знати[211]. Августианская легенда принципиально не отличается от легенды о Палемоне и целого ряда ей подобных, над созданием которых в то время трудились интеллектуалы в разных странах Западной и Центральной Европы. Однако для российского читателя XVI в. родство русского царя с римским императором не являлось серьезным доводом в пользу легитимности монархии в России.
Причину этого следует усматривать в теократическом характере государственной идеологии России того времени. Император Август воспринимался прежде всего как язычник, хотя и современник Христа; язычником был и Рюрик. Важнее оказался факт Крещения Руси князем Владимиром Святославичем, ставший центральным сюжетом концепции династической монархии в России XVI в. Августианская легенда в общественной жизни того времени присутствует, но в весьма специфической сфере. Помимо нескольких списков «Послания о Мономаховом венце» и восходящих к нему произведений, что само по себе не свидетельствует об идеологической значимости Августианской легенды[212], она фигурирует в дипломатической сфере.
Во время Ливонской войны русские послы и сам Иван IV (в письме к вольмарскому старосте князю А. И. Полубинскому) подчеркивали знатное происхождение русского царя, ведущего свой род от римских императоров[213]. Западноевропейские путешественники, посещавшие Россию в XVI в., например имперские послы С. Герберштейн и Д. Принц, упоминают эту легенду[214], с которой их, вероятно, намеренно знакомили[215]. Полагаем, что Августианская легенда в России XVI в. была предназначена прежде всего для контактов с европейскими странами. Она утверждала высокий статус правящей династии, причем на языке образов и понятий, близких европейцам.
В XVI в. Августианская легенда отразилась в столичных памятниках историописания: Воскресенской летописи[216], «Степенной книге»[217]. На основе «Послания о Мономаховом венце» был создан комплекс родственных ему текстов – так называемые «Сказание о князьях Владимирских» и «Чудовская повесть», а также первая статья «Государева родословца»[218]. При включении в Воскресенскую летопись Августианская легенда претерпела небольшие изменения. Уже в первой редакции Воскресенской летописи, созданной на рубеже 1520-х и 1530-х гг., текст которой дошел до нас в небольших извлечениях в так называемом Медоварцевском летописце (ГИМ, Синод. 939), Прус назван братом императора Августа[219].
Отметим, что в «Сказании о князьях Владимирских», которое представляет собой незначительную переработку «Послания о Мономаховом венце», Прус именуется «сродником», то есть родственником Августа[220]. Так уже в первые годы бытования «Послания о Мономаховом венце» Прус из приближенного римского императора превратился в его брата. Кроме того, неопределенное указание на степень родства Пруса и Рюрика, которое читается в Послании: «И вселися ту Прус многими времены лет, пожит же до четвертаго рода по колену племена своего»[221], – в Воскресенской летописи существенно конкретизировалось. Рюрик сначала был объявлен потомком Пруса в четвертом колене, а затем это исправили для большей достоверности. В окончательном варианте Воскресенской летописи Рюрик назван потомком Пруса в четырнадцатом колене[222].
В XVII в. материал Августианской легенды включил в свое повествование автор «Сказания о Словене и Русе», которое, в свою очередь, оказалось включено в патриарший летописный свод 1652 г., а также распространялось в виде отдельных списков. В целом же в XVII в. интерес к Августианской легенде явно идет на спад.
Создание Святой Руси как истока Российского царства
Каждая церковь стремилась обрести своих святых, которые выполняли двойную функцию. С одной стороны, они представляли церковь среди других церквей, повышали ее престиж, придавали статус. С другой – святые выступали воплощением идеалов, христианской морали и в этой роли служили нравственными ориентирами, образцами для общества.
Первые русские святые были из княжеского дома Рюриковичей – Борис и Глеб (почитание возникает вскоре после их гибели, в XI в.), Ольга (почитание мощей с XI в., проложное житие со второй половины XII в.), св. Владимир (про-ложное житие со второй половины XII в., развитие почитания в XIII–XIV вв.)[223]. В этом смысле Русь следовала западноевропейской традиции аристократической святости, развития в первую очередь культов святых королей, в нашем случае – князей. Это указывает на роль власти в канонизационных процессах.
Второй линией была канонизация святителей, но она хронологически отставала. Первые святые были из церковных иерархов (региональные епископы), хотя их фигуры нередко легендарные. Например, легендарный первый русский митрополит Михаил, грек или «сириянин», был прославлен, когда его мощи перенесли в Киево-Печерскую лавру. Почитание первоначально носило местный характер. Дата его возникновения неизвестна, но точно фиксируется с XVII в. Предполагаемый первый епископ Новгорода, Иоким Корсунянин (ум. 1030 г.), стал местночтимым святым после 1439 г., когда архиепископ Евфимий учредил почитание нескольких средневековых новгородских иерарахов. Почитание киевского митрополита Илариона (ум. 1054/1055 г.) фиксируется не ранее XVII в. Число этих примеров можно расширить.
Момент возникновения культов фиксируется не без затруднений, потому что мы можем судить о нем только по дошедшим источникам (ранним спискам житий, упоминаниям о переносе мощей, посвящениях церквей и т. д.). Но не факт, что до нас дошли самые ранние, исходные свидетельства о возникновении почитаний. В то же время ранние и фрагментарные свидетельства не могут указывать на масштаб культа: местное почитание в рамках монастыря (характерно для захороненных в Киево-Печерской обители и других монастырях), почитание в рамках прихода, епархии, общерусское почитание и т. д. Поэтому о каком-то масштабном развитии культов русских святых мы можем уверенно говорить, когда эти свидетельства встречаются в более или менее репрезентативном масштабе, хотя бы в рамках города и земли (епархии). В большинстве случаев получается, что возникновение культа отделено от смерти святого интервалом в несколько десятилетий или даже столетий. Инициаторами почитания выступали местные церковные и светские власти, а также монастыри и крупные приходы, заинтересованные в появлении собственных святых.
Расширение круга русских святых через обращение к фигурам средневековых персонажей происходит в XIV–XV вв. Как пример можно привести реформу новгородского архиепископа Евфимия (1429–1458 гг.), который после 1439 г. учредил культы восьми новгородских епископов и архиепископов и трех князей XI–XIV вв.[224] История новгородского Средневековья после этого стала иной: она стала историей святых правителей и святителей, которые своими подвигами благословляли и хранили Великий Новгород. Это уже была не просто история земли, принявшей христианство, – она имела своих святых, просиявших в ней с древности до современного XV столетия.
Почему это произошло именно при Евфимии, во второй четверти XV в.? Нам представляется, что потребность к поиску своих святых в русском Средневековье была связана с расколом восточноевропейского православного мира. В 1416 г. Григорий Цамблак был поставлен митрополитом западнорусских епархий. Ферраро-Флорентийский собор и поставление митрополита-униата Исидора на Московскую митрополию ситуацию усугубило еще больше. Исидор бежал из Москвы. Результатом раскола стало утверждение автокефалии Русской православной церкви в 1448 г. В этом контексте резко повышался запрос на своих святых, которые подкрепляли бы авторитет Русской церкви в контексте раскола. Причем святых не недавних по времени жизни, а древних, авторитетных, маркирующих своими подвигами все ступени истории русского православия с XI в. Этот процесс «изобретения традиции» был продолжен в XVI–XVII вв., канонизация средневековых святых приобретала все большие масштабы (макарьевские канонизационные соборы 1547 и 1549 гг., «Великие Четьи Минеи» и т. д.). Данный процесс имеет сходство со стихийным медиевализмом раннего Нового времени, когда средневековые сюжеты привлекаются к решению актуальных для своего времени задач.
Особенности изображения в XVI веке древнерусской истории
В конце XV в. происходит объединение разрозненных земель и княжеств под властью Москвы. За время правления Ивана III (1462–1505 гг.) территория «государства всея Руси» растет взрывными темпами: она увеличивается с середины XV к началу XVI столетия в шесть раз. При Василии III (1505–1533 гг.) была окончательно уничтожена удельная система; редкие уделы, которые мелькают на страницах русской истории до 1580-х гг., носили уже символический характер (например, крошечный удел получил царевич Дмитрий Угличский, последний сын Ивана Грозного, погибший при таинственных обстоятельствах в 1591 г.). В 1547 г. Россия меняет форму правления, учреждается Московское царство. В 1589 г. русская митрополия преобразуется в Московскую патриархию. Эти и многие другие перемены означали все больший отход от средневековых традиций, постепенное превращение России в государство раннего Нового времени[225].
Насколько в России того времени осознавалось нарастание дистанции со средневековым периодом, насколько он воспринимался как другая эпоха? В XVI столетии в восприятии истории Российского государства одновременно развивались две тенденции. С одной стороны, никакого разрыва с прошлым нет. Московская Русь ощущает и декларирует свой континуитет с Русью XXIV вв. Довольно точно сформулировал А. В. Каравашкин: «Династия Калитичей воспринимается на Руси как уникальная и последняя в мировой истории. Именно потомкам Владимира Святославича, Крестителя Руси, великих князей Александра Невского, Даниила Московского и Дмитрия Донского было уготовано, как считали в то время, стать покровителями всероссийской христианской паствы накануне Страшного Суда»[226].
С другой стороны, перед нами уже не Московское княжество, а Российское царство, которое должно сочинить, вообразить свою историю как приготовление к настоящему, как путь от Крещения к Православному царству и далее к Небесному Иерусалиму. Это линеарная схема, но уже предполагающая некоторую иерархию событий, а также селекцию исторических сюжетов. Перестали представлять интерес, став незначимыми, истории уделов (вплоть до утраты региональных летописей и полного доминирования с конца XV в. московских летописных сводов)[227]. В «Степенной книге» (начало 1560-х гг.) возникает идея «степеней» русской истории, которая воображается, как лестница (по аналогии с «Лествицей» христианского мыслителя Иоанна Лествичника), ведущая на Небеса. Ее ступенями являются духовные подвиги русских православных правителей, святителей и святых. Всего выделялось 17 таких степеней (высшая, 17-я, – царствование Ивана IV). Эта идея предполагала, что были прошедшие эпохи, и использовала трактовку их истории в придании смыслу современным событиям. Собственно, данная мысленная схема уже несет в себе некоторые черты «медиевализма до медиевализма».
Ученые неоднократно отмечали новизну такой структуры «Степенной книги», не имеющей аналогов в предшествующих русских летописях. Интересно, что наиболее вероятный ее источник – средневековый памятник славянского происхождения, «Жития сербских королей и архиепископов», хотя дискуссионным остается вопрос о возможности знакомства автора «Степенной книги» с текстом «Житий…»[228]. Несомненна связь образа с христианской символикой, образом лестницы как пути постепенного восхождения к Богу, эволюции, необходимой для христианина, преодолевающего свою греховность и утверждающегося в своей вере, обретающего Господа в сердце своем; но такой же путь в Священном Писании совершают и народы, и государства – через преодоление своего греха, путь исправления и обретение Земли обетованной. В этом смысле символика Израиля и трактовка Руси как Нового Израиля, характерная для русской мысли XVI в.[229], безусловно, оказала влияние на концепцию «Степенной книги».
А. С. Усачев обратил внимание на новые мотивы в изображении в «Степенной книге» древнерусской истории. Средневековые летописцы и авторы хронографов стремились представить возникновение Руси как часть мировой истории, вписывая его в разные схемы – в деятельность апостола Андрея, византийскую историю, рассказ о славянской грамоте и Кирилле и Мефодии, приход варяга Рюрика, походы на Константинополь и т. д. Автор «Степенной книги» отстаивает идею, что истоки славной истории Руси не только в Крещении, но и в подвигах русов до Крещения. При этом происходит селекция сведений русских летописей, которые могут преуменьшить высокую роль русов. Например, как показал А. С. Усачев, в «Степенной книге» резко сокращена информация о хазарах, бравших дань со славянских племен, Киевская Русь сразу изображается как территориально обширная единая централизованная великокняжеской властью держава и т. д.[230] Князь Владимир назван основоположником и политического, и религиозного устройства Руси, основателем царского рода.
А. В. Сиреновым отмечена важная особенность «Степенной книги»: главным героем в каждой степени выступает князь – генеалогический предок Ивана Грозного. Деятельность всех остальных князей второстепенна или вообще затушевывается (в отличие от других летописей). Все это указывает на ростки «медиевализма до медиевализма»: автор «Степенной книги» одним из первых в отечественной исторической мысли осознавал важность изображения древней, исходной истории России для современности и начинал ее приукрашивать, редактировать, конструировать в соответствии с идейными запросами своего XVI в. Этот подход оказался очень удачным и востребованным: А. В. Сиренов обратил внимание, что перечень основных правителей – героев русской истории, равно как и главных ее событий, заложенный в «Степенной книге», в XVII–XVIII столетиях практически в том же виде повторяется в основных исторических сочинениях, вплоть до В. Н. Татищева и Н. М. Карамзина[231].
В «Степенной книге» был намечен пространственный вектор русской истории: Киев (1–5-е степени) – Владимир (6–8-е степени) – Москва (с 9-й степени). Тем самым, как показано А. С. Усачевым, впервые четко выделяется древний период, с которым хотя и существует континуитет, но который в историческом и пространственном отношении стоит особняком[232]. При этом, что показательно, древняя история подгоняется под запросы современности. Во всех средневековых летописях центром зарождения и русской государственности, и православной веры выступает Киев: там сидели Олег, Игорь, Ольга, Владимир и другие князья-основатели государства, и там произошло Крещение Руси. Но в XVI в. такое утверждение звучало неуместно, поскольку Киев находился в составе Великого княжества Литовского. Совсем умалить его роль было нельзя, поэтому в «Степенной книге» ему оставили Крещение Руси, но, как показал А. В. Сиренов, колыбелью верховной – в дальнейшем царской и самодержавной – власти изображен не Киев, а Великий Новгород[233]. Перед нами пример сознательного моделирования прошлого, который применительно к более поздним эпохам мы бы назвали медиевализмом.
Впрочем, приведенные нами примеры мозаичны, можно даже сказать, точечны и носят стихийный, интуитивный характер. Русская историческая мысль двигалась в том же направлении, что и европейская, но ей не хватало эпохи Ренессанса, благодаря которой были четко сформулированы и осознаны культурные грани между Античностью, «темными веками» (которые и были названы Средними) и Возрождением античных культурных идеалов. На Руси же такие четкие этапы эволюции культуры оказались не выражены, процесс шел в том же направлении, но был «смазан», а чувство континуитета было гораздо более ярко выраженным, причем не только между теми периодами, которые мы сегодня называем Московской и Древней Русью, но и между всей русской историей и библейской историей. Недаром в той же «Степенной книге» русские правители сравниваются с библейскими царями Давидом, Соломоном, византийским императором Константином и т. д. Сюда же можно отнести сформировавшуюся в конце XV–XVI в. концепцию Руси как Нового Израиля, а ее населения как нового богоизбранного народа (по аналогии со Священным Писанием).
Показательной иллюстрацией к такому «сплошному» восприятию исторического процесса является другой памятник исторической мысли XVI в. – Лицевой летописный свод (1570-е гг.). Он содержит иллюстрированную всемирную историю от Адама и Евы до событий на Руси в 1560-х гг. От библейских времен до XVI в., от Палестины и Древней Греции до Московской Руси на миниатюрах одинаковы доспехи воинов, одежда людей, облик построек, предметов быта и т. д. Приемы изображения, разные сцены (совет правителя с подданными, интронизация, свадьба, похороны, битва и т. д.) также неизменны в иллюстрировании разных эпох. Миниатюристы считали возможным изобразить историю как единую картину, как историю, «бывшую вчера». Разницу в хронологии возможно понять только по подписям под миниатюрами. В визуальном ряде она никак не проявляется.
До нас не дошли тома Лицевого свода, содержащие изображения первых страниц русской истории. Любопытно было бы посмотреть, как миниатюристы изобразили бы «Сказание о славянской грамоте», призвание Рюрика и т. д. Впрочем, почти наверняка мы бы не увидели там чего-то отличного от миниатюр, которые изображают святителей и князей применительно к более поздним эпохам. Стиль Лицевого свода не меняется, авторы не пытались отразить изменение времени в своих миниатюрах.
Первый русский правитель, который оказался отражен в миниатюрах дошедших до нас страниц Лицевого свода – князь Владимир Креститель. Вообще-то, первая дата, которая нам доступна, – 1122 г., рассказ о приходе Владимира Мономаха в Киев и вокняжении. Но в этом же томе содержится рассказ о происхождении полоцких князей, и там говорится о Рогволоде, сватовстве Владимира к Рогнеде и т. д. Есть миниатюра, изображающая поход Владимира на Полоцк в 978 г., ничем не отличающаяся от сотен других миниатюр, изображающих походы XII–XVI вв. Единственная любопытная деталь – и Рогволод, и Рогнеда изображены в пятилопастных коронах европейского типа. Изображение княгинь в таких коронах типично для Лицевого свода, но Рогволод, таким образом, приобретает статус иноземного короля. А покорение Владимиром Рогнеды, следовательно, приобретает новые масштабы – фактически была взята силой в жены иноземная принцесса, а не региональная княжна.
Другой сюжет, который мог бы стать медиевальным, поскольку стал востребованным в поздние эпохи, – получение Владимиром Мономахом из Византии короны, известной в дальнейшем как шапка Мономаха. Великий князь изображен на нескольких миниатюрах, но шапка изображена очень условно, как княжеская шапка вообще (неоднократно позже встречающаяся на многих миниатюрах).
В XVI в. получают распространение летописи, в которых сведения по русской истории встраивались в рассказ по истории всемирной – так называемые хронографы. Тем самым древнерусские книжники определяли место России в мировой системе, как они ее понимали. Здесь опять-таки сложно найти какое-то особое ви́дение средневековой эпохи как отличной от XVI в. Всемирная история изображалась как эволюция от библейской и церковной истории к истории христианского Рима, Византии и далее – к истории истинно верующих стран, то есть прежде всего России. История России в Хронографе редакции 1512 г. изначально перекликается с византийской историей (гл. 167 «О Словенском языце и о руском», содержащая краткий пересказ этногенетических легенд «Повести временных лет»)[234]. Обратим внимание, что для летописца славяне и русь – это изначально «языцы», языческие народы по библейской схеме. Они и ведут себя соответственно: нападают на православную Византию, дерутся друг с другом и т. д. Настоящая, самостоятельная история Руси начинается с Крещения Владимиром (гл. 178 «О руском великом князи Владимере и о Крещении его»)[235]. С этого момента русская история становится в центр повествования Русского хронографа.
На начальных страницах прошлого Русской земли в XVI в. видели важные для мировоззрения средневекового человека истоки, с их помощью объясняли происхождение современности. Именно в эту эпоху складывается, если можно так выразиться, своего рода пантеон исторических персонажей средневековой Руси, который будет востребован и в более поздние эпохи. Он отразился в исторических росписях в Грановитой палате Московского Кремля, сделанных в середине XVI в. Здесь представлены герои русской истории: Владимир Святославич, Борис, Глеб, Владимир Мономах, Андрей Боголюбский, Всеволод Ярославич, Федор Черный, Александр Невский, Даниил Московский, Михаил Тверской, Дмитрий Донской, Иван Красный, Василий II, Иван III, Василий III. Перечень этот, как справедливо отмечает А. В. Сиренов, довольно примечателен: в нем отсутствуют некоторые персоны, которые мы из XIX–XX вв. привыкли считать знаковыми для русской истории: например, Ярослав Мудрый, Юрий Долгорукий, Иван Калита[236].
Тогда же начинают формироваться представления о знаковых событиях русской истории, которые потом примут канонический вид. Например, самые ранние сведения в летописных сводах начала XV в. о Куликовской битве 1380 г. не несут в себе особо важной информации: было побоище с татарами на Дону, наши победили. Однако в конце XV в., а возможно, в начале XVI в., появляется «Сказание о Мамаевом побоище»[237], которое содержит все те символические подробности, которые мы до сих пор знаем о Куликовской битве (детали поединков, поведения князей, Мамая и т. д.)[238].
В «Сказании о Мамаевом побоище» фактическая сторона повествования полностью подчинена задачам обоснования идеологии богоизбранного Русского государства – Нового Израиля и особого статуса его правителя – христианского царя (царем называется князь Дмитрий Иванович). Основной мыслью памятника является противостояние «правды» и «отступников», царя – служителя истинного Бога и царя ложного. В ходе этого противостояния Бог «сотворил волю боящихся его», поскольку «Бог дает власть, ему же хощет»[239]. Куликовская битва изображена как своеобразное «Божье поле», поединок на Высшем Суде, где стороны проходят проверку на приверженность правде. Это литературное воплощение одной из центральных идей русской истории (поиск правды) оказалось столь успешным и мощным по эмоциональному воздействию на читателя, что образ Куликовской битвы вплоть до наших дней занимает важное место в русской национальной исторической и культурной памяти. Кроме церковных символов, наверное, нельзя привести других примеров такой долгоживучести раз и навсегда заданного образа. Перед нами пример стихийного медиевализма, когда древнерусское событие приобретает позднее символическое звучание и активно используется в политическом и национальном дискурсе последующих эпох.