Кровь и серебро бесплатное чтение
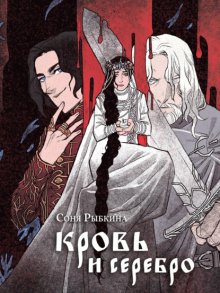
«Серебряная клятва». Екатерина Звонцова
«Обращенный к небу». Василий Ворон
«Полозовка». Наталья Энте
«Кровь и серебро». Соня Рыбкина
«Год змея». Яна Лехчина
«Змеиное гнездо». Яна Лехчина
Корректор: М. Скворцова
Выпускающий редактор: М. Ланда
I
Хогард стоял на балконе, взгляд его был устремлен вдаль. Неизвестно, что представало перед его мрачными очами; люди хана, готовящиеся к наступлению, были еще далеко. По расчетам князя, у него оставалось около месяца, чтобы подготовить войско – войско, которое в несколько раз уступало бы многочисленной рати хана и, несомненно, будет разбито в краткие сроки. Но Хогард был не из тех, кто сдается без боя; он мучительно пытался найти решение. Конечно, численность его соратников не могла возрасти втрое, поражения было не избежать. Война всегда страшила князя; она унесла его отца, унесла брата и ничего, кроме горя, не сулила и в этот раз.
Бесконечное небо, пока еще мирное и лживо обещающее благоденствие, расстилалось перед Хогардом. В соседних покоях наряжали к пиру Морену, его единственную дочь. Казалось, мыслями князь был сейчас где-то далеко, будто бы уже на пиру – его занимали будущие смотрины. Мысль выдать дочь замуж до войны, спасти ее от гибели, от плена, от бесчестия и одновременно соединиться с зятем во имя общей победы показалась Хогарду невероятно удачной, но теперь его мучили дурные предчувствия. Никогда он не разлучался с дочерью больше, чем на несколько месяцев, да и последнее случалось настолько давно, что теперь князь и представить не мог любимое дитя в чужих землях. Выхода не было. «Скоро мой дом может стать вотчиной заморского хана, – подумал Хогард. – Нужно торопиться со свадьбой».
Смотрины устраивались им для отвода глаз; брак Морены с северным господарем был делом решенным. Не доверял князь северному владыке, но союз с ним в данных обстоятельствах был ему выгоден. «Хан не ожидает, что ему предстоит столкнуться с таким серьезным противником; что ж, его ждет приятное открытие».
Хогард с сожалением отмечал, что предстоящая перемена совсем не радовала Морену. Безусловно, она готова была подчиниться воле отца, и хотя война никогда не считалась уделом женщин, Морена догадывалась о причинах своего скоропалительного замужества. Знала она и о том, что все было решено заранее и выбор, который ей предстояло сегодня сделать, давно сделан за нее; чужой господарь не страшил ее, но из-за предстоящей разлуки с родными она не могла больше участвовать в привычных своих развлечениях. С детства Морена отличалась бунтарским нравом, и обычные занятия девушек не прельщали ее; отец снисходительно относился к ее предпочтениям и с грустью отмечал, что однажды ей встретится на пути тот мужчина, которому предстоит обуздать ее дикий нрав. Больше всего в жизни Хогард чтил волю и свободный дух, но женщина могла лишь мечтать об этом. Ему было больно представлять, как его дочь – свободолюбивая, взращенная им в полной воле – будет заперта в женском тереме, окруженная недалекими боярынями, сытыми и удовлетворенными своей долей.
В такие минуты князь вспоминал ее мать Вию: высокую, чернокудрую, сильную женщину. Вия умела быть мягкой, но решительной; князь настолько любил свою жену, что мысль о ней, сидящей взаперти, вызывала у него отвращение. В народе боготворили молодую княгиню за ее простоту, скромность и силу, но приближенные бояре не доверяли ей, завидовали ее красоте, положению, которое она снискала при дворе мужа. Происхождение ее никому не было известно, даже самому Хогарду; говаривали, что она пришла в Златоград с запада, желая спастись от нежеланного брака. Злые языки же глаголили, что в родных землях ее окрестили ведьмой и она отправилась искать убежище на чужбине… Князь никогда не задал жене ни одного вопроса касательно ее прошлого; это не задевало его чувства к ней и мало его интересовало.
Вию отравили – должно быть, те, кто считал ее ведьмой. Хогард необыкновенно ярко помнил тот день; помнил, как их сын стоял в изножье ее постели, как Морена, тогда еще совсем малютка, тихонько плакала в своей колыбели, словно чувствуя происходящее в их доме. Князь больше не женился, не желая, чтобы у его детей была мачеха; бояре считали, что одержимая бесами ведьма была настолько сильна, что даже после ее смерти их повелитель находится во власти ворожбы.
Тоска по матери отчасти разъединяла брата и сестру. Яромир, потерявший мать в восемь лет, ежедневно и еженощно жил с этой болью, не в силах с ней расстаться; Морена же с удовольствием слушала рассказы отца о княгине; в ней тоска быстро превратилась в гордость, ведь она не знала матери, а потому не могла разделить горьких страданий брата. Но, несмотря на всю свою разность, они очень любили друг друга, и Яромир, повзрослев, начал заботиться о маленькой сестренке. Как и отец, он не желал для нее обычной женской печальной участи, но прекрасно понимал, что избежать ее Морене никак не удастся; северный господарь, которого отец выбрал ей в женихи, вызывал у него большую неприязнь, однако перечить отцовской воле он не смел. Их княжество находилось на грани войны, на грани разорения и распада; возможно, этот брак мог бы их спасти…
Хогард вернулся с балкона в просторные покои; в них царил полумрак. На столе лежала засохшая веточка рябины; ее алые, жизнерадостные ягоды словно заржавели, стали морщинистыми, как лица столетних старух. Рядом громоздились свитки, книги; судя по оставленным бумагам, наполовину исписанным извилистым почерком, и небрежно брошенному перу, князь вынужден был прервать работу под влиянием тягостных размышлений. Весь стол был завален разнообразными предметами; с него спускалась багровая бархатная скатерть, и только одна его ножка была шаловливо выставлена на радость зрителям. Впрочем, зрителей не было, а Хогард вряд ли обратил бы на это внимание. Громоздкие дубовые шкафы стояли у противоположной стены, и кровавый ковер, весь в узорах, покрывал пол – пол, скрипящий под тяжелыми шагами князя. Все покои имели этот кровавый цвет; да и богатое одеяние их владыки напоминало открытую рану.
В дверь постучали, отвлекая Хогарда от печальных мыслей.
– Он пришел, князь, – сказал вошедший слуга. – Ждет, пока ты примешь его.
– Проклятый колдун, – прошипел князь едва слышно. – Впусти его!
Человек, появившийся вскоре в зале, внушал князю отвращение – и, в чем Хогард никогда бы не признался, страх. Несмотря на слухи, ходившие о его покойной супруге, князь никогда не встречал доказательств ее ворожбы, да и само колдовство с ранних лет вызывало в нем ужас. О колдуне, который так ждал приема, сказывали всякое. Кто-то называл его обманщиком; кто-то говорил, что ему удалось достичь бессмертия; считалось, что однажды за неповиновение он погубил целый город, наслав на него невиданный мор. Одет колдун был, в отличие от князя, в светлые, серебряные одежды, покрытые заморским узором; в полумраке комнаты узор приобретал зловещий вид. Колдун был безбород; черные кудри доходили ему до плеч; синие, словно озера Средней Земли, глаза горели безумным блеском. В ушах у него, как с неприятным удивлением отметил князь, блестели тяжелые бирюзовые серьги.
– Ну что, светлейший господин, подумал ли ты над моим предложением? – спросил колдун бархатным тоном.
– Ты не получишь мою дочь, чертово отродье! – разъярился Хогард.
– Совсем ты стыд потерял, князь. И жизнь тебе, я вижу, не дорога, – колдун укоризненно покачал головой. Его бирюзовые серьги встрепенулись.
– Союз с Марилом не принесет тебе победы. – Марилом звали северного владыку. – Твой народ погибнет, едва хан вступит в Златоград. Неужели ты желаешь этого?
– Я скорее позволю дочери умереть, чем отдам в твои руки, – лицо Хогарда перекосило от омерзения.
– Тебе решать, князь, – колдун насмешливо поклонился. – Через месяц от твоего города останется одна зола, поверь моему слову, но я могу спасти его: запутать хана, уморить его войско; все, что твоей душеньке будет угодно. Цену ты знаешь.
– Ты не получишь мою дочь! – повторил князь.
Его била дрожь; бессильная злоба сковала душу.
– Как скажешь, – последовал спокойный ответ. – Я буду сегодня на смотринах; у тебя есть время до полуночи. Отдай мне княжну – и твой народ будет спасен.
Легкая усмешка тронула губы синеокого колдуна. В следующую секунду князь остался один.
Морену старательно готовили к пиру. Сначала девушки докрасна натерли ее белое упругое тело, окропили его заморскими маслами и благовониями, нарядили в шелка и кружева, заплели в косу ленты с самоцветами. Морена ко всему относилась безучастно, ничего вокруг ее не интересовало, думала она только о предстоящих смотринах: сколько князей, должно быть, съедется просить ее руки, сколько гостей соберется поглазеть на пригожую княжью дочку. И сегодня, сегодня впервые она увидит его, северного господаря Марила. Про него говорили, что он могуч и велик, грозен и беспощаден, неулыбчив и суров. Девушки, наряжавшие свою безрадостную госпожу, тихонько завидовали ее доле. «В роскошном тереме поселится Морена, – думали они, – государыней будет, детей родит». Каждая из них хотела бы на ее месте оказаться, а сама Морена думала иначе: «Лучше девкой в горнице, чем господаревой женой!» Сбежала бы, да отца жалко, взрастил он ее, дочку любимую, в благодати и радости, неужели она ему бегством отплатит?
«А погибнет мой муж в бою, что я делать стану?» – с отчаянием думала Морена. Ведь вдове господаря прямая дорога – в монастырь, монахиней.
Когда отец впервые заговорил с ней об этом браке, она приняла его решение мужественно, но теперь Морена думала лишь о том, что наденут ей на голову кокошник тяжелый, что косу не выйдет уже по-девичьи заплести, что в ее круге не будет больше незамужних и веселых девушек – и развлечений не будет прежних, и батюшки дорогого. Страх сковывал ей сердце; вот-вот ее выведут в зал, и она увидит его, своего невольного губителя, своего ненавистного суженого, а в будущее воскресенье обвенчают их – и увезут ее далеко-далеко, и запрячут в высокий терем, словно в башню, и свет белый отвернется от нее.
«Если бы не война, выдал бы я тебя через год замуж, – сказал ей батюшка. – Знаешь ты, дочка, другой участи тебе не может быть уготовано».
Знала это Морена, только вот еще в далеком детстве снился ей юноша, прекрасный, как майская ночь, и на шее у него мерцал оберег – яблоко хрустальное. Морена обычно не помнила своих снов, но яблоко то запомнила – яркое, блестящее; казалось, откусишь его – захрустит во рту, а потом прольется мякотью в жаждущее горло. Долго она ждала юношу с яблоком, надеясь, что ей предназначено нечто особенное, но теперь все мечты девичьи развеялись, словно дым, разлетелись листьями по ветру.
«Помнить надобно всегда и бога благодарить, – думала Морена, – не крестьянская я девка, не в землянке черной выросла. Судьба моя неблагосклонна ко мне, отбирает мою волю вольную, свободу мою крадет, только терем – не изба деревянная. Смириться, что ли? Стерпится – слюбится?»
За время приготовлений Морену несколько раз бросало в душе от смирения к полному неприятию – так она и не смогла договориться сама с собой. Покоя не было ее бунтарскому нутру. Шелк щекотал ее нежные пальцы, не знавшие грубой работы; из-за громоздкого венка с каменьями она едва могла поднять голову; расшитые туфельки сжимали ноги, словно кандалы, а от запаха благовоний она готова была упасть в обморок. Ей предстояло вынести несколько долгих часов и сотни взглядов, один из которых был для нее самым невыносимым и роковым. Разряженная и напомаженная, с неестественным румянцем на щеках, Морена чувствовала себя товаром, причиной для выгодной сделки.
Ее вывели под руки в зал, и алчные глаза будущего жениха воззрились на нее. Все и вся смотрели не отрываясь на прелестную княжью дочку, но его она узнала сразу, хотя и не видела никогда раньше. Он был еще молод, но волосы его и густая борода были белы как снег. Казалось, он единственный здесь выделялся среди противных, одинаковых бояр и князей. Однако, бросив взгляд в левую половину зала, Морена заметила еще одного, отличного от других. Одет он был, как и полагалось, в алое с золотом; в отличие от остальных гостей, на его жгучих черных волосах, ниспадающих тугими кольцами до плеч, красовался венок – только не из каменьев, как у самой Морены, а из обычных васильков. И он один здесь не носил бороды.
Морену подвели к широкому стулу подле княжьего трона; она медленно опустилась на стул и взглянула на отца. Тот с явным недовольством наблюдал за южным княжичем – так Морена окрестила про себя юношу в васильковом венке. Марил, ее жених, смотрел воинственно и сурово; Морене стало не по себе. Тревога вернулась к ней вместе с мыслью о такой близкой теперь разлуке с домом.
Стол ломился от яств, но печальная княжна не взяла ни кусочка. Разные соленья, варенья, рыба и птица покоились на широких блюдах; багровое вино в кубках пугало Морену, создавая впечатление, что оно и не вино вовсе, а ее кровь, которую суждено было испить каждому во время этого страшного вечера. Фрукты, лежащие в высокой вазе: рубиновые гранаты, изумрудные, спелые виноградины, которые так и просились на язык, разрезанные яблоки, немедленно находящие приют во рту очередного жадного гостя, – все мелькало перед Мореной нескончаемой каруселью. Она обратила внимание, что южный княжич, будто следуя ее примеру, отказался от еды. Перед ним одиноко стоял серебряный кубок, также наполненный вином. Княжич не сводил глаз с Морены и мягко улыбнулся ей, когда она случайно встретилась с ним взглядом; она едва улыбнулась в ответ, надеясь, что и отец, и Марил слишком поглощены празднеством, чтобы заметить ее улыбку. Княжич поднял кубок, как бы намекая, что пьет в ее честь. Он пригубил вина; крупный перстень на его безымянном пальце замерцал призывно.
Смотрины начались во второй части пира, когда столы были почти опустошены, а гости, разомлевшие от еды и вина, устали от долгих бесед и едва прислушивались к остроумным репликам шута, который появился словно бы из ниоткуда, весь выряженный, как заправский господин, и только шутовская шапка да прибаутки его выдавали, кто такой он на самом деле. Князь Хогард поднялся с трона, его примеру последовала Морена. Все жаждущие ее руки по очереди подходили к ней для поклона. Южного княжича, как с неожиданной грустью отметила Морена, среди них не было. Марил оказался последним; он кланялся медленнее других, растягивая момент, будто больше никогда не желал покидать княжну.
Наконец он отошел, присоединившись в ожидании к остальным женихам; роковая минута наступила. Казалось, Морене вот-вот сделается дурно; венок стал еще тяжелее, ожерелье сдавило грудь, несомненно, жаждая удушить ее; ног она почти не чувствовала, настолько сильны были тиски ее очаровательных, изящных туфелек; шелк под пальцами вдруг стал жестким, колючим, чужим, пол под ней поплыл в неизвестном направлении, потолок пустился в пляс… Зал будто закружился в бешеном танце, весь аляпистый, безвкусный, отвратительный в своем великолепии, сводящий с ума своей яркостью; гул голосов усилился, чей-то безобразный смех донесся до Морены – она хотела закрыть уши руками, но этого сделать было нельзя. Шелк не отпускал ее руки. Отчаяние плескалось в Морене, плескалось в самой комнате, в ее отце, отдающем любимую дочь в чужие края; это отчаяние смешивалось с алчным торжеством северного господаря, с колдовским хохотом южного княжича, с болью всего города, застывшего перед приближающейся войной.
Казалось, минута эта длилась год, а может быть, и целую жизнь – но оборвалась она стремительно. В зал вдруг вбежал один из приближенных князя, Арист, – Морена узнала его. Он заведовал военным делом.
– Князь, князь, – прокричал он, – худые вести принес я тебе! Не осуди своего верного слугу за то, что ворвался он вот так к тебе на пир, но вести эти не могут ждать.
– Говори же! – приказал ему Хогард.
– Войско хана ближе, чем мы ожидали, князь. Вряд ли у нас есть больше недели.
Повисла тишина – такая ослепительная и громкая, словно десятки голосов еще продолжали свой разговор. Но все молчали.
– Предупреждал я, князь, сговор с Марилом не доведет тебя до добра, – тот, кого Морена приняла за южного княжича, поднялся из-за стола и вышел вперед. – Я говорил тебе, срок истекает в полночь. Выбор за тобой.
Князь не ответил ничего; его лицо было мертвенно-бледным, как борода Марила.
– Что случилось, батюшка? – спросила шепотом Морена. – О чем предупреждал тебя молодой княжич?
Хогард горько усмехнулся.
– Это не княжич, а колдун заморский. Он вызвался помочь нам, но цену назвал страшную.
– Какую цену, батюшка?
– Тебя в жены требует. Пойдешь за него, дочка?
Сердце Морены затрепетало в груди, будто пойманная птичка. Она посмотрела на Марила; тот стоял в глубине зала, погруженный в свои думы. Не ведал еще северный господарь, что его суженую вот-вот сделает князь колдуновой невестой. Сам колдун стоял ближе к ним и всем своим видом выражал нетерпение; до полуночи оставалось еще время, но его было недостаточно, чтобы найти другой способ спасти княжество от хана. Морена изучала теперь колдуна: гордый вид, расшитый золотом алый кафтан, красивое лицо в обрамлении черных кудрей, цветочный венок, пальцы, усыпанные перстнями… Ничего необычного словно и не было в его облике, но его красота смущала ее, а глаза будто горели дьявольским огнем – хотя, наверное, ей казалось так оттого, что в одну секунду он перестал быть для нее обыкновенным княжичем.
Хогард молчал, ожидая ответа дочери. В глубине души он желал, чтобы она отказалась – ни о себе, ни о своем городе он не думал сейчас. Пусть лучше Златоград, его дом, его вотчина погибнут, пусть погибнет он сам, но его дочь будет спасена в далеком господарстве.
– Пойду, батюшка, – сказала Морена тихо, но решительно. – Пойду.
Колдун усмехнулся, будто услышал ее слова.
– Подойди, – велел ему князь.
Колдун выполнил приказание, но весь вид его выражал пренебрежение; он был хозяином здесь, и только от него зависела судьба этого города – и этой княжны.
– Моя дочь согласна стать твоей, но если ты не выполнишь своего обещания, я отыщу тебя хоть на самом краю света. Отыщу – и убью, – Хогард понимал бессмысленность своей угрозы, но удержаться не смог.
– Убьет! Вы слышали? Этот князь окончательно потерял страх. – Колдун мерзко расхохотался. – Ни один заточенный клинок, ни одна отравленная стрела еще меня не коснулась, и, поверь мне, я всегда держу свое слово. Хан не тронет твоего города, можешь быть спокоен.
– Зато трону я, – вперед вышел Марил. – Ты обещал мне свою дочь, а теперь, как я посмотрю, готов отдать ее поганому колдуну.
– А я пообещал князю спасти его город, – спокойно ответил колдун. – И хотя я не думал охлаждать пыл каких-то северных князьков, полагаю, тебе не захочется иметь дело со мной. Убирайся.
– Ты слишком много думаешь о себе, бесовское отродье, – зло выплюнул Марил. – Однажды найдется воин, который поразит тебя.
– Неужели ты желаешь расправиться со мной? – удивился колдун. – Как я посмотрю, здесь собрались одни храбрецы, только, видно, дальше оскорблений ваша смелость не простирается. Брось меч, господарь, – сказал он Марилу, рука которого уже сжала рукоять. – Твое оружие на мне и царапины не оставит.
Морена, следившая за их словесным поединком, думала о том, что ждет ее в колдовской обители. Не понимала княжна, зачем она колдуну понадобилась; союз с ее отцом не мог принести ему никакой выгоды – а она сама?.. Ничего особенного в ней не было. Да, недурна собой, но разве колдун не видел на своем веку достаточно красавиц, разве не насладился женщинами вволю? Сколько он прожил уже, думала она, должно быть, не одну сотню лет! Когда разговор, наконец, закончился и колдун приблизился к Морене, она почувствовала, что жар заливает ей щеки.
– Пойдем, красавица, путь длинный. Как ты понимаешь, без венчания обойтись придется, негоже колдуну в богову церковь ступать.
Глаза княжны были устремлены в пол; она вся дрожала.
– Не смущайся, девица. У меня на расправу рука легка, сбежишь – найду. В остальном тебе нечего бояться.
Он бережно взял ее за руку. Выходя из зала, Морена так и не нашла в себе силы в последний раз взглянуть на отца.
II
Едва колдун с Мореной покинули зал, Марил приблизился к князю.
– Неужели ты допустишь, чтобы дочь твоя пошла в услужение к этому исчадию? Чтобы стала она колдуновой женой?
Хогард поднял на него взгляд, полный горя.
– Я дал ему слово, – просто ответил он. – В обмен на помощь в войне я согласился отдать ему Морену, таковы были его требования. Ты же сам знаешь, каково выбирать между долгом и велением сердца.
– Прости, князь, но ты неправ. Неужто ты не захочешь вернуть свою дочь? Неужто не испробуешь все возможное и невозможное, чтобы снова увидеть ее, услышать ее певучий голос и звонкий смех?
– Я бы все отдал за это, господарь, только что мой отеческий пыл, мое оружие и мои люди значат против могущественного колдуна? Он оставит от них лишь пепел, а даже если и решит даровать им свое помилование, они вовек его не одолеют. Морена останется в его власти.
– Знаешь, князь, когда я был еще несмышленышем, жила в нашем доме одна женщина, нянька моя. Была она из деревенских, но справлялась с любой грубой работой, да и меня очень любила, исполняла многие мои прихоти, хотя подчас могла быть и очень строга. Отцу она нравилась за некую простоту свою, искренность, бесхитростность; выносливая баба была, сильная, что и говорить! Да и я к ней привязался, было дело. Нянчила она меня несколько лет; помню, какие чудные колыбельные она пела, какие сказы сказывала, заслушаться можно! …Ты прости, князь; понимаю, не до бесед тебе сейчас, но, поверь, иначе ты отнесешься к речам моим, ежели дослушаешь до конца.
Хогард кивнул только. Он не стал прерывать Марила, хотя тот был прав – мысли его блуждали далеко. Покои теперь почти опустели; еще во время словесного поединка северного владыки с колдуном многие поспешили откланяться и удалиться восвояси – заморский ведун внушал им первобытный ужас. Несколько бояр сидели на скамейке в углу; вино в кубках было давно выпито, серебряный кувшин стоял подле них, забытый и неприкаянный, – после пережитого налить еще они не решались, смиренно внимая словам господаря. Покои приобрели тоскливый, одинокий вид, будто поблекли в одно мгновение; их покинула княжна, покинул синеокий колдун, и теперь не для кого было мерцать и переливаться.
– Слыхал я, князь, от няньки своей, – продолжал Марил, – что есть на свете средство, способное погубить любого чародея и чернокнижника. Средство это простое – меч серебряный. Хранится он в землях далеких, за северным морем в скале, пройти к которой можно, ежели пересечь одну долину. Зовется та долина Мертвой.
– Хорошо сказываешь, господарь дорогой, – прервал его Хогард, – да только где я возьму храбреца, который горазд будет на эдакие подвиги, чтобы спасти мою дочь.
– Думаю, долго искать тебе не придется. – Марил усмехнулся. – Храбрец этот перед тобой стоит.
– Неужто Морена тебе так дорога, что ты готов жизнью рисковать ради ее спасения?
– Ты обещал мне ее в жены, князь, а значит, я ее получу, – голос Марила был тверд. – Дружина моя мне в помощи не откажет, а ближе к делу я сам разберусь. Нечего мне, северному господарю, бояться какого-то ворожея.
– Знаешь только, что смутило меня в поведении колдуна? – Хогард нахмурил мохнатые брови. – Он пообещал мне уберечь мою землю от ханского войска, с чего бы ему проявлять такую милость и защищать мой народ?
– Не могу знать, князь, – ответил Марил учтиво, – не могу знать. Да, и хочу извиниться перед тобой, не должно мне было угрозами выманивать у тебя княжну обратно; в конце концов, сделка с колдуном была мерой вынужденной, и я, будучи сам владыкой обширных земель, понимаю это.
– Рад, что между нами не осталось теперь недопонимания, – сухо ответил Хогард.
В искренность слов Марила, как и в чистоту его намерений, Хогард не верил. Наверное, он отдал бы все на свете, чтобы вернуть любимую дочь, но возлагать ее спасение на плечи северного господаря ему не хотелось. В глубине души он понимал, что такая рискованная затея не впечатлит и не обрадует даже самого верного из его приближенных, да и он сам вряд ли решился бы отправить своих соратников на верную смерть. Еще ни одному лихому воину не удалось вернуться из Мертвой долины живым – собственно, отсюда и пошло в народе такое ее название. Князь и сам с детства слышал подобные рассказы, но никогда не придавал им значения – его это не трогало, он не горел желанием попробовать свои силы в подобном путешествии. Теперь же, казалось, у него появилась надежда на воссоединение с Мореной, и, хоть цена этому воссоединению оказалась страшна, – он готов был ее заплатить.
«Если Марил настолько жаждет совершить этот подвиг, пускай, – думал Хогард. – Может быть, он привезет мне дочь, а может быть, пропадет в гиблых землях. На все воля Божья».
– Неужели не дашь ты мне на подмогу своих людей, князь? – прервал Марил размышления Хогарда. – Ведь я лишь во имя дочери твоей отправляюсь в этот опасный путь; думал я, ради Морены ты на любые подвиги готов.
– Знаешь, гость дорогой, – холодно ответил ему Хогард, – кабы был я уверен, что удача будет сопутствовать тебе, отправил бы с тобой хоть целое войско. Но не полагаешь ли ты, что я пошлю своих людей на верную смерть? То, что ты рассказал мне о серебряном мече, может быть, и правда, но я также немало наслышан о той долине. Я не смею отговаривать тебя от этой затеи, ведь ты сам понимаешь, каков может быть исход. Я благодарен тебе, господарь, за то, что готов ты принять любые муки за мою дочь, но помни – это твой выбор. Если потеряешь ты лучших своих людей или, не дай бог, сам найдешь свою гибель на этом пути – не кори меня, не поминай лихом, и княжну, которой не суждено было стать твоей невестой, не кляни.
– Может быть, и суждено, князь, – Марил смотрел сурово и решительно. – Только я сначала доказать должен своим подвигом, что достоин ее. Колдун еще получит свое.
– Ты так уверен в победе, что ничего не боишься. Поверь мне, я, может, и воевал поменьше твоего, но заслуг боевых у меня все же немало, да и пожил я достаточно, довольно повидал на белом свете. Повторюсь, ты волен поступать как тебе угодно, но не хотелось бы мне, чтобы ты сгинул, желая вызволить из колдуновых силков мою дочь.
– Не хочешь ли ты этим сказать, князь, что досадно тебе будет ощущать вину за мою гибель?
– Возможно, господарь, – уклончиво ответил Хогард.
Хотя он и не доверял Марилу, при мысли о его кончине в душе Хогарда и вправду рождалась горечь. Все-таки молод был еще северный господин, молод, силен, хорош собой; кто знал теперь, может быть, он и стал бы любящим мужем для Морены. Уж заморский владыка все лучше хитрого безродного чародея.
– Если ты принял уже решение, – сказал Марилу Хогард, – нет более причины продолжать нашу беседу. Пожалуй, я дам тебе свою дружину, чтобы охраняла и оберегала тебя в пути, но на корабль твой они не поднимутся, в море северном придется тебе положиться лишь на самого себя и своих соратников.
– Благодарю тебя, князь. – Марил улыбнулся едва заметно; улыбка задержалась на пару секунд на его губах и нырнула, пропадая, в белую бороду. – Оставайся с миром. Угроза твоему городу, надеюсь, миновала, а уж об остальном я позабочусь.
– Самоуверен ты, господарь, уж прости мне мои слова. Да пребудет с тобой Господь Бог.
Они поклонились друг другу – и Марил вышел из зала, сопровождаемый двумя своими сподвижниками.
Хогард в глубоких раздумьях сидел на троне, затем налил себе в кубок вина из стоящего подле кувшина и сделал глоток. Вино полилось в его распаленное беседой горло, утешило, прояснило мысли. Итак, Марил был прав, угроза миновала; Хогард предпочитал не ведать о том, что сделал колдун с ратью хана. Дочь его, по всей вероятности, отъехала уже далеко-далеко от Златограда. Он вспомнил, какой она была в последние минуты своего пребывания дома, вспомнил ее тугую косу с вплетенными самоцветами, тяжелый венок из ценных каменьев, платье – воздушное, неземное, как и она сама, – расшитые туфельки. Вспомнил он ее затравленный взгляд, как у загнанного олененка, дрожащие губы, белую руку, зажатую в руке колдуна… Хогарду стало дурно. Казалось, не было ничего в мире дороже этих последних минут, проведенных вместе, а ведь Морена даже не соизволила посмотреть на него, когда уходила навсегда из этой комнаты, – до того, должно быть, ее сковали страх и стыд. Что ждало ее на чужбине, в колдуновых владениях, какая участь – может быть, много страшнее той, что была уготована ей отцом…
Все распадалось, все тлело и исчезало; перед глазами Хогарда сейчас нестройной чередой проносились воспоминания о его ушедшей супруге, о детстве Морены, о ее только что закончившейся юности: какой она росла строптивицей, какой бунтарский дух горел в ней неустанно днем и ночью, как противны ей были все эти роскошные наряды, жемчуга и громоздкие драгоценности, узкие туфельки, в которых едва ли можно было сделать шаг. Она любила волю, любила природу и бескрайние просторы, любила скромные девичьи сарафаны, вплетала в косу простые ленты – и не надобно ей было ничего, кроме этой воли и этой простоты, которая так была свойственна ее матери и которую так чтила она сама…
Хогард остался один. Покои опустели и теперь казались тусклыми, серыми и не нужными ни единой живой душе. С уходом гостей здесь не осталось крови и злата – голубые стены отдавали холодом; в наступающем полумраке казалось, что они покрыты ледяной коркой. Остатки яств покоились на столах, ожидая, пока их разберут голодные слуги; последние не решались войти и побеспокоить тем самым своего господина. Вино в его кубке больше не мерцало, не отливало золотым… Казалось, дом погрузился в глубокий сон, как погрузился в него и весь город; князь бодрствовал один – и будто должен был сидеть так в этой зале еще добрую сотню лет, пока северный господарь Марил не вернул бы ему дочь – которую, правда, и отобрал бы сразу себе в жены. Вся роскошь убранства словно была теперь подделкой, обманом, ворожбой того самого колдуна; пир закончился, подошли к концу смотрины, отгремели праздничные фанфары, отзвучал смех гостей, гул десятков голосов скрылся за поворотом, тихий шепот Морены исчез, будто его и не бывало вовсе, – и только отвратительный хохот колдуна, невероятно довольного своей жестокой шуткой, казалось, все еще витал в воздухе, оседая на стенах, на полу, даже на одеяниях самого князя.
На Златоград медленно опускалась безрадостная полночь.
Путь им и вправду предстоял длинный. Колдун провел Морену через широкий двор. Их ждали вычурные резные сани, забитые подушками; поверх подушек покоились два узорных серебряных покрывала и теплая шуба, которую колдун накинул княжне на плечи. Лица возницы Морена не разглядела; тот сидел, плотно закутавшись в полушубок, да и на дворе было уже довольно темно. Ей показалось только, когда возница на миг повернулся, что глаза у него были какого-то неестественного, рыжего цвета – и ярко горели в темноте. Колдун помог ей устроиться в санях, накрыл покрывалом, не проронив ни слова; они отбыли.
Сама Морена не решалась затеять разговор, отчужденный вид колдуна пугал ее; она слабо еще понимала, что долгое, долгое время теперь будет с ним – или даже его – и это его невыносимое молчание и равнодушие могут длиться вечность. Чтобы отвлечь себя от горестных мыслей о доме, который она покидала, о своем брате Яромире, с которым так и не успела попрощаться – он отбыл из Златограда на поиски союзников еще до известий о ее замужестве, – Морена стала смотреть на дорогу. Они выехали со двора, минули широкие ворота – дальше начинался город, такой знакомый и теперь навсегда чужой. Город, не ведающий еще, что любимая госпожа покидала его навеки, смотрел на нее с какой-то отеческой теплотой, обволакивал своим морозным ночным дыханием; снег под санями казался длинным белым ковром.
Колдун не глядел на Морену; он прикрыл глаза и, казалось, задремал, утомленный длинным, тяжелым вечером на княжеском пиру; утомленный своей бессердечной шуткой, своим успехом, своей победой над обреченным князем и зазнавшимся северным господарем – минувшим вечером он отыграл достойное представление и теперь с чистой совестью мог позволить себе отдохнуть. Теперь, за час до полуночи, почти в полной темноте – путь им освещали два светоча, находящиеся по обе стороны саней, а луна была слаба этой ночью – колдун виделся княжне существом из другого мира, будто в нем не осталось более ничего земного; он выглядел духом, каким-то чародейным созданием, и человеческого в нем не ощущалось. Красота его показалась княжне еще более жуткой, нежели на пиру; никогда ей не встречались люди, способные состязаться с ним в правильности черт – разве что мать ее, которую Морена не видела с самого рождения, а потому не могла этого знать. Его наряд, бывший на смотринах алым, теперь казался терпкого, тяжелого, почти черного цвета – такой же была и шапка, на которую он заменил свой венок.
Они ехали молча, наверное, добрый час или больше – Морена полагала, что много больше; несмотря на шубу и покрывала, она ощутимо замерзла и невольно придвинулась ближе к колдуну, прижалась к нему в поисках тепла. Он сделал вид, что не заметил ничего, а княжна, все так же смотрящая на дорогу, не увидела, как на его губах мелькнула довольная улыбка. Они въехали в лес.
– Проедем его – и будет деревня, там сделаем привал, – подал голос возница, и Морена подивилась, насколько голос этот странно звучал. Он был скрипучий, необыкновенно высокий и мало походил на человеческий – складывалось ощущение, что в лице возницы с ней говорило топкое болото, зазывающее высоким голоском несчастных путников в свои гиблые недра, на самую глубину, где ими могли бы полакомиться зеленокожие русалки, пучеглазые кикиморы и прочая нечисть. Морена задрожала – то ли от холода, то ли от самого настоящего страха, сковавшего ей сердце. Вместе с голоском возницы ей словно бы послышались другие голоса, леденящие душу, будто сам лес вдруг откликнулся, очнулся, заговорил с ней; ей стало жутко.
«Мы не тронем тебя, не тронем тебя, прекрасная княжна, – нашептывал ей на ухо лес, – но бойся колдуна, бойся, бойся, не к добру везет он тебя в свою обитель, беды не миновать, ох, не миновать беды! Поразит он тебя, красна девица, в самое сердце! Бойся, бойся…»
Морена не понимала, сон это или явь – где это видано, чтобы лес с человеком разговаривал! Да и если это не лес вовсе, а его обитатели, разве легче от того, что они с ней беседу ведут, предупреждают; то ли чудятся ей их голоса, то ли взаправду она их слышит – мракобесие, не иначе! Голоса затихли в одну секунду, но страх не отступал из сердца, сдавливал грудь; ей захотелось вдруг спрятаться, еще ближе придвинуться к колдуну, чтобы он защитил ее от невидимых существ, ведь он, он единственный состоял здесь из плоти и крови – за возницу Морена бы уже не поручилась. Но колдуну словно было все равно – верно, не слышал он ни единого слова, погруженный то ли в дрему, то ли в глубокие раздумья. Вдали будто немного рассвело – то были огни деревни.
Через какое-то время – Морене оно показалось нескончаемым – они добрались до самой сердцевины этой деревни, шумного трактира, который даже в этот час был полон разного люда. Колдун будто дал обет молчания, хотя и бережно помог княжне выбраться из саней. В трактир они вошли под руку, и снова Морену настиг бешеный шум и гам, гул десятков разгоряченных голосов, только здесь он был другим, нежели в отеческом доме: отовсюду слышались крепкие ругательства, пьяные мужские голоса горланили неведомые ей песни, звенели и бились друг о друга кружки из-под пива и дешевого, невкусного вина – здесь оно напоминало не кровь, а отвратительную багровую воду. В воздухе стоял плотный, густой, омерзительный запах того самого вина, испортившегося съестного, конского и людского пота – одним словом, местечко было из таких, которые Морене не приснились бы и в страшном сне. Возница прошел к одинокому столику в углу и кликнул хозяйку; Морена не слышала, о чем они переговаривались, – колдун проводил ее за другой столик, как бы отгороженный от всего зала. Когда хозяйка подошла к ним, княжна чуть не вскрикнула от ужаса; кожа хозяйкина была будто серебряная и блестела, как блестят начищенные монеты; глаза у нее были узкие, ярко-зеленые, зрачки – змеиные совсем, а нос – маленький, крючковатый – и широкий рот с тяжелыми губами словно противно кривились. Узловатые пальцы соединяли перепонки.
– Ну здравствуй, Хильдим, – приветливо обратилась к колдуну хозяйка, насколько могло быть приветливым такое безобразное существо. – Чем попотчевать тебя сегодня – и твою очаровательную спутницу?
Морена смотрела в стол, не в силах больше поднять взгляда.
– А я смотрю, Кикимора дорогая, процветаешь ты здесь, – насмешливым тоном ответил старухе Хильдим. – Все гадостями разными от гостей откупаешься, за дешевое вино и пищу безвкусную плату собираешь. И не стыдно тебе?
– Кабы стыдно было, я бы давно с голоду померла, – старуха подмигнула ему и стала еще противнее.
– Смотри у меня, Кикимора, если посмеешь навязать нам то, чем обычно люд бедный радуешь, я с тебя кожу спущу – оно всяко выгоднее. Знаешь ты меня, слово я свое держу. А коли понравится мне все, золото получишь и милость мою – до следующего раза.
– Обижаешь, Хильдим, – старуха поджала толстые губы, – где это видано, чтобы я тебя отравами всякими поила? Нет уж, то удел простого народа, а ты, господин, лучшего вина достоин, что у меня в погребе хранится, да лучших блюд.
– Смотри у меня! – пригрозил ей колдун полушутливо.
– Все выполнено будет наилучшим образом. – Хозяйка поклонилась ему и поспешила удалиться.
– Что, красавица, неужто испугалась? – обратился Хильдим к княжне после ухода мерзкой Кикиморы. – Хозяйка – простая деревенская баба; да, зарабатывает на жизнь нечестным путем, да и что с того? Вертится как может.
Морена подняла наконец голову и осторожно посмотрела на колдуна, словно боялась, что и он сейчас потеряет человеческий облик.
– Разве не видел ты, какая кожа у нее, а глаза какие? – тихо спросила она. – Я существ подобных не встречала никогда, страшно мне.
– Вот как, значит, видишь ты ее природу настоящую? А ведь простым смертным этого не дано…
Морена удивилась его словам, но не решилась задать еще вопросы. Тем временем спорая старуха вернулась к ним с двумя чарками вина и огромным блюдом, заполненным едой.
– Откушайте, гости дорогие, – сказала она.
Колдун только кивнул ей – и подбросил в воздух две золотые монеты; она проворно подхватила их, привычная к этому делу, и исчезла. Морена не притронулась ни к пище, ни к вину, до того отвратительно она себя чувствовала; трактир этот действовал на нее угнетающе, скверная Кикимора пугала ее – и ничего не хотела она теперь, кроме как очнуться от этого ужасного сновидения в собственной постели. Хильдим наслаждался едой; на пиру он так и не прикоснулся к роскошным блюдам, зато здесь дал себе волю. Его чарка быстро опустела – и он запросил вторую, хотя это не повлияло на него нисколько, будто он не выпил ни глоточка.
– Что же ты, девица, так к еде и не притронешься, неужели заморить себя голодом хочешь? Я тебе этого не позволю. – Колдун провел рукой по щеке Морены. – Смотри, как зарумянилась на морозе. Поверь, слушать меня не будешь – я легко тебя заставлю. А теперь выпей вина.
Морена послушалась – вкрадчивый, бархатный тон Хильдима неожиданно успокоил ее; она пригубила вина, испробовала еще горячего мяса и сочных фруктов. После трапезы она разомлела; колдун обнял ее, довольный этой переменой. Они сидели так; страшная старуха поглядывала на них с одобрением. У Морены вдруг появилось чувство, что ничего ужасного больше нет в этом трактире, и даже хозяйка перестала пугать ее так сильно. Переведя взгляд на возницу, все так же сидевшего за столом в углу, она заметила, что из его кубка поднимался странный, будто бы разноцветный дымок, а вот снеди перед ним не было никакой, – но даже это не удивило ее. Было уже раннее утро, за окном посветлело, снег поблескивал счастливо, радуясь зиме; Морене было тепло и спокойно. Люди разошлись, все затихло и улеглось, трактир выдохнул с облегчением, а они так и сидели – княжна, прильнувший к ней колдун и возница с дымящимся кубком.
– Ладно, красавица, – сказал, наконец, Хильдим, – пора дальше двигаться. Старик-леший, чувствую, уже в нетерпении.
– Леший? – переспросила Морена, хотя, казалось бы, после всего случившегося удивляться было уже нечему.
– Возница наш, – усмехнулся Хильдим. – Пойдем.
Они встали из-за стола и направились к выходу; колдун на ходу поблагодарил хозяйку и бросил ей еще несколько золотых монет, она посмотрела на него змеиными глазами, в которых читалось раболепие. Колдун с княжной вышли на улицу, за ними бесшумно следовал возница-леший. Снег казался россыпью драгоценных каменьев под ногами, утро вступало в свои права – вчерашний горький день был давно позади.
III
Марил в нетерпении расхаживал по комнате – выдвигаться они должны были на рассвете, а до тех пор он решил подробнее изучить все возможные дороги, ведущие к Мертвой долине. На огромном столе лежали разные путевые карты – были и совсем крошечные, и те, что нетерпеливо свешивались со стола в ожидании, пока хозяин обратит на них свое внимание. Совсем старые, бережно вычерченные, карты имели запах пыли, книжной рухляди – чернила, казалось, въелись в них намертво и не желали отпускать. Не все карты с точностью указывали местоположение долины, но Марил хорошо помнил рассказы няньки, до того впечатлили они его в детстве. Верил ли он в них до конца, он и сам не знал, но попытать счастья стоило – в конце концов, это было на сегодняшний день единственное средство одолеть проклятого колдуна.
Марил подошел к широкому окну – на улице еще было темно; оставалась всего пара часов до рассвета, и ночь, не желая пока отдавать бразды правления, царила единогласно и непреложно, ничто не могло ей помешать. Снег едва мерцал при слабом свете луны, двор был озарен светом факелов; Марил заметил стражников, несших ночную службу, – они неспешно проходили вдоль ворот, иногда перебрасываясь словами. В доме было тихо; даже самые работящие слуги, верно, уже отправились на покой, но Марил, несмотря на предстоящую ему трудную дорогу, не собирался в постель. Чернильные обозначения карт стояли у него перед глазами единой глыбой; казалось, все, что он знал и видел, смешалось сейчас в его сознании, но это было не так. Ему оставалась какая-то мелочь, крошечная подробность, которую необходимо было найти в этой груде бумаг и наметок, – он уже было зацепился за эту, нужную ему ниточку, но тут же выпустил ее. Ночь за окном не внушала ему умиротворения, на душе у него было мятежно – прекрасная княжна наконец должна была оказаться у него в руках, но судьба распорядилась иначе. Если бы только Марилу удалось обвенчаться с Мореной, никто не посмел бы забрать ее, похитить, увезти за тридевять морей, но он не имел на нее права. Она могла бы помочь ему вернуть то, что он потерял годы назад в неравной битве; увы, до судного дня теперь было далеко. Теперь из-за окаянного колдуна ему придется претерпевать страшные беды и невзгоды, чтобы, быть может, однажды заполучить княжну; поруки тому не было никакой, как и иного выхода. Что же, он был готов.
Марил вернулся к картам; нечего больше было выглядывать в глухой ночи. Первый путь, который указывала огромная карта – та, что лениво растеклась до самого пола, – лежал через Гиблые болота. Отдать жизнь зазря было бы страшной глупостью; пересечь северное море лишь для того, чтобы сразу же погибнуть! Крошечная карта, украшенная изображениями местности и множеством завитушек, самая хорошенькая из тех, что были здесь, предлагала самый безопасный путь, но лежал он через земли, завоеванные ханом. Допустим, Марилу удастся сладкими речами усыпить бдительность ханского наместника, подкупить его бесценными подарками, запутать его разум… Пожалуй, то была самая удачная дорога, которую ему предлагали карты, – он вынужден был согласиться, что лучше уж задабривать ханского посланца, нежели заполучить пренеприятнейшую встречу с болотной нечистью; рисковать в подобном случае было ему невыгодно.
Легкий стук в дверь положил конец метаниям господаря и окончательно утвердил его в решении следовать в долину через ханские земли. В комнату вошел Милу – один из преданнейших ему людей, ближайший его соратник и лучший воин; лицо у Милу было совсем не как у человека военного дела: открытое, доброе, широкое, в рыжей бороде часто он прятал лукавую улыбку.
– Прости, господарь, что беспокою тебя в этот трудный час. Все приказания отданы, князь проститься с тобой не выйдет.
Марил нахмурился.
– Хорошенькие вести ты мне принес! Ничего, вырву я его дочь из рук безбородого чернокнижника, иначе со мной князь заговорит. Правда на моей стороне будет.
Милу поклонился.
– Правда и сейчас на твоей стороне, милостивый господарь.
– Сколько я помню, Милу, ты всегда был мне добрым другом; вот поможешь мне в нашем последнем с тобой, я надеюсь, деле, получишь все: и золото, и земли, и жену пригожую; все что захочешь дам я тебе, только не подведи в этот раз.
– Обижаешь, господарь, – возразил ему Милу, – как ты сам говоришь, я всегда служил тебе верой и правдой; знаешь ты, что не надобно мне ничего, кроме милости твоей и служения тебе.
Марил слегка улыбнулся.
– Посмотрим, как ты заговоришь через несколько дней, опасное это дело… А впрочем, верю я тебе. Теперь ступай.
Милу поклонился еще раз – и вышел. И вправду же, сколько битв они вместе выиграли, сколько войн отвоевали бок о бок! Где еще найти было Марилу такого верного приспешника, что подчинялся бы ему беспрекословно? Они были еще совсем юнцами, когда жизнь их свела впервые – отец Милу служил тогда при дворе отца самого Марила; их даже биться учили вместе, и первую победу свою одержал Марил как раз в поединке с верным другом. Он вспомнил вдруг о своем детстве: о матери, слабой, хрупкой, тоненькой женщине, не смевшей никогда сказать и слова против; вспомнил об отце, которому был обязан северной, характерной для их рода белизной волос, суровым нравом, алчным и бешеным нутром… что сделало с ними время? Отец его погиб бесславно, мать сошла с ума – и все больше напоминала теперь безликую тень, одиноко бродящую по огромному терему; сам он, Марил, северный господарь, взращенный в любви, здравии и вседозволенности, чего он достиг? Боевые заслуги его меркли перед количеством потерь, жены у него не было – обвенчался бы с княжной, да бесовской прислужник все замыслы его честолюбивые запутал. Князь Хогард боялся, что погибнет Марил в дороге; да и если случится ему погибнуть, что же с того? Зачем возвращаться ему снова в промозглый, пустой дом, где не было более никого, кто мог бы утешить его, удержать, наставить на путь истинный? Потеря его великая никакими благами мирскими теперь не окупится – женитьба бы помогла, но нужна ему была лишь Морена. Да, не сложилось, но ничего, покажет он еще судьбине своей горькой, кто ее господин, и восстановятся справедливость да равновесие в его беспокойной жизни…
Выехали они, как и задумывали, ровно на рассвете; город оживал постепенно, манил своими изысканными товарами, соблазнял пряностями, тканями заморскими, пряжей, тонкой, как паутина, – но Марил ни на что не обращал внимания. Подле него скакал преданный Милу, сзади – дружина, состоявшая из его соратников и людей златоградского князя; не сказать, чтобы он им особенно доверял, но за помощь был благодарен – лишние воины никогда не помешают. Не ведал Марил, что в это самое время выходила из дальнего трактира княжна Морена; знал бы если – поддался бы порыву и похитил ее, но догонишь разве колдуновы сани? Утро поднималось над городом дивное, свежее, разрумянившееся, будто только что из печи; снег лежал, словно сотканное тысячами умелых рукодельниц тончайшее кружево с золотыми вставками, и мог дать жару любым украшениям.
После выезда из города дорога становилась извилистой, путаной и вела прямо в лес; именно здесь проезжала вчера Морена на узорных санях, именно здесь ей вчера слышались диковинные голоса; леший знал этот край как свои пять пальцев, чего нельзя было сказать о Мариле и его спутниках. Несколько дней назад, прибывая на долгожданные смотрины, въехал он в город с другой стороны, а теперь погорячился – и решил сократить путь. Дорога перед ними петляла, крутилась, корчилась, все истончаясь и истончаясь; солнце уже встало и с неприкрытым злорадством наблюдало теперь за мучениями путников; огромные, вытянутые до самых небес ели, казалось, ехидно пересмеивались. Стало очевидно – они заблудились, и даже люди златоградского князя не имели понятия, как выбраться отсюда.
– Чувствовал я, господарь, не к добру ты все это затеял, – позволил себе высказаться Милу. – Княжну не воротишь, сам себя погубишь – и нас на дно за собой утянешь.
– Помолчал бы ты! – рявкнул Марил. – Коли верен ты мне, останешься со мной, а коли нет, как выберемся из леса, отпускаю я тебя на все четыре стороны.
– Если выберемся, господарь, надежды-то на успех нет. Знаешь ты сам, что пес никогда своего хозяина не предает, да только не нравится мне все это.
– Разберемся!
Добрый час они плутали еще по дорожкам и тропинкам, но толку не было.
– Чай, леший нас крутит или ведьма какая, потому и просвету найти не можем! – в сердцах воскликнул северный господарь.
Делать было нечего; решили сделать привал. Костер разожгли, вина выпили – мало, чтобы опьянеть, но достаточно для того, чтобы согреться.
– Поднимаю флягу за наше спасение! – сказал Марил. – В конце концов, кто-то же должен нас вывести на волю.
Едва он сказал это, как вдали показалась фигура. Это была женщина и направлялась она, несомненно, к ним – то была старая добрая Кикимора, которая прошлой ночью на славу отпотчевала колдуна и его невесту; одета она была теперь в черную потертую накидку и шла сгорбившись – то ли пыла ночного в ней больше не осталось, то ли подзаработать решила, притворившись больной нищенкой. Когда она подошла ближе, Марил подозвал ее.
– Подсоби-ка нам, милая старушка, – сказал он, подавая ей монету. – Подскажи, как нам из леса этого проклятого выбраться.
Кикимора взяла монету, попробовала ее на зуб; даже сейчас, при свете дня, когда кожа ее была обычного блеклого цвета, а глаза не казались змеиными, милой ее было трудно назвать.
– Что же ты, господин дорогой, лес-то не уважаешь, – ответила она и посмотрела на Марила, хитро прищурившись. – Ведь он тебя потому и держит в лапах своих, потому и не отпускает твоих людей, что не веришь ты в его живость. Полон он существ разных, разной нечисти, – чуют они, с каким пренебрежением и неверием ты к ним относишься, да ждут, когда ты взмолишься о пощаде.
– Помилуй, старушка, что же ты такое говоришь? – ужаснулся Марил.
От речей Кикиморы ему стало не по себе.
– Я-то помилую, господарь учтивый, а вот помилует ли лес… Затеял ты против чародея козни страшные, запутался ты, дружок; лес тебя не простит, весь мир колдовской тебя не простит. Понимаешь ты это сам; разверни коней своих, пока не поздно, – не для тебя тропа эта, участь эта – не твоя.
– Не тебе учить меня, старуха поганая, – взвился Марил. – Или дорогу показывай, или меч мой сейчас проучит тебя как следует.
– Наивен ты, господарь, наивен и глуп; слишком уверен ты в своих силах и своей безнаказанности. Мне тебя не учить, ты прав, но еще найдется тот, кто поставит тебя на место. А теперь ступай, лес тебя отпускает – найдешь ты и без него смерть свою.
Марил хотел еще что-то ей ответить, но старуха испарилась в воздухе на его глазах, будто ее и не бывало вовсе.
Морена сидела в санях, по-прежнему укутавшись в серебряное покрывало. Хильдим обнимал ее, совсем как недавно в трактире, только трапеза их была давно закончена, вино давно выпито, и постепенно на душе у Морены стало проясняться. Она уже не чувствовала себя такой разомлевшей и довольной, быстрая радость улетучилась, и объятия колдуна приводили ее в смущение; ей было крайне неловко, но и возразить ему Морена не могла, а потому сидела отвернувшись; на щеках у нее – не то от мороза, не то от стеснения – играл румянец.
– Что же ты сидишь, красавица, как неродная, нос воротишь? – спросил Хильдим, усмехаясь. – Неужто не мил я тебе? Или боишься ты меня?
Морена подняла на него взгляд.
– Не боюсь я, колдун, – сказала она тихо. – Боялась бы, не пошла бы за тебя. Чужой ты мне, я по дому тоскую.
– По дому, видали! – расхохотался колдун. – По дому! Знала бы ты, девица, как с такими тоскующими расправляются, – побереглась бы говорить подобное. Не для увеселений я везу тебя в свои владения, мне девичьими слезами заниматься некогда, а тоску ты свою прибери, в дальний угол запрячь, нечего мне ее показывать!
Морена промолчала.
– Знаешь, одного я понять не могу, все хочу разобраться в твоей природе: видишь ты то, что люду обычному видеть не положено, ничего от тебя не скроешь. Ну что ты хмуришься, красавица, лучше поцелуй меня!
Хильдим придвинулся к ней еще ближе, но княжна не пошевелилась.
– Строптивица ты, однако, – усмехнулся колдун. – Ничего, сломлю я однажды волю твою, придет время.
Они ехали сейчас по бескрайнему полю; белоснежные просторы вокруг, казалось, тянулись до самого горизонта. Становилось все холоднее и холоднее – Морену начала бить дрожь.
– Что же ты, девица, дрожишь? Не годится так! Давай согрею тебя, не робей.
Морена вытащила из-под покрывала руки и протянула их Хильдиму; он взял ее руки в свои, и тотчас заструилось в ней тепло, жар теперь обволакивал ее с головы до ног – вот где оно было, истинное колдовство! Колдун посмотрел на ее губы, алые, что маков цвет, и подумал: «Не время еще. Не время…»
– Не нравится мне, что так холодно стало, – сказала княжна. – Опять, должно быть, чья-то ворожба.
– Это ты верно угадала, красавица. – Хильдим улыбнулся. – Не мог я не заехать по пути к старому своему знакомцу; думаю, и тебе он по душе придется.
Тем временем местность снова стали заполнять редкие деревья; ветки их были покрыты слоем льда, и, вглядевшись, можно было увидеть небольшие ледяные листочки и цветы – то были ледяные яблони. Постепенно вокруг путников вырос целый яблоневый сад. Сани остановились; леший ловко спрыгнул с козел и помог колдуну и его невесте выбраться из саней не поскользнувшись на тонком льду. Морена, поддерживаемая колдуном, оглянулась – позади виднелся небольшой дом; он был похож на те строения, которые она видела в своем родном Златограде, и отличался от них лишь тем, что был целиком и полностью покрыт ледяной коркой; даже на окнах можно было увидеть тончайший слой льда. Навстречу им выбежал мальчик лет восьми с непокрытой головой; одет он был в простой белоснежный кафтан. От ребенка веяло жутким холодом.
– Здравствуй, маленький демон, – с улыбкой поприветствовал его Хильдим.
Мальчик подбежал к нему, Хильдим раскрыл объятия; похоже, удивилась Морена, его никак не смутил холод, идущий от мальчика.
– Вижу, нашел ты в конце концов свою суженую.
– Нашел, Альдо, правильно ты заметил! Нравится она тебе?
Альдо пожал плечами.
– Главное, чтобы она тебе нравилась.
Хильдим засмеялся.
– Может быть, зайдете в дом? – спросил Альдо; голос его был полон надежды.
– С радостью!
Зашли они втроем; леший остался караулить сани, да и не хотел он особенно ступать в ледяную обитель Альдо.
– Кто этот мальчик? – спросила шепотом у Хильдима Морена, чтобы Альдо не услышал.
– Цветочник, – последовал ответ. – Раньше владения его выглядели совсем иначе: яблони стояли в цвету, а затем давали алые, сочные плоды; зима не смела касаться земель Альдо, но со временем все изменилось: разгневал он одного проклятого заклинателя, тот и посулил ему зиму вечную. Яблони замерзли, все здесь покрылось льдом, в царстве его наступил бесконечный холод – лютая зима дала о себе знать и правит здесь и поныне.
– Есть ли средство расколдовать его, снять заклятие?
– Только смерть того ворожея вернет саду его настоящий вид, но, увы, еще ни одному смельчаку не удавалось победить его; даже я смог лишь забрать его силу, но не умертвить.
Взору их открылась комната, которую по праву можно было считать главной в этом доме, до того она была хороша. Несмотря на заклятие, она сохранила былое великолепие – огромные шкафы, резные стулья, обширный стол, многочисленные свитки, книги и украшения не пострадали, а только покрылись тоненькой ледяной паутиной; свет шел от диковинных мерцающих камений, разложенных по всей комнате.
– Нечем мне вас попотчевать, гости дорогие, – сокрушенно промолвил Альдо. – Даже вина, и того не бывает.
– С этим неполадок точно не будет, – хитро улыбнулся колдун и буквально из воздуха сотворил большую серебряную флягу с живительным напитком и три таких же кубка.
Альдо аж вскрикнул от восхищения.
– Каюсь, дорогой Хильдим, забываю я иногда, какой ты кудесник!
Они немного выпили; колдун не выпускал руку Морены, и потому она не чувствовала особого холода.
– Куда путь держите, к тебе в палаты? – спросил Альдо Хильдима.
– А куда же еще невесту дорогую везти? Вот, решил я тебе по пути честь отдать, как можно забыть о старом друге!
– Приятно, что не забываешь. – Альдо слегка улыбнулся. – У меня тут старуха Кикимора была давеча, рассказала мне в подробностях и о пире в княжьем тереме, и о невесте твоей. Что-то усмехалась все, подмигивала да заискивала, так и не понял я, что она от меня утаить хотела.
– Мне это также неизвестно, – спокойно ответил Хильдим, но в глазах его заиграли плутоватые огоньки. – Мало ли что старуха понапридумывать может, что ей, окаянной, в голову взбредет! И я видел ее намедни в трактире; как была, так и осталась услужливой пройдохой, но стряпня у нее превосходная, ничего не скажешь.
– Здесь я с тобой, пожалуй, соглашусь, хотя и не бывал я у нее после того, что тот ведун проклятый со мной сотворил; хорошо еще, что гостей принимать дозволено.
– И не скажи!
– Встречал ли ты его еще, а, Хильдим? Или затаился он?
– Верно, затаился, да ежели бы и встречал, был бы в том какой толк? Говорил я тебе, друг любезный: ты прости меня, но умертвить его я не могу.
– Помню я твои слова, Хильдим. – Альдо вздохнул. – Не ведаю только, притворствуешь ты или правду говоришь.
– Неужели думаешь ты, что я солгал бы другу? – возмутился колдун.
– Знаю я ваш род не понаслышке, много горюшка от вас натерпелся. Ну да ладно, чего уж теперь рассуждать, не станем портить настроение ни себе, ни невесте твоей прекрасной.
– Правильно говоришь, – поддержал его Хильдим, – не станем.
Они беседовали еще какое-то время; Морена слушала их разговор – из живого и острого он стал медленным, терпким, тягучим – и думала о том, как бы расколдовать этого мальчика. Наверное, прав был Хильдим, есть только одно средство, и оно им недоступно… А как бы она хотела увидеть сад Альдо в цвету, сорвать потом спелые плоды с тяжелых веток, полакомиться яблоками, почувствовать их пряность, перекатить на языке их мякоть белоснежную, почти жемчужную, расцеловать их в алые бока! И как хотела бы она сама обнять хорошенького Альдо, не чувствуя мерзлого ледяного потока; каким он, верно, был симпатичным существом – румяным, загорелым, вечно хохочущим – до того, как с ним случилась эта страшная беда. Жаль было Морене и его, и красивого его дома, и ледяных теперь яблонь; если бы она могла, сделала бы все, что в ее силах, чтобы помочь ему.
После встречи с Альдо они направились прямиком на юг – во владения синеокого Хильдима.
IV
Они ехали еще день и ночь, раза два останавливались в придорожных трактирах – довольно обычных по сравнению с тем, которым заправляла старуха Кикимора. Морена заподозрила, что столь короткий путь их был делом рук колдуна и лешего – и что еще быстрее они могли бы добраться, ежели этого захотел бы сам колдун – слишком уж скоро зима, груды снега и холодное, неприветливое солнце сменились благостным теплом. Сани их в один миг превратились в очаровательную повозку.
«Хорошо все-таки жить», – думала Морена, глядя на прелестные, покрытые неизвестными ей цветами деревья и низенькие кустарники, которые словно бы приветливо махали ей веточками и учтиво кланялись, приветствуя свою госпожу; воздух был теплый-теплый, душистый, пропахший насквозь диковинными цветами и редкими травами, которые не видела Морена на родной земле. Птицы пели, и песня их переливалась тысячей голосов, воспевая и чествуя молодую хозяйку, славную колдунову невесту, что совсем скоро должна была стать его женой. На Хильдиме больше не было шапки; его черные кудри покорно лежали на плечах, рубиновые серьги алели и переливались под свежим летним солнцем… Солнце это ласкало горячими лучами красивое колдуново лицо и выцеловывало щеки его прекрасной спутнице.
– Вот мы и дома, – сказал Хильдим довольно.
Рука его покоилась на руке княжны.
– Что скажешь, красавица? Нравятся тебе мои владения или все по дому тоскуешь?
Морена слабо улыбнулась.
– Знаешь же, колдун, вырвал ты меня из отчего дома, как дерево с корнем вырывают, а потом хотят, чтобы оно на новой земле прижилось.
– Ничего, красавица, приживешься, всего сразу не бывает; скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, как в народе говорят. Привыкнешь.
Морена отчего-то зарделась, неловко ей стало.
– Повезло мне с женой – тихая, робкая… А я слышал, ты свободу любишь, дух бунтарский, мол, в тебе неукротим; неужто ты только в моем присутствии робкой делаешься?
– Поцелуй меня, колдун, – вместо ответа выпалила Морена.
Хильдим воззрился на нее с удивлением.
– Поцелуй, говорю. Правильно ты все слышал, бунтаркой я была всегда – ею и останусь, позабыла только об этом; отчаяние навел на меня отец скорым замужеством, потом ты еще бахвалился силой своей… Страху-то я натерпелась, не передать!
– А говорила, не боишься. – Колдун хитро улыбнулся.
– Тебя не боюсь, а вот Кикимору жуткую и чародея того, что Альдо заколдовал, как не бояться! Да, была я бунтаркой, но как-то смиренно приняла долю свою, неправильно это.
Хильдим поцеловал ее скоро, с жаром; леший непристойно засмеялся, будто видел и слышал все, что происходило в повозке.
– Брось смеяться, кому говорю! – полугрозно-полушутливо закричал ему колдун. – А не то отсеку я тебе голову, ох, отсеку!
В тот же миг смех прекратился.
Морена теперь и вправду чувствовала себя иначе, будто та робкая княжна, которой она была последние два дня, ушла, спряталась в дальний угол. Колдун действительно пугал ее сначала, хотя она и не находила сил признаться в том ни ему, ни себе самой, но теперь ей снова было хорошо – совсем как тогда, когда она впервые села на коня и ощутила дыхание ветра на своем лице; нечто подобное она испытала уже вчера, испив вина в Кикиморином трактире, но тогда она задавила в себе всю радость; страхи и сомнения не дали восторгу расцвести в ее душе. Чего было теперь скрывать, колдун понравился ей еще на батюшкином пиру, когда показался ей незнакомым южным княжичем; она даже на какую-то минуту тогда пожелала, чтобы он достался ей в мужья – он, а не северный господарь. Кабы знала она в тот миг, что скоро совсем будет въезжать в колдуновы земли его невестой, не поверила бы! Проще поверить было, что ей оставят ее свободу и волюшку вольную не отберут.
Да, за эти два дня она будто заново прошла весь путь и приняла свое новое положение как данность. Хотя и понятно было, что где-то в глубине души она долго еще не сможет смириться с произошедшими в ее жизни переменами – и, наверное, будет раз от раза возвращаться к отчаянию и тоске, но сейчас в ней не было этого, а если и было, то схоронилось оно настолько глубоко, что и не достать.
Палаты колдуна нисколько не уступали хоромам златоградского князя; изящные крылечки, деревянные башни, резные узорные двери – складывалось ощущение, что здесь обитает не простой чародей, а какой-нибудь господарь. Внутреннее убранство терема, в который отвел Морену Хильдим, также поразило ее воображение; внушительные шкафы, расписная посуда, стол с овальным зеркальцем и множество всяких чудесных мелочей; огромный алый ковер, простирающийся на всю комнату, чем-то напоминал ковер в доме ее батюшки, только здесь он был ярче, светлее, дружелюбнее. Княжна скинула туфельки и прошла по ковру босыми ногами – и вдруг закружилась в танце; шелковое платье ее завертелось паутиной, зашлось веретеном, руки ее выписывали в воздухе неведомые ей доселе узоры, коса растрепалась, и волосы – длинные, до самых колен – накрыли ее плотным, тягучим покрывалом, а затем принялись отплясывать вместе с ней. Морена раскраснелась, разошлась, забылась совершенно; колдун любовался ею, думая: «Схватить бы ее сейчас, такую свободную, живую; схватить – и зацеловать! Наконец-то проснулась в ней ее истинная природа, ее неспокойный, мятежный дух; забудет она отчий дом, забудет однажды всю свою прежнюю жизнь и будет любить меня, лишь меня – как она уже близка к этому, как ее сердце этого жаждет, осталось только ей самой принять это желание. Все будет так, как я задумал, она исполнит все – во имя любви, ради любви ко мне. Прелестная княжна!»
Морена не слышала мыслей Хильдима, не могла знать, о чем он думает. Но она приблизилась к нему, продолжая танцевать – и засмеялась; засмеялась звонко, искренне, совершенно неожиданно для себя самой, и смех ее разносился тысячей колокольчиков по всему терему; казалось, все живое и неживое внимает с готовностью этому смеху, такому яркому и пронзительному, – смеху своей госпожи. Колдун подхватил ее, и они заплясали вместе, понеслись в головокружительном танце, и дивная музыка сопровождала их – музыка, что звучала только для них двоих; хохот Хильдима – не тот мерзкий, оглушающий, что был на пиру, а новый, залихватский и счастливый – слился с журчащим смехом княжны, образуя волшебное единство; оба не заметили, как внезапно остановились, и колдун схватил ее, как мечтал несколько минут назад, поцеловал в губы, что маков цвет, поцеловал ее разрумянившиеся от танца щеки, белый прямой лоб, темные брови, утянул ее на невесть откуда взявшиеся подушки; утянул, накрыл собой – и снова принялся целовать…
Когда Морена очнулась от этой любви, от этой жаркой колдуновой ласки, первое, что она почувствовала, был стыд; он окутывал ее, захватывал в плотный кокон, не давал дышать – это было восхитительно и тягостно одновременно. Она провела рукой по волосам Хильдима – они были нежнее, чем шелк ее платья, по его широким плечам; говорить ей не хотелось, да и нечего было говорить. Такова была женская доля – ублажать и подчиняться, но сейчас ей казалось, что она была не единственной здесь, кто подчинился; это произошло с ними обоими. Отдаваясь в руки колдуна в батюшкиных палатах, она словно бы до последнего надеялась, что он не тронет ее, что она нужна ему только лишь для того, чтобы причинить боль ее отцу, ведь испокон веков так повелось, что люд колдовской обычных людей ненавидел. Она надеялась даже, что будет прислуживать Хильдиму, будет поклоняться ему и выполнять любые его прихоти – но только не эту единственную прихоть, которой она так страшилась в глубине души. Морена не знала, конечно, не могла знать всего до конца… но до нее доходили слухи и разговоры, а потому боялась она любви, потому и не хотела так замуж; и девицы сказывали ей иногда о поцелуях тайных и украденных – это будоражило Морену, но внушало ей трепет и тревогу. Она отвернулась от Хильдима; он также не говорил ничего, будто давая ей возможность прийти в себя. Она не ощущала больше внутренней свободы, она больше не имела желания сбежать, да и права на это. Девичья жизнь ее осталась позади, словно бы в другом мире да в ином измерении; мучило ее еще то, что с колдуном она не была повенчана.
«Негоже колдуну в богову церковь ступать, – сказал Хильдим на пиру, – без венчания обойтись придется».
Эти слова его теперь стояли у Морены в ушах; как можно было женой его вне церкви стать, грех подобный принять? Она все же нашла в себе силы посмотреть на мужа; он сидел совсем близко, касаясь ее. Красота его дьявольская больше не пугала княжну, не вызывала в ней дрожи, но какое-то незнакомое доселе волнение поднималось изнутри; ей захотелось снова быть к нему ближе, еще ближе, снова почувствовать его… Она испугалась собственного порыва и опять опустила взгляд.
– Что же, Морена, – колдун впервые назвал ее по имени, – глаза ты от меня прячешь, не мил тебе муж! Чай, опять скромницу изображаешь, думаешь, поверю я в твои вздохи печальные? Некогда нам с тобой вздыхать да грустить; жизнь пройдет – оглянуться не успеешь, так и будешь в тереме своем плакаться. Пойдем, покажу тебе кое-что.
Морена поднялась с подушек, набросила платье, заплела косу быстрыми, ловкими движениями; Хильдим надел кафтан, посмотрел на нее и улыбнулся.
– Пойдем, – снова позвал он жену.
Они прошли в соседнюю комнату; та была меньше предыдущей и гораздо более скромной. На небольшом столике у окна лежала зеленая ящерка; шкурка у нее была непростая, будто изумрудная; солнечный свет подсвечивал ее и делал похожей на россыпь драгоценностей. Морена при виде ящерки даже не вздрогнула; после лешего, старухи Кикиморы и сада маленького цветочника Альдо ее вряд ли можно было так просто удивить.
– Это Матильда, – сказал Хильдим, показывая на ящерку. – Она будет тебе прислуживать.
И все же Морена не смогла сдержать возглас удивления, когда ящерка проворно спрыгнула со стола, на ходу превращаясь в хорошенькую девушку; платье на ней было изумрудное, словно шкурка, а волосы травяного цвета она уложила на голове в тугую косу.
– Приветствую вас, хозяин и добрая госпожа, – сказала она почтительно и поклонилась.
– Пожалуй, оставлю я вас одних, наговоритесь вдоволь о своем, что мне разговору женскому свидетелем быть. – Колдун поцеловал жену в лоб. – Покажу я тебе потом палаты, Морена, теперь ты их полноправная хозяйка.
Он вышел, на губах у него играла довольная улыбка; как чудно он все-таки придумал одурачить княжеских людей – перебросить войска хана поближе к Златограду; все лишь ради того, чтобы заполучить в свои сети пленительную княжну Морену, – да и какая княжна она теперь! Так, жена колдунова.
– Мы так готовились к твоему приезду, дорогая госпожа, – промолвила Матильда, едва Хильдим исчез за дверями, – так старались, чтобы тебе все здесь было по нраву; властитель наш строго-настрого наказал нам предстать в наилучшем виде.
– Разве здесь есть еще кто-то, кроме нас троих? – подивилась Морена. – Я и не заметила никого.
– Что ты, госпожа, слуг у нашего хозяина – любой князь позавидует! Да только не хотят они пока обнаруживать себя, боятся.
– Меня? – Морена улыбнулась. – Почему же? Это мне мир колдовской чужд и страшен, а вам, слугам колдуновым, ни к чему бояться простой девицы.
– Непростая ты, госпожа, знаем мы, – Матильда подмигнула ей. – Ничего, ты освоишься, мы к тебе привыкнем – наладится все. Властитель наш велел нам подготовить для тебя наряды заморские, украшения неземные, а я смотрю на тебя и думаю: зачем они такой красавице? Ты уж прости мне мои слова смелые, но господин наш знает толк в девицах. Пойдем, буду я тебя наряжать, а ты спрашивай, госпожа, ежели тебя занимает что-то.
Они прошли вглубь дома, поднялись по тоненькой витой лесенке – и попали в обширную залу. Ничего в ней не было, кроме зеркал от пола до потолка и длинных, вместительных шкафов, где и хранились наряды. Матильда расплела ей косу, причесала гребнем серебряным волосы, что реками нескончаемыми струились почти до самого пола, уложила в мудреную заморскую прическу, втерла ей в белые руки бальзам странный, а затем принялась примерять ей платья разные, коих здесь было бесконечное множество. Шелк, атлас, бархат и парча, всего имелось вдоволь: и ожерелья жемчужные, и колец с серьгами ряды целые; были и рубиновые – похожие на те, что видела княжна в ушах у колдуна, были и ленты с самоцветами, и пояса, каменьями выложенные… Не любила Морена никогда такое роскошество, такое великолепие, и отца своего просила не баловать ее, как всякий князь балует дочку любимую, но сейчас, казалось, она забыла свои прежние убеждения, до того нравилась она себе в зеркале во всем этом великолепии. Разве можно было устоять?
– Благодарю тебя, Матильда, – сказала она, когда все было готово. – Не уходи, посиди со мной; не знаю я, когда колдун воротится, а одной мне тоскливо.
Матильда покорно уселась на скамеечку у ног Морены.
– Расскажи мне, как у вас здесь жизнь протекает, чем хозяин занят обычно?
– Не велено рассказывать, добрая госпожа, не велено, – отвечала Матильда. – Да и разве ведаем мы? Не наше это рабское дело, чем хозяин занят, мы свое место знаем – и работу свою не гнушаемся выполнять на славу.
– А гости бывают у вас? – спросила Морена.
– Бывают, госпожа, как не бывать; хозяин наш любит очень и пиры закатывать, и друзей добрых принимать.
От этих слов Морене почему-то спокойнее стало; может быть, однажды муж не откажет и батюшку ее позвать в гости, и брата.
– А ты чем раньше занималась?
– За домом смотрела, дому все-таки тяжело без хозяйки, – теперь вот вам прислуживать буду.
– Хозяину, значит, не служила?
– Что ты, милая госпожа, – Матильда улыбнулась, – у хозяина есть свой прислужник, негоже было бы девице занимать его место.
Морена почувствовала странное облегчение, будто до этого мучила ее ревность к хорошенькой служанке.
– Знаешь, госпожа, что я тебе скажу, – Матильда хитро прищурилась, – ты только хозяину не говори ничего – погонит он меня в шею, а то и умертвит. Есть у нас комната, в которую никому ступать не положено, я ни разу там не была; только сам хозяин и прислужник его ближайший имеют к ней доступ. Чего я только ни слышала об этой комнате; не мое это, конечно, дело, но, говорят, хранит там наш властитель то ли тела, им убиенные, то ли врагов своих, в статуи застывшие превращенных, то ли ужас всякий для зелий колдовских вроде жабьих костей там держит…
– Зачем же ты говоришь мне все это о муже моем, ежели сама не видела ничего? – спросила Морена.
Страх снова сковал ей сердце, она вся похолодела.
– Боюсь я за тебя, госпожа, догадываюсь же, что нечестным путем взял тебя хозяин себе в жены. Разве порядочная девица, да еще и княжна, пошла бы за колдуна по доброй воле?
Морена потупила взгляд.
– Владыка наш, может быть, и хорош собой необычайно, любая красоте бы его позавидовала, да что там! Я полжизни отдала бы, чтобы на добрых молодцев глазами такими взирать, как у тебя; да только не просто так привез он тебя в палаты свои. И не спрашивай ничего у него, хуже будет.
Тут Матильда навострила уши.
– Идет он к нам, слух у меня тонкий; делать мне здесь больше нечего. Осторожнее будь, госпожа, умоляю тебя.
Странная служанка мигом обернулась ящеркой и проскользнула под дверь. Через минуту вошел Хильдим.
– Вижу, понравились тебе дары мои, любезная Морена, до чего же ты хороша! И серьги любимые мои выбрала.
Княжна покраснела; права была Матильда, да только не устоять перед его чарами, как ни старайся!
– Знаешь, что мне любопытно: почему назвали так тебя – и кто?
– Матушка моя назвала, – ответила Морена. – Отец мне в детстве рассказывал, что настаивала она на этом имени, а почему – неизвестно мне.
– Чудная у тебя матушка была, должен сказать, – усмехнулся колдун. – Знаешь ли ты, что имя твое означает?
Жена его отрицательно покачала головой.
– Морена – это богиня зимы; древние славяне страшились ее. Считалось, что она олицетворяла собой как смерть, так и воскресшую природу, – каждый думает по-своему; матушка твоя, верно, причину имела так назвать тебя…
– Я родилась в конце зимы, – тихо ответила Морена. – Верно, потому меня так матушка и нарекла.
Колдун улыбнулся.
– Не ведал я подробностей таких, не ведал. Ну, что ж, пора тебе и дом твой новый показать.
Хильдим подошел к жене, поцеловал ее снова в уста сахарные – она вся зарделась. Вместе они вышли из зала.
– А давно ящерка эта, Матильда, служит у тебя? – спросила Хильдима Морена.
– Давно, очень давно, многие годы, да и не была она сначала ящеркой, а я разглядел в ней способности ведьминские – и научили ее мои прислужники ящеркой оборачиваться. А почему ты спрашиваешь, красавица, неужели она тебе не по душе?
– Наоборот, понравилась она мне, вот и хочу разузнать о ней больше, – схитрила Морена. – Смышленая девица, проворная, спорая на руку.
– Права ты, поэтому я и выбрал ее тебе в служанки.
– А как встретился ты с ней? – спросила его Морена.
Отчего-то мысли о Матильде не давали ей покоя.
– У Кикиморы она прислуживала; столько вынесла, бедняга – и побои зверские, и ругательства страшные; Кикимора ведь не посмотрит, что ты девица хрупкая, на редкость сварливая старуха! Уж почему Матильда на работу пошла в старухин трактир, мне неведомо, видно, жила в деревне неподалеку, а семья была нуждающаяся, – вот и отправили ее в услужение; там я с ней и встретился, разглядел в ней ведьминство, пожалел – взял к себе, за домом смотреть. А ты почему спрашиваешь, Морена, неужто заревновала муженька к служанке? – Колдун засмеялся. – Волноваться тебе нечего, верь моему слову; ни о чем не беспокойся, прелестница.
– Раз говоришь ты так, значит, так оно и есть, – покорно ответила Морена. – Верю я тебе. Только ответь мне, Хильдим, зачем ты взял меня в жены?
– К чему задаешь ты подобные вопросы? – голос колдуна зазвучал недовольно. – Дому без хозяйки тоскливо было, – он словно бы повторил слова Матильды, – да и мне, признаться, тоже. Увидел я тебя как-то мельком в доме у твоего батюшки, да ты меня не заметила тогда; а князь, чай, в страхе был постоянном от слухов, что про меня ходили, недаром отношения добрые налаживал. Здесь так удачно, уж прости, и войско ханское подвернулось, я и решил помочь князю, однако он, как цену мою узнал, рассвирепел, ничего от его учтивости не осталось… Да выхода другого у него не было.
Морена промолчала.
– Покажу я тебе, пожалуй, сейчас зал, где мы с тобой пировать будем, и баню покажу, в нее дверь отдельная из двора ведет, прогуляемся с тобой по саду обязательно. Вот только хотел я предупредить тебя… Видишь вот ту дверцу узенькую в конце хода?
– Вижу, как не видеть!
– Ежели узнаю я, что ты случайным – или нарочным – образом решила посмотреть, куда ведет она, да проникнуть в восточное крыло – накажу, ох, накажу. Помнишь, что говорил я тебе на пиру? Рука моя на расправу легка, а предупредить я тебя решил для того, чтобы ты по неведению своему того не проведала, что тебе ведать не полагается.
– Зачем ты предупредил меня, Хильдим? Разве не так любопытство вызывают, соблазнами разными толкают жертву на грех?
– Что ты, милая, верю я в твое благоразумие; не станешь ты делать этого, коли милость моя тебе дорога.
Они спустились по лесенке и прошли к зале, которую упоминал Хильдим, но широкие столы и столовое серебро не занимали сейчас Морену. Шла она молча, ведомая колдуном, и думала лишь: что бы он ни хранил в комнате той, верно, придется разузнать об этом любыми доступными и недоступными ей средствами; должен был понимать это колдун, если слышал многое о ее натуре. Морене нужно было убедиться теперь, что ничего ужасного, о чем говорила Матильда, нет в той таинственной комнате за узенькой дверцей… но кабы не было там ужасного, разве стал бы он скрывать ее ото всех? Не ведала еще Морена, идя рука об руку со своим мужем, что теперь ничего уже не изменило бы того трепета и желания, что она чувствовала в его присутствии, как бы глубоко она ни старалась спрятать их; слишком сильны теперь были чары чернокудрого ворожея над сердцем и разумом той, что, казалось, уже долгую вечность назад считалась златоградской княжной.
V
После встречи со старухой Кикиморой в лесу на душе у Марила было неспокойно. Может быть, и удалось поганой старухе одурачить его спутников, но сам северный господарь видел ее насквозь; не укрылись от взора его ни глаза ее змеиные, ни кожа посеребренная. Дурным знаком было встретить подобное существо в самом начале пути, но Марил твердо решил не изменять своим намерениям. Дружина его спокойно переговаривалась с людьми златоградского князя, не ведая ничего о мятежном состоянии своего предводителя да о сомнениях, что терзали сейчас его душу. Да, старуха предрекла ему если не погибель верную, то поражение в борьбе с треклятым чародеем, но Марил никогда не был суеверен, никогда не доверял ворожеям и ведуньям, и предсказание это хотя и вызвало в нем бурю тягостных размышлений, сбить его с пути уже не могло. Можно сказать, никаких особенных приключений не случилось с ними больше по дороге к пристани; повторной встречи с Кикиморой они чудом избежали, порешив не заезжать в ее трактир. День был к ним благосклонен, а ночью они разожгли костер и уселись вокруг него, греясь и подкармливая друг друга увлекательными боевыми россказнями. Господарь мало участвовал в оживленной беседе своих соратников, разве что изредка вставлял пару едких слов, когда речь заходила о ратных подвигах того или иного воина; подобное бахвальство было знакомо ему не понаслышке. Морозный воздух окутывал их с головы до ног, но костры не позволяли забыться и окоченеть от холода; весело, задорно было княжеской дружине – знали воины, что скоро путь их будет окончен и возвратятся они домой, под крыло своего доброго господина, а господаревы люди вторили им, не задумываясь сейчас о будущих своих невзгодах.
Марил, пребывая в тяжелых раздумьях, смотрел, как вспышки огня расцвечивают в рыжину все вокруг, и виделись ему в костре образы небывалые, очертания неслыханные; казалось, из-за соседнего дерева вот-вот выбежит ырка или другая какая нечисть – тревожно было северному господарю. Никогда в своей жизни не чувствовал он страха, нравом трусливым не отличался, но теперь, едва прислушиваясь к проказливому говору дружинников, впервые ощущал он непонятный испуг, смятение охватывало его душу, а ужас подкрадывался откуда-то сзади, казалось, того и гляди вонзит ему в спину свой расписной кинжал. Да, непросто было сейчас Марилу, хотя и пытался он час от часа поддерживать бодрую беседу своих спутников; не поздно было еще, добравшись до пристани, взять курс не на Мертвую долину, а на родимое северное господарство. «Да, – подумал он, – дивно это, что море северное не замерзает даже в самые лютые морозы, словно подпитываемое неведомой обычному люду силой». Отсюда до владений Марила было всего несколько дней пути. Корабль уже с нетерпением ждал своего хозяина и не ведал, какой страшный путь уготовлен ему; впрочем, Марил собирался бросить якорь в ближайшем к долине поселении – оттуда надо было еще добираться на конях.
Соблазнился он мыслью одолеть окаянного колдуна, да только вот пороху маловато оказалось; странно даже было думать, что однажды он позволит какой-то старой ведьме одурачить его, запутать своими дурацкими предсказаниями, ведь никогда доселе не сомневался он ни в силе своей, ни в бесстрашии…
Когда с рассветом снова двинулись они в путь, даже коню Марила будто передалось это беспокойство; он поводил ушами, словно прислушиваясь к звукам леса, словно тоже казалось ему, что за каждым кустарником, за каждым деревом нечисть всякая скрывается. С ветки вдруг вспорхнула большая птица, взлетела высоко в небо и закричала; конь под Марилом вздрогнул, заржал – второе дурное предзнаменование дано было северному господарю. Ждал он теперь третьего, заключительного предзнаменования, ведь ясно уже было, что и оно не задержится в пути; ждал, чтобы после выдохнуть спокойно – решение было уже принято им в последний предрассветный час, хотя и далось нелегко. Кони дружинников также заржали беспокойно, перекликаясь, будто пытались что-то сообщить друг другу; увы, никто не понимал их языка.
Они остановились все-таки в кабаке в очередной деревеньке, встретившейся им. Дружинники сели в ряд, запросив питья и снеди; Марил поместился в углу стола, потягивая из чарки багровый напиток. До моря оставалось полтора дня пути; что их встретит там – спокойная водяная гладь или самая настоящая буря – он не знал. Крик птицы и ржание коня звенели у него в ушах, перекрывая обыденные звуки кабака; чудно это было, но теперь ему словно бы стало легче – погибнет он, значит, так тому и быть; выживет – порешит непременно бесовского прислужника, даже ежели стоить ему это будет всего на свете… Да и не осталось ничего у северного господаря: мать, сошедшая с ума, народ, который держал он в вечном страхе, считая, что страх всегда надежнее и вернее любви, – да жизнь его, которую теперь готов он был отдать за правду и справедливость, а единственной справедливостью казалось ему сейчас избавить землю-матушку от тлетворного чародея.
Все опасения его были напрасны; море встретило их довольно приветливо, насколько приветливой могла быть холодная, темная, почти черная вода; волны бились о берег – поток их горазд был свалить с ног любого, кто посмел бы к ним приблизиться. Господарю нравилось наблюдать, как снег разбивается о морскую гладь; как, едва попадая в воду, каждая снежинка сливается с ней и превращается в ничто… Корабль с нетерпением ожидал своего повелителя.
– Ну что ж, вот и настала пора прощаться, – сказал Марил, обращаясь к златоградским дружинникам. – Благодарю вас, что сопровождали меня в пути; жаль, не пускает вас князь разделить со мной дальнейшие невзгоды, с вами-то оно все сподручнее было бы – чем больше людей, тем надежнее.
– И мы благодарим тебя, господарь, за слова эти и желаем, чтобы удача всегда сопутствовала тебе – возвращайся к господину нашему с княжной, уж он не поскупится, – с почтением ответили ему дружинники.
– Надеюсь, люди добрые, надеюсь и уповаю, что удастся вызволить мне княжну и землю нашу спасти от бесов всяких… да только чему быть, того не миновать! Ежели позволят мне силы высшие до конца дойти, ежели сберегут жизнь мою, буду счастлив я, а ежели нет, не поминайте лихом, люди добрые, – и князю вашему скажите, чтобы простил мне все мои слова резкие и сам лихом не поминал.
Дружинники поклонились господарю, оседлали коней своих верных – и ускакали, только ветер засвистал на том месте, где минуту назад стояли они. Господарь окинул суровым взглядом своих соратников.
– В добрый час! – воскликнул он, и эхо голосов подхватило его слова, а северные воды разнесли их по всему свету.
Когда подняли они серые паруса, что казались белыми из-за облепившего их снега, и вышли в открытое море, погода была еще спокойная и умиротворенно благословляла путников. Шторм разыгрался к ночи, сумасшедшие волны укачивали судно, будто пели ему последнюю в его жизни колыбельную, – то был третий знак. Марил не выходил из каюты, снова изучая карты; разбушевавшееся море его не волновало; шторм этот был последним предупреждением, и бояться его было нечего – ежели и ждали их беды, то эта должна была обойти стороной.
Прослеживая путь по картам и скользя пальцем от одного края до другого, Марил убедился, что решение идти через ханские земли, которое он принял еще во владениях златоградского князя, было верным. Он надеялся, что ханский наместник миром разрешит ему пройти, купившись на драгоценные подарки и сладкие речи, а ежели не уступит, придется бой дать; людей у Марила было немного, но он уповал на их воинское умение. Из-за шторма он не мог уснуть, все думая о предстоящей встрече с наместником; слова в его голове никак не желали складываться и сходиться, когда он размышлял над своей речью. Неплохо было бы завоевать доверие посла, может быть, даже заключить мирный договор, если удача будет сопутствовать ему; занимало Марила еще и то, что колдун мог сделать с войском хана: перебросить в другой край, умертвить, обратить в пепел? Догадки строить не было пользы – никто не поведал бы ему, что на самом деле сотворил колдун, зато можно будет спросить его самого, ежели судьба сохранит северному господарю жизнь и сведет его с чародеем лицом к лицу. Таковы были мысли Марила, пока корабль его носило по северным водам, пока спутники его умоляли бога о помиловании; казалось, судно того и гляди разорвало бы в щепки. Но третье предзнаменование свершилось – шторм затих так внезапно, будто и был он всего лишь дурным сном; мглистое небо, озаряемое вспышками молний, стало вдруг чистым, прозрачным; звезды зажглись на нем одна за другой. Люди выдохнули, обнялись; высшие силы дали им отсрочку.
Марил заснул только под утро; в его воспаленном разуме проносились видения: вот колдун, зайдясь торжествующим смехом, выводит за руку златоградскую княжну; вот старуха Кикимора глядит на него своими змеиными глазами, ее морщинистая кожа блестит и переливается теперь всеми оттенками серебра; а вот и бесплотные ырки в лесу, мерцая жуткими глазами, идут на него, идут, их становится все больше, они разрастаются уже в огромное, бескрайнее, светящееся изнутри облако… И не было этим видениям конца и края. Нельзя было даже сказать, что Марил погрузился в сон, скорее, на него нашли страшные, тяжелые видения, из которых он никак не мог выбраться; казалось, проснуться ему не удастся уже никогда. Но вот зашел Милу, позвал его – и господаря резко вытянуло из этой жуткой дремы.
– Через две ночи будем в ханских землях, – объявил Милу, ставя перед Марилом чарку вина и нехитрую снедь. – Ты придумал уже, господарь, что делать будем? Подарки какие приготовил?
– Приготовил, – мрачно ответил Марил, пригубив вина. – Не нравится мне это, боюсь, в бой идти придется, да только вот другого пути нет. Гиблые болота меня не прельщают – о них слухи ходят похлеще, чем о Мертвой долине.
– Не знал я, господарь, что так затронула тебе душу княжна; глянь, на подвиги какие ради нее ты готов, и других обрекаешь следовать за тобой.
– Разве не говорил я тебе, что колдун отобрал у меня не только княжну, но и кое-что подороже? Нечего бесовскому отродью по земле нашей расхаживать.
– Боюсь, не слыхивал я от тебя такого, господарь, – признался Милу. – Не мое это дело, я пес твой верный, и ты это знаешь. Людей только жаль.
– Можешь распустить их, я и сам справлюсь, – Марил презрительно скривился. – Господарева служба – не на пирах восседать и не поцелуи воровать у девок; коли не ведают о том твои люди, на службе моей им не место.
Милу промолчал.
– Скажи мне, Милу, а какие настроения гуляют среди моих соратников? Неужто не мила им уготованная мною доля?
– Не могу знать, господарь любезный, не могу знать; не говорят они ничего, а мысли читать – то лишь чародеи да чернокнижники умеют, – последовал спокойный ответ.
– Да, Милу, тяжела господская судьбина; не ведаешь никогда, что против тебя люди твои добрые замышляют.
– Оставь, господарь, куда им замышлять что-то против тебя сейчас, когда за жизнь только они за свою и боятся. Коли не желали бы они следовать за собой, так бы и сказали тебе; люди они храбрые, трусости я за ними не замечал. Предать господаря своего они не посмеют – на верную смерть пойдут, но не предадут.
– Уповаю я на это, друг мой, – Марил нахмурил белые брови. – Знают они меня хорошенько; ежели заподозрю я что-то неладное, мало не покажется ни одному из них.
– Тебе не о чем беспокоиться, господарь, – промолвил Милу. – Следовало бы тебе только больше доверять своим людям, а то так и с ума сойти можно, коли в каждом верном воине изменника подозревать.
– Здесь ты неправ, – возразил ему Марил, – иные так прикидываться умеют, такую личину на себя напустят – вовек не догадаешься, что у них на уме.
– Подозрителен ты стал, – тихо сказал Милу, – подозрителен и мрачен; чай, чувствуешь, что зря все это затеял, а с выбранной стези сойти не можешь, честь тебе не позволяет, честь и совесть.
– Прости мне грубость мою, но не твое это дело, Милу; не тебе угадывать, что у меня на душе творится, не тебе замыслы мои судить. Работу свою ты выполняешь споро, здесь я ничего сказать не могу, и другом всегда был мне верным, а большего и не требуется; приказам следуешь, владыке своему подчиняешься – вот и славно.
– Никогда не слушал ты моих советов, господарь; подчинюсь я тебе теперь, как и всегда, но все же – да ты и сам знаешь – гиблое это дело. Гиблое. Три дурных знака получили мы, и не удивляйся, что я тоже распознал их. Старуха та сразу не понравилась мне; видел я, какое впечатление произвела она на тебя.
– Слишком умен ты, Милу, а должен лишь слепо подчиняться моим приказам. Ни одно дурное предзнаменование не остановит меня, не заставит развернуть корабль и возвратиться домой. Высшие силы даровали мне возможность придать смысл своему существованию, я не могу не воспользоваться ею.
– Высшие силы предупредили тебя три раза, господарь, а возможность эту ты сам себе решил даровать. Помяни мои слова. Не знаю, чем не угодил тебе так проклятый колдун, ежели, как ты говоришь, не только в княжне златоградской дело; но не стоит он жизни твоей – и жизни людей, тебе преданных.
– Не думаю, что разговор наш дальнейший принесет пользу, – холодно произнес Марил. – Ступай.
Милу вышел; он и сам понимал, что упрямого господаря разве что смерти переубедить удастся. Марил пригубил еще немного вина; картины прошлого замелькали перед ним. Двадцать лет минуло с той самой роковой его встречи с Хильдимом, но заморский ворожей не изменился ни капли; нежным и юным оставалось его красивое лицо, будто не прошло и дня; тело его все так же было стройным и гибким, будто молодое дерево, да и наглости не поубавилось в его бесовской натуре. Марил скрипнул зубами от злости; в то время как сам он с каждым днем неизбежно приближался к путешествию на тот свет, кожа его становилась все грубее, а сила воинская неизменно покидала шаг за шагом его нутро, ворожей только бахвалился своей почти девичьей красой и даром своим колдовским, серьгами бирюзовыми бренчал; беды все были ему нипочем. В то время как Марил защищал земли свои, бился и воевал за свою честь господарскую, колдун наслаждался покоем в южных чертогах, ни одна битва не коснулась его, ни один воин не посмел бросить ему вызов, ведь знали все от мала до велика – первый, кто посмеет ступить в его владения, потеряет облик человеческий.
«Защитил себя хитроумный бес, – думал Марил, – душонку свою трусливую спас, да только от меня ему, черту поганому, не спрятаться! Знаю я, как выманить его из уютного гнездышка; он еще на коленях будет стоять передо мной и молить о пощаде!»
Честолюбивые мысли одолевали Марила, но до их претворения в жизнь было еще ох как далеко. Ханский наместник ждал его впереди – и неизвестно, какую участь он ему уготовит. Марил коснулся объемного серебряного перстня на безымянном пальце – когда-то, в старые добрые времена, перстень принадлежал его отцу. Он вспомнил мать – какой она была, когда сам Марил был еще мальчишкой… Всегда скромная и тихая, она боготворила его отца и подчинялась ему беспрекословно – да и отец, казалось, любил свою маленькую жену сильнее, чем обычно принято у господарей, – только горился, что она не может больше иметь детей. Марил мечтал иметь жену, похожую на мать, и готовился уже усмирить бунтарский, как слышал он, нрав княжны, но не ему было это суждено. Он смотрел на нее тогда, на пиру; смотрел, как она покорно выходит из зала, ведомая колдуном; смотрел, как она боится поднимать на него глаза и заливается румянцем, когда он обращается к ней, – красота колдунова еще ни одного человека на свете не оставила равнодушным. Иногда Марил думал: действительно ли Хильдим так хорош собой или все дело лишь в умелых чарах? Красота эта вызывала в северном господаре приступы черной злобы. Где это видано, чтобы муж бравый обладал подобными чертами! Чтобы были так насурьмлены его брови, чтобы волосы в локоны тяжелые собирались, чтобы глаза синие сверкали из-под длиннющих ресниц! И руки у колдуна ведь белые, нежные, будто меча никогда в жизни своей не видали, пальцы тонкие, да и сам он, хотя и широкоплеч, изящен до невозможности! Марил аж сплюнул от злости, до того гадко ему стало при мысли о колдуне.
Следующая ночь была спокойной; луна, освещая седые волны, заглянула и к Марилу, как бы подбадривая его. Все вздохнули с облегчением – казалось, на какое-то время небеса даровали им долгожданный покой, и только Милу никак не мог забыть о дурных знаках, полученных ими в пути. Понял он уже давно, что переубедить северного господаря ему не удастся, хотя и не оставлял надежды, что тот сам выберет единственную верную дорогу; впрочем, с каждым часом, что они приближались к ханским землям, надежда истончалась и становилась все призрачнее.
«Если даже меня, слугу своего преданного, он слушать не желает, кто сможет наставить его на путь истинный?» – думал Милу.
Даже под угрозой страшной смерти, даже во время самой невыносимой пытки не сознался бы Милу господарю, что тоже видел истинное обличье старухи Кикиморы. С детства внушали Милу, что колдовства не жалуют теперь на земле, что дар свой прятать надо, и Милу впитал это с молоком матери. Сколько раз за последние двадцать лет спасал он жизнь господарю при помощи дара своего – и как тяжело ему было хранить это в тайне! Но знал верный пес господарев, что из-за того ворожея синеокого ненавидит Марил все колдовское, что грозится весь род чародеев истребить; не мог рисковать Милу, не мог рассказать господину правду. Марил доверял ему и любил его как брата родного, хотя никогда в том и не признался бы; росли они вместе, вместе закалялись в боях, и помощь Милу должна была оставаться тайной; благо господаря было для него важнее возможности открыться. Знал Милу, что на смерть его господарь если и не отправит, то навсегда придется покинуть ему северные земли, и останется Марил без главного своего защитника. Этого Милу допустить не мог.
Когда ханская земля показалась вдали, Марил, казалось, был уже наготове. Понимал он все риски, догадывался обо всех злоключениях, что могли подстерегать их во владениях хана, но было уже поздно. Луна подсказала ему верное направление, как бы утвердила его в правильности собственных намерений. Чародей должен был погибнуть; нечего земле носить такое зло – и такую поистине колдовскую красоту.
Полдень уже расцвел и во всем своем великолепии окутывал путников, когда они сошли с корабля. В ближайшем же трактире, где они решили отдохнуть и подкрепиться, их взяли люди посла; чужеземцев здесь определяли с полуслова.
– Странно, что люди твои еще на пристани нас не схватили, – сказал Марил послу, и легкая усмешка тронула его губы.
– Мне и самому это странно, – последовал ответ. – Все, к этому причастные, будут наказаны.
Говорил посол на северном наречии чисто, но было в его голосе что-то, отличавшее в нем иноземца; узкие глаза смотрели на Марила с подозрением.
– Откуда пожаловал ты, милостивый господарь, куда путь держишь?
– Из северных земель, – отвечал Марил.
Златоград он благоразумно не упомянул.
– Путь держу, – продолжал он спокойно, – в Мертвую долину, а оттуда – к Одинокой скале.
– Храбрец ты, господарь! – подивился ханский наместник. – И ради чего ты на подвиг этот идешь – и людей своих гонишь?
– Благое дело совершить хочу; землю от одного колдуна бесовского избавить.
– Чем же так не угодил он тебе?
– Невесту мою украл, – Марил ни слова не сказал о том, что причина крылась не только в княжне.
– За невесту биться похвально, – сказал посол. – Никто не имеет права отбирать то, что тебе принадлежит.
– Дары я тебе привез со своей земли, – сказал Марил, чуть поклонившись.
– Благодарю, господарь; слуги мне их передадут, а тебе я, пожалуй, дам часть людей своих, чтобы сопровождали тебя на твой подвиг. Желаю успеха.
– Прости мне то, что поведаю я сейчас, но слышал я много ужасов всяких, что сказывают о тебе, а ты мне кажешься человеком правильным и великодушным.
– Не могу сказать ничего о собственной правильности, – усмехнулся посол, – но что касается великодушия, есть вещи, которые восхищают и трогают меня – к примеру, смельчаки, готовые на любой подвиг. Здесь нет ничего удивительного. Предлагаю я тебе, господарь, отдохнуть, откушать хорошенько и провести ночь в моих владениях; не бойся, ничего дурного с тобой не случится – ежели хотел бы я умертвить тебя, не стал бы здесь долго разглагольствовать.
Марил скрепя сердце согласился; все же неспокойно ему было в посольском доме. Отвели его в богатые покои; Милу расположился по соседству. Хотя и терем занимал посол, внутри мало что осталось от обычного убранства; все пространство заполняли восточные узоры; одежда слуг вызывала у северного господаря раздражение, непривычно было его глазу наблюдать такие сочетания и формы. Комната его вся была усыпана подушками, на полу лежал широкий багряный ковер; северный господарь совсем некстати вспомнил сейчас владения колдуна, так похожие на жилище ханского посла; снова лицо его помрачнело, и на душе стало тяжело. Узкий кувшин стоял на маленьком столике с тоненькими ножками; напиток, находящийся в нем, мало напоминал столь уважаемое всеми вино; Марил, не доверяющий ханскому наместнику, не стал пробовать этот напиток и от яств дорогих также отказался, удовольствовавшись собственными припасами. Он плохо спал ночь; быстро попрощавшись с послом и поблагодарив его за теплый прием да пожалованных ему людей, Марил со своими спутниками отбыл из терема.
Впереди ожидала его гибельная Мертвая долина.
VI
Когда проехали они последнюю деревню, Марил еще издали увидел Мертвую долину – она простиралась на много верст вперед; чем ближе они подъезжали, тем сильнее накрывала их могучая, суровая тьма.
– Огня! – повелел Марил, и тотчас зажгли свои светочи его верные спутники.
«Вот и все», – подумал северный господарь.
Все, к чему он стремился и чего так жаждал, было здесь, у подножия ночи; тьма окутывала его бережно, осторожно, убаюкивала, ласкала своим дыханием, будто заранее обещала ему вечный покой и благодать. Но до покоя Марилу было еще далеко; сначала нужно было исполнить то, к чему он шел так долго, так мучительно последние двадцать лет; осталось сделать последний бросок, последний шаг в сторону неизвестности. Кто знал, что ждало его впереди, насколько правдивы были рассказы старой няньки? Казалось, где-то вдалеке промелькнула вездесущая ырка – та, что мерещилась ему еще в лесу; он вздрогнул едва заметно. Люди его были до странности спокойны – верно, примирились окончательно со своей долей. Это обрадовало господаря. Одинокая, на удивление слабая луна глядела на них с черного неба, звезд почти не было видно; светочи спасали их от полной темноты. При вступлении в долину они сначала не заметили ничего дурного; казалось, тьма была единственной опасностью, но чем дальше углублялись они, тем страшнее становилось. Вся долина будто состояла из костей – она была усыпана ими вдоль и поперек; среди этих костей можно было заметить голые кустарники, что простирали к путникам свои мерзкие руки-ветки, будто покрытые какой-то слизью и запекшейся кровью.
– Вспомни грехи свои, господарь! – прозвучало из мерзлой черноты. – Вспомни их и покайся, ибо лишь тому открыт будет путь до Одинокой скалы, чьи намерения чисты и безгрешны.
– Вы слышите, слышите этот голос? – спросил Марил у своих соратников; по его телу пробежала дрожь, и столь несвойственный ему страх снова пленил его сердце.
– Прости, господарь, но о чем речь ведешь ты – нам неведомо.
Дружина, в самых страшных боях испытанная, не могла его подвести, да и люди ханского посла вряд ли бы скрывать что-либо стали от Марила, скорее, испугались бы этого голоса так сильно, что скрыть и не удалось ничего.
«Удивительно, – подумал северный владыка, – неужто люди мои и ханские прислужники достаточно чисты, и лишь я один заслуживаю покаяния?»
– Чего хочешь ты от меня? – громко спросил он, как бы обращаясь ко всему сущему и небывалому; хотя и мерцали во тьме светочи, вдалеке ни зги было не видно.
– Я сказал уже тебе, господарь, чего мне надобно; не думал я, что ты можешь быть настолько непонятлив. Покайся, а иначе станешь горкой косточек, что видишь ты на земле, да кровью, поселившейся на голых кустарниках.
– Кто ты и как смеешь ты мне, северному господарю, указывать да угрозами в меня сыпать? – дух Марила окреп, осмелел, расхрабрился.
– Зря думаешь ты, что терять тебе нечего, что все равно пропущу я тебя; поганый ты человек, господарь, поганый и недостойный, а земли твои да успехи воинские – не твоя заслуга, но судьба, тебе предначертанная. По рождению тебе дано было право властвовать на северной земле, – продолжал суровый и, казалось, бесплотный голос, – но права этого не заслужил ты, а только лишь им воспользовался и злоупотребил положением своим. Не дивись, господарь, все мне ведомо, все известно – народ боится тебя, боится, но не любит, и многое отдал бы он, чтобы заполучить иного правителя.
– Не знаю я, кто ты, трус, что позволил себе такие слова о северном господаре молвить, – презрительно сказал Марил, – покажись, яви свою природу! Или боишься ты мне на глаза показываться?
– Гордыня твоя тебе погибель накличет, – голос зазвучал печально. – Совсем забылся ты, господарь, власть лютая испортила тебя, весь ты пропитался ею – властью этой да вседозволенностью, облик человеческий потеряешь ты скоро, и не я буду тому виной.
– Пропусти меня, знаешь ведь, что цель у меня благая – хочу землю людскую от злого духа очистить да княжну златоградскую, невесту свою дорогую, спасти.
– Поздно, господарь, княжны той нет уже на нашем свете.
– Нет на нашем свете? – повторил вслед за голосом Марил, бледнея. – Опять врешь ты, опять провести меня хочешь, бестия поганая?
– Вовсе нет, – голос звучал спокойно, будто не замечая бурных настроений господаря, – княжны нет больше, есть только жена колдунова – и невестой тебе она быть не может, ежели другому принадлежит.
– Сегодня ему принадлежит, завтра – мне. Тебе-то какое дело?
– Да мне, собственно, до княжны никакого дела и нет; стражник я Мертвой долины, тяжела моя доля; сколько таких упрямцев, как ты, погибло не по моей вине… Намерение твое, может быть, зла под собой не имеет, да только вижу я тебя насквозь, господарь, и тщеславие твое вижу, и честолюбие, и собственничество, заставляющее тебя идти на этот подвиг. Не знаю я, чего жаждешь ты больше: княжны или могущества, которое может даровать тебе победа над колдуном, только не получишь ты, боюсь, ни того, ни другого. Прекрасная Морена как была колдуновой женой, так ею и останется, и принадлежать тебе не будет, даже если телом ты ее овладеешь, а могущество… Могущество всегда ненадежно и тлетворно да плоды дает гнилые.
– Не тебе поучать меня, голос бестелесный, – взъярился Марил. – Было бы тело у тебя, проткнул бы его насквозь не задумываясь.
– Было оно у меня когда-то, – печально ответил голос. – Века назад я был как все люди, ходил по земле и горя не ведал; грешил, конечно, как не грешить, все мы таковы. Потом встретил я человека, который даром владел особенным – нищих привечал, болезных исцелял, чудотворцем был, одним словом. Раскаялся я в своих грехах, и он простил мне их, и стал я одним из ближайших его соратников. Не ведал я, что судьбой мне уготовано, но он, он ведал все – и предупредил меня.
Слаб я был духом, господарь, слаб и жалок – трижды отрекся я от него. Прощения мне не могло быть, да я прощения и не искал: пошел – и удавился, только после смерти ждал меня не покой, а муки вечные, предписанные всем страшным грешникам. Теперь я здесь как судья, должен выбирать, кому в живых остаться, кому – пасть замертво; старая кровь еще запечься не успевает, как новый грешник гибнет в землях этих, что я сторожу. Что в той жизни, земной, что в этой, господарь, кровь покрывает руки мои, кровь несмываемая, и люди гибнут по вине моей. Знаешь, скольких погубил я, за коими грешки водились, казалось, незначительные, – ложь мелкая, лицемерие перед вышестоящими. Говорят, Бог милостив, да только, господарь, милость Его границы имеет; вспомни, скольких загубил ты, скольких загубишь еще, неужели достоин ты прощения? Мы с тобой, верно, одинаковы, ведь деяниями своими ты Его предал не меньше меня.
Марил слушал этот рассказ, и жуткий холод сковывал его изнутри. Знал он теперь, кому принадлежит этот голос, и ужас охватывал его беспокойную, грешную душу.
– Слушай меня, господарь, пропущу я тебя дальше – пропущу, потому что судьба твоя найдет тебя после, и погибель тебя найдет, и наказание за деяния твои. А пока иди дальше; поверь мне, то, с чем ты встретишься еще на пути к скале, страшнее смерти здесь, в самом начале, потому как даже ее не заслужил ты. Помни только: ежели и случится тебе завладеть мечом, победа твоя не свершится никогда.
Голос замолчал, пропал; не стало больше ощущения, что нечто неведомое витает в воздухе. Марил будто очнулся ото сна – и увидел, что они пересекли уже часть долины и что спутники его ничего не видели и не слышали; только Милу взирал исподтишка с тревогой на своего господина, потому как был свидетелем тому разговору, но обнаружить себя не мог. Тьма оседала на землю – плотная, густая, как туман, перекрывая даже огни светочей. Дружинники тихо переговаривались; Марил не слушал их, мучительно вглядываясь в темноту. Что могло быть страшнее смерти в самом начале, о чем предупреждал его голос? Что могло быть страшнее, чем погибнуть там, на земле, выложенной костями; на земле с обнаженными кустарниками, облитыми человеческой кровью?
Ответ пришел к нему незамедлительно – из темноты в их сторону направлялся огромный сноп света, даже не сноп, а шар, раздувшийся до невероятных размеров; и только при ближайшем рассмотрении можно было увидеть – то не свет, а огонь. Нечто ужасающее шло им навстречу, извергая огонь из своего нутра; спутники Марила схватились за сабли, но сам он застыл как вкопанный. Знакомые образы неслись на него бесконечной чередой; ему казалось, что пламя целиком поглотило его и нет этому пламени конца и края. Вот из огня возник образ женщины – она молила северного господаря, чтобы он пощадил ее мужа, но тот был непреклонен; палач отрубил несчастному голову на глазах у страдалицы, и плач ее еще долго мерещился свидетелям этой казни. Следом за женщиной появился образ ребенка, обнаружившего колдовские способности, – его казнили как взрослого, ведь колдовство в северных землях было запрещено, и даже возраст бедняжки не уберег Марила от этого страшного преступления. Увидел он в сонме искр и другого ребенка, мальчика, что обречен был теперь вести одинокую жизнь в вечном холоде – и не находил он выхода из собственных чертогов; были здесь больные, которых он отказался лечить, была даже нищенка, умоляющая о подаянии, но тогда он брезгливо проехал мимо. Казалось, из пасти чудовища вместе с огнем извергались все его грехи, все преступные деяния; жертвы его тянули к нему руки, рты их словно были раскрыты в безумном крике. Марил выхватил саблю из ножен, стал рубить отчаянно по головам своих жертв, но сабля проходила будто сквозь них; глаза их, как черные пустоты, зияли на кажущихся ржавыми лицах – создавалось впечатление, что они слепы, но при этом невидящий взгляд их устремлен был прямо на господаря. Наконец, чудовище выросло перед ним; у страшилища была драконья голова и туловище, покрытое чешуей, когтистые лапы ступали так, что вся земля сотрясалась под ними, раздвоенный хвост вздымался за спиной. Марил с трудом очнулся от колдовского марева и со всей силы рубанул саблей по страшилищу – оно вскрикнуло, зарычало, поднялось на дыбы; дружинники окружили его, пытаясь поранить.
– Думаешь, испугался я тех видений, которыми ты меня устрашить пытался? – взъярился Марил; его сабля прошлась ровно по морде адского создания, в то время как Милу удалось ранить чудовище в бок.
Изнутри чудища полился какой-то дьявольский звук, все внутри него заклокотало – и северный господарь, пользуясь слабостью врага, вонзил саблю прямиком ему в сердце.
Первое испытание было пройдено; Марил утвердился в правильности своих действий, победа показалась ему совсем близкой и осязаемой. Страшные видения всколыхнули что-то в его душе, но он поспешно запрятал их на самую глубину; голос, с которым имел он беседу по прибытии в долину, теперь производил на него впечатление страшной сказки.
«Мало ли что поведал он мне, – думал Марил, – не Господь Бог же он, в конце концов; человек сам может вершить свою судьбу, ежели хватает ему для того храбрости и силы».
Заветная Одинокая скала показалась вдалеке; ее вершина, казалось, излучала странный свет, словно кто-то зажег огромный светоч, чтобы разогнать темноту. Луна подмигнула Марилу, будто одобряя его стремления; темнота постепенно редела, будто кто-то раздвигал ее рукой, как занавеску. Они двигались молча, наверное, с час, но создавалось ощущение, что скала не приближается; ее верхушка по-прежнему мерцала вдали. Верный Милу ехал рядом, рука его медленно поглаживала конскую гриву, будто пытаясь успокоить коня, давая ему понять, что осталось совсем немного. Сколько им оставалось в действительности, не знал никто; Марил думал, что скорее они вернутся снова на костяное поле, чем достигнут заветного места.
Голос, что слышал он там, казалось, снова зазвучал где-то рядом.
«Назови грехи свои и покайся», – вспомнил Марил, и праведная дрожь снова пробежала по его телу. Все грехи помнил он: те, что отражались в страшном огне; те, в которых он и признаться бы никогда не смог, – они хранились на самой глубине его погибающей души.
«Вот спасу землю от колдуна проклятого, быть может, простят мне тогда если и не все, то хотя бы самое жуткое – то, что я и ворошить не смею», – думалось ему.
Какая-то часть его понимала – не простят. Никакой подвиг не в силах искупить его прошлых деяний.
Тьма расступалась перед ними; что-то засверкало, будто заморские драгоценности, на самой земле.
– Ты, Марил, победил свой страх перед самим собой, – теперь уже голос звучал явственно, резал слух северному господарю; Милу едва заметно насторожился. – Победил, но не думай, что меч дастся тебе легко. Знаю я и другие твои страхи, что преследуют тебя, как врага заклятого.
– Не льсти себе, – насмешливо ответил Марил.
Он храбрился для виду, потому что уступать, признаваясь в собственных слабостях, было никак нельзя.
– Я вижу, пройденные испытания поубавили в тебе спеси, – продолжал голос, – чудище и головы огненные особенно потревожили тебя. Не притворяйся, господарь, что видения не оставили следа в твоей душе – или в том, что от нее осталось. Смотри, тот, кому ты доверял больше всего, лгал тебе столько, сколько ты его знал.
Марил в недоумении огляделся. Вся дружина его верная, казалось, была теперь погружена в глубокий сон; всадники держались прямо, но головы их упали на грудь, а глаза были закрыты. Только Милу смотрел на господаря; как бы ни хотел он присоединиться к дружинникам и сделать вид, будто его тоже одолела сон-трава, колдовство долины делало это невозможным.
– Видишь, Марил, один твой преданный сопровождающий сохраняет бравый вид, морок ему нипочем.
– Что ты хочешь этим сказать? – тихо, нерешительно спросил Марил.
– Только тот, в чьих жилах течет колдовская кровь, может устоять против этих чар, – ехидно ответил голос.
Господарь отвернулся от Милу. Как бы ни был силен удар, сейчас его больше заботил дальнейший путь.
«Может быть, это к лучшему, – подумал он. – Никогда не помешает иметь на своей стороне сильного чародея. Как бы ни ненавидел я весь их род, помощь Милу всегда была неоценима. Но могу ли я теперь доверять ему?»
Времени думать над этим не было. Они двинулись дальше. Кони дружинников неспешно шли за ними, словно гонимые неведомой силой. Милу молчал; у него было еще время убедить господаря в своей верности.
Внизу расстилался словно бы ковер из мелких стеклышек; он блестел и переливался в свете луны, который вдруг стал сильнее и ярче.
– Посмотри вниз, господарь, посмотри вниз, – зашептал Марилу на ухо проклятый голос.
Скала будто бы приближалась; ощущения, что они стоят на одном месте, больше не было.
Марил глянул вниз – и обомлел. Все стеклышки складывались в единую картину и образовывали его отражение. Милу будто не было рядом, как и спящих всадников; Марил остался один. Остановившись и вглядевшись, он ужаснулся – мужчина, отражавшийся внизу, словно в огромном зеркале, не мог быть им. Его белые волосы потускнели, стали какими-то серыми, грязными; слипшиеся пряди свисали вдоль лица, которое вдруг стало испещрено глубокими морщинами; грубые борозды пролегли вокруг тяжелого рта; под глазами кожа собралась в тугие комки. Марил хотел закричать от ужаса, но не в силах был издать даже писк.
– Смотри, смотри, господарь, вот твой главный страх. Не смерти ты боишься пуще всего, не расплаты за грехи, не наказания жариться в аду на чертовом огне, нет. Пуще всего боишься ты стать старым, дряхлым, никчемным, боишься утратить силу свою богатырскую. Колдун будет вечно молод, будет сверкать до скончания веков своими синими глазищами, а ты будешь тлеть и сгнивать в северных чертогах, не нужный ни единой живой душе. Впрочем, если осмелишься ты все же вызвать его на бой, существует вероятность, что ты не состаришься вовсе. Не ведаешь ты еще, господарь, что та, которую ты до сих пор называешь княжной, таит в себе невиданную опасность. Поостерегся бы ты.
– Вот еще, бояться какой-то девицы! – Марил расхохотался, но в его смехе слышался страх. – Думаешь, напугал ты меня своими выходками, чудищами да стеклышками?
– Вижу, что это ослабило тебя и что с каждым разом приходится тебе прикладывать все больше усилий, чтобы справиться с самим собой, хотя твой коварный замысел и помогает тебе преодолевать испытания. Глупец ты, господарь, не обычные стеклышки это, а серебреники, и заколдованы они так, что показывают человеку предмет самого потаенного его страха… Ступай к мечу, раз уж ты так упорно к этому стремишься. Все сбудется в свое время, хотя ты и выдержал это путешествие.
Темнота исчезла окончательно; скала сверкала в лунном свете и была теперь совсем близко. Дружинников все еще одолевал сон; Марил пришпорил лошадь, оставив Милу чуть поодаль. Когда они подъехали к скале, он спешился – нужно было немного пройти пешком. Меч был врезан в скалу, но словно сам прыгнул Марилу в руку; его резная рукоять безупречно легла на ладонь. Едва коснувшись меча, Марил почувствовал, как то, что отняли у него двадцать лет назад, медленно возвращается к нему – нечто знакомое заструилось в жилах.
Пожалуй, это стоило всех испытаний, которые выпали на его долю.
VII
После осмотра владений и богатого пиршества Морена осталась одна. Колдун отправился на свою половину, а Морена, само собой, не ведала ничего о его делах. Прелестная девушка-ящерка, очаровательная Матильда тоже куда-то запропастилась – правда ведь, не целыми же днями сидеть ей было при своей госпоже. Мысль узнать, что же скрывается за той таинственной дверцей, не давала Морене покоя. Ее не страшило теперь наказание, которое мог придумать муж; она боялась только, что потеряет его благосклонность – так она называла то, что, как ей казалось, он к ней испытывает. Ведь любовью она это назвать не могла, не смела.
Однако желание выведать его тайну было в ней сильнее всего; дверца манила и ждала, зазывала невероятно. Морена брела к ней по дому, ноги вели ее сами; она вспоминала свою прошлую жизнь, которая теперь казалась ей далекой сказкой. Должно быть, много лет, а не пара дней прошло с тех пор, как она покинула отчий дом; славно было в колдовских чертогах. Осталось только исследовать последний островок, вкусить запретный плод. Морена вдруг подумала, что Хильдим мог и проверять ее подобным способом – ушел якобы к себе, отослал слуг, а сам наблюдает за ней, того и гляди появится из-за угла. Впрочем, даже эта догадка (верная или нет – неизвестно) не могла ее остановить.
Когда Морена подошла наконец к заветной дверце, ей впервые пришло в голову, что она не знает, как ее открыть. Ключа у нее не было и не могло быть, никаких заклинаний она не ведала, а Хильдим наверняка хорошенько позаботился о том, чтобы ни одна живая душа не проникла за ту дверь помимо его воли. Морена взялась за ручку – так, на всякий случай, только лишь для того, чтобы убедиться – этот путь для нее закрыт. Из ручки неожиданно высунулась маленькая иголка и кольнула княжне палец. Она вскрикнула тихонько, отняла палец от двери – и та распахнулась, будто с радостью приветствуя свою хозяйку.
Вопреки ожиданиям Морены, там была не комната, а длинный ход, по обе стороны которого располагались двери. Все они были разные, непохожие одна на другую: простые деревянные и выложенные драгоценными камнями, маленькие и большие. Морена шла вдоль них, не зная, какую выбрать; две изумрудные змейки, изображенные на одной из них, казалось, смотрели на колдунову жену с любопытством; наконец одна змейка ожила, отделилась от двери, зашипела, поползла навстречу Морене – та застыла от ужаса и закрыла руками лицо. Когда она пришла в себя, змейка уже снова была на месте. Княжна прошла до конца хода, так и не решившись выбрать какую-либо из этих дверец; в глубине, казалось, была глухая стена, но Морена, подчинившись непонятному, охватившему ее чувству, шагнула в тупик. Если ход еще был слабо освещен светочами, то здесь царила кромешная темнота. Где-то недалеко замерцал огонек; Морена пошла на него – и очутилась в небольшой комнатке; за столом в этой комнатке сидел за бумагами старец; одет он был скромно, но держался с достоинством. На Морену он взгляда не поднял, полностью погруженный в работу.
– Прости, добрый господин, – нарушила молчание Морена, – прости, что отрываю тебя от серьезных занятий…
Старец отвлекся от своих бумаг и внимательно посмотрел на княжну.
– Вот и госпожа пожаловала! – сказал он и широко улыбнулся. – Красавица какая! Знает толк в женщинах наш добрый Хильдим, да и сам ведь недурен, только смущает всех своей красотой. Вижу, успел он уже тебя очаровать.
Морена залилась румянцем – и тут ее поразила догадка.
– Значит, это тебя, добрый господин, скрывает он от всего белого света? – спросила она.
– Меня, кого же еще. Ты ловко обошла все его ловушки, чутье тебя не подвело; за каждой дверью скрываются чудища, капканы да мороки колдовские. Выбрал он тебя недаром, дочка.
– Разве не хотел он отомстить моему батюшке за ненависть ко всему чародейскому племени?
– Это был хороший предлог, но правда кроется в другом.
– Но почему же он прячет тебя? Боится, что благодаря тебе я узнаю все до конца? Должен же он был приказать тебе молчать…
– Он знал, что, ежели найдешь ты меня, я расскажу тебе все. Не была бы ты сама роду ведьминского, дверь тебе не открылась бы.
– Значит, правду про мою матушку говорили, – прошептала удивленная княжна.
– Не совсем. Силы у нее после венчания с князем светлейшим не стало, такова была ее доля, ее выбор. Ведьма, вышедшая за простого смертного, теряет способности колдовские навсегда, но они переходят потом к ее ребенку. Вия отдала их тебе, не зная, что это приведет тебя в объятия того, из-за которого она так много страдала.
– Матушка моя знала Хильдима?
– Не просто знала, дочка, – они росли вместе. Бабка твоя также отказалась от силы, выйдя замуж, и она перешла к Вие. Вия имела несчастье полюбить соседского купеческого сына; не одну девушку свел Хильдим с ума, но и сам он, казалось, отвечал Вие взаимностью, только вот мечта у нее была, чтобы оба они отказались от колдовства и зажили спокойной мирской жизнью. Хильдиму участь эта виделась невыносимой, а Вия посчитала его расставание с ней страшным предательством.
Некоторое время Морена хранила молчание. Вот как, значит, мать ее любила Хильдима, а он предпочел ей свою колдовскую силу… Но могла ли она требовать от него подобной жертвы?
– Ведаете ли вы, добрый господин, отчего для моей матушки было настолько важно отказаться от чародейства? – спросила она наконец старца.
– Боялась она его, колдовства неизведанного, – ответил тот. – Боялась и своей силы, а особенно – непредсказуемого дара Хильдима, ведь он уже в годы юношества обладал бóльшими способностями, нежели твоя матушка. Ревновала она его к чародейству, ревновала к дару ведовскому, да и проверить, верно, хотела его чувства.
– После того, как Хильдим оставил ее, она сбежала в Златоград?
– Да, и в том ей помогла ее мать – твоя бабка, мудрая княгиня. Хильдим с самого начала не нравился ей, не одобряла она дружбы Вии с колдуном – и не верила никогда, что он предпочтет ее дочь дару своему. Муж ее даже не ведал ничего об их дружбе; где это видано, чтобы княжья дочка – да с купеческим сыном. Хранила Вия все в тайне, пускалась на всякие ухищрения, только матери открыться решилась. Предостерегала княгиня Вию, но та уже была во власти чар Хильдима, а потому оставалось только ждать да надеяться. После разрыва мать отправила юную Вию попытать счастья в Златоград, строго-настрого наказав ей скрыть свое происхождение.
– Но зачем я понадобилась колдуну? Верю я вам, добрый господин, что в моих жилах течет ведьминская кровь, но ни одно колдовство мне не подвластно, ни одно чародейское умение.
– Всему свое время, дочка, – таинственно промолвил старец. – Хильдиму ты нужна не только из-за своих будущих умений. Прячет он меня здесь из-за предсказания моего. Хильдим стремится к жизни бесконечной да к вечной юности, а срок его медленно, но верно истекает. Предрек я ему, что ежели не возьмет он в жену деву непорочную из древнего ведовского рода и ежели не полюбит она его, проживет он лишь обычный человеческий срок.
– Но как мне понять саму себя, как разобраться в природе своих чувств? – воскликнула Морена. – Да, время здесь будто бы проходит иначе; мне кажется, давным-давно я уже покинула отчий дом и живу здесь долгие дни и ночи…
– Этого я, дочка, сказать тебе не могу. Видишь ли, какое обстоятельство – к сожалению, а может быть, и к счастью, мне никогда не удавалось запоминать свои предсказания целиком. Только Хильдим ведает, какое доказательство своей любви ты должна предоставить ему, ежели ты успела его полюбить. Проверку его главную ты уже прошла; как я сказал, только той, в чьих жилах течет особенная, ведьминская кровь, открывается дверца в мою скромную обитель. Колдуновый дом признал тебя своей хозяйкой.
Морена вышла от старца в смятении. С одной стороны, Хильдиму требовалась только ее любовь – и ничего более. В союзе с ней он преследовал только личную выгоду – кто не жаждет бесконечной жизни? Кто не хочет вечность оставаться юным и прельщать всех и вся своей красотой? Морена не желала винить Хильдима – да и не могла; она не разобралась еще в своих чувствах, но трепет и смущение, которые одолевали ее в его присутствии, говорили больше, чем была способна поведать она сама.
До наступления темноты Морена не видела мужа; искать его она не решилась, а он, по всей видимости, не спешил воздать ей хвалу за пройденное испытание. Вечером после ужина, который Морена также вкусила в одиночестве (сам ужин словно бы появился из ниоткуда; слуги по-прежнему предпочитали не показываться на глаза хозяйке), деятельная Матильда помогла ей избавиться от тяжелых одежд; Морена попарилась в бане, попасть в которую можно было теперь прямо из ее терема – она могла поклясться, что еще днем этой дверцы, ведущей в баню, не было и в помине. Впрочем, удивляться было нечему.
Когда она, распаренная и готовая ко сну, вернулась в свои покои, Хильдим уже ждал ее. Его алый атласный кафтан, весь покрытый замысловатыми узорами, зловеще мерцал в полумраке.
– Слышал я от старца Алатора, прекрасная Морена, о твоих сегодняшних подвигах. – Он усмехнулся. – Удивляюсь я все-таки твоей храбрости; не побоялась ты ни наказания за содеянное, ни моей немилости…
Морена опустила глаза в пол, не говоря ни слова. Колдун приблизился и взял ее за подбородок, тем самым заставив княжну посмотреть на себя.
– Не прячь взгляда, милая. Скажи мне, что заставило тебя нарушить запрет? Неужели простое любопытство внушило тебе уверенность и победило страх?
– Я говорила тебе, Хильдим, что не боюсь тебя, – тихо сказала Морена. – Возможно, я предчувствовала, что ты не можешь сделать мне ничего дурного… Я не хотела делать что-либо помимо твоей воли, но желание узнать твою тайну было сильнее, как будто кто-то свыше принудил меня отправиться туда.
– Я не сержусь на тебя; должно быть, старец поведал тебе достаточно, – Хильдим подошел к небольшому шкафчику у самой постели и достал из верхнего ящика богато украшенный ларец. – Он не сказал тебе только, каким именно образом ты утвердишь мою власть над собой.
Он открыл ларец и достал оттуда хрустальный оберег в форме яблока.
Морена взирала теперь с недоумением на оберег; ей показалось, что она уже где-то видела его. И тут вдруг она вспомнила – вспомнила свой давний чудесный сон до мельчайших подробностей; он словно окутал ее тончайшим покрывалом, забрал в уютный кокон. Вспомнила Морена и синеглазого юношу с хрустальным яблоком на шее, а в яблоке том была…
– Я знаю, что должна сделать, – решительно сказала она, подойдя к Хильдиму, и осторожно взяла оберег из его рук.
Острый черенок, подобный той маленькой дверной иголке, также кольнул ей палец; едва первая капелька крови упала на яблоко, оно все заискрилось, засветилось, вспыхнуло… Морена не отнимала палец, пока в яблоке не оказалось тринадцати капель; затем оно погасло и приняло свой обычный вид.
Княжна взяла оберег за тонкую золотую цепочку и осторожно надела его на шею Хильдиму; тот протянул ей платок, чтобы она перевязала ранку, но делать этого не было необходимости – крови будто и не было вовсе.
Они сели на краешек постели.
– Давным-давно мне приснился чудный сон; по пробуждении я почти забыла его, и лишь образ прекрасного юноши, лица которого я тогда не смогла запомнить, с оберегом в виде яблока на шее не давал мне покоя… Теперь я понимаю – это был не сон, а лишь видение того, что должно было случиться много лет спустя… Должно быть, ты не ведал, что оберег принял бы мою кровь лишь в том случае, когда моя власть над тобой была бы не меньше моих чувств к тебе. Пока мы любим друг друга, он сохранит тебя от любой беды, от старости и от смерти.
Впервые Хильдим не смог найти правильных слов, чтобы ответить жене, а потому просто поцеловал ее.
Обратный путь дался Марилу легко; предвкушение победы даровало ему невиданные силы, а колдовство, когда-то отобранное Хильдимом, теперь вернулось при помощи меча и, казалось, вселило в него еще бóльшую уверенность и спокойствие. Однако не все было так просто; для поединка следовало выманить чародея из его владений, ведь там, защищенный собственными премудрыми заклинаниями, он был необыкновенно силен. Земля хранила своего господина; Марил вряд ли смог бы даже ступить на нее. Северному господарю теперь многое опять было подвластно, но ведь у всякого могущества есть свой предел. Маленькие орлята, подкормленные Марилом по пути (к счастью, он снова понимал птичий язык), принесли радостные вести – Морена собиралась обратно в Златоград, навестить отца и брата.
Хильдим действительно отпустил жену со своим верным лешим, пообещав, что приедет за ней прямиком в княжеский терем через семь дней. Морена была рада возвращению в родные края; рада была наконец повидать брата, с которым тогда даже не успела попрощаться, и отца, который обнял ее со слезами на глазах.
– Я не надеялся уже, что увижу тебя хотя бы раз, – сказал дочери князь Хогард.
Он и вправду был вне себя от счастья при встрече, до которой не чаял дожить. Однако дочь теперь была другой – что-то в ней появилось новое, далекое, чуждое ему и всему его окружению; какое-то иное выражение приобрело ее пышущее радостью лицо, нечто незнакомое мелькало в ее движениях, в ее спокойной речи, в нежной улыбке. Да и сама Морена чувствовала себя чужой в отцовском доме. Чародейство никогда не свершалось в этих крепких, толстых стенах, не имело здесь власти, не витало в воздухе, как в чертогах колдуна, и Морене было неуютно, как бывает неуютно в гостях, где, несмотря на самый теплый прием, никогда не может быть ощущения дома. Она долго разговаривала с братом – он предпринял еще путешествие в соседнее господарство и заключил союз, выгодный для Златоградского княжества; Морена радовалась его успехам на этом поприще, но не без грусти отмечала, что даже терем ее, в котором она провела столько беззаботных дней своей юности, больше не принадлежал ей по-настоящему.
Ближе к ночи, ложась в свою широкую, мягкую постель, она долго не могла уснуть и все думала о том, как далеко сейчас находится ее муж. На удивление, сон ее был крепок, хотя ей и удалось окунуться в него только ближе к рассвету; ее не одолевали ни счастливые видения, ни тревожные образы, только чернела огромная, зияющая пустота. Семь дней тянулись медленно; Морена старалась развлечь себя пиршествами, танцами, долгими беседами с отцом и братом и отказывалась признавать, что отчаянно тоскует по своему новому дому. На восьмой день, утром, муж должен был прибыть за ней.
…Когда Морена проснулась, ей показалось, что она все еще спит, настолько обстановка вокруг отличалась от привычного терема: простые деревянные стены, на удивление не пропускающие холода, небольшая деревянная кровать, стол, два стула, узкий ковер на полу – в комнате больше ничего не было. Морена села на постели, приговаривая, что это лишь дурной сон – и вот сейчас он наконец развеется, но сон не думал кончаться, потому как это была действительность.
Морене захотелось кричать от ужаса, но она сдержала этот неблагоразумный порыв; важно было узнать теперь, где она и как сюда попала. Долго ждать ответа ей не пришлось – за дверью раздались тяжелые, мощные шаги; княжна вся сжалась, по голову закуталась в покрывало. Она ожидала кого угодно: врагов своего отца, жаждущих его земель; товарищей брата, которые вместе с ним решили вдруг пошутить над ней самым подлым образом… Впрочем, на брата это не было похоже – какие бы забавы ни развлекали их раньше, он никогда не поступил бы с ней так, а враги были достаточно наслышаны о ее замужестве. И вот дверь распахнулась – вошел северный господарь. Морена узнала его мгновенно; никогда в жизни она не забыла бы этого страшного человека, еще на пиру произведшего на нее гнетущее впечатление.
– Ну здравствуй, княжна златоградская, – сказал он, противно оскалившись, и опустился на стул недалеко от ее убежища. – Хотя вряд ли тебя можно еще так называть; вся ты теперь колдовством пропитана, да разве только есть в этом какой-нибудь толк? Ни одного заклинания не ведаешь, ничего не смыслишь в чародействе – и мужа своего, так и знай, уберечь тебе не удастся.
– Что тебе нужно от меня, господарь? – спросила Морена, стараясь, чтобы голос ее звучал как можно более спокойно. – Зачем похитил из батюшкиного дома?
– Пообещал я князю, батюшке твоему, что вызволю тебя из рук проклятого ведуна; если бы знала ты, какой путь мне пройти пришлось, чтобы приблизиться к выполнению этого замысла.
– Ты не посмеешь и прикоснуться к нему! – зло воскликнула княжна. – Что можешь ты, северный господарь, против мужа моего?
– Вот как, значит, люб он тебе, – усмехнулся Марил. – Околдовал тебя, очаровал, заманил в свои сети, а ты, простодушная девица, повелась на его ласки да речи сладкие.
– Не думай, что словами этими ты можешь повлиять на мои чувства, господарь. Все было решено давным-давно силами высшими.
– А рассказал ли тебе колдун Хильдим про меня? Рассказал, кто я таков на самом деле?
Морена молчала.
– Хорошо, княжна, не говори ни слова и продолжай думать только о праведности своего мужа. Знала бы ты, что он отнял у меня силу колдовскую, что это из-за него я потерял все, что имел; из-за него умер мой отец, которого я не успел спасти, из-за него сошла с ума мать, будучи не в силах наблюдать мое отчаяние. Из-за Хильдима я возненавидел все племя колдовское; тщетно пытался я истребить это племя, потому как не хотел, чтобы на земле оставались люди, обладающие тем, что отняли у меня.
– Ты прав, господарь, Хильдим не рассказывал мне о тебе, зато не преминул поведать о чародее, который заколдовал на долгие века маленького садовника Альдо, а сад его превратил в ледяное яблоневое кладбище.
– Заносчивый мальчишка заслужил это! – снова оскалился Марил. – Слишком уж гордился он своей особенной силой.
– А разве ты отличался от него, господарь? Разве не гордился ты своим даром? Нет, должно быть, не в этом крылась причина твоего деяния, а лишь в зависти черной, что сковала тебе сердце. По заслугам получил ты за страшный поступок, и я не могу винить Хильдима в том, что он решил забрать у тебя способность колдовать – и наказывать за особые умения других невинных чародеев. Увы, не ведал он, что, потеряв силу, ты окончательно превратишься в чудовище.
Марил ничего не ответил. «Девчонка права, – подумал он. – Но это не помешает мне расквитаться с Хильдимом».
– Скоро объявится твой благоверный; посмотрим, кто из нас двоих более жить достоин, – сказал он. – Найдет он тебя быстро; связь вашу теперь никто расторгнуть ни в силах.
Морене показалось, что он хранит какую-то тайну, не известную ни ей, ни мужу – и тайна эта могла погубить Хильдима.
Действительно, явившись в златоградские хоромы и не обнаружив там жены, колдун пришел в ярость. «Неужели сбежала, – подумал он, – хороша красавица!»
Но нет, оберег по-прежнему теплился у него на шее; не просто так пропала Морена. Хильдима провели в ее опустевшую опочивальню, где он повелел оставить его в одиночестве; князь Хогард, до сих пор испытывающий страх перед зятем и ужас от вторичной потери дочери, не посмел ему возразить. Оказавшись один, колдун вспорол себе запястье висевшим у него на поясе кинжалом; крупные капли одна за другой опустились на пол. «Проведите меня к ней», – прошептал он, и капли потянулись из опочивальни в залу, а затем и прочь из дому, в лес.
Морена почувствовала приближение Хильдима, и сердце ее болезненно сжалось – что было уготовано ему здесь Марилом? Почему северный господарь был так уверен в своей победе? Когда Хильдим вошел в избу и увидел Марила, глаза его заметали молнии.
– Как хитер ты, однако, – произнес он, – решил выманить меня из моих чертогов, похитив Морену! Что задумал ты на этот раз, господарь? Или недостаточно тебе было прошлого нашего поединка?
– А разве не ощущаешь ты, что сила моя ко мне вернулась? – взгляд Марила был полон торжества.
Из простых ножен он вынул тот самый серебряный меч; Хильдим, увидев его, пошатнулся и побледнел.
– Вижу, ушел твой запал, – продолжал Марил, – будто и не бывало. – Что ж, ежели не трус ты, выйдешь со мной на бой; быть может, тебе и удастся доказать свое превосходство, но я очень в том сомневаюсь.
Морена с ужасом слушала их беседу.
– Добыл ты его, однако, – усмехнулся колдун, хотя лицо его все еще хранило мертвенный оттенок. – Что заставило тебя ждать двадцать лет, чтобы отправиться на поиски меча? Я уж было подумал, разуверился ты в старых сказках.
– Ты знаешь, Хильдим, что меч возвращает силу лишь тому, кто жаждет заполучить его, руководствуясь благими намерениями; только сейчас у меня появились таковые, ведь я пообещал князю спасти его дочь.
– Да, смекалки и хитрости тебе не занимать, – ответил Хильдим. – Я принимаю твой вызов.
– Я не оставлю тебя, – промолвила Морена, вставая с постели. – Позволь мне пойти с вами.
Хильдим скинул шубу и накинул ее жене на плечи, а потом обнял ее.
– Все обойдется, – сказал он, и втроем они вышли из избы. Перед ней располагалась широкая заснеженная площадка, где и решено было сразиться. У Хильдима не было меча – на это и рассчитывал бесчестный Марил, – но колдун надеялся, что дар его не подведет. Морена стояла поодаль и наблюдала за ними, коря себя за то, что колдовство не было ей подвластно; она ничем не могла помочь мужу. Морена смотрела на него, на его губы, шепчущие невиданные заклятия, на пальцы, которые извергали столпы искр; его черные кудри разметались, а на бледном лице застыло напряженное выражение…
«Все обойдется», – повторила она про себя его слова.
И все текло хорошо; силы Марила постепенно иссякали, годы его давали о себе знать; Хильдим же был полон юношеской безудержности. «Выманить бы меч из его рук, – думал он, – и останется только вновь лишить его возможности ворожить».
И вдруг в последнюю минуту, когда Хильдиму это почти удалось, Марил приблизился к нему вплотную – резко, неожиданно; колдун и сам не мог понять, как это случилось. Острие серебряного меча – единственного на свете оружия, способного убить его, – прошло ему прямо в сердце. Он упал на колени, хватаясь за рукоятку в попытке вытащить клинок из груди; в том не было никакой пользы. Все было кончено.
Марил расхохотался с гибельным торжеством, но дикий, отчаянный крик Морены заглушил его смех. Она кричала так, что все вокруг замолчало, застыло в своем безмолвии; умолкли птицы, замерли в страхе лесные звери; крик ее разносился по всей земле, полный неизбывного страдания – страдания женщины, потерявшей мужа. Марил прекратил смеяться, закрыл руками уши – крик этот проникал в самое его нутро, не давал дышать, не позволял даже сдвинуться с места. И северный господарь вспомнил слова стража долины: «Все сбудется в свое время». Может быть, и одержал он победу над врагом своим, но здесь же нашел и свою погибель – сбылись все страшные предсказания, все предупреждения воплотились в жизнь.
Он чувствовал, что обращается в камень, и тело его будто разрывало на тысячи кусочков; крик Морены по-прежнему звенел у него в ушах, и наконец он стал камнем: неживым, твердым, застывшим веществом, подобным его душе; стал им – и распался на мельчайшие частицы, а порыв ветра подхватил их и унес далеко-далеко от этого леса, от златоградской ведьмы и ее мужа…
Едва придя в себя, Морена подбежала к Хильдиму; казалось, его тихое дыхание еще было слышно. Осторожно она достала меч, порвала кафтан, чтобы взглянуть на рану – но ее не было. И крови не было. На том самом месте, в которое угодил клинок, лежал хрустальный оберег, теперь будто склеенный из крошечных осколков. Хильдим открыл глаза; Морена бросилась ему на грудь, не сдерживая рыданий.
– Ты спасла меня, – сказал он хрипло и добавил довольное: – Ведьма!
Морена подняла лицо и посмотрела на мужа; он улыбался, хотя давалось это ему нелегко. Он был еще слаб.
– Надо будет навестить Альдо, – сказала она, улыбаясь сквозь слезы ему в ответ. – Думаю, его сад наконец расцвел…
Эпилог
Солнце стояло высоко. Сани, влекомые особым чародейством, шли по земле так же легко, как по снегу. Сад уже показался вдали. Морена посмотрела на Хильдима; солнечные блики затерялись в его черных кудрях. Казалось, только вчера (или тысячу лет назад?) она была здесь, въезжала в ледяные чертоги Альдо: заколдованные, замученные тяжким проклятьем.
Теперь все было иначе. Вокруг царил легкий, душистый запах, теплый весенний воздух окутывал и обнимал за плечи. Морена подумала о Мариле, о поединке – случившееся превратилось в страшный сон, замерло где-то в памяти, и все же Морене не давала покоя мысль – что, если бы она не смогла? Что, если бы древнее колдовство – сильное, крепкое, извечное колдовство любви – не спасло их, а сила, доставшаяся ей от матери, не проснулась бы в душе, не взяла бы верх? И этот сад – чарующий, бело-розовый, полный света – навсегда остался бы ледяным, мерзлым, лишенным всякой жизни?
Они подъезжали. Морена увидела Альдо; он сидел в глубине сада за дубовым столом, склонившись над книгой. Как и тогда, Альдо был одет в простой белоснежный кафтан, но сейчас казался сгустком сияния и тепла. Хильдим помог Морене выйти из саней; она взяла его руку, посмотрела в глаза. Не было ничего прекраснее того, что она чувствовала, и это счастье ничем не должно было теперь омрачиться. Что, если?..
Альдо подбежал к Морене, и она обняла его – румяного, полного радости и жизни, потрепала по рыжей макушке, и он вдруг заливисто засмеялся. Его колокольчатый смех разнесся по всему саду. Хильдим не сдержал улыбки. Сейчас Альдо не был вечным колдовским созданием, не был маленьким демоном (как называл его Хильдим), живущим не первую сотню лет. Он будто стал обычным мальчишкой, искренним и беспечным.
Альдо позвал их к столу, на котором по мановению руки появились восхитительные пироги и серебряные чарки со слегка поблескивающим багряным вином.
– Был я вчера у старухи Кикиморы, – сказал Альдо важно. Солнечные лучи золотили его волосы. – О ваших подвигах, дорогая госпожа, судачит весь колдовской люд.
Морена смутилась и отпила немного вина.
– Горько, что о моих славных делах теперь все забудут, – Хильдим сокрушенно покачал головой, но в синих глазах его мелькнуло лукавство. – Только и будет, что разговоров о златоградской ведьме.
– Ты, конечно, мой добрый и давний друг, – Альдо надкусил пирог и аж зажмурился от удовольствия, – но умение быть благодарным никогда не являлось твоей сильной стороной. Не правда ли, милостивая госпожа?
Он подмигнул Морене, и она вдруг на долю секунды увидела перед собой не смешного мальчишку, а тоненького юношу, хитрого и невероятно довольного собой. Видение сразу исчезло. Золотое сияние исходило от ее пальцев, подушечки приятно покалывало. Пройдет пара сотен лет – и вот каким он будет! И останется юным уже навсегда.
Колдовство пока не было полностью подвластно Морене, но ей нравились такие случайные его проявления; в груди разливалось теплое чувство. Свобода… Дар, которым ее мать предпочла пожертвовать ради обычной жизни, из-за которого ее погубили, освободил Морену. Разве не в этом состоит вся прелесть бытия, когда чародейство клубится в твоей душе, когда оно замирает на кончиках пальцев, а с губ в любой момент готовы сорваться колдовские слова? И сила, льющаяся изнутри мощным потоком, которую даже ты сам не можешь приручить до конца, которая будто составляет всего тебя, тебя самого, сливаясь с тобой в единое целое, проникая в самое сердце, – разве это не то, ради чего стоит жить?
Морена погладила налитой бочок серебряной чарки, и она тотчас снова наполнилась живительным напитком. Даже в этой легкой ворожбе было свое могущество, свое очарование.
– Спасибо тебе, Морена, – тихо проговорил Альдо и склонил голову. – Я уже потерял надежду, что когда-то мой сад снова зацветет, а весеннее солнце благосклонно заглянет ко мне в гости.
Что-то блеснуло в его светлом взгляде, по лицу прошла тень, будто Альдо снова очутился в том времени, когда яблоневые ветви покрывал слой льда, а сам он источал лишь холод и тоску. Морена посмотрела ему в глаза – подернутые печалью, сейчас они не были глазами румяного мальчишки-цветочника. Ворожба снова заплясала у нее на ладони, и она увидела всю его боль, все отчаяние; увидела, как медленно и мучительно лед затягивал тела яблонь, как они корчились и извивались; услышала его крик, так похожий на ее собственный, полный бессильной ярости…
Все закончилось. Альдо понял, что она прочитала его мысли, но его взгляд уже опять стал прозрачным и смешливым. Альдо с улыбкой сказал что-то Хильдиму, тот пошутил в ответ, они засмеялись…
Зло отступало. В обереге на шее Хильдима, в цветках раскидистых яблонь, даже в золотящемся на солнце вине была благодать, во всем свершалось какое-то светлое таинство. Морена закрыла глаза. Ворожба вдруг словно бы покорно легла у ее ног. Колокольчатый смех Альдо снова зазвенел по всему саду, а беззаботный ветерок услужливо подхватил его и понес до самых чертогов колдуна, за десять морей, в неведомые дали…