Хокни: жизнь в цвете бесплатное чтение
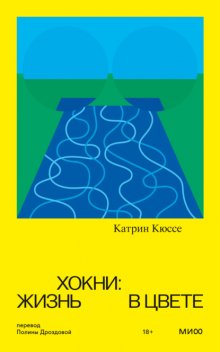
Книга, которую вы держите в руках, – это роман. Все факты здесь подлинные. Выдуманы мной чувства, мысли, диалоги. Хотя речь скорее о догадках и предположениях, чем о выдумке в прямом смысле слова: я искала подходящие друг другу кусочки мозаики, складывая общую картину из сведений, обнаруженных мной в огромном количестве эссе, биографий, интервью, каталогов и статей, опубликованных как о Дэвиде Хокни, так и им самим. Я предлагаю читателю портрет, являющийся моим собственным видением его жизни и его личности, пусть и вдохновленный Хокни, его словами и его творчеством. Надеюсь, что художник воспримет эту книгу как дань моего почитания.
Почему Хокни? Я никогда с ним не встречалась. Странно вторгаться в жизнь живого человека, превращая ее в роман. Но, скорее, он вторгся в мою жизнь. Меня страстно увлекло то, что я прочитала о нем. Его свобода привела меня в восхищение. Документальные материалы, позволяющие читателю видеть лишь внешнюю сторону событий, мне захотелось представить как рассказ, проливающий свет на внутренние побуждения художника, приведшие к этим событиям, рассмотреть их сквозь призму самых важных вопросов: любви, творчества, жизни и смерти.
I. Высокий блондин в белом костюме
Его отец был убежденным пацифистом. Он видел, что сделала Первая мировая война с его старшим братом, который попал в газовую атаку и вернулся домой еле живым, превратившись в ходячего мертвеца. В 1939-м он активно выступал против новой войны. Он потерял работу, лишился права на государственную помощь, нажил множество врагов и навлек на себя презрение соседей. «Дети, пусть вас не волнует, что думают соседи». Это стало большим жизненным уроком для его четырех сыновей и дочери.
У него не было денег, но были золотые руки. Он собирал на свалке старые ломаные детские коляски, которые чинил, приводил в порядок, и они получались как новенькие. После войны он стал делать то же с велосипедами. Для маленького Дэвида не было ничего прекраснее момента, когда проволочная щетка в руках отца вступала в соприкосновение с рамой велосипеда. В одно мгновение, как по волшебству, ржавый металл становился ярко-красным. Мир изменял свой цвет.
Он гордился своим отцом, «настоящим художником» – как, сдвинув брови, говорила мать. Изобретательным настолько, что он умудрялся элегантно одеваться, не тратя при этом ни гроша: на свои воротнички и галстуки он наклеивал бумагу, разрисованную узорами в полоску или в горох ярких цветов. Дэвид восхищался его находчивостью. Вернув к жизни велосипеды, Кен давал объявление в газету, где указывал адрес сарайчика рядом с их домом, вытаскивал на улицу кресло и уютно устраивался в ожидании покупателей с журналом в руках, под зонтиком – если шел дождь: это был его магазин. В день, когда отец взялся заново выкрасить дом, он набил на двери листы фанеры, на которых изобразил закат солнца. Мальчик мог рассматривать их бесконечно.
Дэвид сохранил смутное воспоминание о самолетах, пролетавших над головой, и о том дне, когда его эвакуировали вместе с двумя братьями, старшей сестрой и беременной на девятом месяце матерью, но он не помнил ни об ужасе старшего брата – тот до боли сжимал руку матери во время бомбардировок, умоляя: «Пожалуйста, мамочка, помолись за нас», – ни о бомбе, после взрыва которой рухнули многие дома на их улице, а в тех, что устояли, вылетели стекла – во всех, кроме их собственного дома. Детство он провел, играя на улице с братьями и сестрой, убегая гулять в лес, катаясь на велосипеде по деревенским дорогам, сидя на уроках катехизиса в воскресной школе – он проводил их, зарисовывая на листке бумаги то, что услышал прежде на мессе: Иисуса, шествующего по водам; Иисуса, воскрешающего мертвых, – в скаутском лагере, где вел бортовой журнал с набросками, изображавшими их занятия. По субботам отец водил их в кино посмотреть на Супермена, Чарли Чаплина или Лорела и Харди. Он покупал самые дешевые билеты по шесть пенсов, на места в трех первых рядах, и экран был так близко, что у Дэвида возникало ощущение полного погружения в события фильма. На Рождество они ходили в театр Альгамбра, где надрывались от хохота над пантомимами. По воскресеньям им разрешалось приглашать друзей к чаю, который устраивала его мать. Дом наполнялся восхитительным запахом свежеиспеченных пирогов, стол ломился от булочек, мини-сэндвичей и варенья, из кухни раздавался звонкий смех детей, которые могли объедаться в свое удовольствие, подходя за четвертым, пятым или шестым куском.
Дэвид даже не знал, что они были бедны. Самое большое его удовольствие ничего не стоило: сесть в автобус (бесплатно), подняться на второй этаж и постараться занять местечко спереди: рядом с господином, пускавшим дым ему в нос, или с пожилой дамой, которую он, вежливо извиняясь, заставлял убирать с сиденья сумку с провизией. Сквозь огромное стекло он смотрел на улицу и простиравшийся вдали пейзаж. Подростком он вновь переживал то же удовольствие, отправляясь на велосипеде до самой вершины холма Гэрроуби по дороге, ведшей с фермы, где он работал два лета подряд: с высоты он мог видеть всю Йоркскую долину, беспрепятственно любоваться панорамой с углом обзора 160 градусов. Разве могло быть что-то прекраснее этого?
Он не испытывал недостатка ни в чем, кроме бумаги. Для мальчика, так любившего рисовать, послевоенный дефицит ее создавал проблему. Он заполнял рисунками поля всего, что ему попадалось под руку: книг, тетрадей, газет, журналов с комиксами. Время от времени кто-то из его братьев восклицал с возмущением: «Ты снова зачиркал своими каракулями все подписи в комиксах! Теперь их невозможно прочитать!» Можно ли было проводить свою жизнь, рисуя? Да, если ты был художником. А кто считался художником? Тот, кто занимался изготовлением рождественских открыток и киноафиш. В их городе было сорок кинотеатров, и афиши были повсюду. Дэвид внимательно всматривался в мужчину, склонявшегося к женщине на фоне заходящего солнца: он чувствовал, что способен сделать так же или даже лучше. А вечером или в воскресенье после церкви он мог бы рисовать что захочется, просто для себя. После оплаты счетов, если повезет, у него оставалось бы немного денег на бумагу. Какая прекрасная это была бы жизнь.
Об этом мечтал маленький Дэвид.
Он не просто был мечтателем, но и хорошо учился: получил стипендию на обучение в лучшем колледже города. В школе его любили, потому что он был веселым и классно рисовал. Когда товарищи просили его создать плакат для школьного клуба, он никогда не отказывал. Эти работы вешались на доску в школьном вестибюле, ставшем для него личным выставочным залом. Их часто воровали, что ему было даже приятно. На занятиях, вместо того чтобы записывать за учителем, он рисовал. Однажды, когда учитель английского языка попросил его прочитать вслух заданное всем сочинение, он ответил, что ничего не написал, но «сделал вот это» – продемонстрировав собственный автопортрет в виде мастерски выполненного коллажа, на который он потратил все отпущенное на задание время. На мгновение в классе повисло напряженное молчание, а потом учитель воскликнул: «Но это восхитительно, Дэвид!»
Это было счастливое детство. Разумеется, он дрался с братьями, ругался с друзьями и бывал несправедливо наказан. Обида проходила быстро. До четырнадцати лет он не знал, что в мире существует глупость.
Ему было почти четырнадцать, когда директор колледжа написал его родителям, рекомендуя им отправить сына в художественную школу. Несмотря на то что Дэвид по уровню развития казался совершенно готовым к изучению гуманитарных наук в классическом лицее, было очевидно, что рисование – его главная страсть, в чем он имел несомненный талант. Он был безмерно признателен и директору, так хорошо это понявшему, и родителям, любившим его настолько, чтобы принять его переход в профессиональную – а значит, менее престижную – школу. Они записались на прием в Брэдфордскую художественную школу, показали его рисунки, и он был принят. Поскольку он был стипендиатом, оставалось лишь получить разрешение главы городского образования. Ответ пришел через месяц: «После внимательного изучения представленных документов комитет считает, что в интересах вашего сына будет завершить курс общего образования, прежде чем специализироваться в искусстве».
Это решение не подлежало никакому пересмотру. Дэвиду пришлось ходить в лицей, в который его определили, и в течение двух лет, с утра до вечера, корпеть над математикой, английским, историей, географией, французским и химией. И никаких занятий по искусству, разумеется, не предвиделось. Родители как могли пытались его утешить: два года пройдут быстро. Дэвид еще никогда не испытывал такой ярости. Для бюрократа, подписавшего это письмо, два года значили не более, чем две секунды, потраченные им на подпись. Кто позволил этому человеку, которого он и в глаза не видел, решать его судьбу? Уж он показал бы этому фашисту, на что способен. Юноша перестал заниматься: отметки покатились вниз, количество замечаний росло. Ему было на это плевать. Пусть его исключат и лишат стипендии. Пустая трата денег, как говорили преподаватели. Тем лучше. Но о нем заботился ангел-хранитель: мать, не пытавшаяся его урезонить. Она отправилась к жившему с ними по соседству преподавателю Брэдфордской художественной школы и спросила, не согласится ли он давать бесплатные уроки ее сыну. Ученик был одаренным, и профессор согласился. Еженедельные занятия по вечерам стали для него столь необходимой отдушиной, и отметки снова пошли вверх.
Иногда днем, вместо того чтобы делать домашние задания, Дэвид ходил в кино. Он нашел способ проникать в зал бесплатно: караулил у выхода, пока кто-то не откроет дверь, и входил в помещение, пятясь задом, чтобы создать впечатление, будто он выходит. Однажды, будучи поглощен американским триллером с Хамфри Богартом, он не заметил типа, устроившегося с ним рядом, хотя зал был почти пустой. Чужая рука в темноте завладела его рукой и положила ее на что-то горячее, твердое и волосатое. Сердце Дэвида заколотилось как бешеное. Ему было страшно, но он не сопротивлялся. Рука, накрывавшая его руку, заставляла ее двигаться взад и вперед все быстрее и быстрее до тех пор, пока мужчина не издал глухой стон. Он покинул зал, не дожидаясь окончания сеанса. Когда Дэвид с пылающими щеками и влажными ладонями вышел на улицу, он не мог думать ни о чем другом, кроме как о только что произошедшей сцене. Так, значит, страх не так уж несовместим с удовольствием? Это было самым волнующим из всего, что с ним когда-либо случалось, и он не мог рассказать об этом матери. Могло ли быть дурно то, что доставляло столько удовольствия? Его товарищи без конца говорили о девушках. Но ни одна из них никогда не вызывала в нем такой сладкой дрожи.
Ему исполнилось шестнадцать, когда он окончил лицей. Ни его сестра, ни старшие братья не ходили в университет. Пол, который тоже любил рисовать, мечтал учиться графике, но после окончания средней школы ему пришлось устроиться на работу офисным клерком. Так что было бы несправедливо, если бы младший брат поступил в художественную школу. «Почему бы тебе не найти работу в какой-нибудь фирме по рекламному дизайну в Лидсе?» – спросила его мать. Дэвид составил портфолио из своих рисунков, уселся на велосипед и отправился по возможным работодателям, чьи слова он затем с удовольствием передал матери: «Начинать нужно с изучения основ, мой мальчик». Один раз кто-то из работодателей предложил ему неоплачиваемую стажировку, которая позволила бы ему сформироваться как специалисту и получить гарантированное место по окончании, – Дэвид ответил, что ему надо подумать. И предпочел не рассказывать об этом матери.
В конце концов она сдалась и написала ходатайство в департамент образования города Брэдфорда, где ему выделили стипендию в тридцать пять фунтов. Это было немного, но его брат получал даже не вдвое больше за работу, на которой можно было помереть от тоски. Лето Дэвид провел на ферме, собирая и складывая на хранение кукурузные початки, и, загоревший и обветренный, в сентябре переступил порог Брэдфордской художественной школы: одетый в опрятный костюм, который они с отцом недавно купили у старьевщика. Его длинный красный шарф, костюм в полоску со слишком короткими брюками и круглая шляпа поверх черных волос придавали ему вид русского купца – и товарищи прозвали его Борисом.
Они могли называть его как им только вздумается, подшучивать над ним, а он всегда был готов посмеяться вместе с ними. Ничто не могло испортить ему настроение. После двухлетнего ожидания он был наконец волен предаваться своей страсти с утра до вечера. В школе было два отделения: живописи и графики. Когда директор попросил его выбрать одно из них, он не колеблясь ответил: «Я хочу быть художником». – «Вы что, живете на ренту?» – с удивлением осведомился директор. Дэвид не знал значения этого слова и не нашелся с ответом. «Вы пойдете на графику, мой друг», – заключил директор, полагая, что оказывает ему услугу: в школе это было направлением, связанным с коммерцией и гарантировавшим позднее хороший заработок. Через две недели он попросил, чтобы его перевели. «В таком случае вам придется учиться на преподавателя», – сказали ему. Все что угодно, лишь бы ему позволяли рисовать.
Старик-сосед, весь прошедший год дававший ему частные уроки, предупреждал его об опасности, которая подстерегала студентов художественной школы, – ею была лень. Дэвид работал по двенадцать часов в день. Он хотел изучить все: анатомию, перспективу, рисунок, искусство гравюры, живопись маслом. Копировать книги или природу. Замечания преподавателей о его работе приводили его в восторг, потому что они видели вещи, ускользавшие от его внимания, расширяли и делали глубже его художественное видение. Один из молодых профессоров, Дерек Стаффорд, учил его, что рисунок – это не простое подражание, а работа мозга. Нужно размышлять, не стоять на месте, менять точку зрения, смотреть на предмет под разными углами. Никогда еще Дэвид не встречал человека настолько умного и утонченного, как Дерек. Он был не из Брэдфорда. Война прервала его учебу в лучшей из всех возможных художественных школ – в лондонском Королевском художественном колледже. Он путешествовал по Франции и Италии, прочитал кучу книг. Дерек приглашал к себе студентов, угощал их сигаретами, поил французским вином, от которого тех тошнило в его уборной. Он говорил им, чтобы они отправлялись в Лондон, что это просто необходимо. В возрасте восемнадцати лет Дэвид впервые очутился в столице в сопровождении друзей, обретенных в художественной школе. Ночью они поймали попутку, приехав в город на рассвете, купили билет на кольцевую линию метро, петлей огибавшую центр, и спали в вагоне до открытия музеев. За один день он увидел больше произведений искусства, чем за всю предыдущую жизнь. Он открыл для себя Фрэнсиса Бэкона[1], Дюбюффе[2] и Пикассо. В Брэдфордской художественной школе был парень, которого называли Пикассо, потому что он не умел рисовать. Дэвид покачал головой: они ошибались, этот человек умел рисовать!
После двух лет в школе он набрался смелости предложить две свои картины в художественную галерею Лидса для участия в биеннале йоркширских художников. В худшем случае ему просто отказали бы. К его удивлению, картины взяли. Следовательно, нужно было дерзать, не обращать внимания на то, что принято или не принято делать, и все будет получаться. У него не хватило наглости указать на картинах цену, ведь он был пока лишь учеником. На вернисаже, где подавали бесплатные чай и сэндвичи, он ощутил радость от своего законного присутствия в этой галерее, где выставлялись его работы: ему всего восемнадцать, а он был одним из них. Он пригласил с собой родителей: их гордость при виде работ своего отпрыска, висящих рядом с работами его учителей, удваивала его собственную. Почти сразу после их ухода к Дэвиду подошел посетитель и предложил ему десять фунтов за портрет его отца. Десять фунтов! Больше, чем четверть стипендии – ему полагалось столько, чтобы жить три месяца, – за одну картину? Он уже открыл рот, чтобы сказать «да», как тут же спохватился, что картина не была его собственностью: за холст заплатил отец, он же всего лишь расписал его. «Подождите минутку!» Он поспешил к телефону, чтобы позвонить отцу, который был рад узнать, что кто-то хочет купить его портрет, несмотря на краску мрачно-землистого цвета, которой сын написал его лицо, не обращая внимания на его советы под предлогом, что так учили рисовать в художественной школе. Даже когда десять фунтов оказались в кармане Дэвида, он все еще не мог в это поверить и позвонил матери: «Мама, я продал папу!» Она расхохоталась. Он отпраздновал это событие, тем же вечером пригласив товарищей в паб. Их поход обошелся ему в один фунт – настоящее безумие, – но у него осталось девять: на краски и холсты.
Дерек и поездка в Лондон расширили его горизонты. Он понял, что невозможно стать художником, оставаясь в Брэдфорде. Нужно было отправляться в Лондон, учиться в достойной художественной школе. Два лета подряд он провел за изображением с натуры улиц Брэдфорда, возя с собой краски и кисти в детской коляске, починенной отцом. Он молил мать разрешить ему использовать одну из комнат в их доме как мастерскую. Она сердилась, когда он оставлял пятна краски на полу и не закрывал тюбики, ругала его за небрежность, неуважение к чужим вещам, но он знал, что она скажет «да»: она всегда была на его стороне. Весной 1957 года, когда ему не исполнилось еще и двадцати лет, портфолио было готово. Он отправил его в лондонский Королевский колледж и еще в одну художественную школу, в Слейд[3], чтобы повысить свои шансы, так как Королевский колледж принимал лишь одного студента из десяти. Его отобрали для собеседования, и он приехал в Лондон, где был не в состоянии уснуть накануне похода в колледж, осознавая свое невежество и свою отсталость по сравнению с соперниками, росшими среди музеев.
Он был принят.
Прежде чем приступить к занятиям, он должен был пройти военную службу. Как и его отец, он по убеждениям отказался от службы в армии и был направлен в больницу в качестве санитара: сначала в Лидс, а затем в Гастингс, где провел два года, ухаживая за больными и престарелыми, с утра до вечера смазывая пролежни и обмывая умерших. У него не было времени не только рисовать, но и думать. По вечерам перед сном он пытался читать Пруста, мало что в нем понимая. Он отдавал себе отчет, как ему повезло, ведь не придется заниматься этим изнурительным и неблагодарным трудом всю жизнь. Его ждал Королевский колледж.
И наконец он переступил его порог.
Юноша находился в Лондоне, в самой престижной художественной школе Англии – одной из лучших в мире. Его новые товарищи высказывали уверенные суждения о вещах, о которых он никогда прежде не задумывался. Однажды, когда один из них воскликнул: «После Поллока больше невозможно писать как Моне!», Дэвид покраснел так, будто речь шла о нем самом. Он узнал, что фигуративная живопись была наследием прошлого, что он был антисовременен. Французская живопись никого из других учеников не интересовала. Ему было бы стыдно показать им портрет отца, продажей которого он так гордился четыре года назад и который был написан им в духе Юстон-роудской школы или французских художников, таких как Вюйар[4] и Боннар[5]. Единственное, что сегодня принималось в расчет, – это американская абстрактная живопись: ничего не изображающие картины огромных размеров с цифрами вместо названий. Разумеется, Дэвид видел большую выставку школы абстрактного экспрессионизма в галерее Тейт зимой 1959 года и открыл для себя имена де Кунинга[6], Поллока, Ротко, Сэма Фрэнсиса[7] и Барнетта Ньюмана. Эта выставка, а затем и выставки в галерее Уайтчепел перевернули его представление об искусстве. Нужно было быть современным – или никаким.
Какой должна стать его первая картина? Однозначно – не нарративной. К тому же у него был сильный йоркширский акцент, и он приходил в ужас от мысли, что его примут за провинциала, за художника-любителя. Нужно было опереться на что-то незыблемое: на рисунок. Источником вдохновения стал для него человеческий скелет, висевший в одной из аудиторий. Скелет – это было оригинально. Большой, детально проработанный рисунок должен был продемонстрировать его совершенные познания в анатомии и перспективе.
Его скелет оценили все. Ловко сделано, как ему говорили. Он выдержал первое испытание, его не подняли на смех. Он чувствовал себя немного свободнее. Один из его товарищей даже предложил ему за эту картину пять фунтов. Это был американец, богатый студент – бывший солдат, приехавший в Лондон благодаря щедрому военному пособию. Нужно было быть американцем, чтобы иметь возможность платить по пять фунтов за ученический рисунок. Рон был на пять лет старше него, он был женат и имел ребенка. У него был настоящий дом, в отличие от Дэвида, делившего с другим студентом крошечную комнату в оживленном квартале Эрлс Корт. Рон рисовал очень медленно, и его мало беспокоило, что думают о нем окружающие. Независимость его духа напоминала Дэвиду упрямство его собственного отца. Они стали друзьями. Оба приходили в школу рано утром – раньше всех остальных товарищей – и вместе пили чай, прежде чем приняться за работу. Они говорили об искусстве: истории искусства и современности. Дэвид уже давно знал, что художники, знакомые ему по Брэдфорду, включая преподавателей в художественной школе, не были настоящими художниками. Теперь он понимал почему: они не задавались вопросом о своем месте в истории искусства. Нельзя быть настоящим художником, если не ставишь перед собой этот основополагающий вопрос и не находишь на него ответ. В нем больше не было ничего общего с тем невинным юнцом, который беззаботно проводил лето, слоняясь по улицам с коляской, набитой кистями и тюбиками краски, и останавливаясь то тут, то там, чтобы написать дерево или дом. Фигуративная живопись хороша лишь для производителей постеров или рождественских открыток. Он едва не угодил в эту ловушку, но новая атмосфера, в которой он очутился, раскрыла ему глаза: он будет современным художником. Рон качал головой и улыбался.
Казалось, Дэвид должен был быть счастлив. Он сделал все, чтобы его приняли в этой школе. В день объявления результатов у него было чувство, что он пролез сквозь игольное ушко, попал в рай, спасся от жизни под бременем наемного труда, которую вели его сестра, братья и их соседи в Брэдфорде. В течение тех двух лет, что работал в больнице, он мечтал о своей будущей жизни и воспитывал в себе терпеливое ожидание, зная, что придет миг освобождения, который пробудит его от векового сна. И вот наконец он был свободен, но долгожданное, желанное счастье, бывшее теперь так близко, от него ускользало. Впервые в жизни он не испытывал радости от рисования, а чувствовал странное равнодушие к своей работе, утратил энергию и энтузиазм. А что, если он обманывался, был всего лишь самозванцем? Американец слушал, как его молодой, двадцатидвухлетний, друг, совершенно потерянный, изливает свои страдания. Они разговаривали и на другие темы: о политике, литературе, дружбе, любви, вегетарианской диете, которой Дэвид придерживался, как и его родители. Его ежедневные беседы с Роном позволяли ему чувствовать себя по меньшей мере не так одиноко.
«Тебе надо бы рисовать то, – однажды сказал ему Рон, – что важно тебе самому. Не стоит беспокоиться. Ты в любом случае современный художник. Просто потому, что живешь в современности».
Это была интересная мысль. Бесполезно стараться принадлежать своему времени: ты в любом случае ему принадлежишь. В самом деле, фигуративные работы Рона вовсе не выглядели как созданные в эпоху Мане или Ренуара. Так или иначе что-то должно было измениться. Если бы Дэвид не обрел вновь вкус к рисованию, он бы закончил как старый высохший лимон, оставленный на кухонном столе. Вот именно: ему хотелось изображать овощи и фрукты. Никто не смог бы обвинить его в несовременности, так как их круглые формы выглядели довольно абстрактными. Но в его сознании это были овощи и фрукты. Потом он написал коробку чая Typhoo, из которой он брал пакетики по утрам, приходя в школу, – ту самую коробку чая, что напоминала ему о матери и приветствовала его каждый новый день. У него родилась мысль добавлять к словам Typhoo Tea – «Чай Typhoo» – то тут, то там букву или цифру, которые заставляли подойти к картине, чтобы их разобрать. В этом была толика человечности, проникшая как бы контрабандой. Буквы и цифры вели диалог со зрителем, а не оставляли его в стороне, как абстрактная живопись.
Рон делил свое место в мастерской, у прохода, с еще одним студентом, и когда Дэвид после обеда приходил его навестить, он болтал и с его соседом. Эдриан был геем. Это был первый человек, встретившийся Дэвиду за двадцать два года его жизни, который открыто заявлял о своей сексуальной ориентации. Он уже давно знал, что ему нравятся мужчины, но его интимная жизнь сводилась почти к нулю, ограничиваясь редкими тайными свиданиями – о них он никому не рассказывал – в местах, куда он ходил один. Однажды товарищ сказал ему, что видел его в таком-то пабе с каким-то типом и то, чем они занимались. Дэвид покраснел, ужасно взволнованный злополучным совпадением, приведшим знакомого ему студента в бар, который находился довольно далеко от их школы и где его тискал незнакомец, часом ранее встреченный им в кинотеатре на Лестер-сквер. После того как прошел первый шок, собственная реакция привела его в ярость. Покраснел бы он, если бы товарищ застукал его с девушкой? Да и сам этот студент разве хоть слово сказал бы? Кто дал ему право обращаться к нему с такой насмешливой развязностью? Дэвид сделал рисунок под названием «Стыд», где единственной узнаваемой формой были очертания эрегированного пениса на переднем плане. И, слушая, как Эдриан болтает без умолку о своих гомосексуальных приключениях, он мечтал: «Вот так я хочу жить». Эдриан посоветовал ему почитать американского поэта Уолта Уитмена[8], которого Дэвид знал, и греческого поэта Константиноса Кавафиса[9], о котором он никогда не слышал.
Тем летом, когда Дэвиду исполнилось двадцать три года, он прочитал Уитмена и Кавафиса. Если первого найти было достаточно легко, то со вторым пришлось сложнее. В брэдфордской городской библиотеке его книги не стояли на полках: нужно было извлекать их из особого хранилища, местной «преисподней». Когда он протянул листок с шифром сотруднице, она бросила на него подозрительный взгляд, как на блудного сына, уехавшего в Лондон – а значит, погрязшего в разврате, – который собирался одной рукой листать книгу, другой помогая себе снять вызванное чтением напряжение. К концу лета он все никак не мог решиться вернуть книгу в библиотеку, и не только из страха снова встретить насупленный взгляд библиотекарши. Он не мог расстаться с Кавафисом: эта книга принадлежала ему.
Ему сразу же полюбилось чувство юмора греческого поэта. Одним из самых любимых им стихотворений стало «В ожидании варваров», где повторялась фраза «Сегодня в город прибывают варвары», а в последней строчке выяснялось отсутствие этих варваров, прихода которых все так боялись: «Они казались нам подобьем выхода»[10]. Насколько же это было верно: все искали всегда выдуманных предлогов! Как же людям не хватало смелости и свободы! Два поэта, грек и американец, выражали все то, что он чувствовал, простыми словами, которые были ему понятны, в отличие от слов Пруста, смысл которых от него ускользал. «И рука его легко лежала у меня на груди – и в эту ночь я был счастлив»[11], – писал Уитмен, говоря о любви между двумя мужчинами. Впервые за прошедший год у Дэвида не было никаких сомнений: следовало рисовать то, что важно для него самого. Ему только что исполнилось двадцать три года. Для него не было ничего важнее, чем желание и любовь. Следовало найти обходной путь для запретной темы, представить ее образами – так, как Уитмен и Кавафис сделали словами. Никто не мог дать ему такого права – никакой профессор, никакой другой художник. Это должно было стать его решением, его творчеством, выражением его свободы.
Вернувшись в колледж, он написал серию картин, где тут и там появлялись слова или даже целые фразы: некоторые были из Уитмена, как, например, We two boys together clinging – «Мы два сцепившихся мальчишки», – другие – надписями, что он видел на дверях в мужской туалет на станции метро Эрлс Корт, такие как «Позвони мне по номеру…» или «Моему брату всего семнадцать». Фигуры на картинах были схематичны, как детские рисунки, и различались благодаря волосам, рту, зубам, заостренным чертенячьим ушам и эрегированному пенису. Желая отметить собственное присутствие на этих картинах, он позаимствовал у Уитмена детский секретный шифр, заключавшийся в замене букв алфавита цифрами, и изобразил на холсте крохотные, едва заметные цифры 4.8, означавшие его инициалы, а также числа 23.23, соответствовавшие инициалам Уитмена. Эти циферки были такими маленькими, так трудно различимыми, что их предпочитали не замечать, и все трактовали новые работы Дэвида исключительно в художественном контексте, обнаруживая в них влияние Поллока и Дюбюффе. Его преподаватели видели в них лишь проявление его художественного пыла (если так можно выразиться). Это был прекрасный способ одурачить систему.
Он больше не испытывал прошлогодней меланхолии и писал одну картину за другой. У него установился привычный порядок: он приходил рано, когда в школе еще никого не было, кроме Рона, и рисовал в тишине и покое целых два часа, до прихода остальных. Около пятнадцати часов, когда его товарищи оставляли мольберты, чтобы выпить чаю, Дэвид сворачивался и шел в кино: один или с Энн, подружкой одного из его товарищей, – красивой рыжеволосой студенткой, любившей, как и он, американские фильмы. В колледж он возвращался к тому времени, когда другие ученики уже уходили, и спокойно работал до поздней ночи. В любом случае ему некуда было идти. Он выехал из крошечной комнаты, которую делил с другим студентом, и поселился за ту же цену в сарайчике, стоявшем в саду дома. Он наслаждался одиночеством, но в плане удобств это было столь примитивное жилье, что в нем можно было только спать.
В сентябре к ним пришел новый ученик, американец Марк – открытый гей, как и Эдриан. Он привез с собой из Америки то, что Дэвид тут же поспешил у него взять взаймы: журналы с фотографиями светловолосых мускулистых парней в узких трусиках, скорее подчеркивавших достоинства, которые они призваны были скрывать. Листая страницу за страницей и чувствуя, как эти фотографии пробуждают в нем желание, Дэвид вновь спрашивал себя: почему нечто, столь прекрасное и доставляющее столько удовольствия, надо скрывать? Эти журналы издавались в Соединенных Штатах. И двое из трех самых близких его друзей в колледже были американцами. Он никогда не встречал гомосексуалиста в городе, где он вырос, и любые сексуальные отношения между двумя взрослыми мужчинами по их обоюдному согласию считались преступлением согласно британскому уголовному кодексу. Светловолосые парни, с гордостью демонстрировавшие свои бицепсы на страницах Physique Pictorial – «Тело в картинках», – вызывали в нем желание немедленно улететь в Америку. «Если будешь в Нью-Йорке, жду тебя в гости», – сказал ему Марк, как будто можно было сесть в поезд и отправиться в Нью-Йорк так же запросто, как в Брэдфорд. Билет на самолет стоил, наверное, несколько сотен или даже тысяч фунтов. Это была другая вселенная. Дэвид никогда никуда не уезжал из Англии.
Он был признателен Марку, Эдриану и Рону за тот ветер свободы, которым они наполнили его жизнь. Возвращаясь домой на Рождество или на Пасху, он был рад вновь увидеть родителей, поболтать с братьями и сестрой за вкусным вегетарианским обедом, приготовленным матерью. Они просили рассказать его о жизни в большом городе, а Дэвид объяснял им, что такое американский абстрактный экспрессионизм; он говорил о выставке современных молодых художников – критики придумали для нее термин «поп-арт» – и о начинающем торговце предметами искусства, высоко оценившем четыре картины, отданные им на выставку, чтобы продемонстрировать блестящую живописную технику: эта оценка была многообещающей. Но разве мог он, хотя бы и вскользь, упомянуть о фотографиях в Physique Pictorial, о гомосексуальности Марка и Эдриана или о тех, чей пристальный взгляд он ловил в туалете на станциях метро, о своем желании использовать живопись для отражения той действительности, о которой он не имел права говорить? Его старший брат был женат; у младшего была невеста. Никто из них не спрашивал, была ли у него девушка. Эта тема никогда не поднималась, как если бы художник был бестелесным существом и его не интересовали вопросы плоти – или, вернее, как если бы родные знали, но не хотели знать.
Однако тело у него было. Так же как и сердце.
Как-то ночью в Королевском колледже, в конце вечеринки, на которой вино лилось рекой, один из товарищей показал ему новый танец под названием «Ча-ча-ча». Дэвид смотрел на него, качаясь на стуле, и когда Питер улыбнулся ему, протягивая руку, чтобы пригласить его танцевать, эта улыбка проникла в самое сердце и озарила его. Чувство внезапное, как гром среди ясного неба. Это было и правда как настоящий гром – он был оглушен, в ушах у него звенело. Ему не хотелось танцевать, ему больше нравилось просто смотреть. Он попросил показать еще раз, потом еще и все не сводил глаз с грациозного тела, с бедер, попеременно двигавшихся влево и вправо, с чувственных губ, протянутых будто для поцелуя, когда юноша оказывался прямо напротив него, напевая «ча-ча-ча». Питер был сексуальнее, чем Мэрилин, сексуальнее, чем живая кукла из песни Клиффа Ричарда Living doll, которую Дэвид так любил. Мальчик-куколка. Дэвид отдал бы целое царство за его поцелуй, но ничего не сказал: он был робким и вежливым, а главное – он знал, что у Питера есть девушка. В течение долгих месяцев образ танцующего перед ним Питера, его грациозные бедра и протянутые навстречу губы не давали ему покоя ни днем, ни ночью. Вот что ему хотелось бы выразить в своих картинах: это желание, пылающее в нем, желание желания Питера, желание его плоти, желание, рвущее его пополам, потому что, с одной стороны, был секс, а с другой – любовь, и эти половины не могли между собой примириться. Они соединялись в нем лишь в то время, когда он стоял перед мольбертом и чувствовал себя живым и полным желания, когда писал «Ча-ча-ча ранним утром 24 марта 1961 года». Он изображал движения тела Питера, используя в качестве фона ярко-красную, ярко-синюю и ярко-желтую краски и выводя тут и там крошечные буковки надписей: I love every movement[12] («Я люблю каждое движение»), penetrates deep down («глубоко проникающее действие») и gives instant relief from («оказывает мгновенное облегчение»)[13]. Это была даже не картина. Это была жизнь.
Всю осень он так много писал, что с наступлением зимы, подобно стрекозе из басни, которая лето красное пропела, оказался без гроша и не мог купить холсты и краски. К счастью, существовало отделение графики, где материалы предоставлялись бесплатно. У Дэвида не оставалось выхода. Но в своих гравюрах – так же как и в своих картинах – он выражал то, что было интересно ему самому, передавая образы, навеянные Уитменом и Кавафисом. В апреле один товарищ предложил ему за сорок фунтов билет на самолет в Нью-Йорк, которым сам не мог воспользоваться. Сорок фунтов, чтобы попасть в Нью-Йорк? Это было предложение, от которого просто невозможно отказаться. Он найдет деньги: будет работать, чтобы расплатиться за билет.
В тот дождливый апрельский день, когда он вышел из своего сарайчика в глубине сада у дома на Эрлс Корт, у него в кармане было десять шиллингов – все деньги, что оставались. Дождь лил как из ведра. На другой стороне улицы стояло такси. Поездка до колледжа стоила пять шиллингов – половину его состояния, – тогда как метро, вход в которое был неподалеку, обошлось бы ему всего в несколько пенсов, но потом пришлось бы еще идти десять минут пешком до школы. Внезапно у него появилось желание сделать то, что столько лондонцев делали, не раздумывая: перейти улицу, открыть дверь такси, забраться в сухой и уютный салон, устроиться на мягком сиденье и сказать привычно уверенным голосом: «В Королевский колледж, пожалуйста». Так он и сделал.
В школе его ждало письмо. Пока он разрывал конверт и вытаскивал сложенный втрое листок, из него выпала какая-то бумажка. Он поднял ее. Это оказался чек на сто фунтов, выписанный на его имя. Он нахмурился и перечитал имя еще раз, будучи уверен, что это воображение сыграло с ним плохую шутку. В письме некий мистер Эрскин, о котором он никогда не слышал, поздравлял его с призом, полученным им за гравюру «Три короля и королева». У Дэвида и правда была гравюра с таким названием, но он никогда не посылал ее ни на какой конкурс. Это было невероятно. Какое-то чудо или шутка небес. Он решил потратить последние гроши, следуя внезапному порыву и не заботясь о будущем, и добрая фея вознаградила его, послав ему в сто раз больше. Позже в тот же день он узнал, что доброй феей оказался преподаватель отделения гравюры, который нашел работу Дэвида на полке и передал ее жюри конкурса, даже не спросив его разрешения. Но он лишь покачал головой. Было совершенно очевидно, что все это благодаря такси.
Накануне лета ему удалось продать несколько полотен и эстампов. В июле он вылетел в Нью-Йорк: ему только что исполнилось двадцать четыре года, и он был богачом с состоянием в целых триста фунтов. Он приземлился в аэропорту Кеннеди, где его встречал Марк.
Он никогда не переживал такую жару: влажную, тяжелую, невыносимую, – и потел так, что рубашка постоянно прилипала к телу, но это был город, о котором он мечтал: сияющий, шумный, живой, где он мог купить пиво или газету хоть в три часа ночи. И там было столько баров для геев! И столько вегетарианских ресторанов! И еще столько музеев – конечно, он ходил в них, но он приехал не за этим. Таймс-сквер, Кристофер-стрит, Ист-Виллидж. Кинотеатры, секс-шопы, клубы, понтоны на берегах Гудзона с голыми по пояс рабочими; все, что бесстыдно выставлялось наружу под безжалостным солнцем. Он жил у Марка, родители которого владели домом на Лонг-Айленде, и познакомился с одним из его друзей, Ферриллом, ставшим его любовником. Первым любовником, которого не нужно было скрывать. У него были два гида, чтобы открыть для себя Нью-Йорк геев.
Как-то днем, когда они были дома у Марка, их внимание привлекла телереклама. Там была девушка с золотисто-светлыми крашеными волосами, которая то спускалась из самолета, бросаясь на шею мужчине, то играла в бильярд, то с сияющей улыбкой на губах и развевающимися по ветру волосами бежала наперегонки с собакой, а женский голос за кадром спрашивал: «Правда ли, что в жизни блондинок больше развлечений?» Затем музыка прерывалась, и вступал мужской голос: «Краска-блонд для волос “Клэрол” – это образ жизни. Развлекайтесь!» Трое молодых людей, обожавших фильм «В джазе только девушки», под влиянием которого явно делалась эта реклама, переглянулись.
Четверть часа спустя они уже вышли из магазина с пакетом, в котором лежал волшебный товар. Корчась от хохота, прочитали инструкцию и пошли в ванную, где смешали состав, разделись и, встав под душ, вымыли друг другу голову этим составом. Превращение произошло прямо у них на глазах. Теперь они были тремя высокими пергидрольными блондинами. Они хохотали до слез, особенно когда отец Марка, выйдя в конце дня из кабинета, увидел трех валяющихся на его диване неизвестных типов и у него чуть не случился сердечный приступ. Стало очевидно, что в жизни блондинок развлечений больше.
Дэвид смотрел на себя в зеркало и не верил своим глазам. Это было как с такси в Лондоне. Нечто волшебное. Если действовать в порыве, не думая о последствиях, просто для развлечения, то окажешься в выигрыше. Вот в чем секрет жизни. Он превратился в блондина – совсем как те светловолосые модели из Physique Pictorial. До этого момента он не считал себя ни красивым, ни уродливым – ему говорили, что он симпатичный, – но внезапно он превратился в кого-то другого: броского, яркого блондина, которого нельзя было не заметить. Его новый цвет волос ему нравился не потому, что «в жизни блондинок больше развлечений», а потому что он создал себя заново. Он был собственным изобретением, будто только что вновь появился на свет. Этот цвет провозглашал его идентичность гея – его самое подлинное, самое сокровенное «я», – и в то же время это было нечто искусственное: маска, обман. Естественное и искусственное не были противоположностями – не более чем фигура и абстракция, поэзия и граффити, цитата и оригинальное изречение, игра и действительность. Можно было сочетать одно с другим. Жизнь, как и живопись, была сценой, на которой играли.
Это было необычайное лето. Он уехал из дома родителей Марка, которые начали уставать от экстравагантных выходок друзей их сына, и обосновался в Бруклине, где у Феррилла была уютная двухкомнатная квартира с толстым ковром, в котором утопали ноги, телевизором и настоящей ванной комнатой. Дэвид еще никогда не видел, чтобы столь молодой человек жил в таком роскошном месте. Но образ жизни Феррилла удивлял его еще больше: он держал дверь нараспашку, и кто угодно мог прийти к нему, принять с ним душ, лечь в его постель. Свободная любовь – без привязанности, без ревности, без чувства вины. Только удовольствие, даваемое и получаемое. Это была жизнь, о которой Дэвид мечтал. Прощай, Брэдфорд! Даже Лондон по сравнению с Нью-Йорком выглядел унылым.
Когда он наконец связался с директором отдела гравюры Нью-Йоркского музея современного искусства, имя которого ему дал мистер Эрскин, его ждал новый сюрприз: этот человек не только знал, кто он такой, и заявил, что ему не терпится его увидеть, – ранее он получил письмо Эрскина, рекомендовавшего своего блестящего протеже, – не только посмотрел гравюры, которые Дэвид привез с собой из Лондона, но и купил их! Дэвид был вне себя от изумления. Он был еще студентом, а Нью-Йоркский музей современного искусства покупал его гравюры. Какая щедрость и какой простой была жизнь в Америке!
Эти деньги оказались очень кстати, потому что он был уже на мели. Теперь он мог позволить себе купить американский костюм – свободного кроя, светлого цвета, как носили тем летом. И еще миниатюрный транзисторный приемник, чтобы походить на американцев, хотя вначале он считал их глухими – совсем как его отец, – видя у них в ушах какое-то маленькое устройство. Но потом Феррилл объяснил ему, что они с утра до вечера слушают музыку. В сентябре в Лондон вернулся новый человек. Высокий блондин в белом костюме. Вместе с чемоданами он привез несколько идей. Он напишет огромную – на манер американских абстракционистов – картину, обеспечив себе заодно больше места в мастерской колледжа; только это будет не абстрактная живопись, а фигуративная. Вдохновившись египетскими древностями Метрополитен-музея в Нью-Йорке, картинами Дюбюффе и стихотворением Кавафиса «В ожидании варваров», он изобразил кортеж из трех человек, озаглавив свою работу «Великое шествие вельмож в полуегипетском стиле». Название было написано прямо на холсте: тем самым он давал понять, что не воспринимает себя серьезно и что все это лишь игра. Столь длинное название имело еще и другое преимущество: заняв собой сразу несколько строчек в каталоге выставленных в колледже работ, он обратит на себя внимание. Дэвид был сообразительным – в отца – и уже понял, что успех не падает с неба. В Нью-Йорке он восхищался тем, что в Англии сочли бы признаком дурного тона: легкостью, с которой американцы умели продавать себя, не позволяя себе становиться жертвой ложного стыда и мук совести. Он уже привлек к себе внимание критиков; теперь нужно было его удержать. Высокий блондин в белом костюме, не скрывающий своей нетрадиционной ориентации, – вот кто вызовет гораздо больший интерес, чем художник родом из Брэдфорда в графстве Западный Йоркшир!
Он развлекался по полной. На картине, названной «Чистка зубов, ранний вечер (10 вечера)», он написал две фигуры, лежащие валетом, заменив их пенисы тюбиками зубной пасты «Колгейт» (гигиена рта была настоящей манией в Соединенных Штатах). Это было совершенно непристойно и очень смешно. На отделении гравюры он создал собственную версию «Карьеры мота» – серии гравюр, выполненных художником XVIII века Уильямом Хогартом, которая демонстрировала падение молодого человека, приехавшего в большой город и погрязшего в грехе. Отсылка к знаменитому произведению позволяла ему в шутливой форме описать собственные нью-йоркские приключения: прибытие на самолете; продажу гравюр директору MoMA[14]; мускулистых американцев, совершавших в своих облегающих майках пробежку в Центральном парке на глазах у дохляка Дэвида; свидания мужчин в гей-барах; волосы, выкрашенные краской-блонд «Клэрол», открывшие пред ним дверь рая; даже транзисторные мини-приемники – неотъемлемую часть всех американцев, как если бы они потеряли свою индивидуальность… За совершенство линий на гравюрах он удостоился похвалы своих старых преподавателей.
Мир улыбался ему. Он даже осмелился заявить администрации Королевского колледжа, что его больше не устраивают толстые уродливые сорокалетние женщины, которых им предлагали в качестве натурщиц. Мане, Дега и Ренуар никогда не стали бы Мане, Дега и Ренуаром, если бы их не вдохновляли их натурщицы. Он потребовал натурщика-мужчину, и школа, устав от его настойчивости, в конце концов уступила. Поскольку никто, кроме него, обнаженного мужчину писать не хотел, Дэвид – на деньги Королевского колледжа – нанял для личного пользования симпатичного молодого человека по имени Мо, его недавнего знакомого родом из Манчестера. Мо представил ему двух своих друзей, Осси и Селию, – студентов-стилистов, которые сразу же стали и друзьями Дэвида. Он завел интрижку с Осси – еще более отвязным парнем, чем он сам: Осси спал также и с Селией. Возникло еще одно новое понятие: бисексуал. Теперь жизнь Дэвида в Лондоне стала полна свободы, открытой им для себя в Нью-Йорке. Это была та богемная жизнь, о которой он мечтал, слушая рассказы Эдриана и Марка: жить, не боясь быть самим собой, когда ты отличаешься от других. Толерантность – вот достоинство тех, кого социальные нормы и моральное осуждение вынуждали скрываться, хотя они никому не причиняли вреда.
Он еще не окончил школу, когда тот самый начинающий торговец предметами искусства, что за год до этого восхищался его работами, предложил ему контракт: он будет платить ему шестьсот фунтов в год в обмен на эксклюзивное право продажи его работ и плюс еще сверху, если картины будут продаваться. Дэвид не верил своей удаче. Все прочие художники, которых представлял Касмин[15], занимались абстрактной живописью и были уже известны; он был самым молодым и единственным фигуративным художником. Это случилось не иначе как благодаря блондинистым волосам и белому костюму. В то лето у него не было нужды работать, разнося почту. Он отправился в Италию с Джеффом – американским парнем еврейского происхождения, которого он встретил в Нью-Йорке. Осенью он смог наконец выехать из своего сарайчика в глубине сада и за сходную цену устроиться в двухкомнатной квартире на первом этаже дома в Ноттинг-Хилле, где рядом жили его друзья Майкл и Энн. Вскоре Осси и Селия также поселились в этом квартале. Там было даже слишком оживленно: в строении напротив помещались ночной клуб и дом свиданий, и оттуда постоянно доносился адский шум – зато Дэвид впервые в жизни имел собственный угол в центре Лондона, где мог жить, работать, слушать оперу на полную громкость. И его лучшие друзья жили поблизости. Эта квартира быстро превратилась в центр общественной жизни: дверь всегда была открыта, и к нему ходил кто только хотел – как к Ферриллу в Бруклине.
Когда он получил письмо от директора Королевского колледжа, где сообщалось, что его дипломная работа в стиле фовизма признана неудовлетворительной и что ему не может быть выдан диплом, он в ярости выругался, а затем расхохотался. Ведь он и правда сляпал выпускную работу на скорую руку, раз уж ее нужно было сдать. В любом случае Касмин не просил его показывать официальную бумажку. Так уж был устроен мир. С одной стороны, были чиновники, недалекие умы, скорые на суждение и осуждение, – те, кто боялся жить по-настоящему; а с другой – искусство, инстинкт, желание, свобода и вера в жизнь. Он был совершенно прав, когда смеялся над этими административными заморочками, потому что директор отделения живописи, горя желанием вручить золотую медаль своему лучшему ученику, но не имея возможности это сделать, пока Дэвид не получит диплом, заставил колледж пойти на попятную. Дэвид ничего не имел против медали: она производила впечатление на окружающих и очень обрадовала его родителей.
Когда один галерист, устраивавший коллективную выставку, попросил художников рассказать о том, что их вдохновляет, он написал: «Я пишу то, что хочу, когда хочу и где хочу».
Сюжетом картины могло стать все что угодно: стихотворение, вещь, попавшаяся ему на глаза, мысль, чувство, человек. Правда абсолютно все. Это и была свобода. Когда-то Дерек говорил, что ему нужно избавляться от образа клоуна, если он хочет, чтобы его работы воспринимали всерьез. Ну уж нет: можно было быть одновременно и клоуном, и серьезным художником!
В то лето, когда ему исполнилось двадцать шесть лет, он снова отправился – на этот раз на борту океанского лайнера Queen Elizabeth – в Нью-Йорк, чтобы закончить работу над гравюрами «Карьера мота» и повидаться с Джеффом – американцем, с которым он путешествовал по Италии предыдущим летом. Как-то вечером у Энди Уорхола, куда его затащил приятель, он повстречал упитанного типа с пухлыми щеками и бородой: это был хранитель современного искусства Метрополитен-музея, и он был самым веселым, самым живым, самым язвительным человеком из всех, кого он когда-либо встречал. Они снова увиделись на следующий день. Еще один еврей-гомосексуалист, разумеется, как и все его американские друзья. Он родился в Европе: Генри эмигрировал с родителями из Брюсселя в 1940 году, на последнем пароходе. Дэвид не испытывал к нему физического влечения, но такого мгновенного взаимопонимания у него ни с кем раньше не возникало. Они понимали друг друга с полуслова, заканчивали один за другого фразы и беспрерывно смеялись. Они были приблизительно одного возраста, любили одних и тех же поэтов, художников, одни и те же фильмы, книги, и обоих объединяла страсть к опере. По другую сторону Атлантического океана он нашел родственную душу.
По его возвращении в Лондон один молодой человек, который открыл торговлю эстампами, предложил ему сделку: он напечатает пятьдесят экземпляров серии «Карьера мота» из шестнадцати гравюр и будет продавать их по сто фунтов каждый, что в сумме составит пять тысяч фунтов. Это была самая большая сумма, которую когда-либо получал Дэвид или любой другой его знакомый художник. Изготовление серии эстампов стоило самое большее два-три фунта. Неужели найдутся люди, готовые платить за них по сто фунтов? Просто сумасшествие! Конечно, эта сумма достанется ему не целиком, потому что нужно будет отдать то, что причитается продавцу и еще Касмину. Но это были реальные цифры, и часть денег придется на его долю. Наконец-то он сможет установить душевую кабину в своей квартире в Ноттинг-Хилле, чтобы подолгу принимать душ с друзьями. Это было лишь начало: совсем скоро он будет выставляться в двух лондонских галереях, лондонская воскресная газета Sunday Times за счет редакции отправит его в Египет для подготовки альбома с зарисовками, а деньги, которые он выручит с продажи своих гравюр, позволят ему осуществить свою мечту: поехать в январе в Лос-Анджелес.
В его памяти внезапно всплыл директор Брэдфордской художественной школы, спрашивающий: «Вы что, живете на ренту?» Этот образ был тут же заслонен другим: пятнадцатилетнего мальчишки, дрожащего от страха и возбуждения, пока незнакомец мастурбирует его рукой в темном зале кинотеатра. С тех пор он проделал долгий путь.
II. Печаль живет три года
Перед ним промелькнул знак выезда из Шайенна; он направлялся в Лас-Вегас. После четырех дней беспрерывной езды за рулем, когда он останавливался лишь для ночевки в придорожных мотелях, начиналась последняя часть его путешествия. Он устал, но ему нравилось долгими часами мчаться на запад на своем «Триумфе» с откидным верхом, в задумчивости или бездумно, слушая музыку, преодолевая огромные пространства. На закате дня небо, подобно огромному холсту, расцвечивалось оранжевыми и розовыми красками – яркими и сияющими, как неоновые огни. Даже на пустых дорогах, где лишь изредка попадались одинокие грузовики, ограничение по скорости было девяносто. В конце концов, это был идеальный темп, чтобы любоваться лиловостью гор, розовостью неба и бескрайними просторами вокруг.
Это будет его третье место как преподавателя. Он больше не испытывал страха, как тогда, два года назад, по дороге в Айову, в конце июня 1964 года, когда он остановился у оптики, чтобы купить пару огромных очков в громоздкой роговой оправе. Очки делали его старше и придавали профессорский вид. Этот первый его опыт был кошмаром. Айова-Сити: какое обманчивое имя! Прибыв на место после двух дней пути, он проехал через пригород и снова оказался среди кукурузных полей: никакого «города» не было. Он редко изнывал от скуки так, как в течение этих шести недель. Когда в середине августа из Лондона явился Осси, он ждал его как мессию. Первым делом они устремились в Новый Орлеан, чтобы потом двигаться в сторону Сан-Франциско, осматривая знаменитые национальные парки. Вряд ли он когда-нибудь сможет забыть общежитие Ассоциации христианской молодежи, YMCA[16], на набережной Эмбаркадеро, где они ночевали в Сан-Франциско. Достаточно было отправиться среди ночи принимать душ в общую душевую комнату, как там мгновенно, как тени – только не бесплотные, а во всем торжестве плоти, – ангельским сонмом из спален возникали юноши, готовые немедленно предложить вам все, что вы пожелаете. В Айова-Сити такого рая не было и в помине. Впрочем, как и в Боулдере, в штате Колорадо, где Дэвид преподавал рисование летом 1965 года, хотя условия там были уже получше: великолепный горный пейзаж, к тому же он завел интрижку с одним очаровательным студентом. Но в столь красивом месте университет предоставил ему мастерскую без окон, даже без какого-нибудь крохотного слухового окна! Как следствие, он написал картину, где изобразил свое очень причудливое видение колорадских Скалистых гор. По крайней мере, он понял, что Средний Запад не для него.
В UCLA – Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, – где его курс начинался в понедельник, все будет по-другому. Он представлял себе будущих учеников: высоких мускулистых серфингистов, загорелых блондинов, похожих на моделей из Physique Pictorial. Вот они удивятся, когда узнают, что профессор углубленного курса живописи так же молод и симпатичен, как они сами. Дэвид очень рассчитывал воспользоваться тем уважительным, без всякой иронии восхищением, с которым американские студенты относились к своим преподавателям. К тому же всех их приводил в восторг британский акцент; и тот самый акцент, что у него на родине выдавал его провинциальное и рабочее происхождение, здесь становился козырем, добавлявшим ему шарма.
Он слушал «Волшебную флейту» и подпевал в полный голос, глядя, как солнце садится за горизонт. После шести месяцев в Лондоне он ужасно соскучился по Городу Ангелов. Он стал его второй родиной.
Он уже не был тем наивным юношей, который высадился в Лос-Анджелесе в январе 1964 года, два с половиной года назад. Тогда на второй день после приезда он решил, что сможет покорить город на велосипеде, так как накануне на своих двоих ему удалось дойти только до автозаправки, в двух часах пешего хода от мотеля! Англичанина, который всю юность провел, разъезжая на велосипеде по холмам Йоркшира, расстояния не пугали. Он посмотрел по карте, что прямо от его мотеля на пляже в Санта-Монике идет длинный бульвар, ведущий в центр лос-анджелесского даунтауна, на площадь Першинг-сквер. Именно в этом месте происходило действие очень чувственного романа Джона Речи «Город ночи», породившего в нем тысячи эротических образов. Преисполненный энергии, он сел на новенький, купленный утром велосипед, но спустя время с некоторым удивлением понял, что бульвар все никак не заканчивается. Когда наконец в девять вечера он добрался до своей цели, площадь была пуста. Куда подевались моряки с проститутками из романа Речи? Дэвид выпил пива в пустом баре, а потом проделал тридцать километров обратного пути, на этот раз уже болезненно ощущая, как напрягаются его икроножные мышцы. На следующий день в ответ на его вопрос служащий мотеля воскликнул: «Даунтаун Лос-Анджелеса? Но туда же никто не ходит! Ночью там опасно!» Словом, он очень быстро понял то, что ему говорили в Нью-Йорке, когда он решил поехать в Лос-Анджелес: «Вы не водите машину? Вы ничего не сможете делать в Лос-Анджелесе, Дэвид. Поезжайте лучше в Сан-Франциско!»
То, что произошло в следующие два дня, стало теперь его личной легендой. В службе, где выдавали водительские права и куда отвел его утром единственный знакомый в Лос-Анджелесе – скульптор, рекомендованный ему его галеристом в Нью-Йорке, – Дэвид заполнил несколько листков с такими простыми вопросами по теории, что казалось, будто они адресованы пятилетнему ребенку: правила он, таким образом, сдал, ничего не зная. «Возвращайтесь после обеда для экзамена по вождению», – сказали ему, тогда как он в жизни не сидел за рулем. Скульптор помог ему потренироваться несколько часов за рулем своего пикапа с автоматической коробкой передач. Все прошло гладко. Несмотря на несколько ошибок, в тот же день Дэвид получил права. На следующее утро он купил себе подержанный «Форд-Фалькон». И все это за два дня – на четвертый день пребывания в Лос-Анджелесе. Это было невероятно, и именно так он и представлял себе этот город.
Проезжая на своей новой машине по бескрайнему мегаполису, он увидел автостраду, возвышавшуюся над головами подобно величественной руине с картины Пиранези, и воскликнул в восторге: «Лос-Анджелес достоин собственного Пиранези: это буду я!» Неделю спустя он жил в снятой им в квартале Венеция однокомнатной студии – она служила ему также мастерской – и пробовал себя в живописи акриловыми красками, которые были здесь превосходного качества и сохли гораздо быстрее масляных. Он встречался с местными художниками на вернисажах галерей – все они находились на одной улице, – свел знакомство с Ником Уайлдером, юным выпускником Стэнфорда, который станет его первым галеристом в Калифорнии, и с Кристофером Ишервудом, английским писателем-гомосексуалистом, чьи книги он обожал, и ходил по барам, где мог знакомиться с парнями.
Действительность редко оправдывала ожидания, которые строило воображение. В 1963 году, когда во время путешествия в Египет, оплаченного Sunday Times, он приехал в Александрию, то увидел скучный провинциальный городок, а вовсе не тот чудесный, богемный и космополитический город, возникавший в его сознании при чтении стихов Кавафиса. Но Лос-Анджелес оказался точно таким, каким он видел его в мечтах: он сразу же влюбился в этот огромный мегаполис, сочетающий в себе американскую энергию и южный горячий нрав. Его восхищало все: восьмиполосные автострады, необъятность пространств, свет, океан, бескрайние пляжи, яркие краски буйно цветущей под солнцем зелени, белые виллы с плоскими крышами, стеклянные небоскребы, геометрические линии, дома звезд, выполненные в различных псевдостилях, союз природы с самой прогрессивной современностью. И еще легкость, с которой здесь могло все делаться: здесь не было социальных слоев, не было ярлыков, традиций, сложностей, элитарности. Все равны и свободны, а бары открыты до двух часов ночи – идеальное время, если на следующий день нужно быть в рабочей форме. Удовольствие без чувства вины, голубое небо, жара и море. И бассейны со сверкающей на солнце водой. Он увидел их еще в небе, когда впервые подлетал к Лос-Анджелесу на самолете: мириады голубых кружочков, усеивающих землю. Бассейн здесь не признак роскоши – это просто то, куда окунаются, чтобы освежиться, а заодно и прекрасное место для флирта.
Вот уже два с половиной года он попеременно жил то в Англии, то в Соединенных Штатах; ему нравилась эта двойная жизнь между Старым и Новым Светом. Проведя год в Лос-Анджелесе, он вернулся в Лондон, чтобы устроить несколько выставок. Потом лето 1965-го он провел в Боулдере, осень того же года – в Лос-Анджелесе, зиму и весну 1966-го – в Лондоне (с отъездом в Бейрут, где искал вдохновения для серии гравюр к изданию нового перевода стихов Кавафиса). Сейчас он вновь направлялся в Лос-Анджелес, где должен был провести все лето, а может, еще и осень, если надумает. В его жизни, с одной стороны, были Лондон и Брэдфорд, семья, старые друзья, его первый галерист, а с другой – Лос-Анджелес, легкодоступный секс, наркотики, богатые коллекционеры, и между ними – Нью-Йорк, где он бывал при любой возможности, чтобы повидать Генри и походить по выставкам.
За три года он совершил только одну ошибку. В прошлом декабре, незадолго до возвращения в Лондон, в одном из баров квартала Венеция он познакомился с парнем. Спустя несколько дней, проведенных вместе, он уже не мог представить себя без него. «А что, если ты поедешь со мной?» Боб никогда прежде не уезжал из Лос-Анджелеса; Дэвиду даже пришлось отложить отъезд, чтобы подождать, пока он сделает себе паспорт. Они проехали на машине через все Штаты в компании одного английского приятеля Дэвида, который не уставал повторять тому, что он чокнутый. Нью-Йорк Бобу не понравился: он был мрачным, шумным и грязным; еще там воняло. «В Европе совсем по-другому, – сказал Дэвид. – Вот увидишь». Но Боба не впечатлили ни путешествие на трансатлантическом лайнере Queen Mary в каютах класса люкс, заказанных Дэвидом, ни поистине королевский прием, который им устроили близкие друзья Дэвида на вокзале Ватерлоо, ни сам Лондон. Все было для него старомодным. «Старомодный» – других эпитетов просто не существовало. Бобу нужно было лишь накачиваться наркотиками и целоваться. Однажды вечером они оказались в одном баре с Ринго Старром, и, когда Дэвид сказал ему, что за знаменитость сидит с ними рядом, Боб даже и бровью не повел: «Ну, “Битлы” же живут в Лондоне, разве нет?» Как будто, если «Битлз» живут в Лондоне, их можно запросто встретить на любом углу – их или королеву – за то короткое время, что они здесь были! Дэвид был вынужден признать, что никогда еще не встречал настолько тупого человека, и хоть он и находил его невероятно красивым, уже через неделю «Принцесса Боб» стал ему невыносим. Он отправил его в Лос-Анджелес первым же самолетом и поклялся себе, что больше никогда с ним не увидится. То, что он принимал за любовь, было всего лишь сексуальным влечением.
Он уже был в Калифорнии и направлялся в сторону Лос-Анджелеса. Наступала ночь. Он приедет совсем поздно, но наверняка найдется кто-нибудь, кто пустит его на ночлег и выделит матрас на полу. Поскольку от студии в квартале Венеция он давно отказался, Дэвид рассчитывал провести лето у своего приятеля Ника – человека крайне непрактичного, жившего в маленькой съемной квартирке почти без мебели, но очень гостеприимного. Прямо с утра, едва проснувшись, он будет плавать в бассейне у дома.
Он был очень возбужден, когда в понедельник утром вошел в класс, все еще во власти восхитительных видений, сопровождавших его в путешествии. Но где же были загорелые блондины-серфингисты? Перед ним находилась полная аудитория учеников лет под тридцать, если не под сорок, – обеспеченных домохозяек, которым, должно быть, прискучило сидеть дома после того, как их выросшие дети покинули родное гнездо, или будущих преподавателей рисования, которые ну абсолютно не были похожи на моделей Physique Pictorial. Они с любопытством разглядывали Дэвида. Платиновый блондин в огромных очках в черной оправе, в костюме томатно-красного цвета, в разных носках, в галстуке в зелено-белый горох и в подобранной в тон шляпе – он сильно отличался от всех прочих преподавателей. Дэвид вздохнул, размышляя о перспективе на ближайшие несколько месяцев.
Он начал представляться студентам, когда дверь вдруг открылась, и вошел молодой человек.
– Извините, пожалуйста, это курс А200? – неуверенно спросил он.
– Это курс углубленного изучения живописи, – ответил Дэвид, который не знал номера своего курса.
– Простите. Я ошибся.
Сделав несколько быстрых шагов, Дэвид встал между ним и дверью.
– Почему бы вам не попробовать? Это не трудно.
Студент робко смотрел на него. Он был очень юн, совсем еще подросток. У него были светло-карие глаза, длинные ресницы, вьющиеся каштановые волосы, бархатистые щеки, чувственные губы и нос в веснушках.
– Я приехал из Англии, – настаивал Дэвид, – и вы увидите, что я очень хороший преподаватель. Я даже получил золотую медаль Королевского колледжа в Лондоне! – добавил он с улыбкой, как бы подшучивая над собой.
Это был не слишком изящный способ саморекламы, но он заметил, что медали производили впечатление на американцев. Он хотел, чтобы студент остался.
– Раз уж вы вошли сюда, доверьтесь случаю!
Казалось, этот последний аргумент заставил молодого человека решиться.
Часом позже Дэвид затрепетал от радости, когда увидел рисунок, сделанный новым учеником. Он был не только образчиком совершенной красоты – у него был талант.
– У вас хороший уровень. Вы можете спокойно оставаться.
– Я еще не прошел предметы, необходимые для того, чтобы записаться на углубленный курс живописи, – ответил юноша робким голосом.
– Не беспокойтесь. Я сам займусь этим.
Пусть только попробуют сказать, что какие-то формальные препятствия могут встать между ним и Питером.
Потому что его звали Питер – как того друга, в которого Дэвид был платонически влюблен в Королевском колледже. Конечно, Питер – распространенное имя, но он увидел в этом знак судьбы, своего рода реванш.
Питер снова пришел на следующее занятие. Он записался на курс. В конце занятия, когда он собирал свои вещи, не торопясь, будто угадывая мысли Дэвида, тот даже не стал дожидаться, пока из аудитории выйдет последний студент, чтобы предложить ему:
– Выпьем кофе?
Вскоре для него стало обычным делом обедать вместе с Питером после занятий, которые летом проводились ежедневно, ходить с ним на прогулки вдоль пляжа Санта-Моника, после обеда плавать в бассейне у дома, где жил Ник, ужинать у него же пиццей или курицей гриль, с головой уходя в жаркие интеллектуальные споры о современном искусстве. Питер робел и в споры не вмешивался – только слушал. Каждый день он ездил в город и обратно на автобусе: парень жил с родителями и двумя братьями в долине Сан-Фернандо. Ему было восемнадцать лет, он происходил из дружной еврейской семьи и вырос в благополучном пригороде. Его отец был страховым агентом, а мать занималась воспитанием троих сыновей. Он поступил в Калифорнийский университет в Санта-Крузе, но жалел о своем выборе, так как там не было курсов по искусству – вот почему во время летних каникул он посещал курсы в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.
В течение лета их отношения превратились в нечто большее, чем простая дружба. Это было полное доверие: почти отеческая нежность двадцатидевятилетнего по отношению к восемнадцатилетнему и безоговорочное восхищение младшего старшим; забота друг о друге; постоянное желание встречи; грусть, когда наступал час расставаться, а они не заметили, как прошло время; и все более непреодолимое желание прикосновений – желание дотронуться друг до друга. И вот лето подходило к концу. В скором времени Питеру придется возвращаться в Санта-Круз, где он должен был идти на второй курс. Санта-Круз находился в шести часах езды на машине от Лос-Анджелеса, если не было больших пробок, и почти в восьми часах – на автобусе. И что они будут делать? Этот вопрос молчаливо висел между ними в воздухе, но вслух не обсуждался.
В выходные перед Днем труда[17] родители Питера вместе с его братьями уехали в Санта-Фе; Питер получил разрешение остаться дома один. Он пригласил к себе Дэвида, взволнованного тем, что он своими глазами увидит его дом, его комнату, постеры и рисунки, детские фотографии – светленького, очаровательного малыша. Они провели весь день у бассейна. Дэвид написал со спины Питера в плавках, растянувшегося в шезлонге. Кто из них сделал первый шаг? Питер выразил огорчение от мысли о скором расставании, Дэвид сел рядом с ним и положил ему руку на плечо, нагретое солнцем? Или это Питер взял его руку, накрыл ею свое лицо и поцеловал ее? Кто первым произнес: «Я люблю тебя»? Питер был девственником – это был скромный, послушный мальчик, знавший о сексе еще меньше, чем Дэвид в то время, когда жил в Брэдфорде. Дэвид лишил его невинности, но Питер ни о чем другом и не мечтал: его тело трепетало от желания. С обеих сторон акт любви был безраздельным даром себя другому, нежным, благодарным и радостным соединением.
Выходные закончились. Дэвид пообещал навещать его каждую неделю. Шесть часов пути – это пустяк, когда едешь на встречу с любимым. В Санта-Крузе он снял комнату в «Дрим-Инн» – «гостинице мечты», которая никогда еще настолько не оправдывала своего названия и которую они не покидали в течение всех выходных. Когда они не спали и не занимались любовью, Дэвид рисовал Питера: его плечи – покатые, все еще немного детские, но уже широкие и мускулистые, плечи пловца; его тонкую, почти женскую талию; его покрытый веснушками нос; невероятно чувственный рот с пухлой верхней губой; даже его зубы – прекрасные американские зубы, начищенные утром и вечером пастой «Колгейт», ровные и здоровые; пряди волос, спадающие на лоб; тонкие, почти рыжие волоски в подмышечных впадинах, куда Дэвид без конца утыкался носом; его член; его нежные и упругие белые ягодицы. Каждое новое расставание вечером воскресенья становилось душераздирающей разлукой. В Санта-Крузе Питер ничем особенным не занимался. Почему бы ему не продолжить обучение в Лос-Анджелесе? Это создавало ряд проблем административного характера, но Дэвид, друживший с одним преподавателем живописи, близко знакомым с деканом факультета искусств, взялся их уладить. Когда Питер узнал, что со второго семестра его переводят в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, он запрыгал от радости по гостиничному номеру.
Дэвид вспоминал о концепции любви с точки зрения Аристофана, вычитанной им когда-то в одном из диалогов Платона[18]. У него было впечатление, что он нашел свою половину. Их с Питером тела и души идеально подходили друг другу. Питер был умным, чувствительным, деликатным, у него было чувство юмора, и он был так красив! И он любил Дэвида – его ум, его чудачества, его акцент, который он считал утонченным, его доброжелательность, манеру рисовать и писать красками, энергию, лицо, улыбку, крепкое тело жителя сельской Англии, мускулистые плечи, руки.
Впервые Дэвид был страстно влюблен в человека, который отвечал взаимностью, и впервые он рисовал настоящую жизнь – не абстрактную идею и не предмет, описанный в книге. Он рисовал Ника в его бассейне и Питера, выходящего из бассейна Ника. Он рисовал воду. Колебание воды, ее прозрачность, блеск, стилизованно изображаемый им в виде волнистых линий, фонтан брызг, появляющийся в момент, когда кто-то ныряет, – единственный след тела, исчезнувшего с поверхности воды. Как можно изобразить что-то, что являлось чистым движением и длилось лишь короткое мгновение, как и оргазм? Он вооружился тонкими кистями и потратил пятнадцать дней полнейшей концентрации, чтобы передать все мельчайшие линии водяных брызг. Две недели он потратил на изображение того, что длилось две секунды.
На Рождество он взял Питера с собой в Лондон. Конечно, он побаивался, вспоминая о неудачном опыте прошлого года. Но Питер не имел ничего общего с Бобом. Он просто влюбился в Лондон. Ему нравилось все, что было «старомодным»; он находил безумное удовольствие в том, чтобы копаться в старинных вещах, продававшихся на Портобелло-роуд[19] – антикварном рынке неподалеку от улицы Поуис Террас в Ноттинг-Хилле, где жил Дэвид. Он познакомился с его друзьями, которые нашли его очаровательным. «Дэвид и Питер»: имя одного все чаще ассоциировалось с именем другого. Они стали парой.
Вернувшись в Лос-Анджелес и решив, что квартира Ника не слишком располагает к интимности, они переехали вдвоем на бульвар Пико[20], где Дэвид с осени снимал мастерскую. Родителям Питер сказал, что поселился вместе с другими студентами университета. Когда его отец узнал правду, Питеру пришлось выдержать все: и сцены, и крики, и слезы матери, о которых он рассказывал Дэвиду, разрываясь между смехом и сочувствием. Его родители потребовали, чтобы он прошел курс лечения у психиатра. Он уступил из уважения к ним, хотя не видел, каким образом визиты к врачу смогут сделать его «нормальным». Питер и Дэвид испытывали от долгожданной совместной жизни такое всепоглощающее счастье, что его не могли нарушить ни противостояние семьи, ни отсутствие комфорта в их жилище. Квартира была очень маленькой и находилась в старом деревянном бараке в самом центре бедного квартала Лос-Анджелеса; когда они зажигали свет, во все стороны разбегались тараканы. Но для них это был райский уголок, давший приют их любви. Питер все дни проводил в университете, а Дэвид был дома и рисовал. По вечерам они выходили: отправлялись в кино, шли перекусить в мексиканский ресторан на углу или в японский, где Дэвид украдкой подсовывал Питеру чашечку саке, ужинали у Ника или у их друзей Кристофера и Дона. Согласно закону, Питер по возрасту еще не имел права пить алкоголь, а Дэвид больше не испытывал необходимости ходить по барам. Они пили белое калифорнийское вино – единственное, что было в их холодильнике.
Как-то, листая журнал, Дэвид наткнулся на рекламу универмагов «Мэйсис», где была изображена комната, и ему понравились ее резкие очертания: она казалась скульптурой. Так родилась идея картины: композиции, вдруг возникшей у него в голове совершенно случайно и неожиданно для него самого, как внезапное видение какой-то реальности или какого-то образа. На переднем плане была кровать под покрывалом, образующим острые складки. Он решил расположить на ней Питера, лежащего вниз животом, в футболке и носках, но без трусов, – и написал его по фотографиям, уделяя особое внимание теням, которые создавал льющийся из окна свет. Сначала он назвал свое полотно «Комната, Энсино», но потом поменял название на «Комната в Тарзане» – по имени близлежащего городка[21], – уступив просьбе Питера, чья семья жила в Энсино: он боялся, что кто-нибудь может его узнать. «Узнать твои ягодицы?» – спросил Дэвид со смехом, так как черты лица Питера различались с трудом, а вот его ягодицы занимали собой весь центр полотна.
Весной он получил в Англии важную награду, которой отмечались художники-авангардисты: премию Джона Мура Художественной галереи Уокера в Ливерпуле, присужденную его картине «Питер выбирается из бассейна Ника». На ней он изобразил, как Питер стоит в бассейне спиной к зрителю; он обнажен, вода доходит ему до середины бедер. Отказавшись от абстрактной живописи и отойдя от общего течения, чтобы делать то, что хочется ему самому, он только выиграл. Казалось, строгие английские критики решили воздать почести их с Питером любви и Калифорнии. Половину причитавшихся ему в качестве вознаграждения за премию денег он отдал родителям, чтобы они смогли поехать повидаться с его братом, обосновавшимся в Австралии, а на оставшуюся сумму купил подержанный «Моррис-Майнор» с откидывающимся верхом, на котором он увез на лето Питера, вместе с одним своим товарищем по Королевскому колледжу, во Францию и в Италию. Питер сидел спереди, рядом с ним, а Патрик старался уместить свои длинные ноги сзади. Все вокруг приводило Питера в восторг: обрывистые дороги, пейзажи, холмы Тосканы и кипарисы, деревушки, Средиземное море, музеи, вино и еда, древности по сходной цене, сделавшие из него страстного коллекционера. Его энтузиазм восхищал Дэвида.
Они посетили Рим, провели неделю на пляже в Виареджо, а потом доехали до Кареннака – деревушки на юго-западе Франции, где Кас, его лондонский галерист, арендовал замок на берегу реки Дордонь. Он поселил Дэвида и Питера в великолепной комнате, уставленной старинной мебелью, с королевской кроватью. Патрик писал акварели, Питер делал снимки на навороченный фотоаппарат, который его тетя-стюардесса привезла ему из Японии, а Дэвид рисовал. Большего счастья нельзя было себе и представить. У него было все, что было для него важно: любовь, секс, дружба, хорошее вино и работа. В сентябре Питер улетел в Лос-Анджелес, потому что он, дорогой малыш, должен был успеть к занятиям в университете, а Дэвид вернулся в Лондон, «на зимние квартиры», чтобы подготовить выставку, которая должна была открыться в январе в галерее Касмина. В мастерской на Манчестер-стрит он написал большой портрет Патрика, закончив его как раз к вернисажу 19 января. По-прежнему не принимая себя всерьез, он придумал для выставки шутливое название: «Брызги, лужайка, две комнаты, два пятна, несколько подушек и раскрашенный стол» – то есть просто фактическое описание картин, которые он выставлял. Критики обожали его бассейны, современность его строгих геометрических форм, выполненных прямыми линиями, и свет, пронизывающий его работы: он поистине стал художником-певцом Калифорнии. Разумеется, этот успех радовал его, но значил так мало по сравнению с его почти физической болью из-за отсутствия любимого, что при первой же возможности он уехал в Нью-Йорк, где к нему присоединился Питер, которого он убедил прогулять занятия. Впервые они вдвоем колесили по Штатам с запада на восток на машине. Когда пять дней спустя они добрались до Лос-Анджелеса, Дэвид почувствовал, как его грудь наполняется соленым ветром Тихого океана: наконец он был дома.
Они переехали в новую квартиру, гораздо более приятную, чем жалкая студия на бульваре Пико: она была на последнем этаже, с окнами на море, и находилась рядом с домом, где Питер с осени снимал комнату. Теперь эту же комнату снял Дэвид, чтобы использовать под мастерскую. В пяти минутах ходьбы от них, в очаровательном доме в испанском стиле, жили его лучшие друзья Кристофер и Дон. По утрам, выходя на балкон, окутанный поднимающимся с моря туманом, они воображали, что стоят на палубе Queen Mary посреди Атлантического океана. У него возникла идея написать большой портрет Кристофера и Дона. Жанр портрета был не в моде: несомненно, его сочтут ретроградом. Но ему так захотелось – это и была свобода: не позволять себе ограничиваться какой-то одной идеей, идти наперекор ожиданиям других, своим привычкам и образу мыслей. Он не забыл отличный совет своего приятеля по Королевскому колледжу Рона Китая, с которым они часто виделись, так как Рон проводил семестр в Университете Беркли и приезжал навестить его в Лос-Анджелесе: «Тебе надо писать то, что важно самому».
Кристофер Ишервуд, писатель и сценарист, очень много значил для него. В Лос-Анджелесе это был его самый близкий друг, хотя Кристофер, родившийся в 1904 году, был гораздо старше него. Как и Дэвид, он был родом из Северной Англии (правда, выше по социальному происхождению) и выбрал местом жительства Калифорнию ровно по тем же причинам, что и Дэвид: он любил солнце и красивых парней и не переносил предрассудки, принятые у него на родине. Его спутнику жизни Дону – художнику одного с Дэвидом возраста – не было и восемнадцати лет, когда Кристофер в 1954 году встретил его на пляже в Санта-Монике. Дэвид был впечатлен их значительной разницей в возрасте и очарован историей их любви. Они были первой парой геев, состоявших в длительных отношениях, которая ему встретилась. Он желал себе только одного: состариться однажды с Питером так же, как Кристофер с Доном. Он не столько напишет их портрет, сколько изобразит свою мечту.
Несколько недель он рисовал, прорабатывая их лица. Они позировали в мастерской Дэвида, и всякий раз, когда он просил их расслабиться и забыть о его присутствии, Кристофер садился нога на ногу, положив ступню левой ноги на правое колено, и устремлял взгляд на Дона, а Дон в это время смотрел на Дэвида: так композиция картины родилась сама собой. После того как Дон на какое-то время уехал в Лондон, Дэвид продолжил писать одного Кристофера и виделся с ним каждый день. Кристофер рассказывал ему о событиях своей жизни или, вернее, своих жизней, так как их у него было несколько. Отказавшись от учебы в Кембридже, в двадцать лет он покинул Англию и жил в Берлине во времена Веймарской республики: там его страсть к одному немцу стала источником вдохновения для самого известного его романа «Прощай, Берлин». В 1939 году он эмигрировал в Соединенные Штаты вместе со своим другом, поэтом У. Х. Оденом, затем был то буддистом, то квакером, пока на пляже в Санта-Монике не встретил Дона и не обосновался в Калифорнии.
Дэвид не знал никого более свободного, чем Кристофер. Но однажды он увидел его подавленным: в этот день Дон сообщил, что откладывает свое возвращение из Лондона. Несмотря на то что он боялся потерять своего юного любовника, у которого была связь с другим мужчиной, Дэвиду он сказал лишь: «Не будь слишком большим собственником по отношению к своим друзьям, Дэвид. Предоставь им свободу». Дэвид был преисполнен сочувствия, но не видел, какое отношение это имеет к нему. Они с Питером испытывали только одно желание: быть вместе.
Портрет получился интимный и монументальный. На переднем плане стоял низкий столик, на котором Дэвид разместил несколько предметов: стопки книг, вазу с яблоками и бананами, составлявшими единственное теплое пятно на холсте, где царил голубой цвет, и сухой кукурузный початок, чья символическая форма казалась красноречивым намеком. Верхнюю часть полотна занимало большое окно, давая ощущение пространства, и Дэвид написал его закрытые внутренние ставни тем же бирюзово-голубым цветом, как и бассейнов, океана, калифорнийского неба. Во времена Королевского колледжа, когда Дэвид еще не видел Калифорнию, он выполнил небольшую живописную работу с изображением бегущего человека и голубого пятна в верхней части картины, которую он так и озаглавил: «Человек, бегущий навстречу голубому». И действительно, голубой – особенно насыщенный, яркий и глубокий, цвет Вермеера – был цветом, к которому хотелось бежать навстречу, как к морю. Геометрические линии стола, окна и больших плетеных кресел с резко очерченными углами, в которых сидели Кристофер и Дон, контрастировали с мягкостью человеческих фигур, занимавших, по сути, лишь малую часть пространства. Это был одновременно и натюрморт, и портрет, классическая и очень современная картина, раскрывающая зрителю заботливость Кристофера по отношению к Дону и глубину их связи.
Счастье было возможно. Дэвид испытывал его, просыпаясь рядом с любимым по утрам, устраиваясь перед мольбертом, чувствуя запах эвкалиптов после дождя, наполняя легкие ароматом жасмина и соленым ветром Тихого океана, встречая Питера вечером перед ужином. Счастье, вопреки тому, что утверждали романтики, не было несовместимо с творчеством, а творчество необязательно рождалось от недостатка, но также и от избытка. Решение переехать в Лос-Анджелес, принятое им пять лет назад, в те времена, когда он не водил машину, – абсурдное, с точки зрения его нью-йоркских друзей, – было лучшим поступком в его жизни.
Питер сильно скучал по Европе, в которую он просто влюбился в то лето, которое они провели в Англии, Франции и Италии. Он говорил, что родился не в том месте и не в то время. Ни на что не надеясь, он решился подать документы в Королевский колледж и в Слейд и попросил у Дэвида рекомендательное письмо. Когда ему отказали в Королевском колледже, Дэвид, который ожидал этого: в колледж принимали не более пяти-шести учеников в год, – был наготове, чтобы его утешить. Он даже взял на себя ответственность за это поражение: учитывая его скандальную репутацию, сказал он, письмо оказало Питеру медвежью услугу. Несколько дней спустя пришло еще одно письмо, на этот раз из Слейда. Питер пожал плечами и распечатал его, уже без особых ожиданий, и вытаращил глаза от удивления: его приняли.
Впервые их желания вступали в противоречие; они обнаружили друг в друге волю, которую нельзя было укротить любовью. Дэвид не имел ни малейшей охоты уезжать из Лос-Анджелеса и уж тем более возвращаться в Англию – страну ходячих мертвецов, где всем заправляет элита, где нет ни равенства, ни демократии и где нельзя заказать бокал вина после одиннадцати часов вечера, если только не платишь безумные деньги, чтобы быть членом какого-нибудь клуба. Раз уж они нашли на этой планете место, где были счастливы, зачем испытывать судьбу где-то еще? И что нового может узнать настоящий художник в художественной школе? Питер знал основы рисунка, у него был талант – ничего больше ему не требовалось. Они яростно и подолгу спорили, каждый оставаясь при своем мнении. Конечно, говорил Питер, художниками становятся не в учебных заведениях, но учеба помогает художникам в их карьере – и даже в их личной жизни! Разве не благодаря золотой медали Королевского колледжа они встретились? И диплом, который так мало значил для Дэвида, разве не служил ему визитной карточкой, когда он только начинал карьеру? Разве Касмин не нашел его в Королевском колледже? Учиться в Лондоне, в такой знаменитой школе, как Слейд, было уникальным шансом: разве Дэвид мог лишить этого шанса человека, о котором он говорил, что любит его? Они уедут только на время его учебы, на три-четыре года. И если в Англии они не будут счастливы, им достаточно будет всего лишь еще раз пересечь океан, чтобы снова оказаться в своем раю. Please, David, please. Его аргументы подкреплялись нежными и очень убедительными ласками. Дэвид уступил.
Его страхи оказались напрасны: их жизнь в Лондоне мало отличалась от той, что они вели в Калифорнии. Они обосновались в маленькой квартирке на улице Поуис Террас, откуда Питер мог добраться до Слейда на метро за двадцать минут. Дэвид работал дома и к концу дня с нетерпением ждал любимого, возвращавшегося с занятий или из своей мастерской. Поначалу Питера ждало огорчение: он узнал, что ученики-иностранцы не имели права претендовать на место в мастерской для самостоятельной работы в Слейде. Но Дэвид нашел для него комнату у своей подруги Энн, которая недавно развелась с мужем. Энн тоже была художницей и, кроме того, матерью очаровательного двухлетнего малыша с поэтическим именем Байрон – он родился как раз в то лето, когда Питер и Дэвид встретились, – и ей нужна была прибавка к доходам. Энн жила на Колвилл-сквер, в пяти минутах ходьбы от них, – и, кстати, именно ее бывший муж, старый товарищ Дэвида по Королевскому колледжу, убедил его поселиться в Ноттинг-Хилле. Удобнее места для мастерской нельзя было и представить.
Конечно, небо в Лондоне более серое, чем в Лос-Анджелесе, зато культурная жизнь – богаче, и у Дэвида здесь было больше друзей. Куда только их ни приглашали. Они посещали премьеры оперных и драматических спектаклей, кинофильмов, ходили – вместе с Селией и Мо – на дефиле, которые устраивал их приятель, модельер Осси Кларк. Бывали на вернисажах у Касмина и в других галереях. Ужинали в модном ресторане Одина, владельцем которого был один из их друзей. По выходным отправлялись с визитами к аристократам или знаменитым артистам – обладателям замков в английской провинции, утопавших среди садов. Питер был в восторге и без конца фотографировал. А Дэвид смотрел на свою родину глазами молодого американца и учился любить ее заново. По воскресеньям они устраивали чай с мини-сэндвичами и пирожными, напоминавшими ему детство. Эти чаепития вскоре стали так популярны, что у них вечно не хватало чашек для всех желающих. В их отношениях никогда не царило столь полной гармонии. Питер почти каждый день благодарил Дэвида за то, что он открыл для него доступ в этот мир – несравненно более изысканный и утонченный, чем его родная Калифорния. Он влился в ритм лондонской жизни, как если бы жил тут с рождения. Миловидный и юный, он представлял собой лакомый кусочек среди окружавших его людей старшего возраста. Удобных случаев хватало, да и друзья не всегда соблюдали лояльность (тот же Генри, в Лос-Анджелесе, разве не набросился однажды, как коршун, на Питера, оказавшись с ним наедине в их студии на бульваре Пико, в самом начале их отношений? Дэвид долго хохотал, когда Питер – шокированный, будто стыдливая девственница, – рассказал ему об этом происшествии). Однако никакого риска не было: в Лондоне, как и в Лос-Анджелесе, они смотрели лишь друг на друга.
Наступило лето. Они снова поехали в Дордонь к Касу, а потом отправились в гости к другу Дэвида Тони Ричардсону, английскому кинорежиссеру и сценаристу, чья жизнь проходила то в Лондоне, то в Лос-Анджелесе. Не так давно Тони обустроил целую деревушку в горах над Сен-Тропе, приспособив ее для отдыха и охотно принимая там всех близких – и не очень – друзей. Он был так гостеприимен, что его не нужно было даже предупреждать о приезде: к нему заявлялись когда вздумается и занимали один из домиков; жили у него общиной, проводя все вместе восхитительные дни у бассейна, на вершине цветущего холма, откуда открывался вид на море. Дэвид и Питер встретили там своих лос-анджелесских друзей: как будто кусочек Калифорнии переместился в Европу. Когда наступила осень, они стали проводить выходные в Париже и разъезжали по всей Франции, останавливаясь каждый раз в самых лучших отелях. Было так просто доехать в пятницу вечером до побережья, погрузиться вместе с машиной на паром, а в субботу утром проснуться уже на севере Франции. Континентальная Европа чуть ли не за порогом, во всей своей красоте и разнообразии, – вот чего у них в Калифорнии не было, это Дэвид должен был признать. Особенно им полюбился термальный курорт Виши: дворец – элегантный, как в романах Пруста, – павильон Севинье. Было чудесно находиться там вдвоем, наслаждаться массажем, проводить расслабленные вечера и восхитительные ночи.
Питер приносил ему удачу. Их второй год в Лондоне был очень профессионально насыщенным для Дэвида, и в галерее Уайтчепел, в восточной части Лондона, готовилась ретроспективная выставка его работ. Он шел по следам своих великих предшественников: именно в этой галерее в 1938 году выставлялась «Герника» Пикассо – акт протеста против гражданской войны в Испании, – а в 1961 году, когда он был еще студентом Королевского колледжа, проходила первая английская выставка Марка Ротко; в 1964 году здесь же была устроена выставка «Новое поколение». Эта экспозиция охватывала всю его работу за последние десять лет: рисунки, гравюры, картины, созданные в Калифорнии, большие портреты. Он написал еще один двойной портрет, на этот раз Генри с его милым дружком, съездив в Нью-Йорк, чтобы сделать предварительные наброски и фотографии. В эту поездку ему представился случай испытать на себе ограничения американской жизни: он заболел, у него сильно подскочила температура, и, к своему изумлению, он обнаружил, что в этой столь демократической и щедрой стране просто-напросто невозможно вызвать врача, если вы заранее не побеспокоились его найти, и единственный выход – несколько часов стоять в одной очереди с нищими и бездомными в приемном отделении больницы.
Новый портрет сильно отличался от портрета Кристофера и Дона и был выполнен преимущественно в зеленых и розовых тонах. Генри сидел нога на ногу, посередине обитого розовым бархатом дивана в стиле модерн, спиной к окну с видом на небоскребы Манхэттена и лицом к зрителю, занимая центральную часть полотна. В стеклах его очков играли блики света. Одна нога, обутая в начищенный до блеска ботинок, виднелась через стеклянную поверхность столика, другая покоилась на другом колене. Его друг стоял в стороне, изображенный в профиль, в бежевом плаще: у него был такой вид, будто он пришел передать срочное сообщение или спешит уйти. «Он похож на ангела из сцены Благовещения», – сказал ему один из друзей, и Дэвид засмеялся, потому что Генри не имел ничего общего с Девой Марией. Портрет не льстил Генри, но все в нем указывало на исходящую от него силу: большой живот, подчеркиваемый складками серого жилета, красный галстук, полуоткрытый рот, рука, сжатая в кулак, полоска кожи, виднеющаяся между носком и краем брюк. Это снова была картина, передающая отношения между персонажами, но – в отличие от портрета Кристофера и Дона – чувствовалось, что эти отношения не продлятся долго. Сразу же после этого Дэвид написал еще одну работу большого формата, где Питер и Осси, изображенные со спины, сидели на железных стульях, а рядом стоял еще один, пустой, стул (на котором сидел Дэвид, вставший с него, чтобы запечатлеть эту композицию, и таким образом его присутствие на картине передавалось отсутствием). Сцена разворачивалась среди зелени парка Источников в Виши, с перспективой деревьев, подстриженных на французский манер.
В этот день, 2 апреля, когда они вместе с Питером пришли на вернисаж в галерею Уайтчепел, Дэвид чувствовал волнение, нервы его были взвинчены. Сюда собирался весь Лондон. Впервые за десять лет он снова увидит произведения, написанные и проданные им еще в юности. Во времена учебы в Королевском колледже он еще искал себя и его работа носила отпечаток влияния французских, итальянских и американских художников – классических или современных, фигуративных или абстрактных, – особенно Дюбюффе и Фрэнсиса Бэкона. Но даже в то время их стиль впитался в его собственный, в котором четко угадывались его рука, формы, театральность, его вкус к игре, цвета, пространственные решения, уже предвещавшие его огромные двойные портреты.
Первая ретроспективная выставка состоялась в возрасте тридцати двух лет. Он становился знаменитым художником, хоть ему и не нравилось думать о себе в подобных выражениях. Его родители слышали интервью с ним в передачах на Би-би-си, видели его фотографии в газетах, люди расспрашивали их о знаменитом сыне, а Брэдфордская художественная галерея купила несколько его офортов[22]. Просьб дать интервью становилось все больше, приглашения так и сыпались, к тому же его стали узнавать на улицах. Картины продавались как горячие пирожки, особенно двойные портреты: полные света, современные и вместе с тем классические. Кас давил на него, чтобы он быстрее писал новые, так как их ждали коллекционеры. Дэвид не любил работать под давлением, но было приятно чувствовать себя востребованным.
По сравнению с бурным водоворотом событий, захлестнувшим его в этот период, их с Питером уютная совместная жизнь казалась иногда слишком пресной. Они сохраняли друг другу верность уже почти четыре года. Влечение постепенно ослабевало. Разве не пишут во всех книжках – взять хотя бы «Тристана и Изольду», историю которых он знал наизусть благодаря опере Вагнера, – что страсть длится три года? Теперь случалось, что Питер отказывался заниматься с ним любовью или даже не позволял Дэвиду просто его целовать. Он упрекал своего друга, что тот не воспринимает его всерьез как художника. Дэвид пожимал плечами. Питер учился в Слейде, ему было двадцать два года: до серьезного художника было еще далеко. После ретроспективной выставки Питер жаловался, что на картинах Дэвида он выглядит исключительно как сексуальный объект: разве не так писали в газетах и думали их друзья? Дэвид закатывал глаза и не считал нужным отвечать.
Они поругались накануне Пасхи, когда он собирался на вокзал, чтобы уехать в Брэдфорд; без Питера, потому что Пасха, как и Рождество, – сугубо семейный праздник.
– Ты стесняешься меня? – с вызовом спросил Питер.
– Не начинай.
– Ты настоящий трус. Вот я не побоялся скандала с моими родителями из-за тебя.
– Дело не в этом, ты же знаешь. Сейчас неподходящий момент.
У них уже были ссоры по этому поводу. Дэвид объяснял ему, что его родители, выросшие в провинции и ходившие каждое воскресенье в методистскую церковь, знали о гомосексуализме лишь то, что Господь пролил дождем серу и огонь на Содом с Гоморрой. Он не хотел, чтобы с его матерью случился удар: ей было почти семьдесят лет и у нее уже хватало беспокойства по поводу неважного здоровья мужа.
– У тебя всегда неподходящий момент! – прокричал Питер, хлопнув дверью.
Когда Дэвид два дня спустя вернулся из Брэдфорда с шоколадным яйцом для Питера, тот все еще дулся.
Им было тесно в их двушке, служившей также и мастерской. Смежная с ними квартира была выставлена на продажу, и Дэвид благодаря хорошему спросу на его работы на ретроспективной выставке смог позволить себе ее купить. Осенью они приступили к ее благоустройству. Питер наблюдал за работами и занимался обстановкой. Это занятие было ему по душе; он чувствовал, что приносит пользу. Какое-то время у них только и разговоров было, что об устройстве их будущего жилья: у них вновь появились общие цели и желания. Потом, в августе, Питер в одиночку уехал в Лос-Анджелес, чтобы повидать родителей. Когда в начале сентября он вернулся, Дэвид ждал его с нетерпением. Но долгожданная встреча после разлуки оказалась неудачной: они почти сразу же снова поссорились. Питер держался натянуто и был раздражен, и, когда Дэвид спросил его, в чем дело, он с очевидной неискренностью объяснил свое дурное настроение сменой часовых поясов. В течение осени Дэвид возил его по Северной и Восточной Европе – в те страны, по которым ездила выставка Уайтчепельской галереи. Дворцы в Карлсбаде и Мариенбаде, выстроенные в старинном духе, были совершенно восхитительны, но Питер досадовал на отсутствие антикварных магазинов; и он злился на друга, будто это была его вина. Дэвид, не знавший уже, как к нему обращаться без того, чтобы не вызвать раздражения, находил его капризы утомительными.
Возможно, Питер, выросший в Калифорнии, был больше не в силах переносить долгую английскую зиму, пасмурное небо, смог над городом и просто соскучился по солнцу? В феврале Дэвид пригласил его поехать в Марокко вместе с Селией, их общей подругой, которую Питер очень любил. Отель «Ла Мамуния» был настоящим оазисом красоты, роскоши и утонченности, а вид на сады и пальмовые рощи, открывавшийся с балкона их комнаты, на котором стоял Питер, – просто великолепным. Дэвид мгновенно оценил композицию. Когда он достал фотоаппарат и альбом для набросков, юноша сделал нетерпеливый жест рукой: «Опять!» Он не желал больше позировать. Ему хотелось выйти из отеля, прогуляться по Марракешу, осмотреть знаменитый рынок Сук, посетить «дворец удовольствий» – риад Талиты и Пола Гетти. «Какой ты еще мальчишка! – воскликнул Дэвид. – Мне все это уже неинтересно». Питер обвинил его в высокомерии и пришел в такую ярость, что Селии, примчавшейся из соседней комнаты, лишь с большим трудом удалось его успокоить.
По общему согласию они решили провести пасхальные каникулы врозь. Им обоим были нужны глоток свежего воздуха, небольшая пауза. Питер решил отправиться в Париж, а Дэвид – в Лос-Анджелес. Здесь он нашел именно то, за чем приехал: возможность совершенно расслабиться в доме одного из друзей Ника, банкира, у которого днями и ночами напролет вокруг бассейна гудел праздник. К услугам гостей были наркотики, красивые парни, легкое удовольствие. После занятий любовью он рисовал мужчин, с которыми ложился в постель; чувствовал себя лучше, но уже скучал по Питеру. В самолете, уносившем его в Лондон, он думал о нем с нежностью и с нетерпением ждал, когда он встретится и помирится с ним.
А Питер и не думал мириться: он нашел себе нового приятеля. Дэвид, который и сам только что отрывался по полной, не имел никакого права жаловаться. Да и Питер был так молод, ему исполнилось всего двадцать три года. Дэвид был его первым любовником: теперь он хотел испытать новые ощущения. Нужно было позволить ему пережить эту интрижку. На память ему пришли слова Кристофера Ишервуда. У мудрого товарища получилось взять себя в руки и справиться с этой болью. В конце концов Дон вернулся из Лондона, и они теперь были счастливы больше прежнего. Дэвид должен найти силы поступить так же, как он.
К счастью, у него имелась работа, этот спасительный плот. Он начал новый двойной портрет, Осси и Селии, которые только что поженились, так как Селия была беременна: работа должна была стать свадебным подарком им. Осси в небрежной позе сидел в кресле современного дизайна, с котом на коленях, в то время как Селия стояла у открытого окна – в длинном темном платье, положив руку на талию, так что ее живот казался еще больше, – а рядом с ней помещался букет белых лилий. Телефон в правой части холста тоже был белым, как балконные перила и кот, – благодаря этому белому цвету вся картина оказалась пронизана нежностью, так свойственной Селии. Дэвиду никак не удавалось написать ступни Осси, и ему пришлось спрятать их в густом ворсе ковра. Его голова тоже не давала ему покоя: он без конца переделывал ее, не удовлетворенный результатом, – возможно, потому, что его не устраивало поведение самого Осси, который все основательнее подсаживался на наркотики, становился все взбалмошнее и дурно обращался с Селией. Едва закончив эту картину, Дэвид тут же взял заказ – это он-то, никогда не бравший заказов, – на портрет директора Ковент-Гардена, который уходил на пенсию. Лучше всего для него было не сидеть без дела. Кроме того, он все чаще думал о новом сюжете: эта идея пришла ему в голову, когда он увидел две фотографии, валявшиеся в его мастерской на полу, одна рядом с другой. На одной был мальчик, плававший в бассейне, на второй – молодой человек, снятый в профиль и смотревший прямо перед собой: казалось, он наблюдает за пловцом. Ему понравилась эта композиция, родившаяся – уже который раз – по воле случая, и он сразу же понял, что именно хочет написать: Питера на месте стоящего молодого человека. Питера, который хотя бы раз будет не тем, кто, привлекая взоры, плавает под водой, а тем, кто стоит, одетый, на бортике бассейна: наблюдателем – не объектом, но субъектом внимания; иными словами – художником.
Дэвид упросил его поехать с ним в июле во Францию. Если они вновь окажутся в Кареннаке, то воспоминания: о счастливых моментах, проведенных в замке с Касом, его женой и их гостями, о реке, где плескалось отражение бледно-желтых каменных стен, об ужинах в чудесной компании под сенью ореховых деревьев, о восхитительном бордо самых лучших сортов, о дивных вечерах – сотрут из памяти все обиды и возродят былую нежность. Питер согласился на поездку, но был не очень-то любезен. Он постоянно раздражался на Дэвида и обращался с ним, даже при людях, крайне пренебрежительно. Не хотел ни позировать, ни заниматься любовью. И уже через неделю настоял на том, чтобы они уехали в Кадакес, город на северо-востоке Испании, куда их пригласил один друг. Дэвиду пришлось уступить. Когда после долгого пути по жаре и извилистым дорогам они прибыли на место, его ждал кошмарный сюрприз: там находился любовник Питера.
Оставалось всего три дня до отъезда Питера в Грецию, где он должен был встретиться со своими родителями, и Дэвид чувствовал необходимость побыть с ним наедине. Он умолял его отказаться от пикника на лодке, на который собиралась вся их компания на следующий день. Питер не видел причин, чтобы лишать себя приятного развлечения ради того, чтобы провести время наедине с Дэвидом, у которого наверняка только одни упреки на уме. В день пикника Дэвид проводил его до пристани, откуда отправлялась лодка; там уже собрались все приглашенные, и среди них – любовник Питера, красавец датчанин, одних с ним лет, высокий и светловолосый. Он смотрел, как Питер перебирается на лодку по мостику.
– Питер, если ты поедешь, все кончено.
Питер даже не оглянулся, и сердце Дэвида бешено заколотилось.
– Ну и иди к черту!
Он проорал это так громко, что все обернулись к нему. Он убежал. Собрал чемодан и тут же уехал: переправился через Пиренеи, остановился на ночь в Перпиньяне и потом гнал до Кареннака с такой скоростью, какую только могли позволить извилистые дороги Дордони.
Когда Дэвид вышел из машины во дворе замка в Кареннаке и увидел своих друзей: Каса с женой, Джейн, Осси, Селию и Патрика, – он разрыдался. Он уже жалел о своей вспышке. Пытался дозвониться до Питера по телефону – бесполезно. Не могли же они расстаться на месяц с такими словами: «Иди к черту!» Ему нужно было вернуться в Кадакес. Он отправился туда с Осси по неимоверной летней жаре и гнал машину два дня, останавливаясь лишь на ночлег. Питер не проявил радости при его появлении.
– Что ты здесь делаешь? Убирайся.
– Я не могу так сразу уехать, Питер. Вот уже четыре дня я за рулем и сильно устал.
Слезы катились против воли по его щекам. Как мог Питер быть таким жестоким? В разговор вмешались их друзья, и Питер слегка смягчился. Накануне его отъезда в Грецию они смогли наконец поговорить без криков и оскорблений. И, когда они расстались, Дэвид чувствовал себя лучше.
У него был целый месяц, чтобы поразмыслить над тем, что произошло. Он должен измениться. Ему нужно стать меньшим эгоистом. Он не считался с Питером и был уверен в его чувствах: теперь он должен слушать его, уделять ему больше внимания, не забывать хвалить его картины и фотографии, говорить ему, какое важное место он занимает в его жизни. Дэвид вспоминал себя в юности: в двадцать три года он тоже чувствовал свою никчемность. Вряд ли так просто жить с художником гораздо старше тебя, к тому же очень успешным. Он должен показать Питеру, что уважает его как отдельную, самостоятельную личность, как человека, имеющего собственную жизнь и свои желания. Потому что до этого он проявлял излишнее себялюбие. Он был так поглощен работой, что не заметил, как они отдаляются друг от друга. Но у него были смягчающие обстоятельства. Его ретроспективная выставка оказалась не просто очередной экспозицией – она представляла собой десять лет его работы.
Вернувшись в сентябре в Лондон, Питер сказал Дэвиду, что ему нужно время, и отнес матрас в свою мастерскую. Но он хотя бы продолжал жить рядом, на углу, у их подруги Энн. Работы по благоустройству их нового жилья, ставшие причиной стольких волнений и хлопот в прошлом году, были закончены. Огромная квартира, обставленная дизайнерской мебелью, которую выбрал Питер, была великолепна, а просторная ванная комната, отделанная ярко-голубой плиткой, – оборудована массажным душем: Дэвид мечтал опробовать его вместе с ним. Нужно было набраться терпения, дать ему время и свободу. Он написал натюрморт, где на низком стеклянном столике все предметы находились друг от друга на расстоянии, и передаваемая от каждого из них одинокость была так похожа на его собственную; и еще одну картину – надувной круг из красной резины, одиноко плавающий в бассейне, – отражение его тоски. Дни тянулись уныло, похожие один на другой. Дэвид не мог заснуть без снотворного. Бывали ночи, когда только мысль о матери удерживала его, чтобы не проглотить всю упаковку. Видя его крайне подавленное состояние, один друг позвал его поехать с ним в Японию. Дэвид уже давно мечтал побывать там, но Токио показался ему удушливым и безобразным, красота Киото не тронула, все его мысли были только о Питере. В конце концов он позвонил ему как-то вечером из отеля – чтобы, находясь на расстоянии нескольких тысяч километров от дома, услышать слова, разорвавшие ему сердце: «Все кончено». Единственное, что ему понравилось в Японии, – это картина под названием «Осака под дождем» на выставке традиционной японской живописи.
Вернувшись домой, он с головой окунулся в работу. Единственным человеком, чье присутствие рядом он выносил, была его мать. Она не знала о причинах его тоски, но он чувствовал, что тяжкий груз с его сердца ей хотелось бы взять на свои плечи. Мама называла его «мой хороший», всегда была готова ему позировать, никогда не жалуясь на усталость, уважала его работу и была безгранично благодарна, когда он дарил ей букет тюльпанов, или платье, или телевизор. В глубине души он ждал того момента, когда Питер вернется. Дэвид предполагал, что это вопрос нескольких недель или месяцев – он был в этом уверен. Рано или поздно Питеру наскучит прелесть новизны, и он поймет, что их любовь – единственная и неповторимая. Но вначале ему следовало выполнить одну задачу, нечто вроде испытания, предлагаемого герою в сказке: написать картину, которая представит Питера в достойном свете и изобразит его как художника, а не как его любовника.
Картина ему не удавалась. Дэвид часами всматривался в нее, не понимая, в чем дело. Напрасно он снова и снова переписывал фигуру Питера, прорабатывал детали пловца и поверхности воды – проблема не уходила. Как-то утром, когда предельно сосредоточенный взгляд в который раз переходил с фотографий на картину и обратно, его осенило. Бассейн был изображен под неверным углом. Как следствие, и вся картина была неверной. Нужно было все переделывать. «Ты сошел с ума!» – воскликнул Кас. Полотно, над которым Дэвид трудился уже шесть месяцев, казалось ему совершенством. В любом случае у него не было времени начинать все заново перед выставкой, открывавшейся через три недели, 13 мая, в галерее Андре Эммериха в Нью-Йорке: это была его первая персональная выставка после 1969 года. По мнению Касмина, проблема существовала исключительно в голове Дэвида, неспособного поставить точку в этой работе, потому что он не мог отказаться от Питера. «Нет», – ответил он, добавив, что картина будет готова.
Он работал как бешеный. Пригласил Мо – своего натурщика и помощника, который стал ему близким другом, – в загородный дом Тони в горах над Сен-Тропе, где он часто бывал вместе с Питером. Этот нахал позволил себе заявиться туда в конце лета, возвращаясь из Испании со своим нордическим другом, но Тони отказался их принимать, за что Дэвид был ему очень благодарен. Несмотря на то что вода ранней весной была еще холодная, Дэвид заставлял Мо подолгу плавать в бассейне, без конца щелкая фотоаппаратом, будто хотел его расстрелять. Потом Мо позировал ему, стоя на каменном бортике бассейна в розовом пиджаке Питера. По возвращении в Лондон он работал без продыху – даже ночью, поскольку один молодой кинорежиссер, делавший о нем фильм, предложил ему взять для работы, на время, мощные лампы дневного света, какими пользуются в кино. В обмен на эту услугу Дэвид должен был согласиться с присутствием в один из дней постороннего человека в его мастерской. В течение десяти дней он совсем не спал. Работа была закончена накануне вернисажа. Как только краска высохла, он свернул холст и вылетел в Нью-Йорк.
Это была его лучшая картина – лучше, чем портрет Кристофера и Дона, лучше, чем «Парк Источников, Виши». В ореоле света, заливающего его лицо, каштановые волосы и ярко-розовый пиджак, Питер, наблюдающий за пловцом в прозрачной воде, напоминал собой ангела – но ангела во плоти, отбрасывающего позади себя на бортик бассейна внушительную тень. Здесь обнаруживались одновременно и резкие диагонали, и зеленая перспектива «Парка Источников», и насыщенный, влекущий к себе голубой цвет портрета Кристофера и Дона. Картина отражала силу его любви к Питеру. Это был портрет неба, портрет воды, портрет любви, портрет художника. Глядя на него, Питер не сможет не оценить по достоинству ту любовь, которую питал к нему Дэвид.
Картину сразу же купили, а Питер не вернулся.
Генри уезжал на лето из Нью-Йорка и позвал Дэвида с собой на Корсику. Генри был другом с острым языком и жестоким чувством юмора, но в данном случае он стал примером невероятного терпения и готов был умирать со скуки ради Дэвида, имевшего только одну тему для разговора – вернее, монолога. Он не спрашивал себя, вернется ли Питер, а спрашивал, когда он вернется. Это был единственный вопрос, который его волновал. Когда Питер даст себе отчет в том, что Дэвид является любовью всей его жизни? Когда он наконец покончит с поиском новых ощущений и желанием получить новый опыт, свойственный юности? Дэвид задумал новый двойной портрет – двух его лондонских друзей, танцовщика и продавца старых книг, которые познакомились друг с другом благодаря ему, вернее, благодаря Питеру. Их разница в возрасте была та же, что и у них с Питером. Если он напишет их портрет, может быть, он поймет, в чем секрет стабильных отношений. «Лучше бы ты написал своих родителей, – предложил ему Генри. – Это позволит тебе поразмышлять о твоих с ними отношениях и станет превосходным психоанализом». Генри шутил лишь отчасти.
Дэвид больше не выносил Лондон, где каждая пара мужчин, которую он видел на улице со спины: один – стройный шатен, другой – высокий блондин, – заставляла учащенно биться его сердце. А когда он пересекался с Питером, – что волей-неволей случалось, так как они бывали в одних и тех же местах, посещали одни и те же галереи, – он должен был делать вид, что у него все хорошо, и не позволять себе смотреть на своего любовника, тело которого стало теперь для него недоступным. Это было невыносимо. Мир искусства вызывал у него отвращение. Он узнал, что человек, который купил в Нью-Йорке «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)», выдавая себя за частного коллекционера, перепродал его потом в Германии в три раза дороже: картина, в которую он вложил свою душу, стала предметом спекуляции. Теперь он должен был закончить двойной портрет танцовщика и продавца книг, которому предстояло стать центральной работой на его ближайшей выставке. Дэвид смотрел на незаконченный холст и не видел в нем больше для себя интереса. Он ненавидел квартиру на Поуис Террас. Нужно было уезжать. Конечно, ему повезло, потому что он мог себе это позволить, но предпочел бы жалкую лачугу на краю света с Питером той шикарной жизни, которую вел. После рождественских праздников, которые он, как и каждый год, провел в Брэдфорде с родителями, сестрой и единственным из братьев, оставшимся жить в Англии, он улетел в Лос-Анджелес и снял дом на пляже в Малибу, куда позже к нему приехала Селия с двумя своими мальчишками: годовалым и трехлетним.
Ее сердце тоже было разбито. Осси без конца обманывал и вел себя с ней безобразно. Ей приходилось все это терпеть ради детей. Хоть Селия и была близкой подругой Питера, она осуждала его за жестокое поведение и встала на сторону Дэвида; Дэвид же, старый друг и бывший любовник Осси, встал на сторону Селии. Все в ней воплощало собой нежность: лицо и улыбка, кудряшки и светлые глаза, голос, ее славные малыши. Она была такой милой. Дэвид без конца рисовал ее. Каждое утро он отправлялся за шестьдесят километров, в свою мастерскую в Голливуде, и вечером того же дня проделывал обратный путь, возвращаясь в дом на пляже, где его ждали Селия с мальчиками. У нее был готов ужин, они открывали бутылку вина и, уложив детей, распивали ее, любуясь вечерним морем. Около двух часов ночи, после долгих разговоров: об Осси, о Питере, обо всем и ни о чем, – они засыпали в одной постели, тесно прижавшись друг к другу. Как брат с сестрой. Или даже нежнее. Дэвид чувствовал, как понемногу оттаивает. Была ли это дружба или любовь? Это было что-то теплое, ограждавшее его от одиночества и тоски, – защита, которой он резко и внезапно лишился, когда Осси, прознавший о тесной дружбе, завязавшейся между его женой и его другом, ураганом примчался из Лондона и забрал жену и детей.
Без Селии и малышей даже шум морского прибоя казался ему зловещим. Он уехал обратно в Европу. А когда 8 апреля услышал по радио, что умер Пикассо во Франции, в Мужене, в возрасте девяноста одного года, он разрыдался. Прошло почти два года с тех пор, как Питер бросил его, – два года, не оставивших в его памяти никаких воспоминаний; казалось, они просто канули в бездну. Однако он помнил, как если бы это случилось вчера: свой приезд в Кадакес и тот жесткий, холодный, без всякого намека на любовь взгляд, с которым Питер посмотрел на него, когда он вышел из машины. Его слова «убирайся». Он внезапно осознал, что теперь не сможет встретиться с Пикассо и что Питер никогда к нему не вернется. В его мире больше не будет ни Пикассо, ни Питера. И ему не хотелось жить в этом мире.
Он не покончил с собой. Ему представилась возможность отдать дань памяти Пикассо. Мастер, бывший наставником испанского художника в искусстве гравюры, Альдо Кроммелинк, познакомил его с новой, только что разработанной им техникой, позволяющей выполнять гравюры в цвете так же быстро и непринужденно, как и черно-белые. Передавая английскому художнику метод, который он не успел показать Пикассо, Кроммелинк превратил его в наследника Пикассо по части гравюры. Впервые за два года Дэвиду удалось перестать думать о Питере. Удовольствие, которое он получал, осваивая эту новую технику, долгие дни, проведенные в совместной работе бок о бок с мастером гравюры, погасили накопившуюся в нем негативную энергию.
Летом Генри вновь присоединился к нему, и они вместе провели месяц в Италии, на вилле, снятой Дэвидом в Лукке. Предполагалось, что они будут работать над книгой о жизни и творчестве Дэвида; эта идея пришла в голову Генри. Дэвид рисовал друга в то время, когда они болтали о всякой всячине, пили восхитительное вино, слушали оперные записи и курили огромные сигары, расположившись у бассейна. Книга совсем не продвигалась, но Дэвид больше не чувствовал себя одиноко, и кровь снова забурлила у него в жилах. Он даже вновь нашел в себе силы, чтобы устроить розыгрыш: как-то раз, сидя с альбомом для набросков, он увидел, что Генри в нескольких метрах от него принимает красивую позу. За другом водился этот маленький грешок: он любил, чтобы с него писали портреты. Более получаса Дэвид то пристально вглядывался в него, то склонялся над альбомом, рисуя с сосредоточенным видом, пока тот едва осмеливался шелохнуться, чтобы не помешать сеансу. «Я могу посмотреть?» – наконец спросил он, и, когда Дэвид помахал у него перед носом изображением Микки-Мауса, над которым трудился все полчаса, на лице Генри появилась такая комичная смесь изумления пополам с гневом, что он радостно расхохотался.
Может быть, жизнь по большому счету была возможна и без любимого человека? Возможно, он больше никогда не испытает той страсти, какую чувствовал к Питеру, и у него не будет таких совершенных отношений, но с ним оставались совершенство дружбы, красота кипарисов на холмах и радость, которую приносила ему работа. А если он забудет Питера, научится жить без него, не случится ли так, что тот вернется? Никого нельзя привлечь грустью и тоской. А вот радостью, силой, счастьем – да. Каждый день Дэвид по часу плавал в бассейне, загорал, качал бицепсы и ухаживал за своим телом. Он знал, что Питер нуждается в нем. До него дошел слух о его денежных затруднениях, и он не мог заставить себя не думать о нем, читая ужасный конец «Мадам Бовари».
На следующий день после возвращения в Лондон он через одного их общего друга дал знать Питеру, что будет счастлив снова встретиться с ним и помочь ему. В ответ ему сообщили, что Питер не нуждается в нем и не имеет желания его видеть.
Он был один в огромной безмолвной квартире на Поуис Террас, на него навалилась депрессия. Он понял, что все лето обманывал сам себя. В то время как он считал, что к нему возвращаются силы и он наконец отрывается от Питера, он только и делал, что ждал его. Ему даже удалось убедить себя, что Питер изменится за лето и сам прибежит к нему!
Они любили друг друга пять лет, а жили врозь вот уже два года. Ему было теперь тридцать шесть лет, а Питеру – двадцать пять. Как мог он – всегда такой веселый, полный энергии, будто созданный для счастья, – потерять себя, позволить разрушить себя этой навязчивой идее, охватившей его, как спрут щупальцами? Ведь ему было хорошо с Генри в Лукке. Почему же в Лондоне у него снова пропали все желания, кроме одного – умереть? Эта любовь стала его зависимостью. Как вырвать Питера из сердца, чтобы вновь стать самим собой? В который раз уехать из Лондона? Отправиться к Генри, в Нью-Йорк? Да, уехать, но в такое место, где он не сможет даже случайно столкнуться с Питером, где у них не будет общих знакомых; подальше от друзей, которых за два года он уже вывел из терпения, так что они больше не могли слышать от него имя Питер.
Он выбрал Париж, где Тони Ричардсон предоставил в его распоряжение свою квартиру в шестом округе.
Из дома, находившегося по улочке между бульваром Сен-Жермен и Сеной, в двух шагах от знаменитого кафе «Прокоп», в любое место можно было добраться пешком: в Лувр, куда он отправлялся побродить после обеда; в кинотеатры, где показывали авторское кино; к Сене, вода которой была зеленее воды в Темзе; в «Кафе де Флор», где он пил свой утренний кофе и ел тартинку с маслом, поглощенный чтением газеты; в ресторан «Ла Куполь», где встречался с друзьями по вечерам. Его мастерская была островком тишины посреди оживленного квартала, полного студентов, художников и интеллектуалов. К нему часто наведывалась Селия, и он писал ее портреты. Он завел себе новых друзей, среди которых были один французский дизайнер со своим партнером и пара американских художников, обитавших уже двадцать лет в маленькой квартирке с двумя смежными комнатами, где они и жили, и работали. Мысль о том, что муж не мог выйти из дома незаметно от своей жены, забавляла Дэвида, и у него появилось желание написать портрет этой пары у них в квартире. Ему все еще случалось плакать, вспоминая о Питере, но он стал вновь получать удовольствие, когда бродил по улицам, наблюдая за происходящим вокруг, вместо того чтобы копаться в себе. Он познакомился с французским студентом, учеником Парижской художественной школы Ивом-Мари, ставшим его любовником, и сблизился с одним молодым калифорнийцем – Грегори, которого встречал когда-то в Лос-Анджелесе у Ника и который жил неподалеку от него, на улице Дю Драгон.
Проведя в Париже шесть месяцев и начав чувствовать себя лучше, он поехал в Лондон, чтобы увидеть фильм того самого режиссера, что одолжил ему два года назад мощные лампы дневного света. Фильм назывался «Большой всплеск», как и самая известная его картина. Сюжетная нить была как нельзя более размыта. Камера показывала людей, бывших частью его жизни: вот его помощник Мо вспоминает, как он боялся, что Дэвид уедет жить в Нью-Йорк; вот его друг Патрик стоит в своей мастерской точно в том же положении, что и на портрете, написанном с него Дэвидом; вот Селия со своим первым малышом; вот Кас у себя в галерее, притворяется, что говорит по телефону с Дэвидом и просит его закончить картину поскорее, так как за нее уже дерутся покупатели; и, конечно, Питер – он пьет чай и болтает с Селией, гуляет по лондонским улицам или ныряет в бассейн. В фильме были кадры из квартиры на Поуис Террас, из ванной комнаты, отделанной ярко-голубой плиткой, и даже из Нью-Йорка, куда режиссер – как вспомнил Дэвид – сопровождал его на один из вернисажей. Все это казалось ему не таким уж интересным, и он предпочел бы обойтись без кадров с Питером, от которых у него болезненно сжалось сердце.
Внезапно перед его глазами появилась отвратительная картина: Питер в постели с другим человеком. Как ни противно было Дэвиду, он не мог оторвать глаза от экрана. В течение долгих минут, когда каждая секунда будто впивалась ему под кожу острой иглой, Питер и этот другой человек ласкали, целовали, раздевали друг друга, в то время как камера фокусировалась на губах, щеках, носе в веснушках, покатых плечах и ягодицах Питера, приводя Дэвида в смятение и заставляя его вспоминать все, что он годами хранил в глубине своей души. Удар был таким жестоким, что стена, которую он вот уже три года терпеливо, по кирпичику, строил вокруг своего сердца, в одно мгновение рухнула. Внутри не осталось ничего, кроме всепоглощающей боли от предательства – такой резкой, что ему казалось, будто он голый стоит под градом острых камней. Он чувствовал себя так, словно его предал не только режиссер, но и Селия, и Мо, и все, кто участвовал в этом маскараде. И конечно Питер. Может быть, нужда заставила его сниматься в этой сцене? Если он был на мели, почему не попросил денег у Дэвида? Из гордости? Испытывал ли к нему Питер когда-нибудь подлинные чувства? Кем был этот юноша, которого он так страстно любил?
После просмотра все, что он сказал режиссеру, было: «Спасибо, что убрали “В главной роли Дэвид Хокни”. Я ведь не актер».
Он больше никогда никому не позволит вторгаться в личную жизнь, растаскивая свой внутренний мир на образы и вырывая кусочки из своего сердца.
Он вернулся в Париж совершенно уничтоженным. В течение двух недель не мог встать с кровати и никого не видел.
Неужели эта боль так никогда и не покинет его? Разве трех лет недостаточно?
Но, может быть, именно эта буря, вызванная фильмом, стала для него спасительным кризисом – как тот резкий скачок температуры, который оставляет больного без сил, в полном изнеможении, на простыне, насквозь мокрой от пота, но при этом означает конец болезни. А может быть, потрясение при виде Питера, совершившего такой вульгарный и жестокий поступок, позволило ему осознать, что идеальная любовь – только миф. А еще может быть, что печаль, как и страсть, живет в сердце всего три года. Однажды утром, проснувшись, он понял, что больше не чувствует той жгучей боли, которая терзала его в течение трех лет, даже когда он встречался с другими. Наваждение ушло: сердце его было свободным и спокойным. Он все чаще виделся с Грегори и чувствовал, что их взаимная симпатия выходит за рамки дружбы. Зарождались новые отношения: нерешительные, робкие, с соблюдением всех предосторожностей.
Когда один режиссер предложил ему написать декорации к опере Стравинского «Похождения повесы» – в основе ее сюжеты цикла Хогарта «Карьера мота», – которая ставилась для Глайндборнского оперного фестиваля, у Дэвида возникло чувство, будто перед ним открывается дверь, чтобы вырваться на свободу. Он никогда раньше не занимался оперными декорациями, но ухватился за эту возможность. Это было не просто желание отвлечься. Новая работа уводила его как можно дальше от двойного портрета, который он решил не заканчивать. Он начнет новый этап своей жизни: вместо того чтобы драматизировать события, будет работать с драматургией. «Карьера мота» – история человеческого падения, которая принесла ему успех десять лет назад, – станет для него спасением, дав ему возможность заняться чем-то кроме себя самого.
Спустя год, в день премьеры, его друг, владелец ресторана, устроил пикник на лугу в Глайндборне, где для тридцати гостей Дэвида было откупорено сто двадцать бутылок шампанского. Еда была восхитительна, и ее было столько, что он смог пригласить к столу певцов и музыкантов. Чересчур роскошный прием обошелся ему в большую сумму, чем он получил за работу над декорациями и костюмами, но он не жалел об этом. Весь этот невероятный разгул не оставлял места даже для капельки грусти. Он смог выплыть из самой глубокой пучины и теперь крепко ухватился за жизнь. В буквальном смысле слова. Хорошенько выпив, он сидел на траве и наблюдал, как солнце медленно садится за сассекские холмы, не испытывая ничего, кроме любви и благодарности к миру, который дарил ему этот изумительный спектакль.
III. Внутренний ребенок
Взяв Дэвида под руку, его мать обходила Хейвордскую галерею, рассматривая представленные вокруг работы: абстрактные, мрачные, минималистские. Ее взгляд привлекла толстая веревка, уложенная на полу: может быть, потому, что этот предмет был ей знаком. Она остановилась и прочла имя художника – Барри Флэнаган[23].
– Он занимается производством веревок? – спросила она наивно.
В их небольшой компании, где кроме родителей были его друг Генри, его помощник, и Грегори – его новый возлюбленный, никто не засмеялся. Дэвид как можно более понятно и терпеливо объяснил матери, что такое концептуальное искусство. Лора кивала головой, как примерная ученица.
– Мне больше нравится то, что делаешь ты, – сказала она с облегчением, когда они вошли в зал, где были выставлены работы ее сына.
Их яркие краски и фигуративные, узнаваемые образы резко отличались от того, что они видели в предыдущих залах. Его отец замер перед картиной, изображавшей его самого вместе с женой, и удовлетворенно покачал головой.
– Да, это я: вечно чем-то занят. Ты можешь сказать мне спасибо, Дэвид. Если бы я не надрал тебе уши, этой картины не было бы!
Генри прыснул со смеху, а Дэвид закатил глаза к небу.
– Кен, вы были совершенно правы, что дали пинка этому лодырю – вашему сыну!
– Портрет хорош, – сказала Лора, – но мне нравился и тот, первый, вариант, где было твое отражение в зеркале. Единственное, чего мне жаль, – добавила она, – что я тоже чем-нибудь не занята. Я выглядела бы интереснее.
– Лора, вы великолепны. Просто королева-мать, – добавил Генри, ласково обнимая за плечи пожилую даму, такую маленькую и хрупкую рядом с ним.
– А откуда ты взял это платье? – продолжала она. – У меня даже похожего на него нет!
– Этот голубой цвет тебе так идет, мама, разве нет?
«Мои родители»: трудно поверить, что это произведение в итоге появилось на свет. Ни одна другая картина не далась ему с таким трудом, даже «Портрет художника». Генри, как всегда, был прав, когда давным-давно говорил, что работа над портретом родителей послужит ему вместо психоанализа. Через полтора года упорного труда Дэвид сдался: чем больше он работал над фигурой отца, тем больше тот становился похожим на мумию. «Это влияние всего невысказанного между вами», – сказал ему Генри. Может быть, но не теперь же, когда старик вконец оглох, им нужно было приниматься за разговоры. Он позвонил матери, чтобы сообщить ей о своей неудаче. «Бедный мой мальчик», – посочувствовала она ему с привычной добротой, угадав его разочарование. Спустя час зазвонил телефон. Это был разъяренный отец. «Что, ты отказываешься от картины? После всего того времени, что ты заставлял нас позировать в Брэдфорде, Лондоне и Париже, даже когда мы были уставшими или плохо себя чувствовали? Ты посмеешь сделать такое своей матери – женщине, которая вскормила и вырастила тебя, которая всегда была готова ради тебя на все? Ты представляешь, что значит для нее наш с ней портрет, написанный тобой? Она так этим гордилась!» Он вопил так, как если бы его сын был восьмилетним оболтусом, который совершил какую-то страшную глупость. Дэвид с трудом сдержался. Он повесил трубку и в отвратительном настроении вышел на улицу, чтобы где-нибудь выпить. В тридцать девять лет пора уже было признаться себе в своем эдиповом комплексе и разобраться с ним. Но, проснувшись на следующее утро, он позвонил матери: «Мама, вы можете приехать в Лондон? Я хочу начать заново».
В новом варианте картины он убрал из композиции сознательно очерченный им между персонажами треугольник, так же как и собственное отражение в настольном зеркале. Все это отвлекало зрителя от подлинного сюжета – его родителей. И главным образом он позволил своему отцу – этому непоседе – позировать так, как ему хочется. Он изобразил отца в тот момент, когда тот склонился над толстым выставочным каталогом, непринужденно раскрыв его на коленях и с головой уйдя в чтение: его пятки оторваны от пола, и мы почти видим, как они покачиваются в воздухе; изображение Кена внезапно стало живым. Его мать сидит лицом к зрителю в той же позе, что и в первом варианте картины: со сложенными на коленях узловатыми от артрита руками – но образ стал мягче; ноги теперь не скрещены, и одета она в платье так любимого Дэвидом ярко-голубого цвета – того самого цвета, к которому хотелось бежать навстречу. Полная света картина оставляла впечатление легкой грусти; к счастью, казалось, что его родители этого не замечали. Два старых человека были будто прикованы друг к другу невидимой цепью и вместе с тем существовали по отдельности, каждый замурованный в своем одиночестве. Закончив работу над картиной, Дэвид осознал, что родители представляли собой пример, следовать которому он не хотел: стареть вдвоем, но поодиночке.
Это был последний его двойной портрет, написанный в духе реализма. Два других висевших в зале полотна – их теперь рассматривали его родители, а историю появления на свет взялись им объяснить Генри и Грегори – были совсем другими. «Автопортрет с голубой гитарой» представлял Дэвида в тот момент, когда он рисует голубую гитару. Изображение этой картины попало на другую картину, висевшую тут же, рядом: «Модель с незаконченным автопортретом», где на переднем плане он написал спящего на кровати мужчину в голубом домашнем халате (Грегори). У этих работ тоже была своя история. Прошлым летом, когда он заново начал писать портрет родителей, Дэвид составил компанию Генри в поездке на Файр-Айленд – остров в двух часах езды от Нью-Йорка, славившийся как место отдыха гомосексуалистов. Как-то раз, когда они сидели в шезлонгах, одетые в белые льняные костюмы-тройки, – составляя резкий контраст с наготой прекрасных юношей, плескавшихся перед ними в бассейне, – Генри прочел ему стихи Уоллеса Стивенса, написанные под впечатлением от картины Пикассо. Стихотворение было очень длинным, тридцать три строфы, и в исполнении Генри, с его низким голосом, оно баюкало Дэвида, унося его за тридевять земель от острова наслаждений и гвалта, поднимаемого купальщиками. Особенно поразила его первая строфа: «Они: “Гитарой голубой / Меняешь мир – он не такой”. / В ответ он: “Изменен весь строй / Вещей гитарой голубой”». И другие строчки привлекли его внимание: «Я не могу весь мир объять… / Не передать вещей весь строй» или еще «А цвет, как мысль, из настроенья… Растет». И конец был прекрасен: «Мы обо всем забудем днем, / Кроме мгновения, когда / В сознании играя только, / Вообразим сосну и сойку».
Пока он слушал Генри, у Дэвида возникло ощущение, что ему дали ключ к самому себе. Он совершенно ясно понимал, что хотел сказать Стивенс по поводу Пикассо или неважно чьей живописи. Голубая гитара символизировала талант художника, который не мог изображать мир «таким» – таким, какой он есть, – потому что этот мир существовал не сам по себе, а только в его представлении. Голубая гитара – вот уж чего точно не было у его родителей и почему их жизнь была такой унылой. Дэвиду голубая гитара была дарована от рождения – его способность представлять и «передавать строй вещей». Он должен быть благодарен родителям, природе, жизни, Богу. Его дар ценнее всего на свете.
«Модель с незаконченным автопортретом» была в высшей степени символичной работой. Дэвид присутствовал на картине, но не наравне с фигурой спящего на кровати юноши: он был на заднем плане, в виде изображения на холсте. Как художник он находился в стороне, в отдалении от Грегори или от родителей, в другом измерении. Он уже давно понял, что его жизнь никогда не будет похожа на жизнь большинства людей. У него не будет постоянных любовных отношений, так как он женат на своем искусстве. В отличие от Питера, Грегори принимал полную поглощенность Дэвида своей работой; со своей стороны, Дэвид соглашался с тем, что у Грегори были интрижки на стороне. В их паре царили свободные отношения, и это все упрощало: никаких разочарований, никакой ревности, никаких кризисов. Благодаря этой договоренности Дэвид чувствовал себя столь безмятежно, что был способен даже вновь встречаться с Питером, которому он давал небольшие подработки. Его бывший любовник позировал ему, когда Грегори случалось быть в отъезде. Ступни спящего юноши были ступнями Питера. Дэвид смотрел на них теперь без всяких эмоций: время взяло свое. Конечно, он не отказался бы снова заняться с Питером любовью. Но Питер этого не хотел, и Дэвид смирился. В сорок лет он принял то, кем он был и кем он не был, что дала ему жизнь и чего не дала.
А жизнь была более чем щедра к нему. Он наслаждался невероятной свободой. Оставил Париж, где стал очень известен, и снова обосновался в Лондоне. Он продал квартиру, в которой они жили с Питером, – в его отсутствие ее по очереди занимали то Осси, то Мо с целой толпой наркоманов, приведших ее в плачевное состояние, – и купил себе новое жилье в том же доме, на последнем этаже. В минувшем году он провел месяц в Лос-Анджелесе, в отеле «Шато Мармон», и снова почувствовал вкус к жизни в Калифорнии; всю осень собирался провести в Нью-Йорке; отдыхать ездил на Файр-Айленд, во Францию, в Италию и совершил еще более далекие путешествия: на Таити – по дороге в Австралию, где жил один из его братьев, – в Новую Зеландию, а также в Индию, куда он отправился вместе с Касмином, – эта поездка ему не понравилась: его покоробили кастовая система индийского общества и страшное неравенство между богатыми и бедными… А скоро он собирался вновь вернуться в Египет. Почти каждый год у него проходили персональные или совместные выставки в Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Париже, Берлине или других городах. На самолете он летал так же часто, как другие ездят на такси.
Но самое главное – у него были друзья. Крепко сплоченное сообщество на обоих континентах: настоящие друзья, которых он знал долгие годы или даже десятилетия; друзья, дорогие его сердцу, навещавшие каждый день или сопровождавшие в поездках. Он использовал свою известность, чтобы защищать сообщество геев, особенно в Лондоне: вступил в схватку с таможней, конфисковавшей у него при возвращении из Лос-Анджелеса номера Physique Pictorial и других журналов подобного рода под тем предлогом, что это порнография (он был горд тем, что вышел победителем в этой схватке; неустанно звоня каждый день с жалобами чиновникам все более высоких рангов и ведя с ними дискуссии в духе «Короля Убю»[24], угрожая им судом, он получил назад свои журналы и одержал верх над таможней Ее Величества!); не так давно он разрешил одному гей-журналу опубликовать его обнаженные фото и публично встал на защиту книжного магазина с литературой для геев, в котором полиция провела обыск.
И он развлекался по полной. Трудно представить, что можно было бы развлекаться еще больше. Отдых на Файр-Айленд был чем-то невероятным. Гулянка начиналась после пятичасового чая и продолжалась всю ночь. Секс, попперсы[25], кокаин, метаквалон… Все предавались буйному веселью, совершенно слетая с катушек, бедные вперемежку с богатыми – в танце, разгуле, общем безумии все были равны или, вернее, не совсем равны, потому что по-настоящему высшее положение давала красота. Столько красоты, доступной для всеобщего взгляда, было для него – любителя зрительных наслаждений – настоящим счастьем. В Нью-Йорке он ходил в компании своего друга Джо Макдональда – манекенщика, знавшего всех на свете, – в «Студию 54», «Рэмрод» или общественные бани, и наивысшее удовольствие для него состояло в том, чтобы наблюдать, как Джо – самый красивый человек из всех, кого он когда-либо встречал, – клеил парней у него на глазах: как если бы это было театральное действие, переплетающееся с реальной жизнью. Жизнь и вправду выделила ему место в королевской ложе. Он ни за что не поменялся бы местами ни с кем другим.
В том месяце, в июле 1977 года, когда ему исполнилось сорок лет, он чувствовал себя на таком подъеме, что осмелился быть собой до конца. После того как явственно занял позицию гомосексуалиста, он решил отстоять свое право быть художником-реалистом. За год до этого в английском обществе развернулась бурная полемика, где представители лондонского искусства выступали против мнения широкой публики; она была связана с приобретением галереей Тейт работы художника Карла Андре – сто двадцать кирпичей, образовавших длинный прямоугольник и названных «Эквивалент VIII». В прессе появились статьи, обвиняющие музей в разбазаривании средств налогоплательщиков на какую-то кучу кирпичей, стоивших многие тысячи фунтов стерлингов. Директор музея приводил в свою защиту пример кубизма, который в свое время не понимали и подвергали нападкам. По случаю ежегодной выставки в Хейвордской галерее шотландский журналист Файф Робертсон, ведущий популярной телепередачи «Робби» на Би-би-си, посвятил один из своих выпусков современному искусству Англии, пригласив для участия Дэвида. Файф Робертсон ненавидел минималистское и абстрактное искусство, которое, по его мнению, только дурачило публику. Играя на созвучии со словом fart («пуканье»), он даже выдумал неологизм phart, означающий phony art, то есть липовое, фальшивое искусство. Но, попав в зал, где выставлялись работы Дэвида, он почувствовал биение подлинной жизни: это был оазис света, жизненной энергии и человечности.
Дэвид был далек от выражения чувств солидарности по отношению к коллегам, на которых обрушился журналист, и признал, что в Хейвордской галерее выставлено немало скучных и неинтересных работ. Он осмелился сказать по телевизору, что, по его мнению, в картине все же должен быть некий сюжет и она должна что-то изображать. Он рассказал о реакции своей матери на веревку Флэнагана и добавил, что возникший у нее вопрос в его глазах справедлив. Производство, ремесленничество – так презираемые лондонскими художественными критиками, только и болтавшими, что о теориях и идеях, и создавшими своего рода кружок-междусобойчик, – составляли часть работы и заслуживали того, чтобы стать предметом обсуждения. По его мнению, не должно быть такого явного разделения между элитой и народом. Почему только абстрактные работы, доступные для понимания очень немногими, рассматривались как «серьезное искусство»? Разве искусство не должно быть обращено ко всем? В своем интервью Питеру Фуллеру для ежемесячника Art Monthly он снова затронул этот вопрос, прибавив, что коллекция современного искусства галереи Тейт, по правде говоря, ничего собой не представляет.
Он не побоялся высказать то, что думает, и метнуть гранату в стан критиков. Искусство принадлежит художникам, а не теоретикам. В конце концов, он всегда плыл против течения и не имел ничего против скандала, который привлек бы внимание к его творчеству. Однако он был рад осенью уехать из Лондона и укрыться в Нью-Йорке, где ему работалось спокойнее. В октябре в галерее его нью-йоркского галериста Андре Эммериха открылась его персональная выставка, где были представлены те же работы, что и в Лондоне, – к ним добавилась еще картина, которую он тем временем закончил: она изображала Генри в момент, когда он разглядывает прикрепленные к ширме репродукции. В вечер вернисажа галерея на 57-й улице была битком набита народом. Эммерих был рад тому, что посетить вернисаж снизошел сам Хилтон Крамер. В окружении своей свиты, с молитвенным благоговением ловившей каждое его слово, великий американский критик приветливо обратился к художнику. Его имя почтительно передавалось из уст в уста. Он слыл богом в своей области, и его присутствие расценивалось как подлинное признание. Было ясно, что Дэвид в свои ровно сорок лет больше не может оставаться незамеченным.
Спустя несколько дней, ранним утром, Эммерих позвонил ему.
– Вышла статья Крамера, Дэвид, и я очень расстроен: он посмеялся над нами.
Дэвид вздернул брови. Он не ожидал такого. В день вернисажа казалось, что критик благосклонно оценил его работы.
– Все так плохо?
– Он очень суров. Вот ведь коварный! Не знаю, какая муха его укусила. Наверное, он настроен против англичан или ему не нравится твой успех. К счастью, твоя репутация от него не зависит. Другие отзывы превосходны, и все работы уже проданы.
– Я художник уже двадцать пять лет, Андре, и не Крамеру говорить, чего я стою. Да и вообще, по моему мнению, он уже вышел в тираж. Его нападки мне только льстят.
Повесив трубку, Дэвид сбегал в лавочку на углу, чтобы купить «Нью-Йорк таймс». Он прочитал статью на ходу, возвращаясь в квартиру, которую снимал неподалеку от Генри. Крамер начал вроде бы с комплиментов: картины, выставленные в галерее, писал он, были милыми, забавными и нравились публике. «Но почему же, – продолжал он, – я нахожу их, скажем так, поверхностными и даже ретроградными?» По его мнению, это было похоже на салонную живопись девятнадцатого века, припудренную второсортным модернизмом. Он говорил о триумфальном возвращении того, что можно было назвать «буржуазным искусством», дополненным в придачу деталями, когда-то оскорблявшими буржуазный вкус. В завершение он давал понять, что Дэвид слишком легковесен для того, чтобы воздать должное воображению Уоллеса Стивенса.
Дэвид расхохотался. Крамер явно хотел его уничтожить. Статья, со всеми этими риторическими вопросами, была просто из ряда вон. Настоящее убийство. В основе ее был все тот же старый спор – серьезность против удовольствия, – облеченный в ловко завернутые фразы. Он вырезал колонку со статьей из газеты и повесил ее на стену в своей мастерской – небольшое напоминание о глупости критиков и той пропасти, что отделяет их от тех, кто занимается творчеством. Несомненно, критиков раздражало само понятие удовольствия: озлобившись раньше времени, не имея других талантов, кроме как хаять все подряд, они ненавидели любой успех, если только сами искусственно не создавали его своими напыщенными словами!
Чуть позже ему позвонил Генри. Он только что увидел газету, очень расстроился и хотел знать, не принял ли его друг все слишком близко к сердцу. Его искреннее беспокойство вызвало у Дэвида раздражение, так как ясно показывало, какой силой обладает критика. Он понял, что его ожидают любопытные взгляды – притворно сочувственные и втайне торжествующие – и что отныне ему грозит быть припечатанным ярлыком. Злые языки найдутся повсюду, а успех всегда притягивает завистников. Он успокоил Генри: Крамер ничуть его не задел.
– Он называет поверхностными те работы, над которыми я – ты знаешь это лучше, чем кто-либо другой, – размышлял годами! Это какой-то бред. В конце концов, ничего удивительного: мир тесен, и по большому счету это я первым развязал войну. Крамер наверняка прочел статью в Art Monthly. Он защищает свою братию.
Ему нужно было решать более важные вопросы. Где он будет жить? В каком городе ему лучше обосноваться вместе с Грегори, чтобы приняться за работу?
Этот вопрос он задал себе весной, после возвращения из Египта, куда ездил в компании своего друга Джо Макдональда и даже Питера, не вызвав при этом никакой ревности со стороны Грегори. Жизнь в Лондоне была прекрасна, но излишне насыщенна. Слишком много друзей, часто приходивших в гости, слишком много журналистов, желавших взять у него интервью, слишком много людей, просивших его о разных услугах (нарисовать обложку для книги, устроить приглашение на праздник, сделать афишу для благотворительного вечера…). Он чувствовал, что его захлестывает суета, но не умел говорить «нет». Публикация его автобиографии “My Early Years” («Мои ранние годы») в 1976 году, выставка в Хейвордской галерее летом 1977-го, декорации «Волшебной флейты», написанные им для постановки на Глайндборнском оперном фестивале в 1978-м, – все это сделало его даже чересчур известным. Ему можно было только позавидовать. Но он сожалел о тех годах в Калифорнии, когда они с Питером жили в Санта-Монике и у него было мало знакомых. Он писал по семнадцать картин в год! Как же теперь, когда ему исполнился сорок один, вновь обрести одиночество? В Лондоне это было невозможно, к тому же он ненавидел свою новую квартиру, окна которой смотрели в небо, – конечно, освещение было прекрасное, но он чувствовал себя оторванным от мира, потому что больше не видел происходящего на улице.
Решение возникло само собой: Лос-Анджелес. «У тебя просто ностальгия по тем временам, когда ты жил с Питером», – сказал ему Генри по телефону. Впервые он был не согласен с мнением Генри. Когда он был маленьким, то, чтобы рисовать, ему не хватало бумаги; теперь же, когда он приобрел известность, ему не хватало пустого пространства, из которого рождалась живопись. После того как он закончил декорации к двум операм подряд и подвел черту под своим прошлым, ему нужно было лишь место, где он мог бы уединиться, чтобы рисовать. В Лос-Анджелесе он был еще почти неизвестен, а сам город – таким большим, простирался на такой огромной территории, что он мог не бояться постоянных встреч с людьми. Инстинктивно он чувствовал, что его место там.
По дороге в Лос-Анджелес ему нужно было остановиться буквально на пару дней в Нью-Йорке, чтобы получить новые водительские права – а заодно, пользуясь случаем, навестить Генри и Джо Макдональда, – однако владелец работавшей с ним в Америке типографии, который покинул Калифорнию и обосновался теперь в пригороде Нью-Йорка, настоял, чтобы он приехал к нему и познакомился с новой техникой печати, недавно им разработанной. Краска при этой технике вводилась внутрь бумажной массы. Процесс работы был грязным: нужно было изготавливать бумагу самим и много дрызгаться в воде. Два человека в высоких резиновых сапогах и длинных резиновых фартуках вырезали в металле формы, похожие на формочки для печенья, чтобы отпечатать рисунок на бумаге. Дэвид провел в типографии целый день, на другой день вернулся туда снова и на следующий – тоже, а потом решил отложить отъезд. Он работал с таким пылом, что мог оставаться в печатном цехе по шестнадцать часов подряд, позволяя себе небольшие перерывы, только чтобы что-нибудь перекусить или освежиться, окунувшись в бассейн, так как стояла дикая августовская жара. Цвета при новой технике печати получались невероятные – такие яркие, такие насыщенные! Прежде всего он сделал серию подсолнухов – как дань памяти Ван Гогу, мастеру ярких цветов. Потом спросил себя, как можно разнообразить сюжеты, и подумал о бассейнах. Это станет возможностью снова использовать голубой цвет. Вечером он садился на поезд до Нью-Йорка, ужинал с Генри или ходил куда-нибудь с Джо, но потом, в полночь, он, точно Золушка, извинялся и убегал: утром ему нужно было рано вставать, чтобы ехать в Бедфорд. Если бы он мог, то вообще перестал бы спать. За полтора месяца он сделал тридцать бассейнов на бумаге. Однажды утром все кончилось. Он больше не получал удовольствия. И улетел в Лос-Анджелес.
Здесь стояла более сухая жара, чем в Нью-Йорке. Он ощутил прилив счастья, снова увидев широкие проспекты с белыми низкими домиками, окруженными безупречными лужайками, пронзительную голубизну неба и моря, буйно цветущую зелень и вдохнув воздух, доносивший запахи жасмина и марихуаны. Его помощник нашел ему маленькую квартирку на Миллер-драйв и мастерскую в Западном Голливуде, на бульваре Санта-Моника. Ему немного не хватало Грегори, который уехал в Мадрид вместе с недавно встреченным в Париже парнем, но одиночество имело и хорошую сторону: оно позволяло размышлять и спокойно работать. У него наконец появилась идея для большой картины: он изобразит происходящее на лос-анджелесской улице – как зрелище, которое можно увидеть, сидя в медленно едущем автомобиле. Это будет полотно длинное, как бульвар Санта-Моника, где находилась его мастерская, и у каждого зрителя должно сложиться впечатление, будто он сидит рядом с Дэвидом в его открытой машине. Кипя творческой энергией после нью-йоркского перерыва, он приступил к работе. Грегори вернулся из Мадрида, прекрасный и загорелый; его нежность к Дэвиду только усилилась из-за признательности, что тот не стал препятствовать его увлечению. Их воссоединение было радостным; эскиз новой картины привел Грегори в восторг.
Всю осень Дэвид по два дня в неделю проводил в Сан-Франциско, где преподавал в Институте искусств; со временем он обратил внимание, что с трудом различает голоса студенток – более тихие, чем у юношей-студентов. Он обратился к специалисту, который подтвердил его опасения: у него падал слух, и он уже потерял двадцать пять процентов слуховых способностей. Этот процесс был необратим.
– Ты больше не слышишь девушек? Ну и в чем проблема? – шутил Генри.
Но ухудшение продолжалось. Он закончит, как его отец: станет совершенно глухим. Это была очень удручающая мысль. Врач спросил его, в каком ухе – правом или левом – он предпочитает слуховой аппарат.
– А если я вставлю аппарат в оба уха, буду слышать лучше?
– Да, но, как правило, люди носят их только в одном ухе: так менее заметно.
Для Дэвида имело значение только одно: слышать музыку, которая с утра до вечера звучала у него и в мастерской, и в машине. Он заказал два слуховых аппарата, и Грегори определил их как «очень секси», после того как Дэвид расписал один в маково-алый, а другой в ярко-голубой цвет. У него не было причин скрывать глухоту – не больше, чем свою гомосексуальность. Такое позитивное отношение было ему свойственно всегда, и так и останется.
Какое-то время ему удавалось его сохранять. В феврале 1979 года в галерее Warehouse в Ковент-Гардене состоялась выставка его бассейнов на бумаге. Критики, хулившие его весь прошедший год, теперь сравнивали новые работы с кувшинками Моне. Ни больше ни меньше! Но не стоило обольщаться и придавать излишнее внимание их славословиям, так же как раньше их нападкам. Все, что имело значение, – это то удовольствие, которое он получал, когда делал эту серию. Дэвид был уверен в одном: удовольствие – в работе, так же как и в жизни, – служит единственным компасом. Те самые критики, для которых раньше удовольствие приравнивалось к поверхностности, теперь превозносили его до небес. Такая необъяснимая перемена их взглядов – или их непоследовательность – должна была принести ему удовлетворение, но он создавал картины не ради них: ничего не желал он так страстно, как удивить самого себя.
Свой успех он разделил с родителями и братом Полом, которых пригласил в Лондон и поселил в «Савое». На два дня он полностью посвятил себя им: водил по лучшим ресторанам и даже позвал в один из вечеров посмотреть пантомиму, совсем как в старые добрые времена в Брэдфорде. Для него наступил тот возраст, когда становятся родителями для своих родителей. Его отец – единственный раз в кои-то веки – ни на что не жаловался, а мать, которой он подарил платье из знаменитого универмага «Хэрродс», была весела, как юная двадцатилетняя девушка. Он был счастлив, что может порадовать так горячо любимую им мать: обычная ее жизнь была безрадостной и суровой и протекала рядом с молчаливым и упрямым – хуже ребенка – мужем, который не хотел регулярно принимать таблетки от диабета и чуть ли не каждый месяц оказывался в больнице, где ему делали перфузию; при этом он совершенно не думал о беспокойстве, причиняемом жене. Кстати, именно так и случилось во время их краткого пребывания в Лондоне: Кен снова поступил по-своему, и его пришлось положить в больницу.
Телефон зазвонил в шесть часов утра, на следующий день после его возвращения в Лос-Анджелес. Когда Дэвид снял трубку и услышал голос брата, он тут же понял, что его ждут плохие известия. Отец умер ночью, во время внезапного сердечного приступа. Он разрыдался. Когда мать сказала ему, что Кен попал в больницу, он не заволновался: отцу сделают перфузию и, как обычно, с новыми силами отпустят на волю. Он даже на секунду не мог представить себе, как может умереть этот старик, еще несколько дней назад бодро носившийся по Лондону и рассматривавший все кругом с любопытством, которое с возрастом у него ничуть не уменьшилось. Разговор между ним и отцом, так никогда и не состоявшийся, теперь уже не случится. Слово «никогда» приобрело новый смысл: оно не только относилось к прошлому, но и было направлено в будущее и охватывало собой вечность. Дэвид никогда больше не увидит своего отца. Кен исчез с поверхности Земли, он стал неосязаем, будто никогда и не существовал вовсе.
Дэвид забронировал билет на ближайший «Конкорд» и вылетел в Европу. «Ты приехал в очень печальный дом», – сказала ему мать, когда он добрался до Брэдфорда и стиснул ее в объятиях: такую маленькую, хрупкую и одинокую, что он сильнее, чем когда-либо прежде, почувствовал, как она близка и дорога ему. Во время похорон он неспособен был выговорить ни слова. Лора не могла простить себе, что не пошла навестить супруга на следующий день после того, как его положили в больницу. В Брэдфорде разыгралась снежная буря, покрыв весь город белым ковром, и температура упала намного ниже нуля. Кен сказал ей сидеть дома, в тепле: ни к чему выходить в эту стужу, рискуя заболеть, когда он самое большее через два дня вернется домой. Супруг проявил благородство, подумав о ней и ее здоровье, когда лежал там, на больничной койке, вдали от своих близких. А она оставила его умирать одного, в чужом, незнакомом месте. Поддалась искушению не покидать теплого местечка, и Небеса забрали у нее спутника. Она не произносила свои мысли вслух, но Дэвид угадывал их по ее подавленному взгляду. Все, что он был в силах сделать, – это рисовать мать, как если бы он мог забрать у нее печаль, выскрести ее из сердца кончиком карандаша. Он подумал о портрете родителей, который написал, – образе одиночества и молчания. Он абсолютно неправ. Может быть, Кен и не был самым общительным в мире и, конечно, слыл эгоистом и ворчуном, но он всегда находился рядом с женой, и вот уже пятьдесят лет она ни разу не оставалась одна. В то время как сам он, Дэвид, – ее дорогой сын, который считает, что любит свою мать и понимает ее как никто другой, – собирается уехать через неделю.
Из Лос-Анджелеса он написал ей: «Ты выбрала себе замечательного спутника жизни. Его стремления были, как и твои, продиктованы добротой. Вы были идеальной парой. Не грусти». Слова, которые он нашел, чтобы смягчить печаль своей матери, облегчили и его собственную боль. Это была правда. Дэвид подумал, что нет причин отчаиваться. Кен умер в семьдесят пять лет, прожив долгую и насыщенную жизнь, был хорошим отцом и мужем, боролся за то, во что верил: против курения, против войны, против ядерных испытаний, – это был человек с убеждениями, передавший свое упрямство по наследству детям, и продолжал жить в них и их памяти. Он умер, но его воинственный дух был по-прежнему с ними. Именно это толкнуло Дэвида, оказавшегося проездом в Лондоне после похорон, задаться вопросом о политике закупок галереи Тейт: он узнал, что музей, в коллекции которого было только две его картины, купленные очень давно, пренебрег возможностью приобрести один из его бассейнов по превосходной цене. Он дал интервью газете «Обсервер», где излил всю горечь, накопившуюся в его сердце после смерти отца. В статье под заголовком «В галерее Тейт нет места радости» он обвинял директора музея, миссией которого как-никак было представлять публике все направления современного британского искусства, в предпочтении, выказываемом бездушному, чисто теоретическому искусству.
Со времени выставки в Лондоне и смерти его отца прошло уже много недель, и все это время мыслями Дэвид был далеко от своей текущей работы. Он страстно желал взяться за нее вновь, когда вернулся в Лос-Анджелес и вошел в мастерскую, где на дальней стене висела большая картина. Это был бульвар Санта-Моника с его прямоугольными зданиями – низенькими и разноцветными, – ярко-голубым небом, пальмами и тенями от них. На картине несколько персонажей: чернокожий парень в белой майке, джинсах и кедах, прислонившийся к двери; бегунья в кепке-козырьке, остановившаяся передохнуть у столба; пешеход и человек с тачкой, задержавшийся посмотреть цену выставленной на продажу машины. Цвета на картине типично калифорнийские: яркие, контрастные. Но он еще никогда не видел более унылой картины. Он узнал это чувство разочарования, испытанное им уже дважды: во время работы над «Портретом художника» и позднее – над картиной «Мои родители»; оно длилось до того момента, пока не наступало озарение, благодаря которому создавались его лучшие работы. Нужно было набраться терпения и доверять себе. Ощущение неудачи составляло часть творческого процесса. Любой мастер – будь то художник, музыкант или писатель – был с ним знаком.
Приезд матери позволил ему отвлечься от своих забот. Еще раньше он купил ей билет на самолет в Австралию, чтобы она смогла навестить двух обосновавшихся там сыновей, один из которых не смог вернуться в Англию на похороны отца. Она провела у них месяц и на обратном пути сделала остановку в Лос-Анджелесе, где была впервые. В Англии это было время пасхальных каникул, и Дэвид пригласил заодно свою лондонскую приятельницу Энн с сыном Байроном в надежде, что присутствие этой чуткой, душевной женщины и тринадцатилетнего подростка поможет развеселить мать. Лора была в трауре, у нее был потерянный, временами отсутствующий вид, но она восхищалась всем вокруг со свойственной ей вежливостью, особенно постоянным солнцем и жарой. «Когда столько солнца, – спросила она однажды, – почему нигде не видно, чтобы на улице сушили белье?» Этот вопрос вызывал улыбку в стране стиральных и сушильных машин, где большинство людей даже не знали, что белье можно стирать вручную и развешивать сушиться на улице на ветру. Дэвид был удивлен, как это он ни разу не задавался этим вопросом: он, который в юности сам стирал свое белье, – видимо, он уже был более избалованным по сравнению с матерью. Ему нравилось ее удивление, когда она обращала внимание на отсутствие хлопающих на ветру простыней. Это производило на нее больше впечатления, чем те знаменитые режиссеры и актеры, которых она встречала, не узнавая их, на вечерах Кристофера и Дона в старом доме в испанском стиле на Аделейд-драйв, где они устраивали приемы: Деннис Хоппер[26], Билли Уайлдер, Тони Ричардсон[27], Игорь Стравинский, Джордж Кьюкор, Джек Николсон и другие. Иногда Дэвид доставлял ей удовольствие, приглашая к чаю Кэри Гранта, чьи фильмы она посмотрела все до единого.
Ее детская наивность казалась сыну самой большой ценностью в мире. Только ребенок мог смотреть на мир вот так, не отвлекаясь на глупые заботы взрослых. Только ребенок мог наблюдать за муравьями, собирающими крошки, за божьими коровками, за каплями воды, падающими с листьев, за лужами и камнями. Дэвиду нравилось общество Байрона, который – единственный сын, растущий у разведенной матери, – выражался как взрослый, но имел логику ребенка. Он видел, как Байрон родился и рос, потому что Энн жила в двух шагах от него, в Ноттинг-Хилле, и часто навещал их, бывая в Лондоне, но никогда не жил бок о бок с ними более двух недель кряду. Байрон – настолько же яркий шатен, насколько его мать рыжая, красивый мальчик итальянского типа с большими глазами – интересовался всем, задавал тысячу вопросов, но также умел не мешать чужой беседе или молчанию и смотреть, как работает Дэвид, не отвлекая его. Когда они играли в карты, он неистово желал выиграть. Рядом с ним Дэвид чувствовал себя одновременно и как отец, и как ребенок.
Их совместное пребывание, о котором поначалу он думал с некоторой опаской, оказалось замечательно легким и приятным. Они все так хорошо ладили между собой, и Калифорния так нравилась его матери, Энн и Байрону, что он пригласил их приехать снова как можно скорее. Тогда они будут жить в более комфортных условиях, так как он рассчитывал переехать из квартиры в дом: теперь он был уверен, что хочет остаться в Лос-Анджелесе, где нашел идеальное равновесие между одиночеством и жизнью в обществе. Летом Грегори обнаружил на Голливудских холмах один подходящий домик. Он стоял в конце тупика – глухой улицы под названием Монкальм-авеню, утопавшей в зелени. Это была вилла без особых удобств, но просторная, на территории которой было несколько бунгало и бассейн. Они переехали. Было решено, что Лора, Энн и Байрон приедут к ним на Рождество.
Дэвид работал над будущей постановкой в Метрополитен-опера – трехактным спектаклем на французскую музыку начала XX века, включавшим балет Сати «Парад», декорации к которому при первой постановке, в 1917 году, были сделаны Пикассо, – «Груди Терезия» Пуленка и «Дитя и волшебство» Равеля; все три части объединялись под общим названием «Парад». Эта была его третья опера и первая – в Америке. Он все еще не нашел решения для своей большой картины, и ему надо было отвлечься. Писать декорации было легче, чем картины: достаточно несколько часов подряд слушать оперу и дать волю своему воображению. Музыка сама диктовала цвета и формы. Работать было тем более приятно, что постановщик из Нью-Йорка заказал для него макет сцены Метрополитен-опера, оборудованный миниатюрной системой колосников, тросов и даже освещением.
Этот макет доставил большую радость Байрону, приехавшему на рождественские каникулы в Лос-Анджелес вместе с матерью и Лорой. Подростка восхищало все: и новый дом, спрятанный в густой зелени, привлекавшей енотов, опоссумов и оленей; и бассейн фасолевидной формы, где он плескался с утра до вечера, испуская радостные вопли; и вечно теплая погода, позволявшая ему купаться в декабре; и особенно – невероятная игрушка, благодаря которой Дэвид испытывал свои задумки для постановок, предлагая их немногочисленной привилегированной публике. Теперь у него на подхвате был новый четырнадцатилетний помощник – и Грегори, устав от почти ежедневного повторения спектакля, был рад такой замене. На Рождество Дэвид, в восторге оттого, что наконец кто-то рядом с ним разделяет его самую большую страсть, повез Байрона в Диснейленд. Они побывали на огромном количестве аттракционов, закончив самым любимым Дэвидом – «Пиратами Карибского моря». Когда их лодка резко опустилась в темноту и среди звона цепей кто-то дотронулся до их лиц, испуская зловещие звуки, мальчик завопил и крепко вцепился пальцами в руку Дэвида, который тоже кричал – но от радости, а не от ужаса, потому что знал маршрут наизусть. И когда двадцать минут спустя они вернулись к двум своим англичанкам: сребровласой и рыжеволосой, – сидевшим на лавочке, где они их оставили, и Байрон бросился к матери, крича, что ей обязательно нужно туда пойти, что это совсем не страшно, Дэвид улыбнулся. Он прежде не думал о детях, да у него и времени не нашлось бы заниматься их воспитанием, но если бы все же ребенок случился, то он хотел бы, чтобы он был как Байрон: живой, любопытный, открытый и восприимчивый. Чуть позже, когда на закате дня они направлялись к выходу из парка – дамы друг с другом под руку и впереди них Дэвид с Байроном, лакомившиеся сахарной ватой, – Энн вдруг расхохоталась: «Да вы просто два сапога пара! Я спрашиваю себя, кто из вас моложе!» Больше польстить ему было трудно. В конце их двухнедельного пребывания, которое пролетело как миг, он пообещал Байрону, что в следующий приезд свозит его на Гранд-Каньон. Глаза мальчика загорелись. Он повернулся к матери.
– Мы можем вернуться сюда на Пасху?
Взрослые засмеялись.
– Ну спасибо, Дэвид. Теперь мне каждый день придется слушать этот же вопрос. Солнышко, я хочу обратить твое внимание, что мы в этом году приехали уже второй раз и Лос-Анджелес от нас вовсе не в двух шагах! К тому же ты проводишь каникулы на Пасху со своим отцом.
– На твое пятнадцатилетие, Байрон!
– Но это еще так не скоро!
Дэвид был огорчен, что они уезжают.
По дороге в Англию, несколько месяцев спустя, он задержался в Нью-Йорке, где незадолго до этого в MoMA – Музее современного искусства – открылась большая ретроспективная выставка Пикассо. Работы испанского художника занимали там сорок восемь залов. Рисунки, гравюры, офорты, картины, скульптуры – здесь было представлено все и за все периоды: «голубой», «розовый», период кубизма… Размах выставки ошеломлял. Это было, как если бы Пикассо вдруг изобразил все содержимое Лувра, как если бы он одновременно был Пьеро делла Франческой, Вермеером, Рембрандтом, Ван Гогом и Дега. Он был гением. Творчество его было бесконечно, во всех смыслах этого слова. В течение пяти дней, проведенных Дэвидом в Нью-Йорке, он ежедневно возвращался в MoMA; особенно его поразила одна картина 1951 года, которая прежде была ему незнакома, – «Резня в Корее», написанная Пикассо в разгар корейской войны, под влиянием картин «Третье мая 1808 года в Мадриде» Гойи и «Расстрел императора Максимилиана» Мане. На картине изображена группа женщин и детей с искаженными от ужаса лицами, стоящих перед солдатами в масках, похожими на роботов, которые готовились их убить. В этом полотне сочеталось все, что было важным для Дэвида: совершенная композиция, отсылка к другим значительным произведениям, дух времени, человечность и важность сюжета.
Ему должно было исполниться сорок три. Он был в середине своего жизненного пути. Но что он сделал после своей ретроспективной выставки в галерее Уайтчепел, со времени которой – 1970 года – прошло уже десять лет? Конечно, он много работал. Множество рисунков и гравюр, декорации к постановкам трех оперных спектаклей, но сколько он написал картин? Хотел ли он остаться в истории только как художник-график или художник-декоратор?
Выставка придала ему слишком много позитивной энергии, чтобы он чувствовал грусть или беспокойство. Острое желание работать проникло в кровь и билось в жилах. Приехав на лето в Лондон, он с невероятной скоростью написал шестнадцать картин на тему музыки, навеянных его театральными декорациями. Его обуревало только одно желание: вернуться в Калифорнию, где его меньше дергали, и снова взяться за свою большую картину.
В день возвращения ему позвонил режиссер-постановщик и сообщил, что из-за забастовки в Метрополитен-опера представления трехактного спектакля, над которым он работал с такой радостью и воодушевлением, откладываются и могут вообще отмениться. В отвратительном настроении он переступил порог мастерской и взглянул на «Бульвар Санта-Моника» в надежде, что за лето достаточно отстранился от этой работы, чтобы теперь понять, что в ней не так.
Картина показалась ему абсолютно безжизненной. Просто кошмаром.
В углу мастерской он заметил небольшой холст, написанный им когда-то абы как, на скорую руку, без всякой цели – просто чтобы попробовать новые для него акриловые краски. Изображение какого-то случайного каньона на этом холсте показалось ему более живым и интересным, чем грандиозное творение, над которым он работал вот уже почти два года. Чтобы подстегнуть его писать побыстрее, Генри как-то сказал, что нет никакой связи между временем, затраченным на работу над произведением искусства, и конечным результатом. Что ж, в который раз он оказался прав.
Стремительно обернувшись к помощнику, Дэвид ткнул пальцем в «Бульвар Санта-Моника»: «Убери ее отсюда, пожалуйста. Можешь ее выкинуть».
В эту ночь он не спал. Ворочался в постели, спрашивая себя: как можно было провести над картиной целых полтора года и прийти к выводу, что она никуда не годится? Он полностью переделал «Портрет художника» и картину «Мои родители». Но «Бульвар Санта-Моника» безнадежен, он был уверен в этом. Может, он взялся за эту картину по неверным соображениям: ему просто хотелось создать грандиозное полотно? Не стало ли его расставание с Питером одновременно и расставанием с живописью? Излечившись от желания быть с Питером, не отказался ли он от желания вообще, что лежит в основе творческого процесса?
У него были две руки, две ноги, два глаза, превосходная техника – однако от него ничего не зависело. Возможно, он где-то потерял свою голубую гитару и ничего не мог с этим поделать. Может быть, ему не придется теперь писать ничего, кроме декораций – да еще для постановок, которые даже не будут сыграны. Нужно было смириться с этим. Но это лучше, чем писать посредственные картины.
Ему вспомнились статья Хилтона Крамера, все еще приколотая на стене в его мастерской, и слова другого знаменитого критика американского искусства, Клемента Гринберга, которые тот произнес одиннадцать лет назад, войдя в галерею Эммериха, где проходила персональная выставка Дэвида: «Серьезная галерея не должна выставлять подобные работы». Он всегда насмехался над презрением критиков и над этим словом «серьезный». Он внезапно спросил себя, что такого видели они в его работах, чего не видел он сам? Но действительно ли он не видел? Разве статья Крамера не нащупала его ахиллесову пяту – страх, что он плохой художник? Дэвид всегда сознавал свои слабые стороны. Он был превосходным рисовальщиком и колористом, но в его живописи было что-то застывшее: в нем не было легкости и свободы Пикассо и никогда не будет. У него не получится создать форму, подходящую его видению. Лень и желание идти проторенным путем привели к тому, что он вернулся к условностям мещанского натурализма, и другие вполне могли думать, что его устраивает писать реалистические портреты, подобно какому-нибудь художнику XIX века: Крамер ничуть не ошибался. Вот в чем была проблема новой картины, которая, вместо того чтобы передавать движение – в соответствии с его видением, – оставалась пошло-реалистичной и безжизненной. Реализм в живописи не был реальностью, он был простой условностью.
Лежа в темноте и глядя в потолок широко открытыми глазами, он вдруг вспомнил замечание, сделанное Байроном по поводу этой картины в их приезд на прошлое Рождество:
– Мне это нравится, но выглядит как картинка.
– Картинка?
– Да. Все выглядит ненастоящим. Все слишком… как по линейке.
И Энн добавила:
– Я понимаю, что он хочет сказать. Это потому, что здесь много горизонтальных линий, параллельных краям холста.
В тот момент Дэвид пропустил это замечание мимо ушей, но оно явно вызвало в нем достаточно интереса, чтобы задержаться где-то в уголке памяти. Слова подростка внезапно показались ему озарением. Байрон выявил проблему картины. Дэвид строил ее композицию, ориентируясь на сделанные им фотографии бульвара. Это было ошибкой. Изображение на фотографии ограничивалось строго определенным углом, под которым она снималась, тогда как при взгляде человека его глаза перемещались и меняли точку зрения. И самое важное, человек не просто видел бульвар своими глазами, но и смотрел на него сквозь призму памяти и настроения.
У него возникло впечатление, что крошечный огонек вдруг промелькнул в конце туннеля, в темноте которого он блуждал с тех пор, как признался себе в неудаче своей картины. Может быть, еще есть надежда, если у него получится радикально поменять свою манеру писать? Если композицию картины он будет строить, полагаясь уже не на фотографии, а на память? Если будет пытаться не создавать грандиозное полотно, а просто писать то, что важно для него. Так он будет ближе к правде и жизни.
На следующее утро он вошел в мастерскую с легким сердцем.
С тех пор как он переехал в дом на Голливудских холмах, он по два раза в день проделывал путь между Монкальм-авеню и Западным Голливудом, слушая всю дорогу музыку благодаря шикарной системе динамиков, установленной им в машине. В конце дня, оставив позади шумные автострады Санта-Моники и Голливуда, он взбирался по крутым дорогам ущелья в окружении обильной, ошеломительно пахнущей зелени, которая напоминала ему юг Франции, и вдруг за поворотом перед его глазами возникал сияющий огненный шар или сверкало синевой море. Он рассчитывал свою скорость так, чтобы провести это мгновение, слушая оперную арию, в полной гармонии с чудесным видом. Это была не просто поездка на машине, а самый прекрасный момент его дня. Вот это ему и нужно нарисовать.
Он сделал маленький набросок, который показывал его маршрут через ущелье. Извилистая дорога пересекает по вертикали центр холста и окружена яркими цветными пятнами, изображающими холмы и зелень с разбросанными по ней там и сям деревьями и домиком. Эта картина не имела ничего общего с теми, что он писал до этого, – кроме той единственной, что получилась почти случайно, когда он пробовал акриловые краски, – и напоминала детский рисунок. Вторая картина была больше и размером, и притязаниями: он изобразил свой путь от дома до мастерской, используя более мягкие, приглушенные цвета и технику, местами почти напоминающую манеру пуантилистов. Дорога вьется, пересекая холст по горизонтали, и обрамляющий ее пейзаж более подробный, включая холмы, деревья, низкорослую растительность и вдобавок теннисный корт, бассейн, опору линии электропередачи, графленую карту центра Лос-Анджелеса и море на горизонте. Все выполнено в одном масштабе, как на картах, предназначенных для детей. Обе эти картины, как и те, что последовали за ними, – не пейзажи в традиционном понимании, а представляют собой путешествия во времени, полные жизни рассказы, очаровывающие уравновешенностью теплых тонов и геометрических форм. Критики точно решат, что он впал в детство. У Дэвида не было никаких сомнений: он на верном пути.
Он не потратил времени зря, ни трудясь над «Бульваром Санта-Моника» – потому что теперь знал, отчего его старая манера писать не могла принести результата, – ни создавая театральные декорации – потому что работа с трехмерными объектами изменила его взаимоотношения с пространством.
Трехактный музыкальный спектакль в конце концов был сыгран на сцене, хоть и с опозданием на год. В январе 1981 года в Нью-Йорке, где Дэвид присутствовал на последних репетициях «Парада», он познакомился с очаровательным светловолосым студентом. Это произошло на ужине у Генри, в доме на 9-й улице, куда тот не так давно переехал вместе с молоденьким любовником. Он предложил студенту тем же вечером прийти на репетицию в «Мет». Когда после спектакля они вышли из театра, кругом была кромешная темнота: в городе произошло аварийное отключение электричества. Метро не работало, автобусы не ходили, найти такси было невозможно. Им ничего не оставалось, как отправиться пешком от Линкольн-центра[28] до квартала Вест-Виллидж. Дэвид вынул из кармана новенький плеер, который произвел большое впечатление на его спутника – такие штучки появились в продаже совсем недавно; у него оказалось даже две пары наушников. Было ужасно холодно; при выдохе у них изо рта вырывались облачка пара. В темноте дорогу им помогали различать лишь свет луны да фары проезжавших автомобилей. Они шли по Бродвею через Таймс-сквер, Средний Манхэттен, мимо Флэтайрон-билдинг[29], соединенные друг с другом проводочками, выходившими у них из ушей, и музыкой, взрывавшей их барабанные перепонки. Юноша был хорош собой, казался тонко чувствующим и интеллигентным. Могла ли идти речь о новых отношениях? Иэну было двадцать два года, Дэвиду – почти вдвое больше. Тот жил в Нью-Йорке, Дэвид – в Лос-Анджелесе. Их разделяли целое поколение и целый континент.
Премьера «Парада» стала триумфом. Все критики в один голос утверждали, что это был его «Парад»: его декорации и его костюмы превратили спектакль в настоящее пиршество для глаз. И когда режиссер-постановщик предложил Дэвиду поработать над новым спектаклем, он согласился, хотя Генри заметил на это, что он не сможет добиться такого же успеха второй раз подряд и работа над декорациями будет снова отвлекать его от живописи. Все это было верно, но данное занятие давало ему повод чаще бывать в Нью-Йорке.
Когда Дэвид звонил Иэну, тот откладывал все дела. Они вместе ходили на выставки и в кино, ужинали в ресторанах. Дэвид знал, что Генри как-то встречал Иэна в гей-баре и юноша вовсе не был недотрогой, но он боялся одним неловким движением испортить их зарождавшуюся дружбу. В конце года он предложил Иэну переехать в Лос-Анджелес: он мог бы учиться в Колледже искусств и дизайна Отис – аналоге нью-йоркской Школы Парсонс, – жить у Дэвида и работать на него. В мастерской он научится большему, чем на занятиях. Иэн воодушевился идеей, попросил перевода и в январе 1982 года переехал в Лос-Анджелес. Это стало знаком, которого ждал Дэвид. Совсем скоро они разделили и его спальню.
В сорок пять лет жизнь все еще могла преподносить ему подарки. Нужно было просто сохранять дух игры и смелость: смелость вопить во весь голос от радости и от страха; смелость заявить, что любишь Диснейленд; смелость объедаться, как ребенок, сахарной ватой; смелость идти навстречу своему сиюминутному желанию; смелость уничтожить свою работу; смелость пытаться сделать что-то новое, играть, заниматься тем, чего взрослые себе не разрешают. Постоянно чувствовать связь со своим внутренним ребенком. Вместе с Иэном они перекрасили дом на Монкальм-авеню, который он только что купил, выбрав такие резкие, контрастные цвета, что со стороны казалось, будто находишься на картине Матисса: стены карминно-красные с ярко-зеленым, пол и перила террасы небесно-лазоревые. Они слили воду в бассейне, и Дэвид нарисовал на дне маленькие волнообразные темно-синие линии.
Эти перемены не понравились Грегори, и Дэвиду пришлось напомнить ему, что их отношения были свободными и что тот был не против, так как сам пользовался этой свободой. «Но не у нас дома, не у тебя же на глазах!» – воскликнул его любовник. Дэвид несколько лицемерно возразил, что не видит никакой разницы. Но он был искренен, когда уговаривал Грегори смириться с этой ситуацией, которая ничуть не уменьшала силу их привязанности. Он любил его, они вместе работали, оба шли по одному и тому же пути, их ждало общее будущее. И это будущее было гарантировано им именно этой их договоренностью: что в основе их отношений лежит более прочная привязанность, чем плотское желание. Верность – мещанское понятие. Он слишком много страдал с Питером – от чувства брошенности, от одиночества. Не оставаться больше одному означало для него как раз это: ставить отношения с партнером выше сексуальных желаний. Все, что было между ними: дружба, взаимное уважение, близость эстетических вкусов, работа, нежность, – очень важно. Грегори позволил себя убедить, но, чтобы поднять себе настроение, которое резко портилось с приближением ночи, стал часто прибегать к бутылке, марихуане или более тяжелым наркотикам.
Иэн едва успел переселиться, как к Дэвиду явился куратор из Бобура – Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду, – чтобы просить его принять участие в выставке фотографии и искусства. Уже на месте, в Лос-Анджелесе, он накупил кучу дорогой поляроидной пленки, чтобы сделать фотографии снимков, негативы которых Дэвид не мог найти, и уехал, оставив после себя довольно много неиспользованных кассет. На следующий же день после его отъезда Дэвид поддался порыву сам использовать пленку. Он фотографировал отдельные детали в разных комнатах дома под различными углами.
Когда он соединил снимки в коллаж «Мой дом, Монкальм-авеню, Лос-Анджелес, пятница, 26 февраля 1982 года», почувствовал легкое покалывание в теле. Дэвид узнал это ощущение: то же самое было с ним, когда он решил поместить буквы и цифры на свои картины в Королевском колледже или позже, когда печатал свои бассейны на бумаге в Нью-Йорке. Не было ничего важнее, чем это чувство наслаждения от работы, в которую он уходил с головой, как ребенок погружается в игру. Нужно было следовать этому чувству, не зная еще, куда оно его приведет. Подборка из тридцати поляроидных снимков позволяла зрителю бродить из комнаты в комнату, сквозь время и пространство, в отличие от одной-единственной фотографии, которая бы запечатлела лишь одно мгновение. Таким образом, речь, в сущности, шла не о фотографии, а о «фотографической живописи». Десять лет назад его покоробило название выставки, которая тогда проходила в Музее Виктории и Альберта в Лондоне: «С этого дня живопись умерла[30]: рождение фотографии». Теперь он как художник брал у фотографии реванш, используя ее же изобразительные средства против нее самой. Переворачивал обычное восприятие фотографии, привнося в нее длительность и движение.
За одну неделю он сделал сто пятьдесят коллажей. После этого принялся фотографировать людей и одновременно писать с них портреты, в которых явственно прослеживалось влияние фотомонтажа: портреты Иэна, Селии, Грегори напоминали картины кубистов. Его новое пристрастие только возросло, когда он купил маленький фотоаппарат Pentax, позволявший делать коллажи без характерных для поляроидных снимков белых полей, которые прерывали пространственный поток образов. В работе он следовал только одному правилу: не резать фотографии. Но он совсем не обязан сохранять параллельность краям страницы. Лихорадочное возбуждение лишало его сна. Посреди ночи он будил Иэна или Грегори, чтобы они восхитились его новым коллажем. Общаясь с Генри по телефону, он не говорил ни о чем другом, с трудом делая вид, что его интересуют профессиональные заботы его самого близкого друга. Генри заявил ему, что он чокнулся, а дом на Монкальм-авеню обозвал «Припадочной горой»[31]. Дэвид, смеясь, признался ему, что Кристофер когда-то сравнил его с сумасшедшим ученым. Весь пол в его мастерской был усыпан тысячами фотографий. Он просто не мог остановиться. Его последняя к тому времени композиция насчитывала сто шестьдесят восемь снимков. Развитие технологии еще больше способствовало его воодушевлению: проявлять фотографии теперь можно было всего за час! Единственной трудностью оставалось убедить работника фотолаборатории печатать все снимки – даже те, что казались испорченными.
По сравнению с радостью, которую доставляла ему эта новая игрушка – его новый творческий опыт, – все остальное теряло всякое значение. Кроме разве что письма, полученного им от матери в июле, ко дню его сорокапятилетия, где эта чудесная и столь дорогая его сердцу женщина впервые затрагивала, – прибегая к целому ряду недомолвок и околичностей, – вопрос гомосексуальности. В письме она признавалась, что ничего не знала об этом, но несколько лет назад купила книгу Барнетта «Вся правда о гомосексуальности» – в надежде лучше понимать своего сына. Она беспокоилась, что не была ему хорошей матерью, и задавалась вопросом, ответственны ли родители за такую «особенность» их детей, благодаря сына, что он никогда ни за что не упрекал ее. И желала ему всего счастья, какое только возможно. В этом наивном письме было столько любви и благородства, оно свидетельствовало о такой прекрасной душе, что, читая его, Дэвид и смеялся, и был растроган до слез.
Что же до остального… Опера Стравинского в Метрополитен-опера не имела никакого успеха, как и предсказывал Генри, что не помешало Дэвиду принять еще одно предложение «Мет», на этот раз касавшееся балета. Грегори слишком много пил, а напившись, становился вызывающе ревнивым и агрессивным. Это было огорчительно, но рано или поздно он поймет, насколько дорог Дэвиду, и успокоится. У его друга Джо Макдональда была такая тяжелая пневмония, что ему пришлось лечь в больницу. Дэвид ездил повидаться с ним в Нью-Йорк и был поражен, насколько болезнь изменила Джо; но о нем хорошо заботились, и он, конечно, скоро поправится. Иэн объявил ему, что должен вернуться жить на Восточное побережье, чтобы быть рядом с отцом, у которого обнаружили рак. Дэвид философски отнесся к отъезду юного любовника – во всяком случае, это обрадует Грегори.
В гости к нему приехал Генри. Дэвид только и мечтал показать ему выполненные им фотомонтажи и разделить с ним свой восторг, но друг слушал его излияния вполуха. Он собирался отказаться от должности уполномоченного по вопросам культуры города Нью-Йорка, на которую пять лет тому назад его назначил Коч[32], – изматывающей работы, отнявшей у него все силы и лишившей его здоровья. Когда он упомянул, что боится не справиться с расходами, связанными с лечением, Дэвид понял, что он приехал просить у него денег: его лучший друг пытался его использовать! Они поругались. Генри обвинил его в мелочности и себялюбии и уехал раньше, чем собирался вначале. За двадцать лет знакомства они ни разу не ссорились так сильно.
В августе к нему приехали Энн и Байрон, чтобы провести каникулы в Калифорнии, – впервые за вот уже больше чем два года. Как и обещал, он повез Байрона посмотреть на Гранд-Каньон. Подросток был в восторге от пустыни. Дэвид снял море фотографий: он хотел сделать коллаж, который бы создавал у зрителя впечатление, что он любуется пейзажем, крутя головой во все стороны, – позволяя ему видеть одновременно и сухую траву под ногами, и оранжево-желтые краски каменной породы и ее разломов, и, наконец, горы на горизонте. Сидя на утесе рядом с Байроном, когда вокруг были только бездонное небо и скалы в розовом свете заходящего солнца, он мысленно возвращался к письму, недавно полученному им от Генри: тот писал, как сильно разочарован. Он напомнил Дэвиду, что поддерживал его в самые трудные моменты: когда его бросил Питер, когда умер его отец, – и единственный раз, когда ему, в свою очередь, понадобились дружеское участие и поддержка, тот, кого он считал своим другом, даже не стал его слушать: страсть, направленная исключительно на собственную работу, сделала его эгоистом и просто глухим. Дэвид рассказал об их ссоре Байрону, который не задумываясь посоветовал:
– Ты должен извиниться.
– Но, в конце концов, это он меня оскорбил! Ему нет дела до меня, до моей новой работы. Все, за чем он приехал, – это взять у меня бабла!
– Но ему же нужны деньги, правда? Ему наверняка непросто просить у тебя. Ты представляешь себя на его месте?
У Дэвида возникло впечатление, что Байрон снял повязку с его глаз. Он понял, что Генри чувствовал себя униженным, а он оттолкнул его. В словах мальчика, которому не исполнилось и шестнадцати лет, звучала мудрость старика – или святая простота, свойственная детям. Он поблагодарил его.
Дэвид отправил Генри письмо с искренними извинениями и предложил помощь. Он написал также Иэну, чтобы сказать, что его дверь всегда открыта для него, и попросить у него прощения за то, что с головой ушел в свои фотомонтажи, которые для студента были наверняка не столь поучительны и полезны, как занятия живописью.
Это было хорошим решением, потому что Генри с ним помирился, а Иэн два месяца спустя снова приехал жить в Калифорнию.
IV. Значение смерти сильно преувеличено
Однажды вечером в ноябре, когда они с Грегори и Иэном ужинали, зазвонил телефон. На другом конце провода был Дэвид Грейвз – ассистент Дэвида в Лондоне и его друг с тех самых пор, как семь лет назад они впервые встретились на премьере оперы «Похождения повесы» в Глайндборне. А кроме того, он был спутником жизни Энн – они познакомились у их общих друзей. Когда Грейвз произнес: «Дэвид?», в его мягком голосе было что-то такое, что Дэвид сразу узнал, – металлические нотки, уже слышанные им в голосе брата тем февральским утром три с половиной года назад, как будто лишенные резонанса, – такой голос предвещал беду. Байрон. Байрон, которому недавно исполнилось шестнадцать; Байрон, которого Дэвид летом возил посмотреть на горячие источники в Хот-Спрингс, на город-призрак Калико в пустыне Мохаве и на Гранд-Каньон; Байрон, который всего три месяца назад был здесь, в этом доме, рядом с ним: смеялся, играл в карты и в скраббл, шутил, помогал ему выбирать снимки – целых семьдесят шесть – для собственного фотомонтажа; Байрон, который давал ему самые лучшие советы. Его крики восторга и ужаса в Диснейленде, когда ему было четырнадцать лет, все еще звучали в ушах Дэвида. Байрон умер. Под действием галлюциногенных грибов – в Англии они не были запрещены – он спустился на рельсы лондонского метро, и его задавил поезд.
Дэвид вылетел в Англию. Он не знал, что сказать Энн. Он не мог найти слов. Если его мать после смерти отца представляла собой образ воплощенной печали, то Энн была сплошным безмолвным криком. Он стиснул ее в объятиях, они вцепились друг в друга, как двое утопающих, и рыдали. Она потеряла все. Он даже не мог попытаться представить себе, что должна чувствовать женщина, которая выносила дитя в своем чреве, дала ему жизнь, воспитала его – и как хорошо воспитала! – любила его каждой клеточкой своего тела, всем сердцем, всей душой и которая не смогла уберечь его от него самого. На свете не было похорон печальнее, чем те, что состоялись на кладбище Кенсал-Грин 11 ноября, после полудня. Пришли все их друзья времен Королевского колледжа, и среди них – Майкл, отец Байрона. Эту бесконечную печаль Дэвид выразил в фотомонтаже, выполненном сразу после церемонии. Коллаж представлял его мать под дождем, среди руин Болтонского аббатства, в длинном зеленом плаще с капюшоном и с морщинистым лицом, на котором отражалась вся мировая скорбь. Он пригласил Энн и Грейвза навестить его в Лос-Анджелесе – или даже вообще переехать туда, почему бы и нет? Этот город будет меньше напоминать ей о Байроне, чем Лондон; а жара, солнце и море смогут помочь ей жить дальше.
На обратном пути он остановился в Нью-Йорке, чтобы повидать Джо Макдональда, который наконец вернулся домой после долгого пребывания в больнице. Он был в плохом состоянии и должен был оставаться в постели; за ним ухаживала мать. В тридцать семь лет ему спокойно можно было дать все восемьдесят. Он невероятно исхудал – просто кожа да кости – и своим осунувшимся лицом с глубоко запавшими глазами походил на скелет. От его прежней красоты ничего не осталось. Теперь уже было ясно, что его недомогание было не пневмонией, а так называемым «раком геев» – СПИДом, то есть болезнью, которая передавалась половым путем и поражала естественную иммунную систему организма. Лечения от нее еще не существовало. Чтобы отвлечь Джо, Дэвид рассказал ему о своей новой работе и с его разрешения сфотографировал его для монтажа.
Мать Дэвида вместе с Энн и Грейвзом провели рождественские праздники в Лос-Анджелесе – как и то Рождество сразу после смерти отца Дэвида, три года назад. Теперь уже старшая из женщин взяла на себя заботу о младшей. Пока Дэвид в компании Грейвза работал над декорациями к балету, заказанными ему Метрополитен-опера, Энн ходила на прогулки с Лорой и плакала у нее на плече. Их соотечественник, кинорежиссер Тони, живший в Лос-Анджелесе, пригласил их к себе на новогодний вечер. У него были две дочери, младшая из которых – ровесница Байрона: Энн должна была уйти с праздника вместе с Грейвзом. Вечером, сидя на террасе дома на Монкальм-авеню, выкрашенной в небесно-лазоревый цвет, они играли в скрабл, а Дэвид их фотографировал. Он сделал из этих снимков коллаж, которому придал неправильную форму, изображавшую слова на игровом поле. Справа он поместил дюжину снимков, где была его мать, сосредоточенная на игре (она играла превосходно и выигрывала все партии): строгий профиль, руки с узловатыми пальцами, сложенные под подбородком или двигающие фишки с буквами; в середине – восемь фотографий Энн: они частично накладывались одна на другую и показывали, как она напряженно думает, уйдя в размышления и потирая рукой лоб, или как смеется от радости, что наконец нашла слово, которое принесет ей всего-навсего шесть очков; слева располагались снимки Грейвза, с нежностью повернувшегося к ней с полным заботы и внимания лицом и улыбающегося, когда ей весело; еще левее был кот, который, в свою очередь, играл или смотрел на них с невозмутимым видом. Сочетания цветов были невероятно гармоничными. Серый цвет платья и седина волос его матери перекликались с цветом игрового поля, рыжие волосы Энн находили отражение в красном дереве стола, и красный цвет вместе с синим цветом ее платья и желтым – ожерелья повторялись в синих, желтых и красных квадратах пуловера Грейвза. Благодаря технике фотомонтажа в памяти навсегда останется не какой-то один зафиксированный во времени момент, а целая последовательность моментов, когда за партией игры в скрабл Энн отвлекалась от своего горя.
Он продолжал делать фотомонтажи в Англии, куда отправился проводить мать и впервые свозить на свою родину Иэна, затем – в Японии, куда его пригласили прочитать лекцию. На этот раз его сопровождал Грегори. Фотографируя сад камней храма Рёан-дзи в Киото, он заметил, что его новая работа позволяет ему менять перспективу. Обычная фотография сада превратила бы его в треугольник, в то время как фотомонтаж сохраняет его форму прямоугольной – такой, какой ее видел посетитель, когда медитировал в саду или обходил его по периметру. По возвращении из Японии он остановился в Нью-Йорке, где проходили последние репетиции балета, для которого он делал декорации вместе с Грейвзом. Каждый день он навещал Джо Макдональда, снова лежавшего в больнице, – он был так болен и так слаб, что в палату к нему разрешалось входить, лишь надев маску и перчатки. Это был конец. Энн приехала в Нью-Йорк, чтобы попрощаться с Джо, который был также и ее другом.
17 апреля Джо умер. На похоронах присутствовало все гей-сообщество Нью-Йорка, все та же толпа, заполнявшая бары, клубы и общественные бани – в этот день закрытые – и танцевавшая всю ночь напролет на Файр-Айленд. Люди смеялись, вспоминая пикантные моменты с сексуальным Джо, а минуту спустя мрачнели, с тревогой спрашивая себя, кого следующего из них скосит СПИД. По одному из тех нелепых совпадений, которые жизнь со всем ее безразличием предлагает нам, создавая ощущение шизофрении, похороны Джо проходили в тот же день, что и генеральная репетиция балета в Метрополитен-опера. Дэвиду пришлось побывать и там, и там. Днем он произнес посвященную Джо речь – на что у него не хватило сил ни на похоронах отца, ни на похоронах Байрона – и сдерживал дрожь при виде гроба, опускаемого в могилу; а вечером, мрачный и придирчивый, он проверял, чтобы на сцене театра все было идеально.
Как и все его друзья-гомосексуалисты, он каждый день изучал свое тело – даже спину – в зеркале, страшась увидеть на нем маленькое черное пятнышко: первый признак надвигающейся беды. У него не было столь многочисленных связей с мужчинами, как у Джо, но и на его долю выпало достаточно приключений и мимолетных знакомств – благодарение Богу за то, что все это по большей части происходило за добрый десяток лет до появления эпидемии СПИДа.
Теперь Джо – через шесть месяцев после Байрона, спустя четыре года после его отца. Три возраста жизни, скошенные один за другим. В смерти Джо было не больше смысла, чем в смерти Байрона. Как могло что-то столь прекрасное, здоровое и свободное, как секс, принести смерть? Да еще коснуться среди всех прочих именно геев, которые с зубами и когтями сражались за свои права? Как могла поражать их эта жестокая болезнь, как будто Господь снова проливал на них дождем серу и огонь, о чем спешили заявить гнусные консерваторы.
Дэвид был в изнеможении от тоски и усталости и нуждался в отдыхе. Он повез Иэна и Энн с Грейвзом на Гавайи. Когда эти двое – его лондонские друзья – вдруг решили пожениться, наткнувшись на рекламу гламурной свадебной церемонии в пещере, Дэвид делал снимки для фотомонтажа. После его возвращения в Нью-Йорке открылась выставка его новых фоторабот. Он был счастлив прочесть в «Нью-Йорк таймс», что он «освободил фотографическую перспективу от тирании линзы». Зато та же самая выставка в Лондоне в июле прошла почти незамеченной. Никто из английских критиков не увидел ничего интересного в его работе с фотоаппаратом. Все находили, что такой большой художник, как он, попусту растрачивает свой талант и зря теряет время.
Работы по устройству мастерской на месте теннисного корта рядом с его домом на Монкальм-авеню были закончены, и ему не терпелось снова начать писать картины. Когда директор одного музея в Миннеаполисе предложил ему устроить выставку, посвященную его оперным декорациям, Дэвид сначала отказался: показывать эскизы и чертежи казалось ему скучным. Но у него родилась идея написать картины по мотивам своих декораций и оживить их, добавив людей и зверей. И он очертя голову бросился в этот новый проект. У него было всего несколько месяцев, чтобы написать огромных размеров полотна и персонажей. Он работал с рассвета до заката вместе со своими помощниками. Каждый день ум его был занят решением новой трудной задачи. Как изобразить персонажей таким образом, чтобы это не было банально реалистичным? В углу мастерской у него хранилась стопка небольших чистых холстов, к которым он никогда не притрагивался. А что, если он скомпонует их – как фотоснимки – и напишет на каждом какую-то часть тела: голову, торс или ноги? А как быть со зверями? Он все-таки решил не покупать плюшевых зверей в магазинах игрушек, а вырезал их из больших листов толстого пенопласта и потом расписал. Эта физически очень тяжелая работа имела свое преимущество: она выматывала его так, что к ночи он просто валился с ног и забывался глубоким сном без сновидений.
Пока собственными руками и при поддержке помощников он создавал этот сказочный мир, Дэвид еще и рисовал, и писал портреты – себя самого и Иэна, – вдохновленные фотомонтажами. В одном из них он наложил два изображения Иэна: одно – где его любовник спал как ангел под растроганным взглядом Дэвида, другое – где он поднимал взъерошенную голову и тыкал ему пальцем в глаз, в ярости оттого, что Дэвид разбудил его своими ласками, когда он совершенно не хотел заниматься любовью. Увидев рисунок, Иэн расхохотался: «Я что, и правда такой злюка?» Было очевидно, что он вернулся в Лос-Анджелес ради развлечений, а не ради Дэвида. А сам Дэвид уже вышел из того возраста, чтобы сопровождать молодого парня на тусовки, куда тот отправлялся каждый вечер, к тому же он никогда не был ярым тусовщиком – даже в те времена, когда они с Джо ходили в «Рэмрод» или «Студию 54»: самым его большим удовольствием было наблюдать за окружающими. Иэн возвращался на рассвете, незадолго до того как Дэвид вставал.
В сорок шесть лет он впервые почувствовал себя старым. Таким он и изображал себя на своих рисунках и картинах. Теперь это был не вечно юный блондин со своими всегдашними непарными носками и полосатой рубашкой поло, а обнаженный мужчина с эрегированным пенисом, обуреваемый неудовлетворенными желаниями, или же уставший человек, медленно, но верно подбирающийся к возрасту, который никогда не наступит ни для Джо, ни для Байрона. Когда Иэн как-то вечером объявил ему, что собирается съехать, Дэвид не удивился. Он не стал устраивать сцен, так как всегда знал, что Иэн его бросит. Да и, по правде говоря, это был не конец света, даже если ему и было больно. Ему не на что жаловаться. Ведь он жив, и Иэн – тоже. Он даже не одинок, потому что с ним Грегори – его верный и преданный Грегори, который с ним работал, ужинал, курил, пил и спорил до поздней ночи. С Грегори было нелегко, алкоголь и наркотики могли пробудить в нем буйный нрав, и Дэвид не раз возил его среди ночи в больницу, но он сражался со своими демонами. А когда был трезв, он был лучшим из всех его друзей, любовников и помощников.
В Центре искусств Уокера в Миннеаполисе, куда Дэвид отправился вместе с Грегори на вернисаж, посвященный его оперным декорациям, они зашли в музейный магазинчик, и его взгляд упал на книгу в черной обложке под названием «Принципы китайской живописи» профессора Джорджа Роули. Дэвид за год до этого побывал в Китае и нисколько не заинтересовался тамошней живописью, которая показалась ему слишком однообразной. Тем не менее, сам не зная почему, он взял в руки книжку и пробежал глазами оглавление. Одна из глав, с названием «Последовательность и смена ракурса», разожгла его любопытство. Он купил томик в черной обложке и принялся за чтение, как только вернулся в отель.
Мало сказать, что эта книга захватила его – она его перевернула. На ее страницах предлагалось теоретическое обоснование всего того, к чему сам он по наитию, на ощупь шел последние четыре-пять лет во всех своих художественных и фотографических новшествах и экспериментах. Он увидел, что, сам не зная того, перешел от традиции западной, более ограниченной, к восточной, более открытой. Европейская живопись навечно связана с изобретением перспективы в XV веке. И как раз тирании перспективы Дэвид пытался избежать в своих фотомонтажах и картинах, перемещавшихся во времени и пространстве. Китайцы делали в точности то же самое. В своих работах они соединяли интерьеры с внешним пространством и не ограничивали взгляд зрителя, который в жизни также не был ограничен перспективой. «Они следовали принципу подвижного ракурса, который позволял взору свободно блуждать в пространстве, пока зритель тоже блуждал в своем воображении по пейзажу», – прочел Дэвид. Каждое из этих слов могло быть написано им самим. В отношении линейной перспективы профессор Роули высказывал заманчивое предположение: «Обратная перспектива, в которой линии сходятся в глазу наблюдателя, была бы гораздо ближе к нашему реальному опыту». Выражение «обратная перспектива» заключало в себе то, о чем Дэвид интуитивно догадывался много лет назад, когда писал картину «Керби» по рисунку Хогарта, иллюстрировавшему грубые ошибки, которые допускает художник, если игнорирует законы перспективы. Дэвид тогда сказал себе, что эти ошибки создавали пространство более реальное, чем так называемое реалистическое пространство, потому что они давали волю воображению – самой индивидуальной и субъективной части нашей натуры.
Должен ли он был поверить в случайность или в судьбу? Каким чудом директору миннеаполисского Центра искусств Уокера пришла в голову мысль организовать выставку, которая привела Дэвида в этот далекий от него город, где он нашел книгу, прояснившую его мысли и пролившую свет на его работу? Это было просто невероятно. Доктор филологических наук, профессор Принстонского университета опубликовал эту книгу сорок лет назад, когда Дэвиду было шесть. Прочитанные им фразы придавали его исканиям теоретическую базу, в которой нуждается каждый художник, если уважает себя и хочет, чтобы его воспринимали всерьез. Он мог сколько угодно ненавидеть это понятие – «серьезность», во имя которой художественные критики – эти адепты элитарного искусства и снобы – презирали его веселые, ярко-пестрые картины, но в итоге понял, что его работа не определялась лишь простыми гедонистическими запросами. Речь шла об исследовании мира, как говорил Пикассо, который произнес однажды фразу, навсегда запомнившуюся Дэвиду: «Я не пишу картины; я исследую».
Несмотря на то что в нем еще было очень живо болезненное воспоминание о недавних похоронах Джо и Байрона, он испытывал небывалое воодушевление. В течение следующих месяцев он встретился с хранителями коллекций восточного искусства Метрополитен-музея в Нью-Йорке и Британского музея в Лондоне. В Метрополитен, когда он был там в январе, ему показали свиток длиной двадцать два метра – приказ китайского императора, датируемый 1690 годом. Дэвид провел четыре часа на коленях, постепенно разворачивая манускрипт и изучая каждую крошечную деталь, каждого малюсенького персонажа, которые изображались на свитке «День, проведенный на Великом канале с китайским императором». Он с трудом сдерживал свой восторг. Это гигантское открытие объединяло две его страсти: живопись и музыку, – так как обозначило ему путь к совсем другой живописи, в которой, как и в музыке, свои мелодии и контрапункты, крещендо и диминуэндо и которая, как и музыка, проверяется временем.
Он вернулся в Лос-Анджелес, исполненный вдохновения, и бросился за работу над большой картиной, представлявшей его пребывание в гостях у друзей Мо и Лизы, где была смена ракурса: она позволяла зрителю перемещаться из комнаты в комнату. Затем он написал прогулку по дому Кристофера и Дона – от мастерской, где Дон писал вид на море, до кабинета Кристофера в другом конце дома, где эта картина, уже законченная, висела на стене. Дэвид только в самых общих чертах набросал силуэты персонажей, чтобы они не отвлекали взгляд от главного сюжета картины – исследования, перемещения во времени. Вместе с тем картина стала настоящим взрывом разных форм и красок, где теплые тона теперь брали верх над холодными и где невозможно оторвать глаз от увиденного, еще даже не понимая, что именно изображено.
Ему было жаль прерывать работу, чтобы отправиться вместе с Грегори и Грейвзом на выставку его театральных декораций, проходившую в Музее международного современного искусства имени Руфино Тамайо в Мехико. На обратном пути у них сломалась машина, и в ожидании, пока ее починят, им пришлось провести пять дней в маленьком мексиканском городишке Акатлане, где было абсолютно нечем заняться. Грейвз и Грегори топили свою скуку в текиле, в то время как Дэвид в состоянии экстаза разглядывал внутренний дворик гостиницы, представляя свою будущую картину: он изобразит в обратной перспективе прогулку одинокого постояльца по этому дворику. Но человеческой фигуры на холсте не будет, потому что персонажем станет сам зритель, которому Дэвид позволит оказаться внутри картины благодаря своей новой манере изображать пространство.
Его имя становилось все более и более знаменитым. Каждый год в разных странах ему посвящали множество выставок. Сумма, за которую Эммерих продал его «Визит к Мо и Лизе, Эхо парк», перевалила за число с шестью нулями, как говорили в Соединенных Штатах. Его старший брат Пол – бывший бухгалтер, который затем занял пост мэра Брэдфорда, – оставил политику и заведовал теперь его делами. Вдвоем они приняли решение: Дэвид больше не будет предоставлять исключительных прав ни одной галерее, а станет сам контролировать судьбу своих работ. Он станет сам себе хозяином.
Потому что все остальное выходило у него из-под контроля. Иэн поселился вместе с одним молодым актером, и даже если этого следовало ожидать, Дэвид испытал горечь, напомнившую ему о предательстве Питера. В Париже двое из его самых близких друзей умерли от СПИДа, один за другим. В том же месяце, когда похоронили второго, Кристофер, в свою очередь, скончался от рака в Лос-Анджелесе. Он умер в совершенно «нормальном» возрасте, в восемьдесят два года, прожив долгую и яркую жизнь, но его уход оставил в сердце Дэвида пустоту, сопоставимую по размеру с его привязанностью к Кристоферу. У его близких друзей в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне и Париже был СПИД, кому-то оставалось жить несколько месяцев, кому-то – несколько лет. Энн с Грейвзом решили вернуться в Англию, хотя Дэвид умолял их передумать: что они будут делать в этом мрачном Лондоне? Энн соглашалась с тем, что переезд в Лос-Анджелес спас ей жизнь, и была за это бесконечно признательна Дэвиду, но теперь она чувствовала необходимость вернуться домой, к своим корням. Несмотря на многократные попытки, она так и не смогла получить водительские права, и жизнь в Лос-Анджелесе без машины делала ее очень зависимой. Хорошо понимая ее доводы, он все же чувствовал себя брошенным. После отъезда она написала ему, чтобы поблагодарить, и несколько слов в ее письме больно поразили его: «По своей природе ты остров, Дэвид. Ты устроен так, что возвышаешься сам по себе».
Он не хотел быть островом. Он любил компанию, он хотел иметь семью, друзей, близких людей вокруг, которые помогли бы ему не думать о тех, кто уже умер или собирается умереть. Но и последний из них тоже его бросил. Грегори, вернувшись после месячного курса детоксикации, однажды вечером заявил ему, что должен покинуть дом на Монкальм-авеню, поскольку хочет оставаться трезвым.
– Что за бред? Не прикасайся к бутылке, вот и все.
– Дэвид, ты пьешь каждый вечер, к тебе приходят друзья, всегда есть наркотики. Тут трудно устоять.
– Ну что ты говоришь?! Я тебе помогу.
– Ты меня не слышишь. Я нашел себе квартиру в Эхо-парке[33], недалеко от Лизы и Мо. Завтра я перееду.
– Да ты сошел с ума! А как же я?
– Ты не думаешь ни о ком, кроме себя! Для меня это вопрос жизни или смерти.
– Тебе не кажется, что ты слишком драматизируешь? Это тот психолог, которому я плачу, вбил все эти мысли тебе в голову?
– Это не помешает нам продолжать вместе работать.
– Если ты переедешь, ноги твоей здесь больше не будет.
На следующий день Грегори собрал чемоданы.
Грегори, который вот уже десять лет был частью его жизни, на которого он всегда мог рассчитывать и который помогал ему бессчетное количество раз, за лечение которого он платил и оскорбления которого безропотно терпел, не держа на него зла, тот самый Грегори, которому он всегда предоставлял полную свободу, тоже предавал его, когда Иэн наконец уступил ему место! Дэвид был так сильно задет этим, что отправил ему через своего брата официальное письмо, где, как обычному наемному работнику, сообщал о его увольнении, просил вернуть ключ от дома и даже возместить расходы на оплату счетов из клиники. Отчаяние сделало его мелочным.
Только работа спасала его от чувства одиночества, в основе которого лежали и все усиливавшаяся глухота, и смерть его друзей, и отъезд Энн с Грейвзом, и разрыв с Грегори, и страх, что его сексуальная жизнь будет всегда приводить к фатальным последствиям. Стоило ему взяться за лист бумаги, холст или завесу театральной декорации, как он уже не чувствовал себя одиноким. Удовольствие от знакомства с компьютером вызвало в нем желание играть с новой игрушкой, забыв обо всем остальном. Он купил себе модель, на которой мог рисовать при помощи электронного карандаша. Впечатление было такое, будто он рисует светом: совершенно невероятный опыт. Новая копировальная машина позволила ему увеличивать и уменьшать рисунки и даже копировать реальные объекты: можно было производить предметы искусства на простейшем офисном ксероксе. Вскоре он смог напрямую подключить фотоаппарат к принтеру и печатать сколько его душе угодно – так часто и так быстро, как ему этого хотелось, – собственные литографии на акварельной бумаге марки Arches, которую он привозил из Франции.
Его график был плотным как никогда: он принял предложение написать статью для французского журнала Vogue, который дал ему карт-бланш и предоставил в его распоряжение сорок страниц, – это была прекрасная возможность выразить свои идеи по поводу кубизма и перспективы. Например, объяснить, что, когда Пикассо писал Дору Маар с тремя глазами и двумя носами, в этом не было никакого искажения реальности, а наоборот, можно говорить о реальности самой близкой, интимной: таким художник видел ее лицо, склоняясь над ним для поцелуя. На сцене оперного театра Сан-Франциско собирались повторить его «Волшебную флейту», он готовил декорации для «Тристана и Изольды» – новой постановки в оперном театре Лос-Анджелеса, а для журнала Vanity Fair[34] выполнил самый сложный из своих фотомонтажей, изображавший перекресток двух дорог в пустыне и называвшийся «Шоссе Пирблоссом, 11–18 апреля 1986». Эта работа, где даже дорожные знаки составлены сразу из нескольких фотографий, наглядным образом демонстрирует, как благодаря изменению перспективы пейзаж становится более живым и реальным. С пылом и рвением он готовил вторую ретроспективную выставку своих произведений, открытие которой планировалось через два года в LACMA – Музее современного искусства в Лос-Анджелесе.
Он сделал еще одну вещь: купил дом по соседству со своим – и попытался убедить Селию переехать в него, но ее сыновья-подростки отказались покидать родину, к тому же ей приходилось ухаживать за пожилой матерью. В конце концов он пригласил в этот дом Иэна с его милым дружком, которые и поселились там летом 1987 года. Лучше было спрятать подальше свои ревность, горечь и обиду – все негативные чувства. Почему бы им не быть просто друзьями? Иэн, этот чудный юноша, – разве он не был ему как сын? Дэвиду несказанно повезло, что он уберегся от СПИДа. Секс его больше не интересовал. Дружбы было вполне достаточно. На его пятидесятилетие, в июле, Иэн подарил ему щенка таксы, родившегося совсем недавно у его собаки. У Дэвида никогда не было домашних животных: кочевая жизнь, носившая его с одного континента на другой, не позволяла ему никого завести. Он и представить себе не мог, что так сильно привяжется к собаке. Ему с трудом верилось в то, что с ним происходит: он влюбился в этого щенка с первого взгляда и назвал его Стэнли – в память об отце, обожавшем актера Стэна Лорела, а вскоре раздобыл ему маленького товарища, чтобы он не чувствовал себя одиноко. Теперь у него была веская причина, чтобы перестать колесить по свету: гораздо приятнее оставаться у домашнего очага вместе со своими любимыми таксами, рядом с дорогими друзьями. На Новый год они устроили вместе с Иэном грандиозный праздник, где смешались разные поколения. Дом на Монкальм-авеню снова сотрясался от музыки, смеха и шума, и единственную грустную ноту внесла пропажа портрета Селии в стиле Пикассо, по-видимому украденного кем-то из юных гостей Иэна. Картину так и не нашли.
Ретроспективная выставка, открывшаяся в LACMA в апреле 1988-го, охватывала тридцать лет его работы. В день вернисажа, проходя через залы, где были представлены его рисунки, офорты, портреты, огромные калифорнийские картины, фотомонтажи, оперные декорации и даже картинки, напечатанные им на собственном принтере, Дэвид спрашивал себя, не лежало ли в основе его творчества то же самое стремление, которое двигало Прустом, с годами им перечитанным. Пруст выстроил своего рода храм вокруг своих духовных исканий: поиска утраченного времени, то есть того, что связывает все наши «я», постоянно умирающие одно за другим. А Дэвид – разве он не был с самого начала в поиске утраченного движения? Он всю жизнь рисовал и писал для удовольствия, следуя своему порыву, идя против всех и вся и не соглашаясь на компромиссы, всегда верный собственным желаниям. Но в самом этом понятии – удовольствие, – громогласно обличаемом и обвиняемом в поверхностности, разве в нем не содержалось что-то существенное, что-то жизненно важное? Разве оно не было эквивалентом жизни? Может быть, в этом и была причина, по которой он отказывался от того или иного стиля, как только начинал скучать, то есть как только жизнь начинала постепенно покидать его работу? Разве, чтобы писать, не нужно постоянно испытывать волнение, и волнение разве этимологически не означает движение, а значит, и жизнь? Следовательно, его творчество не было лишь убежищем, позволявшим спрятаться от боли, а было его вкладом в спасение живописи – искусства, считавшегося обреченным после появления фотографии и кино. Его творчество демонстрировало, что живопись – самое мощное и самое реальное из искусств, потому что в нем есть память, эмоции, субъективность, время: есть жизнь. Именно в этом смысле его творчество спасало от смерти.
Для выставки в Арле, посвященной Ван Гогу, Дэвид написал знаменитый стул художника, использовав обратную перспективу: в его работе, совсем как на полотнах кубистов, «ложная» перспектива добавляла реальности восприятию и придавала стулу настолько человеческое и эмоциональное измерение, что он тут же написал еще один, похожий. Он присоединил его к своим работам на ретроспективной выставке, когда в октябре она приехала в Лондон, побывав по дороге из LACMA еще и в Нью-Йорке. Выставка проходила в галерее Тейт: туда устремился весь Лондон. Телефон Дэвида звонил не умолкая. Публика была в восторге. Что касается критиков, они были не то чтобы настроены полностью негативно, но говорили, что Дэвид – это «блудное дитя современной живописи», а когда он обрушивался на тиранию перспективы, находили его занудным, как старого учителя-ворчуна из Северной Англии. Его работы не вызывали у них таких восторженных воплей, какими они встречали творения новоявленного гения британского искусства – юного Дэмьена Хёрста.
Их сдержанное отношение пробудило в Дэвиде его давнишний мятежный дух и тягу к провокациям. Кучка рутинеров охраняла в Англии вход в «искусство», преграждая путь алебардами? Он покажет им, на что способен йоркширский мальчишка, живущий в Лос-Анджелесе. Они выступали за элитарное искусство? А он будет пропагандировать равенство. Самым радикальным образом. Он сделает искусство доступным для всех. Год назад он уже устроил небольшую диверсию, когда его оригинальная авторская гравюра с прыгающим мячом была напечатана тиражом десять тысяч экземпляров в брэдфордской местной газете. В этот раз он пойдет еще дальше.
Его пригласили принять участие в биеннале в Сан-Паулу. Он решил послать свои работы по факсу. Генри, куратор выставки, нашел эту идею оригинальной; организаторы биеннале сочли, что речь идет о шутке.
Но он не шутил. Поскольку телефонные линии в Бразилии были не слишком надежны, ему пришлось послать работы с факса в мастерской на другой факс в Лос-Анджелесе, и после этого его помощник вылетел в Сан-Паулу, везя распечатки с факса в чемодане. Сам Дэвид в Бразилию не поехал. И поскольку речь шла о выставке по факсу, то и на вопросы интервью он отвечал тоже по факсу.
Телефакс был настоящим телефоном для глухих. С тех пор как его сестра Маргарет – тоже слабослышащая, как и он, – убедила его купить один из первых аппаратов, только появившихся на рынке, он каждый день отправлял по факсу рисунки друзьям и родным на обоих континентах. Зачастую они состояли из нескольких страниц, которые нужно было составлять вместе при получении. Сначала это было четыре листа бумаги, потом – восемь, затем – двадцать четыре и так далее.
10 ноября 1989 года, на следующий день после падения Берлинской стены, он послал факс на ста сорока четырех страницах, содержавших стилизованное изображение теннисного матча, в галерею своего друга, молодого Джонатана Сильвера. Это был его земляк из Брэдфорда, который, став богатым бизнесменом и меценатом, открыл в их родном городе, в здании бывшего соляного завода, художественную галерею, чтобы выставлять в ней гравюры Дэвида. В своей мастерской в Калифорнии Дэвид был один, если не считать помощника, стояло тихое и светлое утро, и он вставлял один за другим в факс-машину листы, которые в тот же миг оказывались за несколько тысяч километров, где уже наступила ночь, в помещении, в котором собрались сотни людей, и пока на их глазах создавался ассамбляж – гигантская мозаика из присылаемых им листов, – все эти люди аплодировали, смеялись и пили вино. Было так чудесно думать, что его перформанс обладал властью над временем и пространством, соединяя день с ночью и один континент с другим: это было лучшим средством, чтобы побороть одиночество. Его собственным способом разрушать стены между людьми.
Мо – его первый натурщик, бывший любовник, друг и помощник – умер в возрасте сорока семи лет, после того как снова стал злоупотреблять алкоголем, когда его бросила жена. Ник – первый его друг и первый галерист в Лос-Анджелесе – скончался в Нью-Йорке от СПИДа в пятьдесят один год, как и партнер Касмина в Лондоне, бывший близким другом и Дэвиду. Потом пришла очередь еще одного товарища, которому было всего тридцать восемь лет: он работал у Эммериха и благодаря своим многочисленным знакомствам собрал миллион долларов на помощь больным СПИДом. Ряды служителей искусства редели. Когда Дэвид теперь садился в самолет – это значило, что он летит на похороны. Церкви, синагоги и кладбища стали местом встречи для тех, кто еще остался. Умерло так много близких друзей, что уже не было сил плакать. Генри, которому стоило немалых душевных сил видеть вокруг себя столько жертв СПИДа, эта болезнь, слава богу, обошла стороной. Но Иэн однажды вечером объявил ему, что у него положительный тест на ВИЧ. Дэвид крепко обнял его и постарался взять себя в руки, чтобы не разрыдаться.
«ВИЧ-положительный – это не значит больной. Ты молод, Иэн. С тобой ничего не случится. Ученые найдут вакцину».
Что еще можно было сказать? Нужно было только надеяться.
Среди всех этих бесконечных потерь в его жизнь вошел новый человек. Дэвид познакомился с Джоном несколько лет назад, когда тому только-только исполнилось двадцать, у одного из его друзей в Лондоне, и пригласил его к себе в Калифорнию. Год спустя Джон приезжал к нему в гости вместе со своим приятелем. Некоторое время назад молодой человек, повар по профессии, написал ему, прося устроить его на работу. Он явился в Лос-Анджелес, и Дэвид мало-помалу оказался под чарами двадцатитрехлетнего высокого красавца-англичанина, веселого и чувственного, готовившего лучший фиш-энд-чипс[35], какой бывает в мире, и любившего все возможные удовольствия: еду, сигареты, наркотики, алкоголь, секс и плавание. Джон примирил его с его собственным телом. Он принес с собой невероятную жизненную энергию, в которой Дэвид, в его пятьдесят два года, нуждался как никогда. Он больше не был один. Рядом был мужчина, с которым он говорил, смеялся, садился за стол, занимался любовью. И какой мужчина! Когда он впервые увидел бронзовый торс своего любовника, его мускулистые плечи, руки, бедра, достойные статуй Микеланджело, он не мог поверить своей удаче. Было очевидно, что так ему везет в последний раз.
Они жили с Джоном уже год, когда как-то вечером он почувствовал невероятную усталость. Он встал с дивана, чтобы пойти спать, и на лестнице потерял сознание. Джону с невероятными усилиями удалось поднять его, и он сразу же повез его в больницу. У него был инфаркт. Если бы он был дома один, он бы умер. Его спасло быстрое вмешательство врачей и стентирование коронарных сосудов сердца.
Когда он вышел из больницы, врачи рекомендовали ему полный покой. Он не должен был работать.
Это звучало как плохая шутка.
Близкие ему люди умирали от несчастных случаев, от старости, от алкоголизма, от рака, от СПИДа. Его же союзником в борьбе против смерти всегда была работа, которая теперь чуть не убила.
Она убила его. Смерть не победить. В сражении с ней он проиграл. Что-то в нем дрогнуло. Когда он вернулся домой после операции, почувствовал себя другим. Как будто отрешенным. Он больше не испытывал необходимости бороться, выигрывать, убеждать весь мир в чем бы то ни было. Может быть, он слишком многого хотел.
За два года до этого он купил у моря, в Малибу, небольшой дом, построенный в 30-е годы: Иэн случайно наткнулся на него рядом с пляжем, где собакам разрешалось свободно бегать. Это строение раньше принадлежало одному художнику, и в нем была мастерская – самая маленькая из всех, в каких Дэвиду доводилось работалось, – но он чувствовал себя в ней хорошо. Он установил в доме беговую дорожку, чтобы, следуя рекомендациям врачей, обеспечивать себе физическую нагрузку, гулял каждый день по пляжу со своими собаками, изменил режим дня и ел диетические блюда, которые ему готовил Джон. Что касается самого Джона, то он внезапно взял на себя почти отцовскую роль по отношению к своему любовнику, бывшему гораздо старше него. В больнице, только открыв глаза после операции, Дэвид первым делом позвонил Грегори, который тут же примчался к нему. Они помирились, и Грегори снова начал работать вместе с ним. Такова была жизнь: она забирала и возвращала. В своей мастерской в Малибу Дэвид писал маленькие пейзажи из головы, на которые его вдохновляли волны на море, видневшемся из окна, и музыка оперы «Женщина без тени» Рихарда Штрауса, декорации к которой он должен был выполнить с помощью Грегори. Впервые в жизни он не стал давать название каждой из этих двадцати четырех картин, а назвал их «VN Paintings» от “very new”, то есть “очень новая живопись”. Были ли они реальными или абстрактными? Но разве это было важно? Различие между абстрактным и фигуративным искусством существовало лишь на Западе.
Возвращаясь на машине из Чикаго, куда он ездил в сопровождении Джона, двух своих собак и двух помощников, чтобы присутствовать на премьере «Турандот», одну из ночевок они провели в Долине монументов[36]; спали прямо в минивэне. Дэвид встал очень рано, чтобы сфотографировать восход солнца. Поднималась буря, над горизонтом висели большие черные тучи. С появлением первых лучей солнца казалось, будто скалистые вершины покрыты расплавленным золотом. Небо разрезала молния, и на нем показалась великолепная радуга. Дэвид даже не удивился бы, увидев вдруг Моисея, обращающегося с гневной проповедью к народу с вершины горы. Запредельная красота этого восхода заставила его забыть все трудности предыдущих дней: когда их минивэн сломался посреди пустыни и непрекращающийся лай двух такс в замкнутом пространстве салона практически свел с ума его помощников. Эта красота искупала все. Все ссоры, все проблемы. Даже смерть.
Тони Ричардсон, его друг, у которого он когда-то проводил восхитительные летние каникулы в доме на юге Франции и дружеские, почти семейные вечера в Лос-Анджелесе, умер в Париже от СПИДа в возрасте шестидесяти четырех лет. Что касается Генри, то как-то вечером он позвонил ему: голос его был непривычно серьезным. По иронии судьбы в его случае речь шла не о СПИДе, а о раке поджелудочной железы, как у Кристофера. Все произошло очень быстро, за несколько месяцев. Когда наступил конец, Дэвид был рядом, сидя у постели друга и рисуя его вплоть до последнего момента. Генри было пятьдесят девять лет – всего на два года больше, чем Дэвиду, – но он выглядел так, как будто ему было девяносто. Его когда-то пухлые щеки ввалились, лицо было изможденным. Но зато ум сохранял прежнюю живость. И его тщеславие тоже никуда не делось. «Нарисуй меня», – сказал он Дэвиду умирающим голосом.
Генри был его лучшим другом с тех самых пор, как они познакомились у Энди Уорхола в 1963 году, тридцать один год назад. Когда они вместе оказывались в одном городе, тут же шли в Оперу. Генри был тем другом, который знал каждого человека, так или иначе связанного с Дэвидом, и любое событие его жизни, который принимал участие в создании всех его работ, с которым он каждый день говорил по телефону, который был рядом, когда умерли его отец, Байрон, Джо, Кристофер и все остальные; он был тем другом, который всегда давал ему дельные советы и не стеснялся говорить ему правду в глаза, какой бы горькой она ни была. За три десятка лет они поссорились по-настоящему только один раз, а после того как помирились, их дружба стала еще крепче, чем раньше. Они вместе смеялись, хохотали до слез в Нью-Йорке, Лондоне, Лос-Анджелесе, на Корсике, в Париже, Берлине, Лукке, на Мартас-Винъярд[37], Файр-Айленд, Аляске… Дэвид прыскал от смеха всякий раз, вспоминая тот далекий день в Лондоне, когда он повел Генри ужинать к одной старой глухой коллекционерше, чья мать была близкой подругой Оскара Уайльда и приютила писателя-гомосексуалиста у себя, после того как он вышел из тюрьмы в 1897 году. Они позвонили в дверь, и, когда пожилая дама открыла им, Генри повернулся к Дэвиду и проорал во весь голос: «Так, значит, Оскар Уайльд был ее матерью, я правильно понял?» Дэвид согнулся пополам от смеха, не в состоянии объяснить пожилой даме причину своего внезапного веселья. Без Генри мир теперь навсегда станет гораздо печальнее.
Он написал серию картин небольшого размера, изображавших цветы и лица его еще живущих друзей. Выставка, которую он назвал «Цветы, лица, пространства» (кто другой, кроме него, осмелился бы писать и показывать публике цветы?), открылась в Лондоне уже в новой галерее, потому что Касмин после смерти партнера забросил свою деятельность галериста. «Его дела совсем плохи», – восклицали художественные критики.
Пляска смерти продолжалась. Осси был зарезан у себя в квартире бывшим любовником. Джонатан Сильвер, его близкий друг и земляк из Брэдфорда, который после смерти Генри занял его место в их с Дэвидом привычном ритуале ежедневных разговоров по телефону, узнал, что у него рак поджелудочной железы и ему осталось жить всего несколько месяцев. Эта болезнь, уже убившая Кристофера и Генри, была словно каким-то проклятием: Джонатану было всего сорок восемь лет.
Черная полоса началась в 1979 году, со смертью его отца. Затем были Байрон в 1982-м и Джо – в 1983-м. После 1986-го смерти шли уже безостановочным потоком. Один, два, три, четыре друга в год. В Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе. Смерть не пощадила ни один город, ни один континент. Она была повсюду – как в Средневековье, когда людей направо-налево косила чума.
Может быть, значение смерти сильно преувеличено?
Перед своей поездкой в Мексику в 1984 году Дэвид прочел книгу, в которой описаны ритуальные практики ацтеков: Монтесума отправлялся в храм и вырывал сердца у пяти или шести человек, чтобы затем появиться с головы до ног в их крови перед испанским послом – человеком, которого он принимал за бога и который уничтожит затем его цивилизацию. Испанец, в ужасе от подобной практики, думал, что правитель ацтеков – настоящий варвар; та же мысль возникала у любого западного человека при чтении этой книги. Но в самом храме ацтеков двадцать пять тысяч человек оспаривали друг у друга эту честь – дать вырвать у себя сердце, чтобы принести его в жертву богам. Для этих людей смерти не существовало. Наверное, смерть – никакая не трагедия, и ее не нужно бояться. Смерть – это часть жизни. С ней бесполезно вступать в борьбу. Нужно просто принять ее. И творить искусство, которое принесет радость в сердца людей. А то, что думают критики, не имеет никакого значения. В истории остаются имена лишь немногих художников. Рембрандт, Вермеер, Гойя, Моне, Ван Гог, Пикассо, Матисс – каждый из них дал свое восхитительное видение мира. Но искусство, как и религия, должно открывать свои двери для всех. Оно должно быть всеобщим.
В Малибу Дэвид рисовал. Джон, его любовник-повар, ушел от него, после того как они поссорились. Это было в порядке вещей: он был моложе Дэвида на двадцать девять лет. Но Дэвид не чувствовал себя одиноко, потому что с ним были его собаки – самые любящие и верные друзья. Постоянный рокот Тихого океана наполнял его дом через распахнутые окна. Когда он открывал дверь кухни, волны бились у его ног. Приливы все так же сменялись отливами, как это происходило вот уже миллионы лет. Его таксы, как и он, любили смотреть на море. Их не интересовал телевизор, где, по всей вероятности, они не могли различить ничего, кроме светящихся точек и плоских фигур на экране, но вот вид волн, регулярно бьющихся о берег, их гипнотизировал. Дэвид рисовал волны на океане. И рисовал своих собак.
V. Цветение боярышника
Зачем он только в это ввязался?
– Говорить, что не было великих художников до появления оптических приборов – все равно что говорить, что не было великих любовников до появления виагры!
Сьюзен Зонтаг говорила так оглушительно громко, что Дэвиду не составляло труда слышать ее, несмотря на свою тугоухость. Аудитория взорвалась хохотом. На задних рядах кто-то даже засвистел от восторга; Ларри потряс в воздухе костылем, стоявшим у его кресла. Его радикулит пришелся как раз кстати.
– Спокойствие, пожалуйста! Мы на конференции в университете, а не в цирке!
– Поскольку Дэвид Хокни не рисует так же хорошо, как старые мастера, – снова зазвучал хорошо поставленный голос Зонтаг, – он пришел к выводу, что они пользовались оптическими приборами. Он разработал теорию на основе собственного опыта. Это очень американский подход. Он поистине стал одним из нас!
Дэвид улыбнулся. Когда знаменитая американская интеллектуалка закончила свое выступление, публика разразилась долгими аплодисментами. Затем Ларри представил Линду Нохлин, убеленную сединами профессоршу, автора многих значительных трудов. Посреди доклада она поднялась, чтобы взять с одного из кресел какой-то предмет одежды, упакованный в целлофан, и сняла с него обертку. Заинтригованная публика следила за ее движениями. Она повесила на стену короткое белое платье с крупным узором из больших синих слегка скругленных прямоугольников, которое выглядело так, будто появилось прямиком из 60-х.
– Это мое свадебное платье. Я вышла замуж в 68-м.
Толпа слушателей: студентов, профессоров, историков искусства, журналистов, художников и светской публики, – с раннего утра отстоявших в очереди на Купер-сквер, чтобы занять одно из четырехсот вожделенных мест, ждала затаив в восхищении дыхание и приготовившись смеяться.
– Дэвид, – обратилась к нему Линда Нохлин, – вы говорите, что это мы должны предоставить доказательства. Вот они.
Театральным жестом она стянула ткань с большой картины, прислоненной к стене: на ней рядом с мужчиной сидела молодая женщина, одетая в платье с геометрическими узорами, в точности повторяющее реальное платье и написанное в натуральную величину. Он тут же понял, к чему она вела: она хотела показать, что можно точно воспроизвести узор платья, не прибегая к помощи оптических приборов. Но это ничего не доказывало.
– Это мой свадебный портрет, написанный Филипом Перлстайном. Филип!
Американский художник поднялся к ней на подиум.
– Филип, чем ты пользовался – оптическими приборами или собственными глазами?
– Моими глазами.
Нохлин повернулась к Дэвиду:
– Видите? Некоторые на это способны.
Ей аплодировали еще более исступленно, чем Сьюзен Зонтаг. В толпе послышался чей-то возглас:
– Старые мастера не жулики, Хокни!
Ларри пришлось снова потрясти своим костылем, угрожая выгнать возмутителя спокойствия из зала.
Дэвид покачал головой. Он никогда не обвинял старых мастеров в жульничестве. Оптические приборы были простыми инструментами; не в их использовании была суть картины. Но три года назад в Лондоне, на выставке рисунков Энгра, он был восхищен предельной точностью и твердостью их линий. Он купил каталог и, вернувшись в Лос-Анджелес, увеличил репродукции на копировальной машине, чтобы рассмотреть их как можно внимательнее. Один из портретов напомнил ему рисунок Энди Уорхола – венчик для взбивания яиц, при изображении которого тот использовал диапроектор. Дэвид в тот момент совершенно уверился, что и Энгр, в свою очередь, также применял оптический прибор: камеру-обскуру, изобретенную в 1807 году. После многих лет исследований, результатом которых была огромная стена, вся увешанная репродукциями портретов, в его мастерской, он был убежден, что европейские художники прибегали к оптическим приборам уже на протяжении нескольких веков. Ему даже удалось определить точную дату, когда их начали использовать: в 1434 году, на картине Ван Эйка «Портрет четы Арнольфини». Оптических линз в ту эпоху еще не существовало, но профессор физики из Аризонского университета в Тусоне – специалист в области оптики – объяснил ему, что ту же роль могло играть и вогнутое зеркало.
Его увлекло это исследование, поскольку оно наглядно показывало непрерывную преемственную связь от XV к XX веку: оптическая линза была прародительницей фотоаппарата. Вплоть до появления кубизма в европейском искусстве царила одна и та же перспектива, с одной-единственной точки зрения. Его теории, опубликованные в октябре в книге “Secret Knowledge: Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters” («Тайное знание: восстановление утраченных техник старых мастеров»,) которую он написал совместно с профессором Аризонского университета, подняли бурю сразу на двух континентах. Нет ничего, восклицали историки искусства, что свидетельствовало бы об использовании оптических приборов в работах старых мастеров. Дэвида обвиняли в том, что он хотел преуменьшить заслуги великих европейских художников. Среди коллег по цеху и исследователей только считаные единицы встали на его защиту. Чтобы разобраться в этой ситуации, и была организована конференция. Чаша весов определенно склонялась в одну сторону, и у Дэвида возникло ощущение, будто он присутствует на суде в качестве обвиняемого. Большинство специалистов обрушивались на него с рвением членов кардинальской коллегии, решавшей, стоит или нет отправлять еретика на костер.
Это был настоящий судебный процесс. Какое табу он нарушил, чтобы историки искусства, все как один, поднялись против него? Чего они страшились? В их стремлении оградить искусство от реальности, представить его существующим в идеальном мире было нечто гипнотизирующее. Дэвид чувствовал себя немного похожим на Робин Гуда в своей попытке вернуть искусство людям. В любом случае было утешительно видеть, что эти вопросы вызывали такие страстные прения в декабре 2001 года в Нью-Йорке, в тридцати минутах ходьбы от места, где находились башни-близнецы, три месяца спустя после события, навсегда изменившего мир. Но что он здесь делал, почему сидел как привязанный в этом зале, если у него было только одно сильное желание – рисовать? Конечно, он сам завязал этот спор. Теперь же он понял, что ему на все это наплевать.
С места для предпоследнего доклада поднялась Розалинда Краусс, профессор Колумбийского университета, издатель одного из самых влиятельных журналов в области современного искусства October[38], звезда художественной критики, славившаяся своей свирепостью. Она вывела на экран увеличенное изображение деталей портрета Энгра и рисунка Уорхола, на которых основывался Дэвид в своих догадках, демонстрируя, что безжизненная и ровная линия на рисунке Уорхола – результат использования технологий – не имеет ничего общего с линией рисунка Энгра, то сужающейся, то расширяющейся. Это было разумным аргументом. Публика долго аплодировала.
Наступила очередь Дэвида. Его завершающее слово. Он направился к кафедре. На нем была футболка с надписью большими буквами «Я знаю, что я прав». В зале раздалось несколько смешков; Дэвид поправил очки, и наступило молчание. Казалось, можно было услышать, если пролетит муха. Никто не хотел упустить ни слова из того, что собирался сказать в свою защиту знаменитый художник, которому наглядно продемонстрировали его невежество.
– Я узнал много нового, – начал он в своей характерной замедленной манере речи, глядя на публику поверх очков, – и я благодарен всем выступавшим. Это замечательные картины. И правда в том, что мы никогда не узнаем, как они были сделаны.
Он выдержал паузу. Все ждали продолжения затаив дыхание.
– А сейчас я устал и хочу вернуться рисовать.
Он спустился с подиума на глазах у ошеломленной аудитории: публика решила, что он признал свое поражение, однако развязка была слишком скучной, ей не хватало блеска!
Нет, он не признал своего поражения. Его уверенность не поколебалась. Солнце находится в центре мироздания, и, для того чтобы это в конце концов стало известным фактом, Галилею не пришлось умирать на костре.
У него поистине не осталось сил. Эта история забрала у него три года жизни – три года, за которые он не написал ничего, кроме серии портретов с использованием камеры-обскуры, следуя примеру Энгра, чтобы наглядно проиллюстрировать свою теорию. Три года назад его мать тихо угасла в возрасте девяноста восьми лет, в присутствии четверых из своих пятерых детей. Осенью, следовавшей за ее смертью, особенно при приближении Рождества, которое он – чуть ли не впервые за шестьдесят два года – должен был провести без нее, Дэвид чувствовал себя крайне подавленным. Грегори вытащил его из пагубной зависимости от алкоголя и таблеток, отправив восстанавливать силы в нудистские бани Баден-Бадена. Вернувшись из Германии, он встретил Джона и как-то вечером поужинал с ним в Лондоне, где оба были проездом. В свои тридцать три года Джон возмужал, но при этом остался таким же живым, забавным, чувственным и пылким, как и раньше. С ними случилось чудо, что-то невероятное, чего Дэвид не мог себе и представить: они снова влюбились друг в друга. Джон снова поселился с ним вместе в Лос-Анджелесе, стал его спутником и поваром.
Через несколько месяцев Джон задался вопросом, не болен ли Дэвид: тот сильно уставал и часто засыпал прямо за ужином, будь то дома или в гостях. Они с тревогой ждали результатов медицинского обследования: а что, если это рак, как у Кристофера, Генри и Джонатана? Нет, это был просто острый панкреатит – болезнь хоть и опасная, но не смертельная и запрещавшая ему с этих пор употреблять алкоголь и кофеин. Затем был Стенли – его горячо любимая такса, его первая собака, – умерший в возрасте четырнадцати лет. Потом они с Джоном на протяжении долгих месяцев наблюдали, оставаясь рядом и поддерживая медленную агонию одного их близкого друга в Лос-Анджелесе, у которого был СПИД. Дэвид знал, что на самом деле подтолкнуло его к исследованию: пробудив в нем прежний воинственный дух, оно придало ему энергии и сил, необходимых, чтобы пережить смерть матери, Стенли и близкого друга. Теперь пришло время снова вернуться к рисованию. Ему было шестьдесят четыре года. Где же его шедевр?
Шесть лет назад, в 1995 году, премьер-министр Джон Мейджор арендовал у галереи Тейт одну из его картин, чтобы повесить в своей резиденции на Даунинг-стрит. Это была большая честь для него. Но речь шла о картине «Мои родители», написанной в 1977 году, как будто Дэвид за прошедшие с тех пор двадцать лет не сделал ничего более достойного.
Чем дольше он жил на свете, тем меньше понимал, откуда берется вдохновение.
Последний раз, когда он почувствовал настоящее вдохновение (и это произошло совершенно случайно), был четыре года назад, в 97-м: тогда он целое лето провел, рисуя виды восточного Йоркшира по просьбе своего умиравшего друга Джонатана, который в качестве последнего желания попросил Дэвида написать картину, прославляющую их родной край, с его холмами и возделанными полями, чья скромная и неброская красота обычно не привлекала художников. Дэвид жил у своей старенькой матери в Бридлингтоне и почти ежедневно навещал прикованного к постели друга, чей дом находился от них в полутора часах пути. По дороге он любовался пейзажами своей юности, деревеньками Фрайдейторп или Следмир, полями и фермами, где он работал подростком, – местами, с которыми он чувствовал душевную связь. В картинах с видами Йоркшира, написанных в наивной манере, яркими красками, он применил свою технику смены ракурса – они не просто изображали пейзажи, но и показывали путь от его дома до дома Джонатана. После смерти Джонатана он вернулся в Лос-Анджелес, где продолжал писать Йоркшир по памяти, а потом выполнил гигантское изображение Гранд-Каньона, составленное из шестидесяти маленьких холстов. Картина была размером приблизительно два на семь метров – самая большая из всех, что он до этого написал. Это время стало для него последним периодом напряженного творчества. Впоследствии были лишь портреты, сделанные с помощью камеры-обскуры.
После конференции в Нью-Йорке ему не хотелось возвращаться в Лос-Анджелес, где недавно умер его друг. Будучи в состоянии неопределенности, он решил отправиться в Лондон и удовлетворить наконец просьбу Люсьена Фрейда[39], который на протяжении долгих лет хотел написать его портрет. Фрейду требовалось около сотни часов позирования, а Дэвид никогда не мог найти для этого время. Позирование для портрета могло позволить ему познакомиться с методом работы этого большого художника и поразмышлять над ним на досуге.
Он провел два месяца, наблюдая за работой Фрейда, за его манерой писать, очень непохожей на его собственную: очень медленную, на первый взгляд беспорядочную, как и его мастерская, но на самом деле очень тщательную и продуманную. Наблюдал он и за тем, что происходит в Холланд-парке, по которому он дважды в день проходил, когда шел от Пемброк Гарденс до дома Фрейда на Кенсингтон-Черч-стрит и обратно. С конца марта по конец апреля он видел, как с приходом весны постепенно расцветает природа – за десятки лет жизни в Калифорнии он успел об этом забыть.
Он входил в парк со стороны Ильчестер Плейс и выходил из него в районе Дачес-оф-Бедфорд-Уок. Каждый день один и тот же маршрут, и каждый день – разный. Никогда ранее он не замечал, что существует столько разновидностей деревьев, кустарников, разных форм листьев и различных цветов. Может быть, в Калифорнии зелень и была более красочной, но вместе с тем эти краски были более простыми и плоскими; в Англии же благодаря туману возникала целая гамма зеленых оттенков и палитра расширялась до бесконечности. Некоторые деревья – такие как вишни, яблони или магнолии – были уже покрыты белыми или бледно-розовыми цветами; на других еще только начинали лопаться почки и мириады крошечных листочков день за днем окутывали их тончайшим зеленым кружевом; были еще такие – каштаны, клены и буки, – на которых обилие светло-зеленых листьев гнуло их ветви до земли; наконец, другие – такие как ясень или плакучая ива со спутанными ветвями – не слишком торопились, совсем как Люсьен Фрейд, и будто не хотели еще выходить из зимней спячки. Кусты сирени и роз, заросли тимьяна, шалфея и лавра наполняли воздух своими ароматами.
Дэвид не ожидал, что проведет несколько таких чудесных месяцев, в то время как совсем недавно его мысли были полностью поглощены событиями 11 сентября, смертью друга, жестокостью и безнадежностью мира. Начиная с восьми утра в любую погоду в парке кипела жизнь: школьники в школьной форме бегали и играли в разноцветные мячи, собаки резвились, спущенные с поводка, лопались почки, и зеленели деревья – такие же живые, как дети и собаки, чьих криков и лая он не слышал. Наверное, стоило быть глухим и воспринимать окружающий мир только глазами, чтобы так остро улавливать малейшие детали. Он никогда еще не был в состоянии такого душевного покоя. Как получилось, что какой-то простой английский парк смог привести его в больший восторг, чем невероятно красивые виды пустыни или Гранд-Каньона? Он был почти разочарован, когда Фрейд объявил ему, что портрет, который, кстати говоря, получился превосходным, закончен.
Может быть, именно это блаженное состояние и привело его к акварели – традиционной технике художников-любителей, которой он всегда старательно избегал?
Наверное, у него начиналось слабоумие.
Это произошло в начале мая в Нью-Йорке, где весна наступала позже: когда он смотрел из окна отеля на деревья с распускающимися почками, зеленевшие день ото дня, он внезапно почувствовал желание написать их – и именно акварелью. Вернувшись в Лондон, он продолжил работать акварелью – сначала это был вид его сада в Пемброк-студиос, а потом, конечно, Холланд-парк. У него заняло шесть месяцев, чтобы овладеть техникой. Акварель заставляла работать быстро и смотреть на пять шагов вперед, как при игре в шахматы, поскольку изменить ничего нельзя. При наложении больше трех слоев краски цвета теряли свою живость. От пейзажей он перешел к портретам. Работая в стремительном темпе, он выполнил серию из тридцати больших портретов, практически по одному в день, заставляя своих натурщиков позировать, сидя на одних и тех же офисных стульях на фоне одной и той же светло-зеленой стены. Когда эти картины были выставлены в Национальной портретной галерее, критики сочли их непропорциональными, неуклюжими и карикатурными. Но он чувствовал, что, вынуждая его работать быстро и позволяя его кисти вольность непрерывного скольжения по листу, акварель высвободила что-то в нем самом. Процесс дал толчок, который должен привести его куда-то, куда он сам еще хорошенько не знал, – как двадцать лет назад, когда он начал заниматься фотомонтажами. Нужно было только позволить увлечь себя этому потоку. Для этого он должен был вернуться в Лос-Анджелес, бывший вот уже несколько десятков лет местом его работы и вдохновения. В феврале 2003 года он вылетел в Калифорнию вместе с Джоном и продолжил занятия акварелью в своей мастерской на Монкальм-авеню. Он выжидал.
Ему помог случай. В мае Джон отправился на неделю в Лондон, чтобы уладить какие-то дела; на обратном пути на таможне его остановили, допросили, задержали и выдворили в Англию. Когда-то в прошлом он на день или два просрочил дату выезда по своей визе, но после событий 11 сентября иммиграционные правила стали гораздо жестче. Дэвид полагал, что этот нелепый инцидент не представляет собой ровным счетом ничего, кроме потери времени и денег. Он звонил разным людям: адвокатам, друзьям-коллекционерам со знакомствами в администрации Буша, высокопоставленным лицам у себя на родине. Он был одним из самых известных ныне живущих английских художников, но американские чиновники не сделали для него исключения. Хоть они и подтверждали, что Джон не представляет собой никакой террористической угрозы, ему не было дозволено вернуться в Соединенные Штаты, то есть к нему. Дэвид внезапно столкнулся с другой, прежде незнакомой ему реальностью: это была реальность всех тех иммигрантов, которых ежедневно задерживали и принудительно – manu militari – немедленно выдворяли из страны, несмотря на то что у них в Америке были дом и работа и их дети были американцами. Если выдворили его любимого – значит, выдворили и его самого, так как он не мог жить без Джона.
Это была страна, которую он выбрал для жизни. Страна свободы. Но куда делась Калифорния времен его юности? После «Патриотического акта»[40] недавно был подписан еще «Акт чистого воздуха в помещениях», запрещавший курение в закрытых помещениях и отбиравший у граждан еще немного личной свободы. Ради вашего блага – так говорили эти террористы от здоровья, заменившие табак на антидепрессанты и демонстративно всякий раз зажимавшие нос при виде сигареты, даже потушенной, в руке у недостойного старика. Пикассо курил и умер в девяносто один год; Матисс курил и умер в восемьдесят четыре года; Моне курил и умер в восемьдесят шесть лет; отец Дэвида, ярый противник табака, умер в семьдесят пять лет. Что вы на это скажете?
Он вернулся в Англию.
«Патриотический акт» прогнал его из места, бывшего источником его вдохновения вот уже более трех десятилетий. Он даже не мог решить, где будет жить. В этом мире художник не решал ничего – словно корабль без руля, отданный на волю волн.
На лето он поселился в Йоркшире, в Бридлингтоне, в кирпичном доме неподалеку от морского побережья, купленном им когда-то для матери; он хотел быть ближе к сестре Маргарет: ее спутник жизни был серьезно болен. Когда он умер, Дэвид остался рядом, чтобы поддерживать ее. Каждый день брат с сестрой совершали долгие автомобильные прогулки по сельской местности, и Дэвид чувствовал в себе какую-то особую тягу к этим йоркширским пустошам с волнистой линией меловых холмов на горизонте – местности, знакомой ему с детства. По пути им почти никто не попадался, разве что пара-тройка фермеров; туристов не было: Бридлингтон был достаточно далеко от Лондона, чтобы они приезжали в эти места нарушать их покой. К нему присоединились Джон, еще более влюбленный и преданный с тех пор как Дэвид покинул ради него Соединенные Штаты, а также молодой французский аккордеонист, которого Дэвид нанял недавно в качестве помощника по рекомендации Энн и ее мужа. Жан-Пьер, или, как все его называли, Джей-Пи, вне всяких сомнений, был единственным парижанином в Бридлингтоне. Он исполнял также обязанности водителя, и, таким образом, Дэвид мог колесить по округе, останавливаясь то здесь, то там, чтобы сделать несколько набросков в японском альбоме, складывавшемся гармошкой. Он все больше и больше влюблялся в этот холмистый пейзаж, который были не в состоянии испортить никакая мачта линии электропередачи, никакой стенд с рекламой и которым они часто любовались в полном одиночестве, не встречая ни единой машины. За каких-нибудь полтора часа он мог заполнить целый блокнот рисунками стебельков и травинок. Рисуя траву, он учился видеть ее, чего у него никогда не получалось при фотографировании, потому что требовалось время, чтобы рассмотреть ее и соразмерить пространство. В отличие от йоркширских пейзажей, написанных им для Джонатана, на этих его акварелях не было ни панорамных видов, ни маршрутов прогулок по сельской местности, но были возделанные поля, лежащие вдоль дороги, и краски природы, меняющиеся вместе с временем года.
Находясь проездом в Лос-Анджелесе весной 2005 года, он внезапно ощутил желание писать портреты маслом. После нескольких лет работы акварелью масло показалось ему такой богатой и такой простой техникой! Зачем от нее отказываться? По возвращении в Бридлингтон он снова принялся за пейзажи – но теперь уже маслом. Было невозможно обманываться относительно источника энергии и радости, переполнявших его. Начиная с его прогулок в Холланд-парке в апреле 2002-го, с тех самых пор, как его коснулась благодать – потому что речь шла именно о ней: о благодати в религиозном, духовном смысле, – будущий сюжет вырисовывался все четче. Было уже совсем «горячо», как говорят в игре в жмурки, когда один из детей с завязанными глазами приближается к цели. От возделанных полей он перешел к деревьям. Одна дорога, обсаженная с обеих сторон деревьями, кроны которых переплетались, образуя естественный свод, особенно ему нравилась: он писал ее в разные времена года, фиксируя каждое изменение света и цвета. Не было ничего прекраснее смены времен года. В ней была сама суть изменений. В ней была сама жизнь.
Он писал на пленэре – на открытом воздухе – выбирая определенный сюжет, как художники барбизонской школы в XIX веке. Зимой им с Джеем-Пи приходилось надевать на себя по несколько слоев теплой одежды, так что каждый из них становился похожим на мистера Мишлена[41]. Летом самый удивительный свет был с шести до девяти часов утра: и они вставали очень рано. Когда начинался дождь, Джей-Пи раскрывал огромный зонт, и на картине иногда оставались следы капель. Дэвид купил пикап «Тойота» той же модели, какую использовали военные в Афганистане, и эта машина позволяла им преодолевать любые дороги в любую погоду; кузов автомобиля они оборудовали широкими полками, чтобы складывать туда непросохшие холсты. Дэвида забавляла необходимость решать всякие технические проблемы: они напоминали ему о детстве, каникулах в скаутских лагерях. Но самое главное – чем больше он рисовал, тем лучше видел. А чем лучше видел – чем больше точности и напряженности было в его взгляде, – тем больше испытывал желание рисовать.
Он часто замечал, что переезды с одного континента на другой заставляли его менять угол зрения и способствовали появлению новых идей. Приехав в Лос-Анджелес в июле 2006-го для организации ретроспективной выставки своих портретов в LACMA, он повесил в своей мастерской на огромную стену репродукции написанных им пейзажей: каждая картина представляла собой шесть составленных вместе холстов, – и поместил в ряд, соединив их вплотную, девять таких полотен. А когда отошел, чтобы посмотреть на них издали, увидел, что они, как казалось, образуют одну колоссальную картину, состоящую из пятидесяти четырех холстов. Дэвид спросил себя: реально ли написать подобное произведение – картину размером более чем четыре на двенадцать метров? Поистине гигантскую – она почти вдвое превышала бы размер его самой большой работы «Большой Гранд-Каньон». С помощью лишь человеческого глаза было невозможно создать настолько объемную работу, но с помощью компьютера – да. Его сестра, хорошо разбиравшаяся в информатике, показала ему год назад, как сканировать акварели, чтобы он мог отправлять их по электронной почте из Лондона и Лос-Анджелеса своим друзьям. Сканер позволял решить проблему: Дэвид сможет делать рисунок от руки, делить его на равные квадраты, а затем сканировать, чтобы создать на экране его отображение в виде мозаики. После этого он способен будет писать части одну за другой без необходимости то забираться на лестницу, то спускаться с нее, отходя подальше, чтобы охватить взглядом всю картину целиком.
Он был в состоянии эйфории, когда вернулся в Бридлингтон. Прежде всего нужно было найти подходящее место. И он искал его, разъезжая вместе с Джеем-Пи на небольшой скорости по всей округе. На краю деревушки под названием Уортер он увидел рощу деревьев и в центре нее – очень старый, кряжистый явор, или белый клен, который казался среди них патриархом. Ветви всех этих деревьев делились на тысячи маленьких веточек, сплетали между собой изящный узор, не соприкасаясь друг с другом, и устремлялись в небо. Сложные линии, напоминавшие кровеносные сосуды или мозговые извилины, расходились во все стороны и не следовали законам перспективы.
Он нашел свой сюжет. Он напишет дерево, только и всего. Большое, почти в натуральную величину. Оно будет центром картины – как дорога была центром тех картин, где изображались его маршруты. Дерево было для него героем. Оно смиренно служило человеку, выделяя кислород, согревая его своей древесиной, спасая в жару в своей тени. Эти растения воплощают собой жизненный цикл, покрываясь по очереди то почками, то листьями, то цветами, то плодами, то снегом. Ни одно из них не похоже на другое. Много наблюдая за деревьями, Дэвид чувствовал свою близость с ними, как если бы это были его друзья. Их искривленные ветви и узловатые стволы напоминали ему артритные руки его матери, которая в конце жизни была не в состоянии даже нажать на выключатель. Деревья вообще были похожи на его мать: спокойные, безмятежные, с крепкими, надежными корнями, самоотверженно делающие свое дело. Их присутствие было незаметным, таинственным и величественным.
Он позвонил даме, главному хранителю современного искусства в Королевской академии художеств, и попросил зарезервировать для него на летней выставке большую стену в глубине галереи III. Повесить свои работы на этом месте желало большинство из сотни академиков. Хранителю придется выдвигать весомые аргументы, чтобы уговорить выставочный комитет и совет Королевской академии. Нужно было ее убедить.
«Я собираюсь создать самую большую картину из всех, когда-либо написанных на пленэре, Эдит, и самую большую из всех, когда-либо выставляемых на летней экспозиции за все двести тридцать девять лет, что они проводятся Королевской академией художеств».
Его возбуждение было вызвано не рекордом, который он готовился побить, а осознанием того, что он готовился наконец написать свой главный шедевр, свою самую большую работу. Большую не только по размеру, но и по сюжету и силе воздействия. Это будет величайшая картина за всю его карьеру: она станет результатом всего, что он до этого сделал в жизни.
Ему следовало поторопиться, потому что оставалось всего несколько недель зимы, а зимой световой день длится не более шести часов. Он хотел написать свое дерево именно в это время года: когда ветви, лишенные листьев, которые отягощали их и клонили к земле – туда, где рано или поздно окажемся мы все, – были живыми. Они поднимались к небу, легкие и свободные, и казалось, что они говорили с ним. Не было ничего более элегантного и благородного, чем дерево зимой.
Дэвид хотел, чтобы при входе в зал люди испытывали чувство религиозного поклонения – как в храме. Его живопись должна вовлекать зрителя так, чтобы он интуитивно чувствовал свою сопричастность изображенному на картине. Вот почему она должна была стать такой большой. Размер картины был призван напомнить человеку о его ничтожности перед лицом бесконечности. Он хотел воспроизвести пространство – нечто гораздо более таинственное, чем поверхность, которую показывает фотография.
У него было столько работы, что пришлось вызывать на подмогу его бывшего помощника из Лос-Анджелеса. Вдобавок он уже на месте нанял восемнадцатилетнего парнишку, с которым Джон познакомился как-то на пикнике и который иногда выгуливал их собак, чтобы заработать немного карманных денег. Затем он арендовал ангар площадью больше тысячи квадратных метров в промышленном пригороде Бридлингтона – с тем чтобы иметь возможность видеть свою картину всю целиком.
Жизнь была своего рода мозаикой, где, в противоположность всем его убеждениям, ничто не отдавалось на волю случая. Он только сейчас начинал понимать, как соединялись кусочки его мозаики. В великой книге природы было написано, что, проведя несколько десятилетий в Калифорнии, он вернется на землю своих предков и своего детства, чтобы написать там огромное дерево, которое должно стать великим шедевром. Его привела сюда цепь обстоятельств, столь же неоспоримых, как математическая аксиома: новые и очень строгие законы американской безопасности, из-за которых Джон был выдворен в Англию; его любовь к Джону, побудившая вернуться его самого; глухота, обострившая его зрение; смерть матери; способности его сестры к информатике; неожиданный вираж в сторону акварели, приблизивший его к природе, те несколько месяцев, когда он позировал Люсьену Фрейду, наблюдая за его неспешной и точно выверенной работой; ежедневные прогулки через Холланд-парк, где он был очарован весенними метаморфозами.
На выставке в Королевской академии его картина произвела то самое сильное впечатление, о котором он мечтал, и хранитель музея предложила ему устроить большую выставку пейзажей в 2012 году, когда в Лондоне будут проходить Олимпийские игры. У него было пять лет на подготовку.
Ему нужно было столько всего увидеть, зафиксировать для себя такое количество разнообразных форм и цветов, что он с трудом понимал, с чего начать. Даже вид капель дождя, падающих в лужу, завораживал его. Весной его ошеломило цветение боярышника. Оно продолжалось всего две недели, в течение которых он едва мог спать: как можно было упустить хоть чуточку этого роскошного зрелища? Самый волшебный свет был с пяти до шести часов утра: нужно было выходить из дома еще до рассвета. Дэвид и Джей-Пи вставали в пять утра, как Моне в Живерни. День за днем буквально на глазах ярко-зеленый цвет, как по волшебству, превращался в белый, и постепенно этот белый целиком заслонял собой зеленый – белый, состоявший из мириад нежных цветов с восхитительным медовым запахом. Это был настоящий взрыв белых лепестков такого нежного кремового оттенка, что они навевали мысль о пирожных с кремом, и именно так он их и писал – как вожделенное лакомство, которое можно съесть. Природа превращалась в роскошный пир для всех органов чувств. В Японии тысячи людей отправляются в путь, чтобы увидеть вишни в цвету; в Йоркшире же цветение боярышника нашло в нем, вместе с Джеем-Пи, своего единственного зрителя! Две недели он провел, рисуя без остановки, и после этого оказался в постели, так как был болен, не заметив, что подхватил сильнейшую простуду. Следующей весной он пошел еще дальше: кусты боярышника приобрели под его кистью причудливую, почти антропоморфную форму и нависали над дорогой, будто собираясь поглотить путника.
Ему было семьдесят, скоро исполнится семьдесят один год, а он как никогда чувствовал в себе биение жизни. «Если бы двери восприятия были чисты, все предстало бы человеку таким, как оно есть, – бесконечным», – писал поэт Уильям Блейк. Старость – возраст великого очищения, когда приходит желание вырвать из мрака забвения красоту, по-настоящему разглядеть которую можно, лишь покончив с сексуальными желаниями и социальными амбициями. Китайцы говорят, что живопись – это искусство пожилых людей, потому что весь их опыт – живописный, наблюдательный, жизненный, – накопившийся за прожитое время, проявлялся в работе. Дэвид только сейчас открыл для себя бесконечность Вселенной: она не в бескрайней пустыне, не в неохватном обзоре с северной оконечности Гранд-Каньона или с вершины холма Гэрроуби, а в голых ветвях деревьев, в стебельках травы, в цветении боярышника. Он больше не старался покорить взглядом природу: он научился смотреть на нее снизу вверх, с полным смирением, и растворяться в ней, забывая о себе и своем эго, будто его на самом деле поглотили кусты боярышника. Впервые забыть о самом себе ему позволила не работа, а созерцание природы.
В Коллекции Фрика – знаменитой частной коллекции старой западноевропейской живописи в Нью-Йорке – его внимание привлекла «Нагорная проповедь» Клода Лоррена с ее темными красками – потускневшими, так как картина пострадала от пожара. На ней изображен Христос в окружении учеников на вершине скалы, обращающийся к пастухам в долине, и точка зрения художника выбрана не со стороны Христа, а со стороны одного из пастухов и его жены, которые располагались на переднем плане и снизу могли видеть и гору в центре холста, и маленькую фигурку Христа, и бескрайнее небо. Картина производит совершенно невероятный эффект: она заставляет устремлять взгляд вверх и фиксировать его на персонаже, фактически висящем в небе. Дэвид увидел для себя возможность новых экспериментов с точкой зрения. Один за другим он написал десять вариантов этой картины, и в каждом следующем из них цвета становились все ярче, доходя почти до психоделических. Уже в который раз он брался за старый сюжет, придавая ему новый вид, заставляя взрываться красками и жизненной энергией. Кто еще из художников обращается сегодня к религиозным сценам?
Это было похоже на то лихорадочное возбуждение, которое толкает людей снова и снова принимать наркотики, только в данном случае речь шла о творческой лихорадке, охватившей его уже много лет назад и не собиравшейся его покидать. Сестра Маргарет приобщила его к айфону: от приложения Brushes, позволяющего рисовать, водя пальцем по экрану, он получал столько же удовольствия, сколько получает ребенок, окуная пальцы в краску. Айфон давал для работы ни с чем не сравнимое преимущество ранним утром, когда еще слишком темно, чтобы рисовать, не зажигая света, который помешал бы увидеть тончайшие оттенки красок восходящего солнца. Каждое утро он делал зарисовки восходов, отправляя их своим друзьям в Лондон, Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Он был уверен, что Ван Гог воспользовался бы айфоном, – если бы только он тогда был, – чтобы карябать те маленькие рисуночки, которыми он пересыпал свои письма к брату Тео, и что Рембрандт тоже использовал бы новые технологии, если бы была такая возможность. Когда год спустя Стив Джобс объявил о создании айпада, Дэвид тут же купил его. Экран у айпада был в четыре раза больше, чем у айфона: он мог уже не просто рисовать одним пальцем, а использовать все пальцы или рисовать стилусом. Новый гаджет позволял ему сразу же изображать все, что отмечал его взгляд: стеклянную пепельницу, полную окурков, лампу и ее отражение в оконном стекле, кран в раковине, кепку на столе, ногу со стоящей рядом туфлей, когда он вставал с постели, букет цветов. Ко всем своим курткам он попросил пришить большие внутренние карманы, чтобы иметь возможность везде и в любую погоду носить с собой планшет.
Благодаря маленьким видеокамерам с высоким разрешением, которые Джей-Пи установил по бокам «Тойоты», он снимал, как менялась природа на протяжении одной и той же дороги с девяти разных точек, и потом представил работу, в которой завораживающим образом несколько экранов соединялись с видео, назвав ее «Уолдгэйтский лес. Четыре времени года». Но он мог обходиться и без технологий: продолжал писать деревья, а огромный, похожий на тотем пень, который стал для него особенно дорог, одел в пурпур, как если бы это был кардинал. Яркими красками он подчеркивал красоту сваленных деревьев, превратившихся в бревна, лежавшие вдоль дороги: их оранжеватая сердцевина напоминала трепещущую плоть. Он выполнил огромную картину, состоящую из тридцати двух холстов, где в стилизованной форме изобразил приход весны – времени года, когда каждое растение, каждая почка и каждый цветок пробуждаются и тянутся ввысь и вся природа, кажется, находится в состоянии возбуждения. Американский критик Клемент Гринберг как-то сказал, что в наши дни уже невозможно писать пейзажи! Что ж, он вернет искусству этот жанр, не слишком жалуемый художниками после Констебла и Тёрнера.
Счастье не зависело ни от успеха, ни от удовлетворения, чего он добился против всех и вся, ни от почестей – незадолго до его семидесятипятилетия королева пожаловала ему орден заслуг, которым были отмечены лишь двадцать четыре человека во всей Англии и который он, хоть его мало заботили знаки отличия, принял, поскольку не мог отказаться, не оскорбив королеву, и был учтив, – ни от денег: его картины продавались теперь за безумные деньги, и Дэвид стал очень богат, но состояние служило ему лишь для того, чтобы обеспечивать определенный комфорт, и не влияло на самое главное – желание рисовать. Счастье, несомненно, зависит от работы и осознания того, что бесконечность находится в глазах зрителя. Но сильнее всего счастье зависит от дружбы.
У него был круг преданных ему людей, работавших на него в Лос-Анджелесе и Лондоне: Грегори, Грейвз и еще несколько человек, к которым он испытывал абсолютное доверие. У него был семейный круг: брат и сестра, остававшиеся в Йоркшире, с которыми он сохранял близкие отношения на протяжении долгих лет. Маргарет жила неподалеку от него, и они виделись почти каждый день; а до Пола, уже вышедшего на пенсию, он мог добраться за час. И рядом с ним, в Бридлингтоне, был самый близкий его круг, благодаря которому от него отступил страшный призрак одиночества. Его команда. Совсем немного близких друзей, разделявших с ним его повседневную жизнь в кирпичном доме в трех минутах ходьбы от моря, – те, кто заботился о нем, кто никогда его не оставит.
Джон каждый день покупал свежие цветы, со вкусом расставляя их по разным комнатам, прогуливал собак и готовил изысканные обеды и ужины, которые затем подавал в столовой с карминно-красными стенами: он заботился обо всех них почти как мать. Его комната была на первом этаже, в противоположном от комнаты Дэвида конце коридора. Джей-Пи, ставший его главным помощником, был для него будто взрослый и независимый сын. Он занимал студию на первом этаже, часто уезжая на выходные в Лондон, где у него была квартира рядом с вокзалом Сент-Панкрас. Он постоянно возил Дэвида, сопровождая его в поездках по округе, и Дэвид был счастлив, что нашел столь терпеливого союзника, взгляд которого с годами приобрел зоркость, так что он теперь не меньше него самого воодушевлялся при виде сельских пейзажей. Другой его помощник проводил с ними несколько дней в неделю, отвечая за вопросы, связанные с техникой и информатикой. И потом еще был Доминик, которого все звали Дом, – их малыш, самый младший в доме. Это был молодой парнишка родом из Бридлингтона, с которым Джон познакомился как-то на пикнике, когда тому было только семнадцать лет, и который начал выполнять для Дэвида разные поручения в период его работы над огромной картиной «Высокие деревья близ Уортера». Теперь ему было двадцать три года, он бросил университет, уйдя со второго курса, чтобы целиком посвятить себя работе у Дэвида; Дом вносил в их команду энергию и свежесть юности. Его радость оттого, что Дэвид написал его портрет или вручил ему ключ от дома – свидетельство оказываемого доверия, – напоминала Дэвиду восторженный энтузиазм Байрона, даже если внешне кудрявый блондин Дом с его крепким спортивным телом был совсем непохож на хрупкого брюнета Байрона.
Это была их семья.
Даже больше чем семья. Это было сообщество людей, свободных духом и телом. В мире, где человеком все больше и больше управляют средства массовой информации, интернет и органы государственной власти, Дэвид создал островок свободы. Его дом в Бридлингтоне стал последним убежищем независимой богемной жизни. Они могли курить, пить, отправляться в «искусственный рай»[42] – делать все, что душе угодно, лишь бы это никому не причиняло вреда. По обоюдному согласию Джон и Дэвид прекратили свои сексуальные отношения несколько лет назад, когда Дэвиду исполнился семьдесят один. Джон и Доминик были любовниками. Дом был на двадцать пять лет моложе Джона, так же как Джону было на двадцать пять лет меньше, чем Дэвиду. Сам же Дэвид больше не мог пить, употреблять тяжелые наркотики, похвастаться эрекцией, достойной так называться, но испытывал при этом не зависть, а радость оттого, что под его крышей живет и передается желание. Терпимость была исчезающей ценностью. За кирпичными стенами дома с эркерными окнами в трех минутах ходьбы от моря скрывался рай.
Это была свобода, которую трудно сохранять, старея: возраст загоняет нас в рамки устойчивых привычек и внушает нам разнообразные страхи и мании. Дэвид заметил это недавно, когда ужинал в Нью-Йорке с Питером, впервые после нескольких прошедших лет. Его бывший любовник по-прежнему жил с датчанином, ради которого когда-то бросил Дэвида, и за ужином эти двое, которые были моложе его на десять лет, не пили, не курили и даже не переносили запаха сигарет, ели только экологически чистую пищу и постоянно смотрели на часы, чтобы успеть лечь спать не позже десяти часов вечера! Можно было подумать, что это две старые девы. Когда они попрощались, Дэвид спросил себя, как он только мог быть безумно влюбленным в этого человека.
Он жил в Бридлингтоне вот уже девять лет. Девять лет непрерывного творчества. У него еще никогда не было такого долгого периода активности, даже в Калифорнии. Моне прожил сорок три года в своем скромном доме в Живерни, где были только кухарка и садовник, пруд и чудесная мастерская: так он провел сорок три весны и сорок три лета. Дэвид не мог представить себе лучшего образа жизни. Компания, управлявшая его делами, находилась в Лос-Анджелесе и открывалась в десять часов утра, в Бридлингтоне это было шесть часов вечера: он проводил долгие спокойные дни, никакие административные хлопоты не нарушали безмятежного течения его мыслей. Он работал без остановки, не чувствуя ни малейшей усталости. Однажды утром, в октябре, он вышел купить газету, отправившись, по обыкновению, через обширный пляж, тянущийся к востоку от дома, упираясь в белые скалы мыса Фламборо-Хед. Глядя на стальную ширь Северного моря с его ледяными бурунами, он улыбнулся, вспомнив слова сестры: «Иногда я думаю, что простор – это и есть Бог». Это была мысль столь же справедливая, сколь и поэтичная. Он тоже чувствовал себя счастливым, только когда вокруг него был простор. Внезапно он оступился без всякой причины: не было ни ямы в песке, ни камня, о который он мог бы споткнуться, – упал, ничего себе не повредив, и поднялся на ноги. Купив газету и вернувшись домой, он заметил, что, начав говорить, не в состоянии закончить фразу. Он связал это внезапное нарушение речи со своим падением на пляже. Джон вызвал скорую помощь, которая приехала через каких-нибудь десять минут. С ним случился инфаркт. Уже второй раз в его жизни Джон поехал с ним в больницу, держа его за руку, – на этот раз в карете скорой помощи.
Прошли недели и даже месяцы, прежде чем Дэвид снова начал говорить нормально. Он осознавал, как ему повезло: его правая рука никак не пострадала. Она была для него важнее, чем возможность говорить. Это был его второй инфаркт, который не убил его – не больше, чем первый. В отличие от рака поджелудочной железы, как у его друзей Кристофера, Генри и Джонатана, он стал жертвой простого панкреатита. Ему удалось ускользнуть из страшных сетей СПИДа. Смерть играла с ним, давала ему легкие подзатыльники, но в конечном счете удовольствовалась тем, что напоминала ему о его положении смертного: время, которое ему оставалось рисовать, не бесконечно.
После использования в работе многих новых технологий к нему снова пришло желание вернуться к традиционной технике: рисовать углем. Он начал с изображения пня, похожего на тотем: незадолго до этого вандалы изрубили его в куски и покрыли граффити. Это надругательство наполнило Дэвида печалью, которую хорошо передавали черно-белые рисунки. Уголь прекрасно подходил для того, чтобы изображать наготу зимы, но позже он поставил перед собой очень сложную задачу: изобразить в черном и белом приход весны. Это он-то, который всегда любил яркие и сочные краски. Чувствуя усталость после инфаркта, а также большой выставки пейзажей, недавно проходившей в Королевской академии и имевшей огромный успех у публики и критики, он ложился спать в девять часов вечера и вставал уже не так рано, как прежде. Работал он, часами сидя в машине, предельно сосредоточившись, бок о бок с Джеем-Пи, который в это время читал или слушал музыку. Он несколько сбавил ритм, но и в семьдесят пять лет, после двух инфарктов жизнь по-прежнему оставалась для него волнующей и привлекательной.
Тем вечером, после того как он уже два дня подряд на целый день уезжал из дома вместе с Джеем-Пи, у него было только одно желание: лечь в постель и уснуть. Рисунок требовал от него огромной концентрации и сильно утомлял глаза. У себя в спальне он снял слуховые аппараты, как только оказался в постели – тут же провалился в сон и спал беспробудно около десяти часов. Войдя утром в кухню, увидел за столом Джея-Пи, который сидел, обхватив руками голову, – в позе, совсем ему не свойственной.
– Ты уже встал, дорогой?
Джей-Пи поднял голову. На лице у него было странное выражение.
– Дэвид…
Он сразу же узнал этот голос. Бесцветный, с металлическими нотками. Он подумал о Джоне и испугался.
– Что случилось?
– Дом… Дом умер.
– Дом?
Это казалось невозможным. Он видел его десять часов назад на этой самой кухне, когда зашел выпить стакан воды, перед тем как лечь спать. Дом замер у открытой дверцы холодильника, стоя перед ним в футболке и трусах, которые открывали его спортивные ляжки, поросшие тонкими золотистыми волосами. Услышав Дэвида, он вздрогнул и обернулся, держа в руках яблоко и йогурт. Он предупредил, что во вторник его не будет, потому что он собирается на тренировку перед матчем по регби.
Дэвид опустился на стул. Джей-Пи рассказал ему о событиях минувшей ночи. Предыдущие два дня Джон с Домом провели, накачиваясь алкоголем и наркотиками. Этим утром, в четыре часа, Дом разбудил Джона и попросил отвезти его в больницу. Он был бледен, но было непохоже, что сильно страдает; он смог одеться сам, так что Джон особенно не паниковал. Они вышли из дома около пяти часов. По дороге в больницу Дом потерял сознание. И его не смогли реанимировать. Больше Джей-Пи ничего не знал.
– А где Джон?
– В больнице.
Джон вернулся в состоянии крайнего шока, через несколько дней ему пришлось лечь в больницу. В ванной комнате, в раковине, Дэвид и Джей-Пи увидели пустую бутылку из-под средства для прочистки труб: они поняли, что Дом покончил с собой.
Дэвид заставил себя снова начать рисовать. Этот процесс был единственным, что позволяло ему забыться. Искусство имело над ним такую власть. Его взгляд сосредоточивался на стебельке травы, и мир вокруг исчезал. Весь май он ежедневно рисовал: каждый новый листочек, каждую появляющуюся почку, каждый раскрывающийся лепесток – в черном и белом цветах. После этого они вместе с Джеем-Пи уехали в Лондон. Он больше не мог оставаться в Бридлингтоне, который на каждом шагу будил воспоминания о Доминике.
Это была первая смерть после ухода его друга в Лос-Анджелесе. Первая за двенадцать лет, когда уже представлялось, что она наконец ослабила свою железную хватку. Но в этот раз смерть оказалась самой страшной: пришла к нему в дом, пока он спал. Малыш, еще ребенок, наложил на себя руки прямо рядом с ним. А он ничего не видел и не слышал. Это был конец их жизни, их команды, их семьи, конец свободы и радости. Всех поглотил мрачный и зловещий мир морали. В те времена, когда эпидемия СПИДа косила направо и налево его друзей, все они были ее жертвами. Они не хотели умирать. А теперь один из них, самый юный, добровольно убил себя. Ходячие мертвецы Англии могли радоваться. И все террористы на свете – в придачу.
Дэвид и Джей-Пи уехали в Калифорнию. Дом на Монкальм-авеню совсем не изменился: все такой же красочный и яркий, утопавший в столь ослепительно-зеленой тропической растительности, что она казалась выкрашенной акриловой краской. И сама Калифорния оставалась по-прежнему такой же: наполненной светом, запахами и солнцем. Над ней так же сияло высокое синее небо, равнодушное к человеческим трагедиям. Было приятно просыпаться утром и чувствовать тепло на коже, спускаться по лестнице небесно-лазоревого цвета к бассейну, сверкавшему под солнцем среди пальм, фуксий, агав и алоэ. Дэвид никуда не ходил и ни с кем не общался. И он больше не мог рисовать.
Сидя на террасе, пол и перила которой были выкрашены в тот же небесно-лазоревый цвет, в своих мыслях он снова видел Дома, замершего перед холодильником, и выражение удивления на его детском лице, когда он обернулся на звук шагов входящего в кухню Дэвида. Он слышал, как Дом сказал, что будет отсутствовать во вторник, потому что собирался на тренировку перед матчем. Он снова и снова прокручивал в голове сцену, при которой его не было, не могло быть. Вот Дом просыпается среди ночи в постели Джона, направляется в ванную комнату, берет пластиковую бутылку внизу под унитазом, нажимает двумя пальцами на крышку с обеих сторон, одновременно надавливая и поворачивая. Безопасный колпачок, призванный защитить детей, чтобы они случайно не хлебнули ядовитой жидкости, был как бы указателем, предупреждающим о смертельной опасности. Но Дом пренебрег этим предостережением. Он поднес бутылку к губам и опрокинул в себя жидкость. Он выпил – так, будто это была вода или виски, – серную кислоту, служившую для прочистки труб. Дом, испивающий свою смерть, словно Сократ чашу цикуты. Наверняка эта бледно-желтая жидкость моментально обожгла ему рот, горло и пищевод. А когда он отправился в ванную комнату – он шел в туалет или уже решил покончить с собой? Может быть, эта мысль пришла ему при виде бутылки с чистящей жидкостью – как человека, стоящего на краю пропасти, привлекает мысль сделать шаг вперед. Пожалел ли он о своем поступке в следующую минуту после того, как выпил жидкость? Скорее всего, да, потому что он пошел разбудить Джона, чтобы тот отвез его в больницу. Дэвид приходил в ужас от этой мысли. Но, даже вернувшись назад в тот день, было бы уже невозможно что-то предпринять. Если бы Джон вызвал скорую помощь, они не смогли бы спасти Дома. Кислота уже разъела все у него внутри. Вот только потерял ли Дом сознание до того, как испытал адскую боль, – как на это надеялся Дэвид?
Почему смерть, удовольствовавшись лишь легким прикосновением к нему, Дэвиду, нанесла жестокий удар с ним рядом – парню двадцати трех лет? Почему Дом стал ее жертвой? Эти вопросы без конца крутились у него в голове.
Как-то он обратил внимание на Джея-Пи, сидевшего в желтом кресле с деревянными подлокотниками, обхватив голову руками, – точно в таком же положении, в каком его застал Дэвид, войдя в кухню в Бридлингтоне пять месяцев назад. Внезапно он ощутил желание его нарисовать. Он попросил его не двигаться, сходил за альбомом для набросков и принялся за работу.
Теперь ему хотелось, чтобы друзья и знакомые приходили к нему, а он мог написать их портрет в том же самом желтом кресле с деревянными подлокотниками, на том же самом зелено-голубом фоне – еще более ярком, чем на акварелях, выполненных им десять лет назад, еще до пейзажей. Он не требовал от героев своих портретов принимать ту же позу, что у Джея-Пи, – с головой, обхваченной руками. Он изображал их анфас, их взгляд был устремлен прямо на него. И пока он работал, ему удавалось не думать о Доме. Или, вернее, его мысли о Доме трансформировались в линии, в штрихи, в мазки кистью и в краски. Портреты живых людей не воскрешали мертвого; они были его могилой.
Он опять был в строю, снова вернулся к жизни, способный рисовать и писать красками живых. И готовить большую выставку, открытие которой намечалось в октябре в Музее де Янга в Сан-Франциско, и еще многие другие, предстоявшие ему в галереях Лондона, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Парижа, Пекина… В состоянии говорить журналисту, пришедшему к нему для интервью, или режиссеру, снимавшему о нем документальный фильм: «Я оптимист». Ему было семьдесят девять лет. Его глухота мешала ему вести нормальную социальную жизнь: как только в комнате появлялось больше двух человек, он переставал что-либо слышать. Он уже почти никуда не выходил, разве что к врачу или дантисту, в книжный магазин или магазин, торгующий марихуаной. Ему прописали марихуану по медицинским показаниям, для снижения уровня тревожности. «Тревожности, что я больше не получу марихуаны», – думал он с улыбкой. Через год ожидалась его огромная ретроспективная выставка в галерее Тейт, которая потом поедет в Париж, в Центр Помпиду, потом – в Метрополитен-музей в Нью-Йорке. Будет представлено его творчество на протяжении шестидесяти лет. Подготовка такого события подразумевала невероятную работу. Мастерская на Монкальм-авеню снова загудела как улей. Дэвид, бодрый как никогда, проводил в ней вместе с помощниками дни напролет.
Он в задумчивости смотрел на последнюю выполненную им работу, затянувшись совершенно легально полученным косяком. Рисунок, навеянный двумя картинами: одна из них – Караваджо, другая – Сезанна, – он сделал на айпаде и потом распечатал на принтере. На нем изображены трое мужчин зрелого возраста, играющих в карты. Под напечатанный рисунок он поместил три экрана, на которых выполнял портреты трех игроков, и запустил функцию айпада, позволяющую заново прокрутить на большой скорости выполнение рисунка с самого первого штриха до полного завершения. Дэвид, как и зритель, который вскоре должен увидеть эту работу, наблюдал, как в ускоренном темпе рождается его рисунок. Линия возникала очень быстро: появлялось лицо, затем его рука меняла направление, стирала линию, разворачивала лицо в другую сторону, изменяла его выражение. Картина, висевшая напротив него на стене, представляла собой законченный рисунок и вместе с тем отображала творческий процесс: это было в полном соответствии со всей его работой. Завтра он приступит к новому проекту: это будут трое курильщиков. Курильщиков табака или марихуаны? Картина не передаст запаха дыма, так что он их не выдаст. Немного пропаганды никому не повредит. У него уже вырисовывалась еще одна новая идея: написать «Благовещение» на мотив картины Фра Беато Анджелико. Этакое калифорнийское «Благовещение» – в ярких психоделических тонах, как его «Нагорная проповедь» на мотив Лоррена. Это будет полотно, прославляющее рождение, любовь, человеческую жизнь, изображенные взрывом ярких красок. После мрачных пейзажей углем, написанных в Англии, его возвращение в Калифорнию стало и возвращением к более живому и смелому цвету.
Портреты после пейзажей. Весна после зимы. Рисунки рукой после рисунков на гаджетах. Масло после акварели. Цвет после черноты угля. Калифорния после Англии. Радость после трагедии. Восход солнца после темной ночи. Созидание после пустоты. И так далее. У всего на свете свой черед. И нет ответов на бесполезные вопросы. Все в жизни циклично. Жизнь не прямая дорога с линейной перспективой. Она извивается, останавливается, снова устремляется вдаль, возвращается назад, а потом бросается вперед. Трагедия и случай составляют части великого замысла. Великий замысел и замысел рисунка – разве это не одно и то же? Способность уловить порядок в мировом хаосе. Именно это привлекало Дэвида в искусстве и восхищало у его любимых мастеров, Пьеро делла Франчески или Клода Лоррена: сложное равновесие цветов и противостоящих друг другу элементов, положение человека в пространстве, ощущение, что он лишь крохотная часть одного великого целого. Художник – жрец Вселенной.
Можно с уверенностью сказать лишь одно: ребенок, едва научившись держать в руках карандаш, оставляет им след. С глубокой древности человек пытался выразить в двух измерениях свое восхищение перед трехмерным миром. Так было, так продолжается и так будет всегда.
Избранная библиография
Книги:
Hockney, David, My early years, Londres, Thames and Hudson, 1976.
Hockney, David, That’s the way I see it, Londres, Thames and Hudson, 1993.
Hockney, David, Ma façon de voir, sous la direction de Nikos Stangos, traduit de l’anglais par Pierre Saint-Jean, Paris, Thames and Hudson, 1995.
Hockney, David, Secret knowledge: rediscovering the lost techniques of the old masters, Londres, Thames and Hudson, 2006.
Sykes, Christopher Simon, David Hockney: a rake’s progress. The Biography, 1937–1975, New York, Doubleday, 2011.
Sykes, Christopher Simon, David Hockney: a pilgrim’s progress. The Biography, 1975–2012, New York, Doubleday, 2014.
Weschler, Lawrence, True to life: twenty-five years of conversations with David Hockney, Berkeley – Los Angeles – Londres, University of California Press, 2008.
Gayford, Martin, Conversations avec David Hockney, traduit de l’anglais par Pierre Saint-Jean, Paris, Éditions du Seuil, 2011.
Ottinger, Didier (dir.), David Hockney, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2017.
Rowley, George, Principles of chinese painting, Princeton, Princeton University Press, 1947.
Livingstone, Marco et Heymer, Kay, David Hockney: portraits de famille, Paris, Thames and Hudson, 2016 (на английском издана в 2003 году).
Barringer, Tim et Devaney, Edith, David Hockney: a bigger picture, Londres, Royal Academy, 2012.
Benefield, Richard, Weschler, Lawrence, Howgate, Sarah et Evans, Gregory, David Hockney. A bigger exhibition, Fine Arts Museum of San Francisco, 2014.
Статьи:
Fuller, Peter, An interview with David Hockney, Art Monthly, Londres, November 1977, no. 12, p. 4–10.
Kramer, Hilton, The fun of David Hockney, The New York Times, 4 November 1977.
Bunyan, Nigel, David Hockney assistant died after drinking drain cleaner, Inquest told, The Guardian, 29 August 2013.
Hattenstone, Simon, David Hockney: Just because I’m cheeky, doesn’t mean I’m not serious, The Guardian, 9 May 2015.
Фильмы:
Haas, Philip and Hockney, David, A Day on the Grand Canal with the Emperor of China or: Surface is illusion but so is depth. Film, 46 minutes, 1988.
Hazan, Jack, A bigger splash, starring David Hockney. Film, 105 minutes, 1975.
Wright, Randall, Hockney. Film, 112 minutes, 2016.
Я благодарю за внимательное чтение и поддержку Лучану Флорис, Милен Абриба, Шарля Кермарека, Хелен Лэндмор, Бена Либермана, Мирьяну Чирич, Гордану де ла Ронсьер, Хилари Оллред, Жаклин Летцер, Уэйди Санбара, Розин Кюссе, Ричарда Хайна, Алессандро Ричарелли, Дженнифер Коэн, Шелли Гриффин, Катрин Тексье, Натали Байо и Анн Вижу.
Я благодарю моего издателя Жан-Мари Лаклаветина, а также Антуана Галлимара за их неизменное содействие.
Над книгой работали
Руководитель редакционной группы Анна Неплюева
Ответственный редактор Анна Золотухина
Арт-директор Алексей Богомолов
Дизайн обложки Донат Плетухов
КорректорТатьяна Чернова, Елена Гурьева
В макете используется иллюстрация по лицензии Shutterstock.com
ООО «Манн, Иванов и Фербер»
mann-ivanov-ferber.ru