Французский язык в России. Социальная, политическая, культурная и литературная история бесплатное чтение
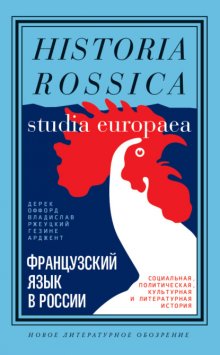
Предисловие
Цель этой книги – предложить читателю многогранную историю бытования французского языка в дореволюционной России, где в XVIII–XIX веках элита часто обращалась к нему с различными целями. (Под «французским языком» мы имеем в виду его нормативную разновидность, которой пользовались представители элиты и которая в XVIII веке считалась единственно правильной[1].) Эта тема редко становилась предметом изучения, по крайней мере до недавних пор, хотя, по нашему мнению, она имеет большое значение. Обращение к ней позволяет нам понять социальные, политические, культурные и литературные последствия двуязычия в языковом сообществе на протяжении долгого времени. Кроме того, эта тема имеет прямое отношение к устоявшимся идеям о русской мысли и литературе, в частности к продолжительным спорам об отношениях России с миром за пределами ее западных границ во время формирования империи и складывания нации. Мы также надеемся, что более полное, по сравнению с прошлыми попытками, описание франко-русского двуязычия позволит лучше понять и сущность франкофонии как общеевропейского явления. В самом широком смысле изучение этой темы имеет важность в эпоху небывалой глобализации, так как оно позволяет выйти за рамки опыта одной нации и входящих в нее социальных групп и отдельных личностей и прояснить, как языки и связанные с ними культуры и нарративы распространялись за национальные границы.
Наша книга посвящена двум основным проблемам, каждая из которых могла бы стать предметом отдельного исследования, хотя в некоторых случаях их трудно рассматривать по отдельности. Во-первых, мы анализируем языковую практику и функции французского в России, а также среду и типы коммуникации, в которых им пользовались начиная с XVIII века. Так, мы рассматриваем бытование французского как устного и письменного языка в различных социальных средах (при дворе и в местах общения высшего дворянства – например, в салоне, на балу и в масонской ложе), а также в некоторых официальных сферах, особенно в дипломатии. Мы исследуем обращение к французскому как языку литературы – любительской и профессиональной, – а также как языку пропаганды и полемики, помогавшему русским представлять позитивный образ своей страны за границей и использовавшемуся для участия в международных дискуссиях о политике и об исторической судьбе России. Языковая практика является главной темой глав 3–7, которые организованы скорее по тематическому, чем по хронологическому принципу. Хотя иногда мы будем обсуждать язык последних лет императорской России, то есть конца XIX – начала XX века, период, которому мы уделяем наиболее пристальное внимание, завершается 1861 годом. Именно этот год, когда правительством Александра II были освобождены крестьяне и дворяне утратили право владеть крепостными, знаменует собой конец эпохи: после этой даты престиж дворянского сословия, символом которого было общение на французском языке, начал снижаться.
Во-вторых, мы рассматриваем отношение к языку и связь между использованием того или иного языка и представлениями о различных типах идентичности (особенно социальной и национальной). Здесь мы касаемся области восприятия, воображаемых сообществ, ментальных ландшафтов и ценностей. Так, мы анализируем проникновение идей об определенных качествах языков и последствий выбора языка в русское культурное сознание. Нас интересует, насколько использование русскими французского языка было связано с представлениями о Франции и французах. Не меньшую важность для нас имеют существовавшие в России нарративы об опасностях, которые представляют для формирующейся нации космополитизм и двуязычие. Главы 8–9, посвященные этим вопросам, построены в основном по хронологическому принципу. В них рассматривается несколько более поздний период, чем в главах, в которых мы анализируем языковую практику, – примерно с середины XVIII века, когда французский закрепился при дворе и стал престижным языком российского дворянства, а русские начали размышлять об использовании иностранных наречий и о достоинствах своего языка, до 1880-х годов, так как для авторов классических произведений русской литературы, об отношении которых к франко-русскому двуязычию идет речь в последней главе, эта тема не утрачивала своего значения и занимала важное место в их размышлениях о судьбе России и в царствование Александра II, убитого в 1881 году.
Однако прежде чем обратиться к основным вопросам, обозначенным нами, – использованию языка и отношению к нему, – мы попытаемся выстроить понятийную структуру нашего исследования и поместить его в широкий исторический контекст. Решению первой из этих задач посвящено введение. В нем мы критически разбираем некоторые устоявшиеся суждения о франко-русском двуязычии и связанном с ним бикультурализме элиты в имперской России (хотя, скорее, следует говорить о многоязычии и мультикультурализме, так как элита XVIII–XIX веков была подвержена влиянию не только французского языка и культуры, но и целого ряда других европейских языков и культур) и о последствиях этих явлений. Далее мы обратим внимание на две идеи, серьезно повлиявшие на дискуссии о русской культуре: во-первых, идею о том, что Россию лучше всего определять через сравнение с воображаемым «Западом» или даже через противопоставление ему, и, во-вторых, что русское культурное развитие представляло собой исключительный, а возможно, даже уникальный случай. Мы рассматриваем использование языка и языковых споров с точки зрения разных научных дисциплин: истории, особенно истории формирования империи и нации, и социолингвистики, для которой важными оказываются такие явления, как двуязычие, диглоссия, выбор языка, языковая лояльность, переключение кодов, пуризм и так далее. Междисциплинарный характер нашего исследования делает необходимым размышление о том, в какой степени можно сочетать подходы истории и социолингвистики, и о других методологических вопросах. В последнем разделе введения мы останавливаемся на характере, ценности и недостатках некоторых видов использованных нами первоисточников, особенно художественной прозы и драматургии.
И языковое явление, которое мы рассматриваем, и все аспекты двух освещаемых нами проблем в значительной мере объясняются социальными и политическими событиями, внешними и внутренними культурными и интеллектуальными причинами. В связи с этим наша цель в главе 1 заключается в воссоздании широкого исторического контекста, о котором следует помнить при анализе функций языка и мнений о его использовании, существовавших на протяжении более двухсот лет в дореволюционном российском обществе. Коснувшись истории распространения французского языка в разных странах начиная с эпохи Людовика XIV, мы кратко остановимся на истории создания империи российскими монархами XVIII века, начиная с Петра Великого, и на его реформах, инициированных с целью модернизировать унаследованное им государство и европеизировать русскую элиту. Далее мы опишем рецепцию иностранных языков в России XVIII века, делая акцент на обращении элиты к французскому как к престижному языку, которое началось примерно с середины столетия. Ключевым фактором в европеизации России было преобразование дворянства в сословие западного типа, осознающее свое привилегированное положение, и именно этот процесс мы рассмотрим в четвертом разделе главы 1. Обозначив исторические события (Наполеоновские войны и восстание 14 декабря 1825 года), к которым мы не раз обратимся, мы остановимся на появлении литературного сообщества и интеллигенции в николаевскую эпоху. Во второй четверти XIX века эти группы начали соперничать с дворянством в борьбе за культурный и нравственный авторитет. Они также играли важнейшую роль в формировании чувства национальной идентичности, стимулируя развитие современного русского литературного языка и одновременно способствуя возникновению преимущественно негативного отношения к франко-русскому двуязычию дворянства. В главе 1 мы даем больше сведений о контексте, чем это может быть необходимо специалистам по русской истории и культуре, чтобы сделать книгу интересной как для ученых, занимающихся другими дисциплинами, так и для любого заинтересованного читателя, мало знакомого с историей России.
Наш анализ использования языка и отношения к нему предваряет еще одна глава (глава 2), в которой мы анализируем место французского в образовательных учреждениях (особенно в Императорском сухопутном шляхетном кадетском корпусе) и обращаем внимание на средства, которые представители русской элиты вкладывали в обучение своих детей французскому, если они могли себе это позволить. Мы увидим, что высшие слои российского дворянства изучали целый ряд языков, но при этом французский играл в их образовании совершенно особую роль. Читатель узнает, каким образом в России осваивали французский (на занятиях в частном или государственном учебном заведении и с помощью учителей-иностранцев, которых нанимали в дворянские дома) и как этому способствовали разные практики, такие как образовательные поездки за границу и гран-тур, изучение разных предметов на французском и ведение личной переписки между родителями и детьми на этом языке. Мы подчеркиваем в этой главе, что символическая ценность овладения французским и усвоения той утонченной культуры, маркером которой он был, выражалась в значительных материальных средствах, которые дворяне осознанно тратили на изучение этого языка.
Мы не только вписываем это языковое явление в широкий контекст, но и постоянно соотносим использование, выбор языка и отношение к нему с такими вопросами, как воспитание, педагогика, социальные и культурные практики, мода, манеры и нравы, представления о характере личности или нации и формирование социальной и национальной идентичности. Вместе с тем мы постараемся избежать поверхностных обобщений о явлении, которое представляло собой, по нашему мнению, сложную многоязычную сферу, в которой практика не всегда согласовалась с принятыми правилами этикета. Мы также не считаем, что все культурные и языковые явления в России были результатом деятельности монархов, даже в XVIII веке; напротив, мы полагаем, что семьи и отдельные люди, особенно из высшего дворянства, сыграли в этом отношении не менее значительную роль, чем правители и высшие государственные лица. Мы ставим под сомнение негативные – по большей части – суждения о последствиях франко-русского двуязычия, источником которых, как правило, являются тексты классической русской литературы и мысли и которые воспроизводились и до сих пор воспроизводятся в некоторых научных работах. Мы также обращаемся к языковой практике и спорам о языке в других языковых сообществах Европы. Отчасти это необходимо, чтобы вписать наш анализ в широкий контекст, однако есть две другие причины, которыми мы руководствовались. Во-первых, нам хотелось подвергнуть сомнению часто встречающиеся утверждения об исключительности культурного развития России или о подражательности ее культуры или, наконец, о маргинальности ее положения в европейской цивилизации. Во-вторых, мы стремились подчеркнуть транснациональный характер изучаемой нами культурной истории, частью которой являются использование языка и отношение к нему.
Как уже было сказано, мы придерживаемся междисциплинарного подхода. Заголовок нашей книги указывает на то, что, изучая использование языка, мы не можем не обращаться к социальной и политической истории, а также к истории культуры и литературы. Так, мы исследуем связь между выбором языка и социальным происхождением: обращение к французскому языку с различными целями, особенно для социальной дифференциации, является одним из аспектов истории дореволюционного российского общества в целом и дворянства в особенности. Мы касаемся вопросов политической истории постольку, поскольку использование французского в России было также проявлением проекта европеизации и создания империи, инициированных монархами XVIII века. Анализ реакции разных сословий на использование французского языка русским дворянством приводит нас к необходимости изучения национального сознания и национализма – как политического, так и культурного. В то же время в поле нашего внимания попадают и проблемы истории культуры, ведь язык нас интересует как один из аспектов культурного поведения и как вопрос, обсуждавшийся в ходе споров о русской культуре. Немаловажное значение имеет для нас и история литературы, так как корпус написанных россиянами по-французски произведений, включая «литературные» (даже если мы используем это слово в достаточно узком смысле применительно к беллетристике), весьма объемен и представляет собой часть русской, а в некоторых случаях и французской литературы. Вместе с тем мы затрагиваем и сферу исторической социолингвистики, пользуемся категориями (билингвизм, диглоссия, стандартизация языка, переключение кодов и так далее), которыми оперируют социолингвисты в работах, посвященных изучению функционирования языка в обществе и влиянию на него социальных и культурных факторов. Мы надеемся, что эта попытка соединить подходы разных дисциплин оказалась успешной и что она сделает нашу книгу полезной не только для славистов и исследователей французского, которым интересна рецепция этого языка и французской культуры за пределами Франции, но и для более широкого круга читателей.
Целесообразно будет сразу сказать, какие задачи мы не ставим перед собой в этой книге. Например, мы не пытаемся написать исчерпывающую историю бытования французского языка в России, хотя и задаем нашему исследованию довольно широкие временные рамки (с начала XVIII до второй половины XIX века) и стараемся рассмотреть проблему с разных углов зрения. Обилие источников позволяет детально описать такие важные темы, как преподавание иностранных языков в учебных заведениях и языковая практика в семейном кругу, применительно ко всему интересующему нас периоду. Однако временны́е и пространственные ограничения, а также пределы нашей собственной компетентности делают столь детальный и всеохватный анализ невозможным. К тому же лишь относительно небольшая часть первоисточников была изучена настолько, чтобы можно было активно привлекать научную литературу для создания по-настоящему всеобъемлющего исследования. Хронологические рамки нашего труда также более ограничены, чем то позволяют доступные источники. Мы не стремились к систематическому описанию влияния французского языка на русский, поскольку наше внимание сосредоточено скорее на функционировании языка в обществе, нежели на внутриязыковых процессах – таких, например, как синтаксические изменения. Лексическое влияние французского на русский также находится за пределами социальной и культурной истории, интересующих нас более всего, хотя мы и затрагиваем эту тему, поскольку она касается влияния языка и культуры Франции на дореволюционную русскую элиту и их продолжительного воздействия на русскую культуру в более широком смысле. Но, невзирая на все эти ограничения, мы стремились создать многогранное исследование роли языка в социальной, политической, культурной и литературной истории императорской России, уделяя внимание как широкому обзору, так и подробному анализу конкретных кейсов и совмещая подходы истории и исторической социолингвистики.
Среди вопросов, которые остались за рамками нашего исследования и которые могли бы в будущем исследовать другие ученые, мы хотели бы особо выделить следующие. Во-первых, дальнейшего изучения требует использование французского языка средним и низшим провинциальным дворянством и недворянскими сословиями (например, купечеством и духовенством) – это позволит очертить социальные границы этого явления. Во-вторых, целесообразно было бы рассмотреть, как пользовались французским в отдаленных, периферийных областях империи или областях, бо́льшую часть населения которых составляли не этнические русские: например, в Сибири, на Кавказе и на Украине[2]. Язык прибалтийского дворянства, игравшего значительную роль в России после присоединения к империи Остзейских губерний в XVIII веке, может также быть крайне интересным материалом для анализа[3]. В-третьих, хотя мы кратко говорим о религиозных дискуссиях на французском[4], мы не затрагивали такие вопросы, как обращение русских в католицизм, авторитет французских священников, которые по той или иной причине оказались в России, присутствие иезуитских школ, а также влияние французских сочинений духовного характера и переводов французской духовной литературы[5]. Все эти темы потенциально представляют интерес для социальной истории языка. В-четвертых, отдельного исследования заслуживает официальная языковая политика Российской империи – для этого потребуется произвести всесторонний анализ законодательных актов о языковых вопросах в Полном собрании законов Российской империи[6]. В-пятых, мы уверены, что плодотворным может быть изучение языка русской аристократии на закате ее существования и многоязычия в творческом сообществе Серебряного века, в начале XX столетия.
Большой корпус источников, на которые могут опираться исследователи истории французского языка в России, включает разнообразные неопубликованные документы, хранящиеся в российских архивах в Москве и Санкт-Петербурге, например в АВПРИ, ГАРФ, РГАДА, РГАЛИ и РГИА, а также в Отделах рукописей РГБ и РНБ[7]. Мы также привлекали материалы из Государственного архива Тверской области (ГАТО), ведь в Тверской губернии находились имения, принадлежавшие таким знаменитым дворянским фамилиям, как Бакунины и Глинки. В этих хранилищах можно обнаружить личные архивы русских дворянских семей, использовавших французский, переписку дворян с их друзьями и близкими, личные дневники и записные книжки, семейные альбомы, детские письменные упражнения, библиотечные каталоги, официальные отчеты и письма и даже отчеты, написанные по-французски агентами Третьего отделения – политической полиции, учрежденной Николаем I в 1826 году. Некоторые архивные фонды давно были изданы, в особенности сорокатомное собрание писем и документов, принадлежавших четырем поколениям рода Воронцовых. В числе опубликованных источников можно найти и личную переписку многих других людей, дневники, воспоминания, впечатления заграничных путешественников разных национальностей, посещавших Россию в интересующий нас период. Среди привлекаемых нами источников большинству читателей, вероятно, наиболее знакомыми будут произведения русской литературы: пьесы, рассказы, повести и романы. (Этот тип источников, в котором часто встречаются ремарки о языке героев, выходит на первый план в главах 8–9, когда речь идет не о реальной языковой практике, а о представлениях о ней.) Источники того или иного типа проливают свет на отдельные аспекты нашего исследования, но также ставят перед нами определенные проблемы, на которые мы обращаем внимание в соответствующих частях книги, особенно в последнем разделе введения.
Безусловно, мы привлекаем и научную литературу по разным дисциплинам, авторов которой интересуют вопросы языка. Из работ по социальной и политической истории, а также истории культуры и литературы мы использовали труды о европейском дворянстве в целом и русском дворянстве в частности, об империях и национализме, о культурной истории России, о классической русской литературе и мысли. В сфере социолингвистики нам была полезна обширная литература – не касающаяся какой-то конкретной национальной ситуации – о таких проблемах, как многоязычие и билингвизм, диглоссия, lingua franca, пуризм, стандартизация языка и переключение кодов. Мы также обращались к работам по общей истории франкофонии и истории русского языка. Диапазон гуманитарных и социальных наук, которых мы коснулись, достаточно широк, и мы надеемся, что наши материалы будут полезны ученым из разных сфер, которые могут быть знакомы лишь с частью рассмотренных нами областей, поэтому мы включили в сноски ссылки на некоторые авторитетные исследования.
Конечно, мы также пользовались существующей научной литературой об истории французского культурного влияния в России и, в частности, об истории использования русскими французского языка. Интерес к нему в России был заметен уже в XIX веке, о чем свидетельствует библиография, опубликованная в 1870-е годы, когда французский все еще был видным явлением в русском языковом ландшафте[8]. Однако только в советский период эта тема впервые привлекла серьезное внимание ученых, не в последнюю очередь потому, что к этому подталкивало углубленное изучение русской литературы пушкинской эпохи в то время[9]. В центре внимания советских исследователей было в первую очередь использование французского как языка литературного творчества и общения в среде русских писателей первой половины XIX века. В советское и раннее постсоветское время также изучалась двуязычная переписка, особенно переписка мужчин-литераторов XIX века[10]. Кроме того, существует ряд работ 1970–1980-х годов о распространении французских книг в России и их наличии в русских библиотеках и книжных собраниях[11]. В постсоветский период[12] интерес к русской франкофонии не только не угас, но даже усилился в связи с возросшим вниманием к культуре русской элиты XVIII–XIX веков. Большинство современных исследований по этой теме, как и упомянутые нами советские работы, по-прежнему посвящены в основном феномену русских сочинений на французском языке. Особенно заметный вклад в эту область в постсоветское время внесла Елена Павловна Гречаная – автор монографии и научный редактор ряда книг, написанных в соавторстве с другими учеными[13]. Личная переписка продолжала привлекать внимание ученых, примерами чего служат важное исследование Мишель Ламарш Маррезе, в котором она подвергла критике лотмановскую концепцию дворянской идентичности, и недавний анализ русской франкофонии, проделанный Владимиром Береловичем[14]. Серьезный вклад в изучение этой темы внесли также труды Родольфа Бодена о письмах Радищева из ссылки и Джессики Типтон о переписке нескольких поколений семьи Воронцовых[15]. Отдельные аспекты социальной и культурной истории русской франкофонии, вызывавшие интерес исследователей в относительно недавнем прошлом, включают в себя развитие русской франкоязычной прессы[16] и перевод с французского на русский[17]. Также вышло несколько работ о «французском образовании» русских дворян[18]. И наконец, в XXI веке появились труды в еще одной области знаний, имеющей непосредственное отношение к нашему исследованию, а именно исследования о языковом влиянии французского языка на русский, в частности о французских лексических заимствованиях[19].
Кроме того, основой этой книги послужили результаты исследования, проделанного ее авторами вместе с другими учеными в рамках проекта «История французского языка в России» (2011–2015), который осуществлялся в Бристольском университете при финансовой поддержке Исследовательского совета Великобритании по искусству и гуманитарным наукам (AHRC). Публикация результатов этого исследования началась с размещения на сайте проекта первого блока документов Корпуса источников, которые могут быть использованы при изучении франко-русского билингвизма, а также наших статей, посвященных отдельным текстам или группам текстов[20]. Общими целями этого корпуса было, во-первых, начать классифицировать функции французского языка в императорской России и, во-вторых, проанализировать возможные подходы к франко-русскому билингвизму и его возможные интерпретации.
Мы подготовили серию из четырех статей об изучении французского языка в императорской России, две из которых были написаны Владиславом Ржеуцким, авторами третьей и четвертой выступили Екатерина Кислова и Сергей Власов соответственно. Эта серия появилась в первом номере электронного американского журнала Vivliofika[21]. Вошедшие в нее статьи посвящены преподаванию иностранных языков в русских государственных и частных учебных заведениях и в дворянских семьях, а также социальным ценностям и стратегиям, которые отражаются в образовательной политике и в практике обучения языкам. На более общем уровне нашей задачей было продемонстрировать важность вопросов образования для изучения социокультурной истории языка.
Мы также рассмотрели сферу действия и значение франкофонии как социального и культурного явления в Европе XVII, XVIII и XIX веков[22]. Совместно с шестнадцатью другими европейскими специалистами[23] мы изучили вопросы, связанные с франкофонией в двенадцати европейских языковых сообществах за пределами Франции (средневековая Англия, Пьемонт, Италия, Голландия, Пруссия, Чехия, Испания, Швеция, Польша, румынские земли, Россия и Турция). Во введении к публикации мы постарались выстроить концептуальную базу для исследования французского как европейского lingua franca и престижного языка в этот период. Питер Бёрк написал вступительную главу о диглоссии в Европе раннего Нового времени. Это коллективное исследование стало основой для оценки общеевропейского контекста языковой ситуации в России, который позволил нам проверить тезисы об исключительном характере русского языкового и культурного развития.
Следующая группа статей, касавшаяся иностранных языков в России на протяжении «долгого» XVIII века, помогла нам подчеркнуть сложность языковой ситуации в этой стране[24]. В эту подборку вошли статьи Кристины Дамен, Владимира Береловича и Энтони Кросса о бытовании в России немецкого, французского и английского языков соответственно. В предисловии, написанном авторами данной книги[25], указывается на ощутимое присутствие немецкого языка наряду с французским и используется понятие ценности на языковом рынке с целью объяснить превосходство французского в глазах элиты. Мы также проанализировали связь между освоением иностранного языка, с одной стороны, и европеизацией и построением империи в России, с другой, – связь, к которой мы вернемся во введении и первой главе этой книги.
Вместе с Ларой Рязановой-Кларк мы подготовили большое коллективное исследование в двух томах о сосуществовании французского и русского языков в императорской России и их взаимодействии[26]. В этой книге совместно с двадцатью учеными[27] из Франции, России, США и Великобритании мы подробно анализируем язык русской элиты и отношение к нему в XVIII–XIX веках. Мы ставили перед собой двойную задачу. Во-первых, установить, кто говорил и писал по-французски в дореволюционной России, в каких сферах и с какими целями. Во-вторых, изучить влияние, которое использование французского оказало на русские общество, культуру и мысль в период, когда русские писатели начали создавать светскую литературу и конструировать особую идентичность для своей нации.
Цель настоящей книги – обобщить всю предшествующую работу и расширить анализ, чтобы всесторонне описать важные аспекты российской социальной, политической, культурной и литературной истории и проанализировать один из ярких примеров двуязычия и его последствия. Мы надеемся, что сможем предложить свежий взгляд на взаимодействие языков и культур за пределами национальных границ – доказательство тесных связей культур Европы.
Первое издание книги появилось на английском языке в 2018 году в издательстве Amsterdam University Press в серии «Языки и культура в истории»[28]. Настоящее издание подготовлено при финансовой поддержке Германского исторического института в Москве. В нем были исправлены замеченные ошибки, однако в остальном текст соответствует англоязычному изданию.
Дерек Оффорд, Владислав Ржеуцкий, Гезине Арджент,октябрь 2021 года
Благодарность
В ходе работы нашего научного проекта, который закончился публикацией этой книги, мы пользовались поддержкой большого числа учреждений, исследователей и других коллег, которым мы хотели бы выразить свою признательность.
Прежде всего, мы благодарны британскому Исследовательскому совету по искусству и гуманитарным наукам (AHRC) за выделение гранта на проведение в Бристольском университете трехлетнего научного проекта «История французского языка в России». Проект начался в августе 2011 года и был впоследствии продлен до июня 2015 года. Команда проекта состояла из Дерека Оффорда, который руководил им, и двух научных сотрудников, Владислава Ржеуцкого (с августа 2011 по ноябрь 2013 года) и Гезины Арджент (с июля 2012 по июнь 2015 года). Кроме того, в рамках проекта Джессика Типтон подготовила докторскую диссертацию (с октября 2011 по октябрь 2015 года). Грант AHRC также дал нам возможность совершить три научные поездки для работы с коллекциями российских архивов и библиотек и организовать научные мероприятия, которые позволили заложить прочный фундамент для подготовки данного исследования. Первым таким мероприятием была серия семинаров о европейской франкофонии в 2012 году, в которой приняли участие исследователи из Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов, Румынии, Чехии и Швеции[29]. Вторым мероприятием была международная конференция, организованная в Бристоле в сентябре 2012 года, в год двухсотлетия наполеоновского нашествия на Россию, в ней приняли участие примерно шестьдесят исследователей[30]. Третьим стал воркшоп, организованный в июне 2015 года в Бристоле, с участием тридцати пяти исследователей, он завершился трехчасовой дискуссией, которая была чрезвычайно полезна для нашей работы.
Во введении мы упомянем публикации, которые были сделаны в рамках данного проекта, и покажем, каким образом они подготовили основу для этой книги. Мы также скажем о вкладе в эти публикации разных ученых, входивших в команду нашего проекта.
Во-вторых, мы хотели бы поблагодарить бывшего директора Германского исторического института в Москве (DHI Moskau) проф. Николауса Катцера за финансовую поддержку этого издания, позволившую нам опубликовать в издательстве Амстердамского университета эту объемную книгу, не делая ее цену недоступной для покупателей. Мы также благодарны директору ГИИМ д-ру Сандре Дальке за решение поддержать перевод и издание этой книги на русском языке.
Во вторую очередь нам хотелось бы выразить свою признательность членам консультативного совета нашего проекта, объединившего исследователей, чья экспертиза в самых разных дисциплинах (русская история и литература, европейская история, язык как предмет исследования историков, социолингвистика) помогла нам двигаться в правильном направлении. В состав совета входили: Вим Ванденбусхе (Брюссельский свободный университет), Андрей Зорин (Оксфордский университет), Розалинд Марш (Университет Бата), Дэвид Сондерс (Университет Ньюкасла), Андреас Шёнле (Бристольский университет) и Роберт Эванс (Оксфордский университет). А. Шёнле и А. Зорин одновременно руководили другим научным проектом, «Создание европеизированной элиты в России: роль в обществе и субъектность», поддержанным Leverhulme Trust, и пригласили Д. Оффорда к участию в конференциях, организованных в рамках их проекта в Оксфорде и Лондоне в 2013 и 2014 годах соответственно. Многие другие исследователи внесли свою лепту в нашу работу над этой книгой. Среди них Майкл Горэм (Государственный университет Флориды), с которым у нас были полезные дискуссии во время его пребывания в Бристоле в течение недели в мае 2015 года в качестве приглашенного исследователя проекта. Владимир Берелович (Высшая школа социальных наук, Париж, и Женевский университет), Сара Дикинсон (Университет Генуи), Энтони Кросс (Кембриджский университет), Гэри Хэмбург (Университет МакКенны, Калифорния) вместе с четырьмя членами консультативного совета (Розалинд Марш, Дэвид Сондерс, Андреас Шёнле и Роберт Эванс) сделали важный вклад в размышления над структурой нашей книги на воркшопе в Бристоле в июне 2015 года.
Мы также пользуемся возможностью поблагодарить других исследователей, которые помогли сделать конференцию 2012 года по-настоящему продуктивной, помимо тех коллег, чьи доклады были переработаны в главы в двухтомнике «French and Russian in Imperial Russia» либо в одном из кластеров статей, опубликованных в рамках нашего проекта: Катрин Вьолле, Юрия Воробьева, Джона Данна, Алексея Евстратова, Ольгу Кафанову, Веру Мильчину, Светлану Мэр, Аллу Полосину, Келси Рубин-Детлев, Александра Строева. Многие другие коллеги помогали нам в нашей работе тем или иным образом, например сделали замечания по прочтении всей рукописи (Елена Гречаная) или отдельных ее частей, обратили наше внимание на ценные источники или поделились важной для нас информацией. Среди них Григорий Бибиков, Ангелина Вачева, Алекса фон Виннинг, Сергей Карп, Екатерина Кислова, Денис Кондаков, Сергей Королев, Андрей Костин, Татьяна Костина, Дмитрий Костышин, Гэри Маркер, Сергей Польской, Галина Смагина, Ольга Солодянкина, Владимир Сомов, Игорь Федюкин, Александр Феофанов и Ольга Эдельман. Мы также с благодарностью хотели бы отметить помощь, оказанную нам в архивных поисках Викторией Закировой, Лизой Поггель и Евгением Рычаловским. Само собой разумеется, что ответственность за возможные ошибки и упущения, которые могут встретиться в нашей книге, лежит только на нас самих.
Среди наших (в некоторых случаях бывших) коллег по Бристольскому университету мы хотели бы особо отметить помощь Нильса Лангера, который дал нам немало ценных советов по вопросам социолингвистики, а также организовал ряд научных мероприятий, которые были полезны для нас, и познакомил нас с другими учеными в области социолингвистики. Мы признательны Мэр Перри за консультации по социолингвистическим вопросам, в особенности по истории итальянского языка, как и другим коллегам из Бристоля (Крису Бейли, Стефену Грею, Джилю Кузену и Маркланду Старки) за советы по вопросам информатики, создания и поддержки веб-сайта проекта. Мы также благодарны сотрудникам Германского исторического института в Москве, в особенности сотрудникам библиотеки Виктории Сильванович и Ларисе Кондратьевой, и Кириллу Левинсону, который взял на себя труд прочитать и отредактировать финальную версию перевода нашей книги. Также благодарим Михаила Сергеева за помощь в составлении указателя.
Мы многим обязаны сотрудникам ряда архивов и библиотек, в которых мы вели поиски во время подготовки данной книги. Мы хотели бы в особенности упомянуть: Архив внешней политики Российской империи, Библиотеку Российской академии наук, Государственный архив Российской Федерации, Государственный архив Тверской области, Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом), Национальную библиотеку Франции, Российский государственный архив военно-морского флота, Российский государственный архив древних актов, Российский государственный военно-исторический архив, Российский государственный исторический архив, Российскую государственную библиотеку, Российскую национальную библиотеку, Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук.
Мы также благодарим Российскую национальную библиотеку, Российскую государственную библиотеку и коллекцию карт Дэвида Рамзи за разрешение использовать иллюстрации, список которых находится на следующей странице.
Наконец, мы хотели бы поблагодарить сотрудников издательств и научных журналов, чье внимание и быстрая и эффективная помощь позволили нам опубликовать книги и статьи, написанные в рамках проекта. Среди них следует назвать Лорел Плапп (издательство Peter Lang), Лауру Вилиамсон и Ричарда Страчана (издательство Эдинбургского университета), Ив Левин, Курта Шульца, а также Майкла Горэма (The Russian Review), Эрнеста Зитцера (Vivliofika: E-Journal of Eighteenth-Century Russian Studies), Луиз Виссер и Джаапа Вагенаара (издательство Амстердамского университета). Также благодарим Виллема Фрайхова и Карен Санчес за возможность опубликовать книгу в серии «Languages and Culture in History», редакторами которой они являются, Михаила Сергеева за помощь в составлении указателя и наконец Ирину Прохорову (издательство «Новое литературное обозрение»).
Список иллюстраций
1. Титульный лист романа Руссо «Эмиль» (издание конца XVIII века) (Российская национальная библиотека).
2. В. А. Тропинин. Портрет Н. М. Карамзина // Русские портреты XVIII и XIX веков. Издание великого князя Николая Михайловича Романова: В 5 т. М., 1999. Т. 1. С. 58 (Российская национальная библиотека).
3. Карта Португалии, нарисованная княжной Ниной Барятинской (1785) (НИОР РГБ. Ф. 19. Оп. 284. Д. 3. Л. 4).
4. Черновик письма князя Д. В. Голицына к его матери Наталье Голицыной (1780) (НИОР РГБ. Ф. 64. К. 94. Д. 28. Л. 1).
5. Письменные упражнения, выполненные Степанидой Барановой, которая воспитывалась в семье Барятинских (1781–1785) (НИОР РГБ. Ф. 19. К. 284. Д. 7. Л. 12).
6. Напечатанное меню для ужина по случаю коронации Александра III (1883), украшенное рисунком В. М. Васнецова (Российская национальная библиотека).
7. Вид на реку Неву и здания Академии наук. Plan de la ville de St. Pétersbourg avec ses principales vües dessiné et gravé sous la direction de l’ Académie Impériale des sciences et des arts. St-Pétersbourg, 1753 (www.davidrumsey.com).
8. Титульный лист неоконченного сочинения князя Б. В. Голицына (1782) (НИОР РГБ. Ф. 64. К. 79. Д. 11. Л. 1).
9. Титульный лист трактата А. А. Головкина «Mes idées sur l’ éducation du sexe, ou précis du plan d’ éducation pour ma fille» (1778) (Российская национальная библиотека).
10. Портрет графа Ф. В. Ростопчина, написанный Орестом Кипренским, 1809 г. // Русские портреты. Т. 1. С. 20 (Российская национальная библиотека).
11. Титульный лист книги «Le Tableau slave. Par Mme de la P*** Zénéide Volkonsky» (2-е изд. М., 1826) (Российская национальная библиотека).
12. Титульный лист книги «Relation fidelle de ce qui s’est passé au sujet du jugement rendu contre le Prince Alexei et des circonstances de sa mort» (1718) (Российская национальная библиотека).
13. Первая страница номера литературного и театрального журнала «Le Furet» (Российская национальная библиотека).
14. Титульный лист первого тома издания «Войны и мира» Л. Н. Толстого (1868) (Российская национальная библиотека).
15. Первая страница текста из первого тома издания «Войны и мира» Л. Н. Толстого (1868) (Российская национальная библиотека).
Введение
Распространенные представления о франко-русском двуязычии в России
До недавнего времени изучение роли французского языка в России не привлекало большого внимания за исключением небольших замечаний в работах о социальной или культурной истории Российской империи[31]. Несомненно, причина этого отчасти в том, что историки социологии и культуры, включая и западных исследователей, изучающие историю русского дворянства, как правило, не являются специалистами по лингвистике, а отчасти в том, что историческая социолингвистика представляет собой относительно новую научную дисциплину. Более того, в научных трудах (особенно англоязычных), где затрагиваются проблемы франко-русского билингвизма, можно обнаружить обобщения, которые подпитывают сложившееся в русской мысли и литературе негативное отношение к этому явлению. В своем исследовании языковой ситуации и дискуссий о языке, имевших место в России XVIII и XIX веков, мы хотим проверить достоверность этих обобщений. Для начала кратко осветим три из них. При этом мы выявим несколько ключевых вопросов, на которые нам предстоит обратить внимание в ходе разговора о языке и отношении к нему. В данной работе нам порой придется обращаться к более широкому материалу и рассматривать нарративы о русской культуре в целом. В этом кратком обзоре мы также приведем основные аргументы, позволяющие опровергнуть некоторые устоявшиеся суждения об этом вопросе.
Во-первых, русское дворянство (которое составляло весьма незначительную часть населения империи[32]) нередко рассматривают как весьма однородный класс, единую группу людей, все члены которой единодушно отдавали предпочтение французскому языку перед русским[33]. В результате может сложиться впечатление, что долгое время все дворяне постоянно говорили на французском и прибегали к нему всякий раз, когда им приходилось общаться с соотечественниками, знавшими этот язык. Так формируется точка зрения, согласно которой – возьмем наиболее радикальный пример – «в течение почти двух столетий французский язык (и в меньшей степени английский) вытеснил русский и стал основным языком для большинства русских аристократов, помещиков, представителей власти, офицеров и богатых купцов»[34]. Даже такие выдающиеся социолингвисты, как Сюзанна Ромейн, на чьи авторитетные труды мы неоднократно ссылаемся, порой делают смелые обобщения о больших периодах времени и прибегают к весьма размытым формулировкам: «В некоторых странах считается, что образованные люди должны владеть иностранным языком. Это верно для большинства европейских государств, особенно если речь идет о прошлом: например, в дореволюционной России французский язык был языком воспитанных, просвещенных людей»[35]. В данном исследовании мы постараемся воздержаться от бездоказательных суждений о том, что долгое время в России в речи дворянского сословия[36] французский язык превалировал над русским. Вместо этого мы поразмышляем над следующими вопросами. Можно ли утверждать, что отношение к языку и практика его использования были одинаковыми для всех представителей дворянства? Какую роль в этом играло образование? Верно ли то, что русские аристократы всегда использовали французский язык для общения – устного или письменного – с другими людьми, владеющими французским? Верно ли, что французский язык использовался франкоговорящими людьми во всех языковых сферах? Если французский язык занимал настолько доминирующее положение, как могла появиться великая литература на русском языке, или есть повод предположить, что дворяне никоим образом не причастны к ее созданию? (Безусловно, такого не может быть, ведь дворяне сыграли важнейшую роль в становлении русской литературы.) Можно ли считать, что отношение к языку и практика его использования были одинаковыми по всей империи? Оставались ли они неизменными на протяжении всего периода усвоения русской аристократией западной культуры и обычаев с начала XVIII столетия до распада Российской империи и исчезновения дворянского сословия в результате революционных событий 1917 года? Как язык влияет на понимание социальной и национальной идентичности и, не в последнюю очередь, гендерных различий? Как и почему эти явления изменялись в течение долгого периода, который мы изучаем? Мы обратимся к этим вопросам в главе 1, где рассмотрим проблему экономического и социального расслоения внутри дворянского сословия и поговорим о том, как это расслоение сказалось на возможностях овладения иностранными языками.
Во-вторых, наряду с мнением о том, что русские дворяне XVIII–XIX веков повсеместно владели французским, встречаются также утверждения о том, что представители аристократии плохо владели русским языком, по крайней мере до Отечественной войны 1812 года. Зачастую считается, что родной язык (если его можно назвать таковым в данном случае) аристократы никогда не изучали или толком не изучали, а если и говорили на нем, то только в детстве, а с возрастом забывали. «Ко времени смерти Екатерины II в 1796 году, – пишет Кэтрин Мерридейл, – ее придворные общались и писали на французском», и Россия, больше не желая оставаться «ученицей Европы (особенно после того, как Франция погрузилась в пучину революции после 1789 года)», предприняла попытку «вернуться к истокам, снова обратившись к наполовину забытому языку»[37]. «Французский язык был настолько распространен в среде русской аристократии, что зачастую родной язык дворяне попросту забывали», – утверждает Хью Сетон-Уотсон в важном труде по истории Российской империи XIX века[38]. Безусловно, мы можем найти этому подтверждения в мемуарах, например в записках княгини Е. Р. Дашковой, которая, вспоминая свое детство, прошедшее в семье Воронцовых в середине XVIII века, пишет не только о том, что дети в их семье говорили на французском языке как родном, но и о том, что по-русски они изъяснялись с трудом[39]. Утверждения о том, что дворянство плохо владело русским, подкрепляются и историческими анекдотами. Например, когда в 1812 году во время наполеоновского вторжения в Россию шестнадцатилетний Никита Муравьев без разрешения матери бежал в армию, его задержали крестьяне, решившие, что он французский шпион, ведь по-русски он разговаривал очень плохо[40].
И все-таки признать, что все дворянство не владело русским языком, невозможно, так как факты говорят об обратном. Так, хотя Орландо Файджес в обширном труде, посвященном истории русской культуры, рассуждает о постоянном предубеждении аристократии XIX века против изучения русского языка, он также указывает, что после 1812 года среди дворян стало модным учить сыновей читать и писать по-русски, а в провинции русскому языку стали обучать как мужчин, так и женщин[41]. Здравый смысл должен был бы подсказать ученым, что дворяне, состоявшие на военной службе, по крайней мере в низших чинах, должны были знать русский язык, чтобы командовать солдатами, набранными из крестьян, и что русский язык был нужен помещикам, чтобы успешно управлять своими владениями, население которых не было обучено иностранным языкам[42]. Мысль о том, что мужчинам русский язык был нужен для решения практических задач, может отчасти объяснить убеждение, оспоренное Мишель Ламарш Маррезе в статье, имеющей большую ценность для всякого, кто занимается изучением бытования французского языка в России[43]. Согласно этому распространенному мнению, женщинам из дворянской среды изъясняться по-русски было еще сложнее, чем мужчинам. Этот стереотип хорошо иллюстрирует пример из пушкинского «Евгения Онегина», героиня которого, как известно, плохо владела родным языком. Понимая это затруднение и желая защитить честь родины, повествователь признается читателям, что ему придется перевести письмо Татьяны Онегину, ведь
- Она по-русски плохо знала,
- Журналов наших не читала
- И выражалася с трудом
- На языке своем родном,
- Итак, писала по-французски…
- Что делать! повторяю вновь:
- Доныне дамская любовь
- Не изъяснялася по-русски,
- Доныне гордый наш язык
- К почтовой прозе не привык.
- <…>
- Не правда ль: милые предметы,
- Которым, за свои грехи,
- Писали втайне вы стихи,
- Которым сердце посвящали,
- Не все ли, русским языком
- Владея слабо и с трудом,
- Его так мило искажали,
- И в их устах язык чужой
- Не обратился ли в родной?[44]
Парадоксальным образом Татьяна являет собой пример еще одного штампа, прижившегося в русской литературе в николаевскую эпоху: в противовес слабым, попавшим под влияние Запада мужчинам, русские женщины имеют надежные нравственные ориентиры и оказываются крепко укорененными в родной культуре. Татьяна, как писал Пушкин, была «русская душою, / Сама не зная почему»[45]. Достоевский высоко оценил любимую пушкинскую героиню и считал ее подлинным воплощением народного духа[46].
Надо признать, некоторые аристократы, несомненно, владели французским языком гораздо лучше, чем русским. Вероятно, эти утверждения справедливы относительно тех из них (хотя и далеко не всех), чье детство по большей части прошло за границей. Например, когда в 1820 году князь Дмитрий Владимирович Голицын, который воспитывался в Париже незадолго до Французской революции, был назначен генерал-губернатором Москвы, его речи приходилось на первых порах переводить с французского на русский[47]. В целом факты требуют с осторожностью относиться к заявлениям как о том, что дворяне не владели русским языком, так и о том, что все они всегда общались по-французски. По меньшей мере необходимо критически подходить к источникам, с которыми мы работаем. Преследуя свои цели, мемуаристы могли намеренно создавать впечатление, что в детстве они почти не знали родного языка. Так, княгине Дашковой, которая активно участвовала в работе над «Словарем Академии Российской», вполне вероятно, было важно подчеркнуть, какие огромные усилия ей пришлось приложить во взрослом возрасте, чтобы в совершенстве овладеть русским языком. Важно также не забывать о том, как обычно происходило обучение языку в дворянских семьях, которые могли позволить себе нанять франкоговорящего учителя или отправить ребенка в пансион, где говорили на французском. В масштабном исследовании, посвященном жизни в русских усадьбах, Присцилла Рузвельт отмечает, что
замена няни гувернанткой или воспитателем обозначала культурный водораздел между русским детством и европейским отрочеством <…>. В некоторых семьях с определенного возраста общение с дворовыми запрещалось, с тем чтобы не подвергать речь и манеры молодого дворянина влиянию речи, предрассудков и суеверий крестьян. Незнание многими воспитателями русского языка вынуждало дворян уже в юности в ускоренном темпе овладевать иностранными языками. Одна мемуаристка отмечает, что в нежном возрасте редко видела старшую сестру и еще реже беседовала с ней, оттого что сестра говорила только по-французски или по-английски, между тем как младшие иностранных языков еще не знали[48].
Но как бы активно дворянских отпрысков ни приучали к иностранным языкам, несомненно, в самом раннем возрасте, когда дети только учились говорить, они слышали в основном русскую речь. Как пишет П. Рузвельт, дети в благородных семействах росли «почти исключительно под присмотром кормилиц и нянек, а пред очи родителей представали лишь эпизодически»[49]. Няньками были крепостные крестьянки, такие как Арина Родионовна, о которой с нежностью вспоминал А. С. Пушкин, и дворянские дети зачастую сильно к ним привязывались. Анна Керн, которой Пушкин посвятил знаменитое любовное стихотворение, однажды язвительно заметила: «Я думаю, он никого истинно не любил, кроме няни своей и потом сестры»[50]. Если не принимать этого в расчет, то превращение Пушкина, воспитанного во франкоговорящей семье, в одного из основателей русского литературного языка выглядит чудом. Точно так же при изучении языка дворянства невозможно не учитывать тот факт, что Ф. В. Ростопчин, которого около шести лет обучали в отдельном домике в поместье его родителей для того, чтобы мальчик мог говорить только по-французски с жившим в семье французским гувернером, в 1812 году, занимая пост губернатора Москвы, распространял подстрекательские листовки, написанные простым народным языком[51].
Безусловно, многие дворяне придавали больше значения изучению скорее французского, чем русского языка, особенно в конце XVIII – начале XIX века, когда увлеченность русского общества французским языком достигла своего пика. В некоторых источниках утверждается, что большинство дворян во взрослом возрасте с трудом изъяснялись на русском языке, что вызывает сомнение, ведь знание одного языка совсем не исключает возможности свободного владения другим. Впечатление, что дворяне не были способны сформировать и сохранить языковую компетенцию как в русском, так и во французском языке, может сложиться, если понимать компетенцию исключительно как владение языком в совершенстве и способность пользоваться им во всех сферах жизни или если подходить к лингвистической компетенции слишком категорично (ты либо знаешь язык, либо нет), однако с этим вряд ли согласится большинство социолингвистов. Мы скорее имеем дело с явлением, широко распространенным среди двуязычных людей, когда субъект осваивает языки с разным уровнем компетенции или когда степень владения языком зависит от сферы, в которой он используется. Пренебрежительное отношение к знанию русского языка в дворянской среде порой объясняется презрением к тому варианту русского языка, с которым дворяне знакомились в ранней юности, слыша речь крепостных крестьян и их детей, перенимая «от слуг их простую полуграмотную речь»[52]. При этом было бы ошибочно считать русскоговорящих людей неграмотными на том основании, что они не освоили тот регистр языка, который подобало использовать в светском обществе. Так, в самом начале XIX столетия Н. М. Карамзин – знаменитый литератор, к текстам которого мы еще не раз обратимся, – выражал сомнение в том, что подобная языковая норма в русском языке в принципе существует, ведь «в лучших домах» люди высшего общества вели светские беседы на французском[53]. В целом мы склонны полагать, что многие неточности в изучении франко-русского билингвизма возникают, когда лингвистическая компетенция воспринимается как явление абсолютное, а не относительное[54], зависящее от степени владения языком; также они могут возникнуть под влиянием типичного для монолингвальных обществ убеждения, что билингвизм – даже если определять его как способность использовать более чем один язык, в зависимости от контекста, – представляет собой нечто необычное.
Третье распространенное убеждение (возможно, в данном случае следует говорить даже о ряде убеждений) касается якобы вредного влияния русской франкофонии[55] и культурной вестернизации русской элиты, проявлением которой была франкофония. Часто предполагается, что это влияние сказывалось на национальном, социальном и личностном уровнях.
Начиная с середины XVIII века русские писатели стали высказывать мнение, что общение на французском ослабляет чувство национальной принадлежности и указывает на отсутствие должного чувства национального единства. Иногда из-за склонности говорить по-французски сомнению подвергали преданность дворян родине, а порой даже и их верность своему монарху. Мы еще не раз вернемся к идее о том, что в представлении русских писателей и мыслителей конца XVIII – начала XIX века язык был неразрывно связан с национальным самосознанием, особое внимание этому вопросу уделено в последних двух главах, которые посвящены отношению в обществе к использованию языков. Сейчас нам хотелось бы подчеркнуть, что эта ассоциация связана с пониманием идентичности как исключительно этнического свойства и с представлением о том, что у каждого народа есть неизменные исконные черты. (Мы постараемся ниже описать культурную ситуацию и обстоятельства, в которых сформировалось такое понимание идентичности.) Необходимо также подчеркнуть, что очень спорной является позиция, согласно которой использование иностранного языка предполагает принятие культурных ценностей и политических взглядов, с которыми в данное время этот язык может ассоциироваться[56].
На социальном уровне франкофония также могла восприниматься в негативном ключе, как фактор, разделяющий общество. Предполагалось, что, обращаясь к французскому языку, знать отделяла себя от остального населения империи, особенно от крестьянства, что, как многие считали, раскалывало нацию, которая, по мысли консерваторов-романтиков, обладала органическим единством до европеизации элит в XVIII веке[57]. Франкофония, безусловно, была маркером социальных различий, поскольку владение французским языком было признаком благородного происхождения, и, говоря об использовании французского языка в России, мы не можем игнорировать этот факт[58]. Однако мысль о том, что, общаясь по-французски, дворяне вносили раскол в единство общества, вероятно, имеет в своей основе мнение – к которому, как мы уже отмечали, следует относиться с осторожностью, – о дворянах как людях, которые не знали (или почти не знали) русского языка и по этой причине не могли общаться с соотечественниками из более низких социальных слоев, говорившими только по-русски. Мы призываем не делать поспешных выводов о том, что европейский образ жизни и изучение иностранных языков (в отличие от права владеть крестьянами) отделяли дворян от простого народа. Более того, П. Рузвельт обращает наше внимание на верования и обычаи, которые объединяли помещиков и крестьян. Она указывает на то, что православие, церковные обряды и праздники и даже народные суеверия служили почвой для появления общности, формировали ощущение единства[59]. Не все дворяне в конце XVIII века были вольтерьянцами, как не все светские люди XIX столетия были атеистами или агностиками. Многие из них жертвовали средства на строительство церквей, давали кров странникам, проявляли милость к нищим и юродивым, приобретали иконы[60]. В любом случае, мемуары и беллетристика, пишет Мэри Кэвендер, «подтверждают очевидную мысль о том, что взаимодействие между крестьянами и помещиками было постоянным и многообразным»[61].
Считается, что на личностном уровне европеизация также имела на людей негативное воздействие – в психологическом смысле: личность европеизированных русских оказалась расщеплена, они являли собой пример «расколотой идентичности»[62] и, как следствие, превратились в людей апатичных и не имеющих внутреннего стержня. Существует мнение, что под влиянием образования, в основе которого лежало изучение европейских языков и культуры и, в частности, освоение французского языка, русский дворянин[63]XIX века усваивал идеи, которые невозможно было применить на русской почве, и поэтому оказывался оторванным от жизни родной страны[64]. Так возник «лишний человек» avant la lettre, то есть тип разочарованного, неприкаянного персонажа, утратившего нравственные ориентиры и способность строить продолжительные отношения. Такие герои наводнили русскую литературу начиная с николаевской эпохи – примерами могут послужить Евгений Онегин из пушкинского романа в стихах, Печорин из «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова и главный герой романа И. С. Тургенева «Рудин». Предпринимались попытки (например, американскими биографами русского поэта-метафизика и автора статей о самобытности России Ф. И. Тютчева) объяснить личностный кризис, вызванный в людях дворянского происхождения необходимостью существовать на стыке языков и культур, в терминах психологии – как болезненную вырванность индивида из сети психологических и социальных связей[65]. Между тем утверждение о том, что эта необходимость оказывала пагубное влияние на психическое состояние русских дворян – а также на все сферы их жизни, – основывается по большей части на литературных источниках. В конце введения мы подробнее поговорим о том, как следует работать с такими источниками и какое значение мы должны им придавать.
Как будет показано ниже, на каждом из обозначенных нами уровней – общенациональном, социальном или личностном – утверждения о негативном воздействии двуязычия и бикультурализма имеют в своей основе страх перед расколом общества и потерей некоего воображаемого единства. Ясно также, что основную причину раскола в обществе или внутри личности видели именно в европеизации элит, показателем которой было использование иностранного языка. Чтобы получить наиболее полное представление об обозначенных нами взглядах на национальные, социальные и личностные проблемы, появлению которых будто бы способствовала франкофония высшего русского общества, мы должны рассмотреть эти проблемы в более широком контексте дискурса о взаимоотношениях России и Европы, то есть споров о том, является ли Россия частью Европы или представляет собой нечто уникальное, следует ли России ориентироваться на Запад или, напротив, обратиться к собственным истории и традиции в поисках тех принципов, которые направят ее на пути дальнейшего развития: именно эти вопросы задавали рамки, в которых русские классики[66] – поэты, прозаики и мыслители – размышляли о своей национальной идентичности, роли и проблемах российского дворянства, характере русского народа, судьбе и предназначении русского человека. Кроме того, мы обратимся к важнейшим исследованиям по истории русской культуры, написанным в позднесоветский период Ю. М. Лотманом, в чьих трудах вопрос о взаимодействии русской и других европейских культур занимал большое место. Лотман больше других исследователей изучал бытование французского языка в России конца XVIII – начала XIX века, и ученые, занимающиеся этой темой, часто некритично ссылаются именно на его труды[67].
Россия и «Запад». Две России
С раннего Нового времени русский человек во многом определял себя через противопоставление «России» «Европе» (или «Западу»). Однако определить эти понятия оказывается весьма непросто. В этой оппозиции даже «Россия» оказывается чем-то гораздо более размытым, чем может показаться на первый взгляд, ведь это слово может обозначать как многонациональную империю, так и русскоговорящую нацию (об этом речь пойдет в следующем разделе). Еще менее ясным в этой оппозиции является понятие «Запад», под которым может подразумеваться как реальное географическое пространство, так и пространство воображаемое. Несмотря на то что теоретически Западом должно считаться все европейское пространство по ту сторону западной границы России, русские писатели XIX века, протестовавшие против всего «западного», понимали под ним наиболее развитые европейские державы (Великобританию, Францию и германские государства). Вообще само понятие «Запад» является слишком широким и не может означать чего-то определенного. Оно подразумевает предположение, что между нациями[68], которые в течение многих столетий разделяли религиозные и культурные различия, политическое соперничество, военные конфликты и языковые барьеры, на самом деле существовало некое внутреннее и внешнее единство, которое не всегда было очевидно людям, принадлежащим к ним. Понятие «Запад» использовалось для того, чтобы обозначить полюс, противоположный «России», поэтому различия между западными нациями воспринимались как незначительные по сравнению с различиями между ними как целым и Россией. Тем не менее, несмотря на все свои недостатки, противопоставление России воображаемому «Западу» было одним из наиболее востребованных методов описания истории, религии, экономического развития, национального характера[69] и – как мы покажем в нашей книге – речевого поведения русских.
Классическим – хотя, безусловно, не первым и не последним – примером постулирования принципиальных различий между Россией и Западом является разразившаяся в середине XIX века полемика между западниками и славянофилами, причем особенно наглядно они формулировались в произведениях последних. Принято считать, что западники, которых современники часто называли «европейцами» или «космополитами»[70], были уверены, что Россия, чтобы преодолеть свою отсталость, должна перенимать европейские идеи и образ жизни[71]. Они с большим пиететом относились к Петру Великому – монарху, который в начале XVIII века сумел значительно ускорить модернизацию страны[72]. Славянофилы, со своей стороны, верили, что национальные ценности и традиции являются залогом процветания России в будущем. Они превозносили русское православие и ненавидели Петра – царя, который больше чем кто бы то ни было нес ответственность за привнесенные иностранные обычаи, разрушившие ту органическую общность, каковой, по их мнению, являлась Московская Русь до XVIII века. Согласно их представлениям, западные народы склонны к агрессии, материализму и индивидуализму, тогда как русские люди – точнее, русские крестьяне, представляющие собой истинное воплощение русского характера, – миролюбивы, нестяжательны, готовы разделить с другими свою землю и имущество и подчиняться решениям, принятым сельской общиной, или миром. По существу, в основе славянофильства лежит вполне понятный страх утраты духовности и чувства общественного единства в прагматичный век урбанизации, индустриализации и активно развивающейся коммерческой деятельности, влияние которых на общество русские дворяне могли оценить, путешествуя за границу. Вместе с тем славянофильство является ярким примером того, к чему можно прийти, определяя сущность национального единства исключительно через противопоставление своего народа другим: к огульным обобщениям, примитивным стереотипам и шовинизму[73].
Эта парадигма «Россия и Запад», описывающая отношения с внешним миром, нашла отражение и в концепции, которая помогла обществу сформировать представление о внутреннем устройстве своей страны[74]: согласно этой концепции, существовало две разительно отличающиеся друг от друга России – с одной стороны, так называемая «русская Европа»: двор и высшее дворянство, которые в XVIII веке переняли западные культурные практики, одежду и моды и выучили иностранные языки. Это была незначительная часть населения империи, однако именно в их руках была сосредоточена политическая власть. Эти люди жили в Санкт-Петербурге и Москве (по крайней мере в зимние месяцы), владели особняками и имениями, разбросанными по России. С другой стороны, была Россия исконная, к которой принадлежало куда больше людей, включая крестьян, носивших традиционную русскую одежду. Хотя представителей недворянских сословий было достаточно в каждом городе, основная их масса была сосредоточена в многочисленных деревнях, где крестьяне зачастую проводили всю жизнь, не считая случаев, когда их отдавали в солдаты. Эта вторая Россия состояла из работников (закрепощенных вплоть до 1861 года), трудившихся на землях, принадлежавших дворянам, церкви и государству. Даже в середине XIX века они по большей части не испытывали почти никакого влияния западной культуры и, будучи необразованными и неграмотными, не знали основных западноевропейских языков, служивших каналами распространения этой культуры. Прусский аристократ барон Август фон Гакстгаузен, совершивший в 1843–1844 годах длительное путешествие по Российской империи, писал о бездне, разделявшей эти две России:
Образованный класс в России отделен от народа гораздо большей пропастью, чем в остальной Европе, где граница между богатыми и бедными пролегает не в области мысли, как в России; в других частях Европы людей из народа обучают так же, как и представителей образованных классов, только в меньшей степени. В России высшие классы приобщились к достижениям западного образования, тогда как знания простого народа остаются устаревшими, почерпнутыми из традиции и весьма посредственными по сравнению со знаниями дворянства[75].
Склонность описывать Россию как страну, в которой сосуществуют два культурных мира, как и тенденция характеризовать ее через противопоставление Западу, были очень сильны в классической русской литературе. Она укоренилась и в историографии. Например, сравнение «европейской культуры высших классов и русской крестьянской культуры» является организующим принципом книги О. Файджеса «Танец Наташи» – одного из важнейших исследований по истории русской культуры за последнее время[76].
Сопоставительный подход к определению русской идентичности, характерный для русских писателей XIX века, в последние полвека был не только продолжен, но и развит в трудах по истории русской культуры благодаря работам Ю. М. Лотмана, который уделял внимание как проблемам взаимоотношений русской культуры с европейской, так и вопросам ее внутреннего развития. Работы Лотмана и его последователей повлияли и на западных ученых, занимавшихся исследованием русской культуры, чем объясняется настойчивое воспроизведение в западной науке уже упомянутой нами идеи о негативном влиянии, которое оказывал франко-русский билингвизм на русскую культуру. На наш взгляд, особого внимания в этом отношении заслуживают три идеи, встречающиеся в работах Лотмана, именно к ним мы обратимся и процитируем некоторые наиболее известные труды этого ученого[77].
Во-первых, по мысли Лотмана, русская культура «строилась на подчеркнутой дуальности»[78]. Так, до XIX века мир после смерти в представлении людей делился на рай и ад: в отличие от католицизма, в православии не было «нейтральной аксиологической сферы», чистилища, между земной и загробной жизнью. Эта закономерность прослеживалась и в отношении понятий, не связанных с церковью, поэтому в России не было нейтральных общественных институтов, которые, как на средневековом Западе, не являлись бы «ни „святыми“, ни „грешными“, ни „государственными“, ни „антигосударственными“». Отсутствие такой нейтральной сферы в России привело к тому, что все новое воспринималось как «эсхатологическая смена всего», «радикальное отталкивание от предыдущего этапа», а не продолжение того, что было в прошлом. Таким образом, русская культура, обладающая глубинными структурами и сохраняющая единство на протяжении разных исторических периодов, воспринимается ее носителями как воплощение оппозиции между «стариной» и «новизной». Лотман утверждает, что чужое воспринималось как революционно-новое дворянами, которым Петр Великий и последующие монархи XVIII века навязывали западный стиль жизни, что зачастую вызывало у них тревогу. Внедрение иностранного языка в жизнь России XVIII века можно смело рассматривать как одно из проявлений «бинарной оппозиции» между традицией и новаторством, Россией и Западом.
Во-вторых, Лотман утверждал, что бытовое поведение дворянина послепетровской эпохи было сродни импровизированному театральному представлению. В основе этой идеи лежит разграничение Лотманом двух типов поведения человека. С одной стороны, поведение «обычное, каждодневное, бытовое, которое самими членами коллектива воспринимается как „естественное“, единственно возможное, нормальное»[79]. С другой стороны, есть «виды торжественного, ритуального, внепрактического поведения государственного, культового, обрядового, воспринимаемые самими носителями данной культуры как имеющие самостоятельное значение»[80]. Первому типу поведения носители культуры учатся, как и родному языку, бессознательно, погружаясь в него. Второму типу нужно обучаться, как иностранному языку, обращаясь к правилам и грамматикам. (Безусловно, то же самое применимо и собственно к языкам.) В результате русские дворяне, перенимавшие с начала XVIII века европейский образ жизни, оказались в положении иностранцев в родной стране, то есть в положении людей, которым
искусственными методами следует обучаться тому, что обычно люди получают в раннем детстве непосредственным опытом. Чужое, иностранное приобретает характер нормы. Правильно вести себя – это вести себя по-иностранному, то есть некоторым искусственным образом в соответствии с нормами чужой жизни. Помнить об этих нормах так же необходимо, как знать правила родного языка для корректного им пользования[81].
В то же время Лотман довольно путано говорит о том, что дворянину нельзя было лишаться «внешнего» – то есть русского – взгляда на европейские обычаи, которым он обучался, «ибо для того чтобы постоянно ощущать собственное поведение как иностранное, надо было не быть иностранцем», «<…> надо было не становиться иностранцем, а вести себя как иностранец». Таким образом, «для русского XVIII века исключительно характерно то, что дворянский мир ведет жизнь-игру, ощущая себя все время на сцене, народ же склонен смотреть на господ как на ряженых, глядя на их жизнь из партера»[82].
А. Шёнле и А. Л. Зорин в предисловии к недавно вышедшей коллективной монографии о самоощущении русской европеизированной элиты в период с 1762 по 1825 год подчеркивают, что, хотя теория Лотмана «точно характеризует театральность придворной культуры», она не всегда может быть применима к описанию жизни дворян или – что для нас особенно важно – к описанию их речевого поведения. Эта теория
основывается на дихотомии публичной сферы и приватной жизни, которая отсутствовала в реальности, так как публичная и приватная жизнь дворян были тесно переплетены <…>. Более того, [в ней] содержится противопоставление подлинности и искусственности, что не только неверно характеризует амбивалентные структуры чувствования и самоощущения дворянства, но и не может объяснить синкретичные и, если речь идет о языке, макаронические стратегии, которые знать зачастую применяла, осваивая поведенческие коды и средства выражения, актуальные для того времени[83].
Идеи Лотмана о дуализме, присущем русской культуре, и о том, что европеизированные дворяне были вынуждены играть роль иностранцев в родной стране, подкрепляют его третью мысль: культурная ситуация, сложившаяся в России, и сама русская история являются исключительными или даже уникальными[84]. Это представление, которое явно или неявно присутствовало во многих произведениях золотого века русской литературы об отношениях России и Запада и к которому мы еще не раз обратимся на страницах этой книги, также имело широкое распространение в научной литературе[85]. Строго говоря, утверждение об уникальности России невозможно отрицать в силу его очевидности. Да и какие государство, регион, город или сообщество нельзя назвать уникальными, особенно если они – как в случае с Россией – отличаются этническим и культурным разнообразием?[86] Но быть уникальным в каком-то смысле вовсе не значит быть исключительным. Заявления о русской исключительности или уникальности не казались бы такими необоснованными, если бы существовали доказательства того, что присутствующие в русской культуре черты совершенно нехарактерны (или характерны в гораздо меньшей степени) для культур, с которыми ее сравнивают. Однако многие заключения Лотмана о русской культуре при ближайшем рассмотрении оказываются с некоторыми оговорками приложимы к культуре других народов, как европейских, так и нет, как в исторический период, интересовавший Лотмана, так и в другие эпохи. Не найдется ли свидетельств того, что и в других культурах то, что воспринималось как «новое», на самом деле имело корни в далеком прошлом?[87] Безусловно, даже самое поверхностное ознакомление с топонимикой других стран позволило бы опровергнуть лотмановское положение о том, что частота слова «новый» в русских географических названиях свидетельствует об особом восприятии русскими своей истории как «цепи взрывов»[88]. Каковы доказательства того, что способность русских дворян сознательно или бессознательно наделять разные поведенческие регистры разным значением отличала их от представителей благородного сословия в других странах?[89] И правда ли, что театрализованное поведение или способность играть определенную роль перед низшим сословием выделяли русскую элиту по сравнению с элитами других стран? Безусловно, Лотман прав, говоря о том, что «перенесенные с Запада формы бытового поведения и иностранные языки, делавшиеся нормальным средством бытового общения в русской дворянской среде, меняли при такой пересадке функцию»[90]. Иначе говоря, бытовые нормы, которые были «естественными и родными» на Западе, при переносе на русскую почву «становились оценочными, они, как и владение иностранными языками, повышали социальный статус человека»[91]. Однако очевидно, что Россия не единственная страна, где привнесенные нормы поведения или иностранные языки в какой-то степени изменили свою функцию. И не являются ли такие изменения вполне естественными в ситуациях, когда привилегированная группа желает отграничить себя от остальных членов общества, используя для этого иностранный язык?
Получается, Лотман либо не учитывает возможность того, что выявленные им значимые характеристики русской культуры могут быть обнаружены и в культурах других стран, либо не придает этому факту должного значения[92]. В действительности же сопоставительный анализ бытового поведения аристократической элиты в многонациональных империях и исследования двуязычия высших сословий и развития культурного национализма в среде угнетенных или отстающих в своем развитии групп в Европе XIX века дают достаточно доказательств того, что Россия имела много общего со своими западными соседями, хотя в то же время во многом от них отличалась, и мы постараемся показать это, анализируя бытование французского языка и отношение к нему в России. По этой причине мы не будем использовать примеры франко-русского билингвизма в качестве подтверждений лотмановского тезиса об исключительной природе русской культуры, хотя, безусловно, нельзя не признать, что каждый случай исторической франкофонии в европейских странах имеет свои особенности[93].
Подводя итоги, отметим, что в своем исследовании речевого поведения и споров о языке в Российской империи мы будем учитывать представления русских писателей и мыслителей о русской культуре и идентичности – представления, которые противопоставляли Россию воображаемой внешней сущности («Западу») и воспроизводили эту оппозицию внутри России. Кроме того, мы обратим особое внимание на устойчивый дискурс в русской литературе и в исследованиях о ней (на которые Лотман оказал большое влияние) об исключительности русской культуры, не в последнюю очередь ввиду того внутреннего напряжения, которое порождала в ней эта оппозиция. Наше исследование бытования иностранных языков в Российской империи призвано показать, насколько тесными были отношения России с другими культурами. Однако мы не станем слепо принимать на веру тезис об особом положении России, который часто встречается в научных трудах, и распространенное мнение о том, что языковая и культурная разнородность оказывала на общество пагубное влияние, затрагивая разные уровни социального устройства. Мы укажем на то общее, что было у России с другими европейскими странами, и на то, что делало ее особенной. В целом мы хотели бы показать, какую роль франкофония в Российской империи сыграла в обмене информацией, направленном как с запада континента на восток, так и с востока на запад, что привело к тому, что Россия стала более интегрированной в европейское общество и в культурное пространство Европы несмотря на то что в российских спорах о языке подчеркивались противоположные последствия, разделенность и потерянность.
Империя, нация и язык
Изучая проблему франко-русского билингвизма, мы должны рассмотреть ее не только в контексте дискурса о взаимоотношениях России с Западом, который является важной темой русской литературы, философии и исторической науки, но и в контексте научных споров об империях и нациях, которые разворачивались на протяжении последних трех-четырех десятилетий. Действительно, дореволюционная Россия может быть описана, с одной стороны, как многонациональная империя, а с другой – как нация. То, что в русском языке существует несколько слов для обозначения принадлежности к России, свидетельствует о разнице между государством как политическим образованием («российский») и нацией как культурным сообществом («русский»), на что обратил внимание Дж. Хоскинг[94]. Для нас важно учитывать это различие, в своей книге мы попытаемся определить, что именно – принадлежность к империи или к нации – имело важнейшее значение для элиты и как это отразилось на языковом сознании.
Империя, утверждает Д. Ливен, «по определению обширна и разнообразна». Это одновременно и «могучая держава, чье влияние на международные отношения в конкретный период времени весьма значительно», и «государство, которому подвластны огромные территории и многочисленные народы, ведь одной из важнейших и постоянных задач империи является необходимость контролировать обширные пространства, население которых весьма многообразно по этническому составу»[95]. Российская аристократия сама по себе была полиэтничной, наглядным свидетельством чего является Военная галерея Эрмитажа в Санкт-Петербурге, где представлено более 300 портретов высокопоставленных офицеров, участвовавших в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах русской армии 1813–1814 годов[96]. Более того, будучи частью проекта по формированию империи, предпринятого российскими правителями XVIII–XIX веков, и, соответственно, переняв с их подачи западную культуру, российская аристократия обрела идентичность, которую можно считать в некоторой степени надэтнической. Такой характер российской элиты особенно проявлялся в использовании иностранных языков и прежде всего французского, что, безусловно, резко изменило культурный статус России в Европе. Кроме того, такая идентичность служила фактором, объединяющим русскую элиту, помогая ее ассимиляции, несмотря на культурные и этнические различия входивших в ее ряды людей, и была показателем их высокого положения.
Не существует единого мнения насчет того, какой из процессов предшествовал другому: появление русской нации или формирование империи, которое началось еще в середине XVI века, во времена правления Ивана IV (Ивана Грозного). По мнению Хоскинга, создание империи требовало так много ресурсов и усилий, что оно «помешало формированию нации», иначе говоря, «Россия воспрепятствовала расцвету Руси»[97]. В то же время Ливен считает, что, хотя Россия до середины XVI века еще не была нацией в современном смысле слова, она дальше продвинулась по этому пути, чем большинство европейских народов того времени, о чем свидетельствовал использовавшийся тогда «термин „Святая Русь“ – объединяющий страну, народ, церковь и правителя»[98]. Гэри Хэмбург также считает, что русская национальная идентичность, которая фактически представляла собой «прототип настоящей национальной принадлежности», зародилась не позднее середины XVI века[99]. Однако насколько бы ни было развито чувство национальной принадлежности в XVI и XVII веках, особое внимание следует обратить на новый характер отношений России с западными соседями, установившихся в XVIII и XIX столетиях после реформ Петра Великого. Новое отношение к собственной национальной идентичности было обусловлено, особенно если речь идет о XIX веке, тем фактом, что политическая лояльность в это время выстраивалась вокруг понятия нации. Конечно, это новое отношение также было связано с влиянием европейских идей и течений, которые в то время начали проникать в Россию, включая набирающий силу национализм.
У чувства солидарности, лежащего в основе национального самосознания, могут быть разные источники: общая религия, предпочтение определенных политических институтов и образа жизни. Довольно часто в ряду этих источников называют и язык[100]. Если говорить о Московской Руси, то в ней зарождающееся национальное самосознание также основывалось на языковых, религиозных, территориальных и политических факторах. Хэмбург указывает, что в «Степенной книге» подчеркивается, насколько сильную угрозу для Руси представляли «чужеземные племена» – татары, которые говорили на «непонятном языке» и навязывали «чужеземные варварские языки» тому «роду», что населял эту землю[101]. Однако только в конце XVIII – начале XIX века появляется мысль о том, что язык имеет большое значение и является характерной особенностью этнической группы, которая может стать нацией. В это время возрастает интерес к вопросам происхождения и истории языков, появляется тенденция к восхвалению родного наречия и критике чужих языков[102]. Ведущую роль в дискуссиях о происхождении и функциях языков играли немецкие философы, выступавшие против идеологии Просвещения, особенно Иоганн Георг Гаман и Иоганн Готфрид Гердер[103]. «Есть ли у народов, особенно диких, что-то дороже языка их предков? – риторически вопрошает Гердер в «Письмах для поощрения гуманности». – В нем заключены все богатства их мысли, их традиции, история, религия, принципы жизни, их сердце и душа. Лишить такие народы их языка – все равно что забрать у них их бессмертное достояние <…>»[104]. Иоганн Готлиб Фихте в своих патриотических «Речах к немецкой нации» (1807) идет еще дальше. Он считает немецкий язык свидетельством превосходства немцев над другими народами: над французами, потому что в немецком меньше латинских заимствований, и над другими народами германского происхождения, потому что «немцы говорят на языке, живом вплоть до его первого истечения из естественной силы, остальные германские племена – на языке, оживленном только лишь на поверхности, но в корне мертвом»[105]. Согласно Фихте, язык не только выражает национальный характер (поскольку его носители являются выразителями коллективного знания народа), но и определяет самих людей: по мнению Фихте, «гораздо в большей степени язык образует людей, чем люди образуют язык»[106].
Параллельное развитие национального и языкового самосознания у европейских народов раннего Нового времени было тесно связано с другими процессами, о важной роли которых в проектах, нацеленных на формирование нации, говорят исследователи национализма, и в частности Бенедикт Андерсон[107]. Одним из этих процессов является формирование нормативной и полифункциональной литературной разновидности конкретного языка. Как замечает Стивен Барбур, кодифицированная языковая норма, четко отграниченная от всех других разновидностей языка, позволяет языку обрести «фокус и идентичность, которых в нем, возможно, не было прежде». Следовательно, «формирование наций и четкое разграничение языков – это взаимосвязанные процессы»[108]. Еще один процесс, связанный с развитием национального и языкового самосознания, – это появление литературного сообщества, способного создать корпус образцовых текстов. Эдриан Хастингс считает, что этносы (хотя и не все) превращаются в нации, когда письменная форма их языка постоянно используется для создания обширной и живой литературы[109]. Фактором, стимулирующим формирование национального самосознания, является также развитие книгопечатной культуры: работа книгоиздательств, выпуск периодики, деятельность критиков, диктующих вкусы и нормы, – все, что обеспечивает распространение новой литературы. В России все названные нами процессы берут начало в XVIII веке, особенно во второй его половине[110]. Эти процессы подготовили почву для создания в XIX веке собственной литературы на русском языке, которая во многом послужила основой для создания воображаемой нации, сконструированной или, вернее, реконструированной после европеизации XVIII века.
Здесь следует остановиться и сделать два замечания о роли языкового сознания в формировании национального самосознания в России XVIII–XIX веков. Во-первых, язык приобретает первостепенную важность, становится основой национального самосознания, вероятно, в том случае, если другие факторы, дающие ощущение национального единства, – например, религиозная принадлежность или представление об идеальном устройстве общества – по каким-то причинам ставятся под сомнение. Вследствие широкого распространения западных идей в России XVIII–XIX веков авторитет православной церкви и самодержавия пошатнулся, в результате чего среди представителей элиты произошел идеологический раскол. Кроме того, формирование нации в значительной степени осложнялось географическими факторами. Ингрид Клиспис в недавней монографии о топосе кочевничества в русской культуре утверждает, что историческое существование нации начинается только тогда, когда у нее появляется собственная территория, «родина», с четко очерченными границами[111]. Однако в XII–XIII веках центр русского государства сместился из Киева на север, сначала во Владимир, а затем в Москву. Впоследствии постоянное расширение границ империи, существование маргинальных регионов, в которых обитали вражеские кочевые племена и отстаивающие свою независимость казаки, не позволяли определить точное положение границы государства, пролегающей в бескрайней Евразийской степи. Как отмечает Вера Тольц, начиная с XVIII века обширность территории становится важнейшим пунктом национального дискурса и источником национальной гордости, однако при этом затрудняет процесс национального самоопределения[112]. В таких обстоятельствах язык становится сильнейшей объединяющей силой, играющей существенную роль в формировании модерной концепции нации, подтверждением чему может служить национальная литература, которая складывается в России в XVIII–XIX веках.
Во-вторых, как это ни парадоксально, французский язык, распространенный в России в XVIII–XIX веках, сыграл важную роль в развитии русского языка и становлении национального самосознания. В процессе развития русского литературного языка лексика, фразеология и стилистические модели заимствовались в том числе и из французского. Литература на французском стала каналом, через который проникали жанровые модели, сюжеты и темы, взятые на вооружение авторами, создававшими национальную литературу, в которой нашло отражение русское самосознание. Возможно, именно французскому языку классическая русская литература обязана своей многогранностью, способностью сочетать в себе разные точки зрения и, как следствие, всеохватностью – теми качествами, которые писатели, недовольные франко-русским двуязычием, считали важнейшими в родной культуре[113]. Кроме того, активное использование французского языка задевало национальную гордость, что, вероятно, способствовало развитию русской литературы в эпоху, когда в других европейских странах начали ценить языки главных этнических групп или скорее их литературные варианты.
Пока мы говорили только о чувстве национального самосознания и о том, как языковое сознание и сам язык могут быть с ним связаны. Однако необходимо принять во внимание еще и тот факт, что национальное самосознание зачастую трансформируется в национализм. Этот процесс, который историки связывают с модерностью, оказал большое влияние на политическую историю Европы в конце XVIII века и в XIX столетии[114]. В своем известном исследовании о русской культуре XVIII столетия, написанном более полувека назад, Ханс Роггер сделал по сей день не потерявшее своей актуальности замечание о различии между национальным самосознанием и национализмом, подчеркнув, что каждое из этих понятий характеризует определенный период русской истории. Несмотря на некоторую близость, эти феномены различны по своим задачам, целям и сути:
Национальное самосознание – это <…> осознанное стремление членов общества к общим идентичности, характеру и культуре. Это отражение этого стремления в искусстве и светской жизни, характерное для определенного этапа развития, на котором мыслящие личности смогли освободиться от анонимности, найти способ контактировать и коммуницировать друг с другом. Национальное самосознание предполагает постоянные контакты с чужими традициями, а также существование класса или группы людей, способных реагировать на это влияние; более того, для его формирования необходимо существование светского культурного сообщества или предпосылок к его появлению. В России эти условия сложились – и только и могли сложиться – в XVII веке.
Национализм выходит за пределы поиска или создания национального самосознания. В России XIX века, как и в других странах, он представлял собой всестороннюю систему идей, идеологию, которая, основываясь на конкретном национальном опыте, пытается дать ответы на вопросы морального, социального и политического толка. Это больше, чем представление о национальной идентичности, больше, чем поиск национальных основ; национализм объявляет, что они уже найдены и никогда не утратят своей значимости. Это философия, оценочное суждение, метафизика. Основание национализма – вера, а не разум. И как бы он ни был толерантен по отношению к другим верам, русское он ценит гораздо выше, чем все остальное[115].
Кроме того, важно принять во внимание замечание Энтони Смита, который разграничивал «политическую» и «культурную» формы национализма[116]. Сторонники политического национализма могут стремиться укрепить лояльность общества по отношению к политической системе или политическим институтам, правовым принципам или системе ценностей. По большей части это государственные деятели, законодатели и пропагандисты. Примером такого типа национализма может послужить сформулированная в 1833 году теория официальной народности, которая насаждалась российскими властями в николаевскую эпоху и провозглашала важнейшими национальными началами самодержавие, православие и национальную принадлежность, обозначенную расплывчатым термином «народность»[117]. Напротив, приверженцы культурного национализма желают возродить то, что они считают, по выражению Смита, «общностью единого происхождения» («community of common descent»), в котором первостепенное значение имеют происхождение, семейные узы и родная культура[118]. Сюзанна Рэбоу-Эдлинг причисляет к представителям национализма второго типа славянофилов и пишет о том, что «юридическое, рациональное понятие гражданства» культурные националисты заменяли «куда более расплывчатым понятием „народ“, которое возможно понять лишь интуитивно»[119]. Считая «народ» «высшей инстанцией», они высоко ценили национальную культуру. В большинстве случаев сторонниками этой идеологии являлись не политики, а представители интеллигенции, мыслители, творческие люди и ученые. Язык как основа национальной идентичности имел для них большую важность, что подтверждается присутствием в их рядах лексикографов, филологов и фольклористов[120]. Это культурное или этническое понимание нации, построенное на принципе исключения чужого, в XIX веке получило широкое распространение в кругах русских литераторов и интеллигенции[121].
Итак, завершая разговор о языке и национальности, нам следует вернуться к двум взаимосвязанным вопросам, на которых мы остановились в первом разделе введения, когда перечисляли мнения о возможных негативных последствиях использования французского языка для русского дворянства. Первый из них касается способов воображения, конструирования идентичности. Национализм культурного толка стремится выработать так называемую «примордиалистскую» концепцию коллективной идентичности, понимаемой как неизменное явление, обусловленное кровными узами, общим происхождением, а также определенными языком и культурой. Однако, как пишет П. Р. Магочи, наряду с примордиалистской, распространена «ситуативная» («situational») или «опциональная» («optional») концепция идентичности, которая позволяет человеку сознательно усиливать или затушевывать ту или иную часть своей идентичности в зависимости от обстоятельств. Магочи указывает, что в большинстве социальных ситуаций людям приходится иметь дело со множеством разных социальных и политических образований и так или иначе обозначать свою лояльность по отношению к ним. Это могут быть семья или племя, сословие, церковь, клубы, деревня или город, регион или государство, а если речь идет о многонациональном государстве, человеку может быть необходимо проявлять лояльность нескольким разным национальным идентичностям в одно и то же время[122]. Сообществам, в которых идентичность выстраивалась в оппозиции к другим сообществам, чему способствовало распространение националистских настроений, как это было, например, в случае с русскими литераторами и интеллигенцией XIX века, безусловно, ближе был примордиалистский взгляд. При этом представителям надэтнической российской аристократии множественная, гибридная или текучая идентичность (подданный Российской империи, глава семьи, вельможа, европейский аристократ) могла быть весьма понятной и приемлемой. Вследствие этого мы не можем принять как данность точку зрения о том, что разные идентичности являются взаимоисключающими, или что для человека всегда психологически сложно одновременно испытывать на себе разные культурные влияния[123].
Второй пункт касается выбора языка и сигналов лояльности, трансляцию которых этому выбору могли приписывать. Интерес к изучению неродного языка может выступать в объединяющей роли, иными словами, пользование иностранным языком – это способ самоидентификации с другим сообществом. Русские аристократы XVIII века действительно могли считать, что владение французским языком помогает им установить различные связи: с аристократами из Франции и других европейских стран, со сторонниками философии Просвещения или даже с французской нацией времен Старого порядка. Однако, обучая своих детей французскому языку, русские дворяне XVIII и XIX веков стремились, без сомнения, в первую очередь как можно лучше подготовить их к жизни дворянина в России, где без владения французским языком нельзя было иметь успех в высшем обществе или получить высокий чин на государственной службе. Подобные мотивы для изучения языка можно рассматривать как чисто утилитарные, ведь в их основе лежат прагматические цели, а эмоциональная связь с народом, для которого этот язык является родным, и с характерным для этого народа государственным устройством вовсе не обязательна[124]. В любом случае аристократическая культура Старого порядка, с которой русская знать XVIII века могла ощущать связь, была уничтожена в ходе революции, начавшейся в 1789 году. Впоследствии, в XIX веке, французский язык могли связывать с другими явлениями. Его вполне могли ассоциировать с Наполеоном; с ненавистными аристократии экономическими, социальными и культурными изменениями, вроде укрепления позиций капитализма и буржуазного общества времен Июльской монархии Луи-Филиппа (1830–1848); с революционными волнениями (1830 и 1848 годов); с развитием социалистических идей и реалистической литературы, важным жанром которой был физиологический очерк, изображавший жизнь людей из низких сословий[125]. Однако, если в XIX веке русское дворянство продолжало высоко ценить французский язык, это было вовсе не потому, что оно питало любовь к французской нации или восхищалось современной ей французской цивилизацией.
Таким образом, мы предполагаем, что к началу XIX века французский язык был усвоен высшим русским обществом как язык внутренний, если можно так выразиться, поскольку люди, которые им владели, не обязательно расценивали его как нечто чужеродное. А если язык воспринимается как нечто естественное для определенной группы людей, то вопрос о том, демонстрируют ли они, говоря на нем, свою лояльность по отношению к иностранным властям и народам или предают свой народ, будет совершенно бессмысленным для представителей этой группы. Конечно, те, кто не входит в эту группу и оценивает ситуацию со стороны, могут иметь иное мнение на этот счет.
Социолингвистический подход
В нашей книге в числе прочего рассматриваются вопросы, находящиеся в компетенции социолингвистики, которая предлагает полезный инструментарий для изучения этих проблем. Ключевым для нас является важнейший вопрос социолингвистики, сформулированный много лет назад Джошуа Фишманом: «Кто говорит на каком языке, с кем и когда?»[126] Мы покажем, что в России XVIII–XIX веков французский – как в письменной, так и разговорной форме – использовался в разных сферах и имел различные функции. Значительную часть указанного периода, особенно на некоторых его этапах, французский был языком дипломатии и служил для налаживания социальных контактов с иностранцами. Это был lingua franca, позволявший подданным Российской империи транслировать определенный образ своей страны внешнему миру, вести культурную пропаганду, добиваться поддержки своих взглядов на политику и общественное устройство – как верноподданнических, так и оппозиционных. Знание французского обеспечивало коммуникацию с представителями элиты, которые были русскими подданными, но не говорили по-русски или владели этим языком как вторым. Кроме того, и в среде этнических русских французский язык выполнял разные функции. Это был язык двора, престижный язык знати, света, образования, близких семейных и дружеских отношений, язык внутренней переписки в области дипломатии, язык литературы. Однако кроме вопросов использования и выбора языка, нас интересуют и другие социолингвистические проблемы. В частности, мы остановимся на отношении к языку и на проблеме языковых идеологий, ведь «язык и споры о языке дают возможность шире взглянуть на вопросы власти, авторитета и национальной идентичности»[127]. По этой причине мы рассмотрим социолингвистические понятия, касающиеся проблем языкового контакта и реакций на такой контакт. Нашей задачей является диахроническое исследование использования языка и отношения к языковой практике в прошлом, поэтому особую ценность для нас имеют труды по исторической социолингвистике, к которым мы обратимся в начале раздела о методологии. В настоящем разделе мы обозначим основные вопросы, касающиеся выбора и использования языка, а также отношения к нему: билингвизм, идеологические проблемы, связанные с выбором языка, диглоссия и языковая лояльность.
Билингвизм – важнейшая для социолингвистики тема – является центральной и для данного исследования, посвященного многоязычной части русского общества, поэтому мы начнем с рассмотрения этого понятия и напомним, какие типы и степени билингвизма выделяют социолингвисты. Во-первых, подчеркнем, что билингвизм интересует нас как социальное и политическое явление, мы не будем рассматривать его с точки зрения развития личности, неврологии или психологии, хотя эти проблемы также представляют научный интерес[128]. Во-вторых, существует разница между «социальным» и «индивидуальным» билингвизмом[129]. Конечно, говоря об императорской России, мы имеем дело прежде всего с феноменом социального билингвизма, поскольку существенная часть дворянского сословия стремилась овладеть французским языком, хотя, конечно, двуязычное общество состоит из индивидуумов, владеющих двумя языками. По этой причине мы должны, в-третьих, пояснить, кто подразумевается под термином «билингв». Билингвы бывают очень разные: это и те, кто «унаследовал» второй язык, и те, кто освоил его не в самом раннем детстве, и люди, которые одним языком владеют лучше, чем другим(и). Определить уровень владения языком в каждом отдельном случае – сложная задача: насколько хорошо человек должен знать язык, чтобы его можно было назвать «билингвом»? Существует мнение, что функциональному билингвизму можно дать два определения: «максималистское» (люди, обладающие высокой степенью компетенции в обоих языках и способные применять их в самых разных сферах) и «минималистское» (те, кто «может использовать второй язык только для некоторых, строго определенных видов деятельности и владеет небольшим количеством грамматических правил и ограниченным словарным запасом, необходимым для решения поставленной задачи»)[130].
Разграничение максималистского и минималистского определений билингвизма важно для нас, потому что, как указывает С. Ромейн, разные культуры «могут иметь разные представления о том, кто может считаться компетентным членом данного языкового сообщества»[131]. Возможно, когда мы читаем в первичных источниках о том, что знать не говорила по-русски, авторы этих текстов вовсе не имели в виду, что дворяне совершенно не знали русского языка. Вероятнее всего, они подразумевали, что отдельные носители, говоря на родном языке (по крайней мере в определенных ситуациях), не соответствовали максималистским критериям, которым, безусловно, соответствуют далеко не все, кого социолингвисты считают билингвами. Кроме того, нельзя не учитывать и то, какие навыки оцениваются. Одинаково ли хорошо человек читает, пишет, говорит на языке и понимает его? Люди не всегда одинаково свободно пользуются языком во всех сферах, да и не везде это может быть необходимо[132]. На самом деле владение двумя языками в равной степени, или «симметричный билингвизм», едва ли можно наблюдать на социальном уровне, ведь, по замечанию Ромейн, любое «общество, состоящее из билингвов, в равной степени хорошо владеющих обоими языками и с успехом применяющих это умение во всех сферах, скоро перестанет быть двуязычным, потому что два языка, использующиеся для решения одних и тех же задач, никакому обществу не нужны»[133]. Учитывая все вышесказанное, в этой книге мы будем пользоваться термином «билингвизм» для обозначения функциональной компетенции в двух языках, которая не требует владения языком на уровне родного или симметричного владения обоими[134].
Следует также отметить, что социолингвисты различают «аддитивный» и «субтрактивный» билингвизм, иначе говоря, изучение второго языка может либо привести к расширению языкового репертуара носителя (причем новые навыки не окажут негативного влияния на его умение пользоваться родным языком), либо отодвинуть родной язык на дальний план. По словам Джона Эдвардса, аддитивный билингвизм «возможен только тогда, когда оба языка в одинаковой мере используются и ценятся; классическим примером является билингвизм аристократов и элиты в обществе, где считается естественным и приличным, чтобы каждый образованный человек знал больше одного языка»[135]. Как мы увидим, во многих случаях франко-русский билингвизм был именно «аддитивным», хотя если бы мы основывались на негативных высказываниях в его адрес, то могли бы посчитать его «субтрактивным», создающим ситуацию, когда русский язык будто бы уходит из активного использования из-за предпочтения носителями французского. И наконец, второй, неродной язык может быть описан как «естественно приобретенный» или «изученный» в зависимости от того, освоил ли его человек через контакты с другими носителями или изучал специально по собственному желанию или как часть школьной программы. Для русского дворянства вообще французский язык был «изученным» (именно поэтому в своем исследовании мы так много внимания уделяем вопросам образования), хотя для знати он был в значительной степени естественно приобретенным, поскольку многие отпрыски аристократических семей находились во франкоязычном окружении в процессе воспитания.
Кроме того, не следует принимать на веру некоторые высказывания (как членов двуязычного сообщества, так и ученых) о последствиях билингвизма – например, мысль о том, что он неизбежно окажет неблагоприятное влияние на уровень владения родным языком. В разных обществах существуют разные точки зрения на билингвизм: его могут считать как полезным, так и вредным явлением. Существует мнение, что билингвизм положительно влияет на умственные способности людей: обеспечивает им гибкость мышления, способность быстро и продуктивно порождать новые идеи и так далее, а также что он оказывает положительное влияние на социальные и даже художественные способности человека – например, позволяет выработать чуткость к другим культурам и точкам зрения[136]. Однако билингвизму нередко приписывают и отрицательные свойства. Порой высказывается предположение, что билингвы ни один язык не осваивают настолько хорошо, насколько могли бы. Считается, что умственные усилия, направленные на изучение второго языка, слишком велики, и у человека просто не хватает сил на решение других важных учебных задач. Или что дети-билингвы больше, чем дети, владеющие лишь одним языком, склонны к заиканию[137]. Если говорить о проблемах функционирования общества, которые нас интересуют в первую очередь, то билингвизм часто обвиняют в том, что он ориентирует носителей на иностранную культуру и не дает проявиться их истинной природе. В XVIII–XIX веках в России бытовало мнение, что, забывая или отвергая родной язык, люди обрекали Россию на то, чтобы она навсегда осталась под влиянием Запада и не имела возможности обрести собственный путь. Кроме того, билингвизм может рассматриваться как угроза господствующей группе населения – ему приписывается способность не только размывать идентичность, но и утверждать «точку зрения, отличающуюся от точки зрения большинства, за счет легитимации использования другого языка и прививания людям ценностей, которые этот язык символизирует»[138]. В русской мысли было особенно распространено уже упомянутое мнение о том, что билингвизм может привести к расщеплению личности. Это же подозрение мы встречаем в романе Пола Теру, который сравнивает билингвизм с болезнью: рассуждая об англо-валлийских билингвах, он говорит (надеемся, что не всерьез), что билингвизм – это «зачастую форма шизофрении, позволяющая человеку одновременно иметь в сознании два противоречащих друг другу мнения, ведь эти мнения остаются непереведенными»[139]. Ромейн напоминает о том, что предубеждение против билингвизма берет свое начало в христианском мифе – истории Вавилонского столпотворения из Книги Бытия, согласно которой языковое разнообразие является божьей карой[140]. Однако в этой книге мы будем придерживаться скорее мнения Эдвардса о том, что многоязычие, несмотря на любые опасения, – «это не отклонение от нормы, как полагают многие (вероятно, это в большей степени относится к людям из Европы и Северной Америки, говорящим на „большом“ языке)», а нормальное явление и «повседневная необходимость для большей части мира сегодня»[141].
Мнения о билингвизме, таким образом, связаны с определенными лингвистическими идеологиями, которые мы понимаем как «культурные представления о природе, форме и назначении языка и о нормах коммуникативного поведения, лежащих в основе коллективного порядка»[142]. Здесь будет не лишним вспомнить введенное Пьером Бурдье понятие языкового рынка, где разные варианты речи имеют разную ценность. На многоязычном рынке выбор языка зависит от его ценности в данном контексте, и те, кто не владеет определенным языком в необходимой мере, не допускаются в некоторые сферы. Такая ценность приписывается разным языкам на основе сконструированных людьми представлений о том, каковы эти языки и для каких целей они нужны, а не на основе их внутренних свойств[143]. Однако выбор языка действительно влечет за собой социальные последствия, весьма значимые, как бы субъективны ни были эти оценки, и носители, которые желают с помощью языка приобрести некий культурный капитал, должны придерживаться предписанных культурной конвенцией правил.
Когда в языковом сообществе сосуществуют два языка или более, один из них может считаться более подходящим или уместным для определенных целей или в определенной ситуации. Поэтому мы не можем обойти вниманием понятие диглоссии, которое описывает именно такой случай. На эту тему, которая привлекает большое внимание ученых в последнее время[144], Чарльз Фергюсон написал известную статью, основываясь на материале арабоязычных стран[145]. Франко-русский билингвизм, однако, сложно определить как диглоссию по Фергюсону, то есть как
относительно стабильную языковую ситуацию, в которой, в дополнение к обиходным диалектам языка (в число которых может входить и нормативный вариант или несколько региональных нормативных вариантов), существует резко от них отличающийся, в большой мере кодифицированный (и зачастую грамматически более сложный) наддиалектный вариант – язык многочисленных и авторитетных письменных литературных текстов, созданных либо в более ранний период, либо в другом языковом сообществе, – который изучается преимущественно в образовательных учреждениях и обычно используется в письменной или официальной речи, однако ни одна часть сообщества не использует его в обычной речи[146].
Российскую ситуацию можно скорее назвать диглоссией в понимании Фишмана, который расценивает билингвизм как явление индивидуальное, а диглоссию – как социальное и считает социальную нормификацию билингвизма «характерной чертой диглоссии»[147]. Однако результаты нашего исследования не позволяют рассматривать Российскую империю как исключительно диглоссичное общество даже в терминах Фишмана, отчасти потому, что конвенции, обусловливающие выбор языка, были, по всей видимости, не такими жесткими, как часто считается. По крайней мере, они не были таковыми для мужской части общества: обнаруженные нами свидетельства позволяют предположить, что нарушения языкового этикета женщинами-дворянками – например, разговор на русском языке с мужчинами (кроме мужа) – могли вызывать большее неодобрение со стороны высшего общества, чем подобные поступки со стороны мужчин[148].
Наконец, нам нужно обратиться к понятию языковой лояльности, которое может быть полезным при описании языкового сообщества, где сосуществуют несколько языков. Уриэль Вайнрайх в своей классической работе о языковых контактах пишет о том, что отношения между языком и языковой лояльностью подобны отношениям между национальностью и национализмом, о которых шла речь в предыдущем разделе:
Язык, как и национальность, можно представить как совокупность норм поведения; языковая лояльность, как и национализм, – это образ мышления, при котором язык (как и национальность) как некая целостная сущность, противопоставленная другим языкам, занимает высокое положение в системе ценностей, положение, которое нуждается в «защите»[149].
Защита, о которой говорит Вайнрайх, может быть обеспечена с помощью разных механизмов, которые также хорошо изучены социолингвистикой и которые мы можем в большом количестве наблюдать на примере России имперского периода. Эти механизмы включают в себя повышенный интерес к стандартизации, хвалебные высказывания в адрес защищаемого языка (обычно подкрепленные отвергаемыми большинством социолингвистов домыслами о том, что по природе своей каждый язык обладает определенными качествами или недостатками), языковой пуризм (он может проявляться, например, в недовольстве тем, что язык засоряют заимствованными словами или иными иноязычными элементами) и высмеивание ситуаций, в которых происходит переключение языковых кодов (чередование языков или их вариантов в рамках одного высказывания или текста). Для социолингвистов эти механизмы представляют собой «весьма важные явления, требующие систематического изучения»[150]. При этом нельзя не учитывать тот факт, что эти механизмы связаны с вопросами власти, потому что
выбор языка и отношение к языку неотделимы от политических ситуаций, отношений власти, языковых идеологий и взглядов участников коммуникации на собственные идентичности и идентичности других. Постоянные социальные, экономические и политические преобразования влияют на расстановку этих факторов, изменяя доступные субъекту в конкретный исторический момент варианты идентичности и идеологии, которые легитимируют определенные идентичности и наделяют их большей ценностью, чем другие[151].
Изучая такие явления, механизмы и связи, мы осознаем, что выбор языка, отношение к языкам и их функциям тесно переплетаются и что языковые идеологии связаны с другими идеологиями, существующими в данную эпоху[152].
Вопросы методологии
Как ясно из предыдущих разделов, наше исследование истории французского языка в России является междисциплинарным, затрагивающим проблемы как истории, так и социолингвистики. Постараемся теперь выяснить, насколько сходны методы этих двух дисциплин и можно ли совмещать их в рамках одного исследования. В ходе разговора об этом мы коснемся и некоторых других методологических вопросов.
В 1970-е годы Хью Сетон-Уотсон сетовал на то, что история языка отделена от традиционной политической, экономической и социальной истории[153], однако в настоящее время положение изменилось. За последние сорок лет многие историки проявляли большой интерес к социальной и политической истории языка[154]. Этим обусловлено появление сравнительно новой дисциплины – исторической социолингвистики, метод которой по сути является междисциплинарным[155]. Однако и по сей день историки, касаясь вопросов языка, не часто обращаются к трудам социолингвистов, в которых можно обнаружить понятийный аппарат и методологические установки, необходимые для изучения истории языка как социального, политического и культурного явления. В результате историки иногда сталкиваются с трудностями, а их трактовка языковых вопросов страдает неточностью[156].
Действительно, историки, предпочитающие диахронический подход, ведут исследование иначе, чем социолингвисты, которые имеют дело с современным словоупотреблением и используют синхронический подход. Чтобы найти ответы на интересующие их вопросы, социолингвисты имеют возможность разрабатывать собственные инструменты, такие как опросники и запись интервью, которые в силу своей природы недоступны для историков (и для ученых, работающих в сфере исторической социолингвистики, тоже). Они имеют возможность собрать многочисленные достоверные фактические данные, которые высоко ценят социологи. Безусловно, это не значит, что историки и специалисты по исторической социолингвистике не имеют доступа к статистическим данным или не могут их собрать. В нашем исследовании мы будем использовать подобного рода информацию, чтобы осветить определенные моменты в истории французского языка в России. Так, мы будем пользоваться собранными Владиславом Ржеуцким данными о количестве кадет, изучавших иностранные языки в Императорском сухопутном шляхетном кадетском корпусе, и о количестве статей на разных языках, опубликованных Императорской академией наук. Кроме того, можно составить некоторое представление о том, сколько книг на разных языках было выпущено в России в определенный исторический период, и о том, сколько подписчиков имели те или иные периодические издания. И тем не менее у историков и социолингвистов нет доступа к столь обширной и достоверной количественной информации, как у социолингвистов, работающих с современным материалом. Поскольку они имеют дело с «неточными данными»[157], они не имеют возможности точно подсчитать количество или вычислить долю, которую составляли в императорской России дворяне, говорившие по-французски в салонах или в детской, или определить, какую часть их речи составляли высказывания на том или ином языке. Они вынуждены обращаться к субъективным наблюдениям, почерпнутым из мемуаров и отчетов о путешествиях, в каждом случае делая поправку на то, что автор мог предвзято относиться к предмету описания или стремиться определенным образом воздействовать на аудиторию, причем эти стремления могут быть представлены в тексте как явно, так и завуалированно.
Если социолингвисты, изучающие современный язык, могут составить точное описание разговорного языка и определить степень владения им, то историки и специалисты по исторической социолингвистике находятся в этом отношении в невыгодных условиях. Имея возможность опираться на ограниченное количество документов, которые по счастливой случайности сохранились до наших дней, они могут оценить, насколько хорошо русские писали по-французски, причем должно быть доподлинно известно, что документ был составлен без помощи и человека, для которого французский был родным языком. В то же время, чтобы сделать выводы об устной речи и владении ею, им приходится полагаться на уже упомянутые нами свидетельства современников, так как письменная речь не является точным отражением устной. Вдобавок ко всему эти свидетельства могут быть в высшей степени субъективными и представлять собой не что иное, как пересказанные слухи. И, как правило, нам неизвестно, какие критерии оценки и доказательства лежат в основе этих суждений. В некоторых случаях их авторы не обладают достаточной компетенцией, чтобы оценить, насколько хорошо русские люди освоили языки, которые являлись иностранными как для них, так и для автора данного свидетельства.
Таким образом, в силу причин, связанных с методологией и природой фактов, доступных при изучении исторического явления, некоторые темы, которые обычно разрабатывают социолингвисты, изучающие современный язык, являются совершенно не перспективными с точки зрения историков и, вероятно, даже невозможными в их области знаний. Эти темы – приведем примеры только из определенной сферы социолингвистики, изучения плюрилингвизма[158], потому что именно эта проблематика находится в центре нашего внимания, – касаются влияния билингвизма на когнитивные способности, положительных и отрицательных сторон билингвального образования и определения того, насколько успешно человек может использовать иностранный язык в устной речи.
И тем не менее у историков и социолингвистов много общего. Изучая сообщества, в той или иной мере склонные к полилингвизму, специалисты по социальной, политической и культурной истории могут преуспеть не меньше социолингвистов, если будут задавать себе вопросы Фишмана о функциях разных языков и о том, как разные обстоятельства влияют на выбор языка. Основные понятия социолингвистики (например, билингвизм, диглоссия, языковое сознание, пуризм, переключение кодов, – это лишь те, к которым мы обращались на страницах этой книги) могут помочь историкам в изучении текстов, написанных на том или ином языке или на нескольких языках сразу. Как историкам, так и социолингвистам может быть интересно выяснить, как изменилась система образования в стране с введением в нее обучения иностранным языкам, как много времени учащиеся посвящали занятиям вторым языком и какими были эти занятия. И те и другие разделяют интерес к изучению социальных и гендерных отношений. Исследования как историков, так и социолингвистов могут касаться реальных или предполагаемых социальных, интеллектуальных и психологических последствий влияния билингвизма, будь они положительными или отрицательными (например, приобретение большего общественного влияния, доступ к власти и улучшение благосостояния, расширение культурных горизонтов, с одной стороны, и социальная изоляция, чувство недовольства, культурная дезориентация, аномия и конфликт лояльностей, с другой). Историков интересуют проблемы национализма, а социолингвистов – языковой лояльности, однако вполне вероятно, что между этими явлениями много общего. Нужно подчеркнуть, что выбор языка и его использование связаны с социальными и культурными процессами, которые входят в область научных интересов историков. Как отмечал В. М. Живов, «языковые элементы в сознании пишущих и говорящих существуют не как абстрактные средства коммуникации, а как индикаторы социальных и культурных позиций»[159].
Если мы считаем, что выбор языка и его использование не просто являются следствием необходимости сделать речь одного человека понятной для другого, а имеют социальное и культурное значение, нельзя не обратиться к концепции речевых жанров М. М. Бахтина. В работе, опубликованной в 1970-х годах, задолго до того, как социолингвистика стала признанной дисциплиной, Бахтин упрекал лингвистов в том, что они сводят к минимуму активную роль адресата в речевой коммуникации[160]. Интересно, что Бахтин, в духе социолингвистов, которые стремятся связать использование языка с социальным или культурным контекстом, утверждал, что любое высказывание необходимо рассматривать как «звено в цепи речевого общения определенной сферы». Высказывания, по его мнению,
<…> не равнодушны друг к другу и не довлеют каждое себе, они знают друг о друге и взаимно отражают друг друга <…>. Как бы ни было высказывание монологично (например, научное или философское произведение), как бы ни было оно сосредоточено на своем предмете, оно не может не быть в какой-то мере и ответом на то, что было уже сказано о данном предмете <…>. Высказывание наполнено диалогическими обертонами <…>. Ведь и самая мысль наша – и философская, и научная, и художественная – рождается и формируется в процессе взаимодействия и борьбы с чужими мыслями <…>. Говорящий – это не библейский Адам, имеющий дело только с девственными, еще не названными предметами, впервые дающий им имена <…>[161].
Будучи частью диалога, каждое высказывание обладает особым качеством, которое Бахтин обозначил словом «адресованность». Иначе говоря, оно всегда обращено, пусть даже и неявно, к реальному или воображаемому читателю или слушателю.
В работе, на которую мы ссылаемся, Бахтин не рассматривал вопросы выбора языка; более того, основным предметом его исследований была литература, а не социальная жизнь. И тем не менее его идеи о взаимосвязи высказываний (прошлых, настоящих и будущих) в определенной сфере и о представлении об адресате, имеющемся у говорящего или пишущего, имеют отношение к нашему исследованию русского полилингвизма и выбора, который полилингвы совершают в пользу того или иного языка. Во-первых, сказанное и написанное по-французски закрепляется в культурном и интеллектуальном русскоязычном дискурсе, находит отражение в языковых заимствованиях, прежде всего в области лексики и фразеологии. Во-вторых, актуальность наблюдений Бахтина становится особенно очевидна, когда речь заходит об обращении к французскому как языку, предназначенному для определенных типов письменной речи – например, дворянской переписки и личных записей, включая дневник и récit de voyage (описание путешествия), или как к языку международного общения. Мысли Бахтина о языковых проявлениях классового сознания и социального расслоения будут уместны при анализе роли французского языка в построении дворянской социальной идентичности, особенно если учесть, что сам Бахтин подчеркивал применимость своей идеи о «концепции адресата» для описания общества, в котором ведущую роль играет аристократия. И наконец, бывают ситуации, когда использование французского очевидным образом предполагает, что в сознании автора присутствует некое представление об адресате или о том, что адресат должен определенным образом ответить автору[162].
Таким образом, мы убеждены, что у специалистов по социальной, политической и культурной истории и социолингвистов есть много общих научных интересов. Социолингвисты, несомненно, имеют возможность применять на практике определенные инструменты и методы социальных наук, недоступные историкам или доступные, но ограниченные областью применения. И та и другая научная сфера может похвастаться достаточным количеством важных теорий, открытий и находок, которые позволяют нам объединить исторические и социолингвистические темы в рамках одного пограничного исследования. Если попытаться обозначить эту границу между дисциплинами, можно обратиться к подзаголовку нашей книги, который указывает на то, что, описывая результаты нашего исследования, мы больше склонялись к историческому дискурсу, нежели к социолингвистическому. Однако мы убеждены, что любое исследование языка как определенной сферы социальной, политической, культурной или интеллектуальной истории должно обращаться к работам по социолингвистике и разработанным в них понятиям. Только в этом случае оно может стать частью развивающейся научной области – исторической социолингвистики.
Литература как первоисточник
Мы уже обращали внимание на тот очевидный факт, что при изучении использования языка в языковом сообществе, существовавшем в отдаленном прошлом, нам приходится полностью полагаться на письменные источники. Однако нельзя забывать еще и о том, что письменная речь – которая сама по себе является не просто фиксацией устной речи, ее отражением, а самостоятельным языковым явлением[163] – имеет много разновидностей. Одна довольно широко разработанная ее разновидность используется в основном в деловых целях (например, для создания административных документов или в дипломатической переписке[164]). Другая принадлежит литературе. Она создается в соответствии с эстетическими взглядами и находит отражение в текстах, некоторые из которых становятся каноническими и формируют коллективную память, национальную идею, миф и традицию. Между этими двумя крайностями лежит целое поле промежуточных типов текстов, которые хоть и не входили в категорию беллетристики, но имели некоторую художественную функцию на протяжении интересующего нас исторического периода (или его части). Среди этих текстов важное место занимала личная переписка: распространенная среди дворян привычка писать письма сначала на черновик свидетельствует об относительной художественности многих текстов этого жанра, которые имели не только практическую, но и эстетическую функцию. Подобные письменные источники имеют неодинаковую ценность при изучении речевого поведения, то есть пользования языком, и отношения к нему.
Для изучения речевого поведения будет более целесообразно опираться по большей части на документы, которые являются его примерами, нежели на те, целью которых является его описание. До нас дошел огромный корпус документов, написанных подданными Российской империи на французском языке. В него входят различные тексты практического свойства: учебные материалы, библиотечные каталоги, полицейские отчеты, не говоря уже о дипломатических бумагах. Кроме того, в него включены художественные произведения и множество текстов, которые, как мы уже упоминали, относятся к пограничной зоне между тем, что является и не является литературой, особенно это касается разных видов самоописания – личных дневников и récit de voyage[165]. В этот корпус также входит обширная частная переписка. Она представляет собой чрезвычайно ценный источник для изучения проблем речевого поведения, и на то есть несколько причин. В письмах мы встречаем как русский, так и французский или комбинацию этих языков в зависимости от того, кто и кому пишет, каковы отношения между автором послания и адресатом, каковы контекст и содержание конкретного письма. Темы эпистолярных текстов весьма различны: это и светские события или повседневные бытовые ситуации, и характеры знакомых, и здоровье друзей или родственников, и взгляды на политику, и такие вопросы, как управление имением. Столь же различны и варианты отношений между адресатом и адресантом, которые могут быть членами одной семьи, друзьями, коллегами, могут быть равны или нет по социальному положению и так далее. Из этого следует, что анализ личных писем позволяет составить более полное представление о факторах, влиявших на выбор языка и переход с одного языка на другой, о разнице между языковыми привычками разных семей и поколений, мужчин и женщин. Так как эти документы не предназначались для публикации, они ценны еще и тем, что их авторы, скорее всего, писали их относительно спонтанно, не контролируя себя строго и не пытаясь выстроить письмо по заранее определенному сюжету (хотя, конечно, нельзя не принимать во внимание ограничения, которые накладывал эпистолярный этикет).
Когда речь заходит о литературных или отчасти литературных источниках, написанных на русском языке[166], нельзя забывать о том, что рассуждения об использовании языка в них окрашены отношением к данному языку. Конечно, мы не станем утверждать, что из подобных источников, особенно из таких небеллетристических жанров, как мемуары и дневники, нельзя почерпнуть полезной информации об использовании французского языка русскими людьми. Хотя некоторые из этих текстов лишь в малой степени затрагивают проблемы использования языка, в других (например, в записках Ф. Ф. Вигеля[167], охватывающих период с его детских лет, которые пришлись на 1790-е годы, до его выхода в отставку в 1840 году) содержится много наблюдений и проницательных замечаний на этот счет. А в объемном дневнике П. А. Валуева, занимавшего в 1860–1870-е годы высокие министерские посты, есть множество примеров перехода с одного языка на другой[168]. Однако необходимо заметить, что подобные тексты, представляющие собой образцы осознанного самоописания и адресованные будущим поколениям, являются формой самопрезентации и самооправдания, поэтому они зачастую окрашены субъективностью и предрассудками авторов.
Но особенно осторожными следует быть, если в качестве источника мы желаем привлечь литературу (к которой мы относим, например, сатирические статьи, драматургию и художественную прозу). В этом случае необходимо оценить, насколько такой источник надежен и насколько точно он отражает социальные, культурные и языковые практики. Это произведения, обладающие высокой степенью художественности, в которых фигура повествователя далеко не всегда будет тождественна авторской и в которых – особенно это касается литературы XIX века – авторы зачастую прибегали к сложной рамочной конструкции, и читатели оказывались в ситуации, когда им нужно было определить, какая из повествовательных инстанций является наиболее надежной. Кроме того, нельзя утверждать наверняка, что слова, вложенные писателями в уста вымышленных персонажей, соответствуют реальной языковой практике: автор мог придумать какие-то языковые привычки или описать их, значительно сгустив краски – например, когда речь шла об использовании заимствованных слов или переключения кодов – в художественных или обличительных целях. По меньшей мере нам следует изучить контекст, в котором создавалось произведение, чтобы убедиться, что мы верно понимаем взгляды автора на актуальные вопросы его времени. Все эти оговорки о привлечении литературных источников в качестве материала для изучения использования языка очень важны, так как критический нарратив о русской франкофонии, о котором мы упоминали, развивался в основном в подобных текстах, начиная с пьес А. П. Сумарокова и Д. И. Фонвизина в XVIII веке и заканчивая романами Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского в конце XIX века[169].
Эту мысль необходимо подчеркнуть, потому что многие исследователи, какими бы теоретическими установками они ни руководствовались, обращаются с литературными источниками так, словно они являются отражением реальности. Использование художественных текстов в качестве социологического комментария было общим местом в советской науке. Так, известнейший советский исследователь литературы XVIII века Г. П. Макогоненко писал, что задача комедии Фонвизина «Бригадир», раннего образца сатиры на русскую галломанию и франкофонию, определяется «обнаружением ничтожности, паразитической жизни» русского дворянства[170]. Подобным же образом К. В. Пигарев в фонвизинском «обличении дворянского космополитизма и раболепства перед иностранщиной» видел стремление автора заклеймить позором «социально-бытовое явление, ставшее типическим для дворянского класса»[171]. Некоторые западные и постсоветские ученые, при всем отличии их методов от методов советского литературоведения, использовали художественные тексты в том же качестве. Например, Д. Уэлш усматривает прямую связь между драмой и культурной реальностью, заявляя, что галломания, которую высмеивает Фонвизин, «была настолько распространена в России, что в период между 1765 и 1823 годами едва ли нашлась бы комедия, в которой не было бы сатирических выпадов в ее адрес»[172]. В относительно недавней работе А. М. Эткинд, привлекая в качестве доказательств «Евгения Онегина» Пушкина и «Войну и мир» Толстого, делает весьма категоричные заявления о речевом поведении в России XIX века, например о том, что дамы из высшего общества обычно владели русским «хуже, чем французским», что «французский был языком женщин и семейной жизни, а русский – языком мужчин, их военной службы и поместной экономики»[173]. Лотман, подход которого к литературным текстам отличается от методов ученых, перенявших установки марксизма-ленинизма, все же приводил литературных персонажей в пример при анализе «реальных норм поведения», таким образом вымышленные герои представали в качестве элементов российской реальности, предшествовавших созданию художественного текста, в котором они действовали, и их существование словно бы продолжалось за рамками этих текстов. Другими словами, и в его работах граница между текстом и тем, что являет собой «внетекстовая реальность», которую семиотика стремится реконструировать (и которая сама может восприниматься как текст, подлежащий декодированию), порой оказывается размыта[174].
В нашем исследовании мы будем учитывать, с каким типом текста мы имеем дело, в каких обстоятельствах он был написан, какое отношение могло быть у автора к описываемому предмету и какие цели он мог преследовать, создавая этот текст. Внимание к этим факторам позволит нам понять, как именно социальная реальность преломляется в рамках текста. В случае с литературными произведениями мы должны также принимать в расчет их явную художественность и связи с другими текстами, связи, которые представляли большой интерес для русских формалистов, таких как Б. М. Эйхенбаум и В. Б. Шкловский. Кроме того, следует учитывать, что многочисленные упоминания в литературных текстах таких явлений, как галломания, обилие галлицизмов и смешение языков, еще не означают, что они были повсеместно распространены. Эти упоминания могут с равным успехом показывать, что высмеивание французской речи и французской моды было общим местом в европейской литературе XVII–XIX веков[175]. Другими словами, мы придерживаемся более осторожного взгляда на отношения между искусством и реальностью, который представлен и в работе Файджеса, например в его высказываниях о том, что нельзя считать искусство «окном в жизнь» и «буквальной фиксацией жизненного опыта»[176].
Конечно, мы не собираемся спорить с тем, что русская литература является весьма важным источником для нашего исследования истории французского языка в России. Размышления писателей о языке, как показано в последней главе этой книги, были вплетены в тексты их произведений и впоследствии стали частью более крупных авторитетных нарративов о национальной культуре и судьбе, нарративов, созданных русскими авторами золотого века. В то же время нельзя не признать, что сведения, полученные нами из корпуса литературных источников, оказываются более полезными для изучения отношения к данному языку, нежели для изучения языковых, социальных и культурных практик[177]. Литературные произведения, безусловно, необходимо рассматривать в контексте, учитывая разнообразные социальные, культурные и исторические обстоятельства, в которых они были созданы. Проще говоря, представление о речевом поведении, которое можно встретить на страницах русской литературы середины XIX века, отражает эссенциалистский взгляд на язык как на элемент этнической и национальной идентичности и свидетельствует о переходе культурного авторитета от придворных и знати, придерживавшихся космополитичных взглядов, к литературному сообществу и интеллигенции, вызванном распространением идей культурного национализма.
Во введении мы попытались описать некоторые стороны того негативного дискурса об использовании русскими дворянами французского языка, который можно обнаружить на страницах классической русской литературы и некоторых научных работ о русской культуре. Преимущественно негативное отношение к русской франкофонии мы связываем с чрезвычайно влиятельной концепцией русской национальной идентичности, согласно которой Россия определяется через противопоставление «Западу». Отсюда берет начало идея о том, что Российская империя была разделена на европеизированную элиту и народ, который оставался верным иным – исконным – ценностям. Мы отметили важность для нашего исследования некоторых политических идей, в частности понятий империя и нация, и в особенности показали, что рост национального самосознания и распространение идей культурного национализма влияют на выбор языка и отношения к речевому поведению в определенные исторические периоды. Нашей целью было подготовить фон для создания более точной картины использования французского языка в России, которая не ограничится пересказом общих мест, основанных на социальных и культурных стереотипах. Далее мы с большей подробностью обрисуем исторический контекст, который служит фоном для этой картины.
Глава 1. Исторический контекст русской франкофонии
Распространение французского языка в Европе в XVII–XVIII веках
Как мы покажем в последующих разделах этой главы, в течение XVIII века российское дворянство из простого служилого сословия, чье рабское преклонение перед монархом зачастую вызывало презрение западных людей, посещавших Московию, превратилось в класс, в котором по крайней мере высшие слои представляли собой просвещенную, обладающую чувством собственного достоинства группу людей, активно контактировавших с западноевропейскими дворянами и имевших с ними много общего[178]. В то время, когда происходила эта трансформация, именно Франция стала источником наиболее популярных моделей поведения для европейских монарших дворов, аристократического общества, литераторов и ученых. Именно французский язык был главным средством, с помощью которого эти модели можно было перенести на иностранную почву. Расширение сферы влияния французского языка в Европе и его роль в распространении культуры французской элиты (слово «культура» мы используем здесь в широком смысле) много лет назад были описаны Фердинандом Брюно в обширном труде «История французского языка»[179]. Некоторое время назад Марк Фюмароли вновь обратился к теме французского языка и культурных достижений, которые ассоциировались с ним вплоть до Французской революции 1789 года[180]. Предваряя описание исторических обстоятельств, в которых французский язык укоренился и начал использоваться в России, мы скажем о нескольких факторах, в значительной степени повлиявших на распространение французского языка и французской культуры в Европе начиная с Великого века (Grand Siècle), эпохи Людовика XIV, личное правление которого длилось с 1661 по 1715 год[181].
Во-первых, в конце XVII и в XVIII веке французский язык был символом образа жизни, которому в континентальной Европе не было равных по изысканности, веселью, «приятности» (douceur de vivre) и проявлениям хорошего вкуса (bon goût). Этот стиль жизни, пышность и роскошь культивировались при великолепном дворе Людовика XIV в Версале и в целом были характерны для французской аристократии времен Старого порядка. Они в первую очередь ассоциировались с Парижем, наиболее совершенным воплощением «города» в период от конца Возрождения до эпохи промышленной революции, в котором процветала франкофония; средоточием знаний, искусств и ресурсов, необходимых для поддержания новых изящных вкусов. Действительно, это искусство жить (l’ art de vivre) совмещало в себе черты городской жизни с понятием учтивости или любезности (politesse), которые объединяет слово urbanité[182]. М. Фюмароли составил обширный список связанных друг с другом факторов, которые во многом объясняют исключительное положение французской монархии и Парижа и относительную «универсальность» французского языка в Европе, сохранявшиеся вплоть до начала Французской революции в 1789 году:
влияние, обеспеченное развитой сетью дипломатических связей; высокое качество переводов многочисленных европейских книг, опубликованных на французском в Париже, Амстердаме и Лондоне; престиж, которым обладали этикетные нормы самого известного двора в мире; авторитет королевских академий и Парижского салона Академии живописи и скульптуры; а также интерес к большим парижским аукционам, на которых продавались предметы искусства, и высокая квалификация их экспертов; притягательность утонченной аристократии, которая подняла личный досуг на уровень искусства жить, требовавшего усилий множества мастеров: от егермейстера до псаря, от повара до садовника, от портного до ювелира, от изготовителя париков до парфюмера, от художника до архитектора, от сочинителя легкой поэзии до философа, диктующего моральные нормы и властвующего над умами, от балерины до великого актера, от драматурга до романиста, от домашнего учителя до компаньонки благородной дамы; не говоря уже о веселых ярмарках, праздниках, и повседневной жизни, кипящей на улицах Парижа, и об очаровании и хороших манерах парижских актрис и гризеток[183].
Важную роль в новой изящной культуре играли красноречие и искусство вести разговор. Луи-Антуан Караччиоли, француз, выходец из неаполитанской семьи, описавший в 1770-х годах восторг, с которым представители европейской элиты относились к французской культуре, поздравлял себя и своих современников с тем, какие новые возможности дала им французская речь, воспроизводя при этом стереотипные представления, с которыми нам не раз еще придется столкнуться:
Мир очарован тем, как разговаривают люди во Франции. Здесь говорит сама любезность, смеется сама искренность, приятное соединяется с полезным, новости перемежаются с остротами, разговор перетекает от одного предмета к другому так незаметно, что самые легкие оттенки самых нежных тонов смешиваются гармонично. <…> У англичанина не было других тем разговора, кроме тех, что касаются его правительства; итальянец говорил лишь о музыке; голландец – лишь о том, что связано с его торговлей; швейцарец – только о своей стране; поляк – о своей свободе; австриец – о своем происхождении. Теперь же появился способ вести разговор так, чтобы все голоса звучали в унисон. Мы говорим обо всем и делаем это хорошо[184].
Образ жизни французского двора и дворянства, а также атмосфера Версаля и Парижа во многом объясняют, почему по-французски в XVIII веке говорили при дворах Фридриха II в Пруссии (годы правления: 1740–1786), Иосифа II в Австрии (император Священной Римской империи, 1765–1790), Густава III в Швеции (1771–1792), герцогов Пармских[185], а также Екатерины II в России. Вместе с тем Париж предлагал модели общения (например, академия, салон, театр) для других национальных центров, в которых существовало франкоговорящее общество и развивалась французская культура. Такими центрами были Берлин, Стокгольм, Турин, Вена, а в России – Санкт-Петербург и Москва. Культура французской элиты и ее lingua franca способствовали стиранию национальных различий, однако при этом подчеркивали дистанцию, отделяющую одни слои общества от других. Французы, безусловно, были рады повсеместному использованию французского языка в светском обществе. «Я здесь во Франции, – писал Вольтер в 1750 году одному из своих корреспондентов, будучи в Пруссии, где незадолго до этого Фридрих II распорядился, чтобы в Берлинской академии наук вместо латыни пользовались французским. – Здесь говорят только на нашем языке. Немецкий – для солдат и лошадей, он нужен только во время путешествия»[186].
Однако l’ art de vivre и douceur de vivre нельзя воспринимать в отрыве от второго фактора, который обеспечивал французскому языку авторитет в Европе XVIII века, а именно от оригинальной и разнообразной высококачественной литературы, написанной на этом языке[187]. К концу Великого века в корпус этих текстов входили «Рассуждение о методе…» Декарта, «Мысли» Паскаля, трагедии Корнеля и Расина, комедии Мольера, басни Лафонтена, максимы Ларошфуко, «Характеры» моралиста Лабрюйера, письма мадам де Севинье, проповеди и надгробные речи Боссюэ, сатиры и «Поэтическое искусство» Буало и «Приключения Телемака» Фенелона. К этому наследию французские авторы эпохи Просвещения добавили значительное количество произведений о социальных, политических, исторических и моральных вопросах, а также нравоучительной литературы. «Персидские письма» и «О духе законов» Монтескье, «Генриада», «История Карла XII», «Философские письма» и «Кандид» Вольтера, «Юлия, или Новая Элоиза», «Об общественном договоре», «Эмиль» и «Исповедь» Руссо, «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» Дидро и Д’ Аламбера – эти и многие другие произведения XVIII века, написанные на французском, распространялись по всей Европе от Пруссии и Швеции до Италии и румынских земель (ил. 1).
Ил. 1. Титульный лист романа Руссо «Эмиль» (издание конца XVIII века), который был впервые опубликован в 1762 году и в котором Руссо изложил свои взгляды на воспитание. Эта книга вызывала большой интерес в России в екатерининскую эпоху. Копия любезно предоставлена Российской национальной библиотекой, этот экземпляр принадлежал семейству Толстых.
Знание французской литературы XVII–XVIII веков, наряду с утонченностью и изысканными манерами, способствовало расцвету придворной жизни; более того, оно было необходимо, если монарх стремился продемонстрировать свою просвещенность. Екатерина II, которая с успехом играла роль просвещенного монарха[188] (причем делала это демонстративно), при создании «Наказа» для Уложенной комиссии, организованной ей в 1767 году, во многом опиралась на книгу Монтескье «О духе законов». Она вела переписку с Вольтером, а в 1773–1774 годах лично беседовала с Дидро, которого пригласила в Санкт-Петербург. Однако члены «Республики ученых», чьи труды принесли славу французской нации, не всегда поддерживали идею об особом положении аристократии, не говоря уже о Старом порядке. Несомненно, эстетические вкусы многих писателей совпадали со вкусами социальной элиты, и, как следствие, они высоко ценили утонченность и изящество. При этом понятия, ставшие центральными во французской мысли XVIII века (например, разум, добродетель, общественная польза, любовь к отечеству), подрывали Старый порядок. Подобным образом в России литературное сообщество и интеллигенция, появившиеся в результате вестернизации российской элиты, в XIX веке сформировали общественное мнение, направленное против самодержавия и разрушавшее социальную структуру, обеспечивавшую дворянам их высокое положение[189].
Третьим фактором, способствовавшим распространению французского языка в Европе XVII–XVIII веков, было развитие зародившегося во Франции и перенятого другими странами дискурса о достоинствах французского языка[190]. Иногда наличие этих достоинств объясняли историческими, экстралингвистическими условиями, но встречались и утверждения, с которыми едва ли согласится большинство современных социолингвистов, например, предположение о том, что языку от природы присущи определенные свойства или что существует связь между языком и характером говорящих на нем людей. В действительности этот дискурс появился задолго до XVIII века. Уже в 1549 году Жоашен дю Белле заявлял, что французский язык может послужить основой для создания литературы не менее великой, чем та, что написана на итальянском языке[191]. В XVII веке также было сделано несколько смелых заявлений о достоинствах французского языка и, как следствие, о том, что он подходит на роль универсального языка. Например, Луи Ле Лабурер в трактате 1669 года «Преимущества французского языка перед латинским» утверждал, что французскому присуща ясность, потому что его синтаксис отражает «естественный ход мысли». По мнению Ле Лабурера, французский был не только самым «естественным» языком, но и самым «совершенным»[192]. Два года спустя французский священник-иезуит Доминик Буур высказывал похожие мысли, рассуждая о целесообразности (и вероятности) использования французского в качестве универсального языка. Только французский, как полагал один из персонажей его «Бесед Ариста и Евгения» (1671), обладает качествами, необходимыми языку, чтобы выполнить эту задачу. Учитывая «ту совершенную [форму], в которой [французский язык] пребывает вот уже несколько лет, – размышляет Буур, – не остается ли нам лишь признать, что в нем есть некие величие и благородство, ставящие его почти вровень с латынью и бесконечно выше итальянского и испанского – двух языков, которые, очевидно, могли бы [претендовать на то, чтобы] потягаться с ним?»[193] Буур считал, что французский превосходит все другие языки того времени по простоте, ясности, точности, чистоте, утонченности, способности выражать нежные чувства и большей (по сравнению с другими языками) естественности[194].
Этот языковой патриотизм получил новый импульс в XVIII веке, когда французский язык все больше распространялся по Европе. Сам Вольтер превозносил французский и его носителей: «Из всех европейских языков, – писал он, – французский определенно является наиболее универсальным, потому что он больше всего подходит для ведения беседы: этим качеством он обязан людям, которые на нем говорят»[195]. Спустя тридцать лет после посещения Вольтером Берлина Фридрих II писал о преимуществах французского языка перед другими, яро протестуя против двуязычия, которое, по его мнению, пагубно воздействовало на когнитивные способности человека:
А теперь этот язык стал тем ключом, что откроет вам двери во все дома и все города. Где бы вы ни путешествовали, от Лиссабона до Санкт-Петербурга, от Стокгольма до Неаполя, если вы говорите по-французски, вас везде поймут. Один этот язык избавит вас от необходимости знать множество других, которые переполнят вам память словами, тогда как память гораздо лучше заполнять [другими] вещами[196].
Вероятно, наиболее важным этапом, способствовавшим установлению концептуальной связи между французским языком и представлениями о цивилизованности, стал 1783 год, когда Королевская Берлинская академия наук и искусств объявила конкурс, участникам которого предлагалось объяснить, почему французский язык стал универсальным, назвать причины его особого положения, а также ответить на вопрос, сможет ли он удержать свои позиции. Премию получили два автора – Иоганн Кристоф Шваб и Антуан Ривароль, написавший работу «Рассуждение о всеобщем характере французского языка», благодаря которой он приобрел особую известность. Ривароль, конечно, объясняет распространение французского внешними причинами. Среди них географическое положение Франции, которая расположена в центре, между севером и югом, раннее развитие прессы в этой стране, высокая репутация французских академий, промышленность, мода, поддержка Людовиком XIV искусства и науки. Однако при этом приведенные Риваролем доводы в пользу того, что французский по праву является универсальным языком, окрашены лингвистическим эссенциализмом, то есть убеждением, что язык обладает имманентными неизменными свойствами. Многие перечисленные им качества составляют «гений» (génie) языка. Как и французам, французскому языку свойственны «грация» и «учтивость». Он «мужественный», «уверенный», «честный» и «рассудительный». Его порядок слов (подлежащее, сказуемое, дополнение) «естественный». Из этой естественности проистекает ясность (clarté) – качество, столь неотъемлемое для этого языка, что, по знаменитому высказыванию Ривароля, все, что не ясно, не является французским («ce qui n’est pas clair n’est pas français»). Он считал, что по своему устройству французский язык является идеальным средством для совершенствования общества на пути к цивилизованности, и полагал, что его следует считать не просто языком французского народа, но всеобщим достоянием, «языком человечества»[197].
Еще один важный фактор помог распространению французского языка за границей, но он не был связан с привлекательной жизнью французского света, авторитетом французской литературной культуры или теми свойствами, которые приписывали французскому языку и французскому народу. Французский язык распространяли эмигранты. Многие из них, поселившиеся в странах Северной Европы (в особенности в Англии, Нидерландах и Пруссии), были гугенотами, то есть французскими протестантами, бежавшими из Франции из-за религиозных преследований, начавшихся после отмены Людовиком XIV в 1685 году Нантского эдикта, который прежде предоставлял им свободу вероисповедания в католическом государстве «короля-солнца». В XVIII веке русские начали путешествовать за границу, где иногда встречали франкоговорящих протестантов. Вероятно, одним из первых этот опыт получил князь Иван Андреевич Щербатов, которого Петр Великий отправил в Лондон изучать навигацию (вероятнее всего, в 1716 году). Он пытался поступить на службу в Королевский военно-морской флот, но получил отказ, после чего активно взялся за изучение французского языка: брал частные уроки у учителя, который, вероятно, был беженцем-гугенотом и много общался с местными французскими эмигрантами[198]. Некоторые гугеноты (скорее всего, не больше 500 человек[199]) переселились в Россию, когда страна открылась западному влиянию, и поступили там на службу (в основном они шли служить в армию или на флот или работали в медицинской сфере).
Однако бо́льшая часть французских эмигрантов в России XVIII века были католиками. Они были специалистами в таких областях, как военное и инженерное дело, производство шелка, гобеленов, зеркал и предметов роскоши, косметики. Знания и умения французов стали ассоциироваться с самыми разными видами деятельности – от парикмахерского дела до кулинарии и обучения, – и французские специалисты оказались очень востребованы в среде европейской аристократии. Католическая эмиграция также способствовала распространению французского языка, потому что эмигранты повсеместно пользовались им в профессиональных целях. В течение XVIII столетия несколько тысяч французских католиков переселились в Россию, которая, принимая их, следовала примеру других европейских стран[200].
Безусловно, существовало много других причин распространения французского языка в Европе в XVII и XVIII веках, которые объясняют, почему французский язык был в разной степени усвоен разными странами и регионами, каким целям он служил, какие ассоциации вызывал, какой репутацией пользовался и насколько сильное сопротивление он вызывал в обществе. Зачастую некоторую роль в этом процессе играли династические браки с членами французских аристократических семей, как в случае с Пьемонтом и Польшей[201]. Порой распространению французского способствовало присутствие иезуитов и членов других религиозных орденов в образовательных учреждениях, что имело место в конце XVII столетия в Парме и Сиене, в XVIII веке – в Мадриде, а также в Варшаве, Кракове, Люблине и Вильне (нынешнем Вильнюсе)[202]. Французские книги распространялись посредством весьма развитой международной книжной торговли, важнейшим центром которой были прежде всего Нидерланды и Лондон. Интерес к французскому языку усиливался и под влиянием педагогических идей, для чего особое значение имели понятие honnête homme и популярность Grand tour – образовательного путешествия по Европе, считавшегося кульминацией в воспитании благородного человека[203]. В последнем десятилетии XVIII века и первых двух десятилетиях XIX столетия продвижение наполеоновской Великой армии естественным образом повлияло на распространение французского языка и привело к тому, что многие были вынуждены выучить этот язык (примерами могут послужить Нидерланды, Пьемонт и другие регионы Италии[204]), хотя иностранное вторжение также вызывало и сопротивление языку захватчика. Распространению французского языка в румынских землях способствовало присутствие в Молдавии и Валахии русских офицеров, знавших французский язык. Они появились там во время русско-турецких войн конца XVIII века; впоследствии, начиная с середины XIX столетия, многие представители формирующейся румынской интеллигенции отправлялись во Францию и изучали там французский[205]. Все перечисленные факторы в совокупности обеспечили французскому господствующее положение среди других живых европейских языков в XVIII – начале XIX века. Поскольку влияние некоторых из этих факторов было существенным в разных частях европейского континента, элита по всей Европе, включая русский двор и русских дворян, приобрела определенное чувство общности культуры, представлений и опыта.
Таким образом, XVIII век стал важной вехой в истории распространения французского языка как в Европе в целом, так и в России в частности. Франкофония в значительной мере ассоциировалась с придворной жизнью XVIII века, с деятельностью монархов, стремившихся показать себя просвещенными, а также с космополитичной европейской аристократией, расцвет которой пришелся на эту эпоху. Безусловно, именно в XVIII веке в наибольшей степени ощущалось влияние французских культуры и языка на культуру Просвещения, в это же время дискурс об универсальности французского языка достигает пика своего развития. Во многих странах за границами Франции, в том числе и в России, аристократы и в XIX веке продолжали вести образ жизни, сложившийся во Франции времен Старого порядка, а французский язык сохранил статус языка двора, высшего общества и международного lingua franca. Однако появление романтизма, отвергавшего постулаты Просвещения, и националистический подъем первой половины XIX века изменили отношение к языку: они привели к осознанию ценности национальных языков и вызвали сопротивление господству французского. Наряду с этим во многих европейских странах позиции дворянства – сословия, для которого французский имел особую ценность как показатель престижа, – были ослаблены вследствие экономических, социальных и политических изменений в эпоху промышленной революции. По этим причинам в XIX веке франкофония стала приобретать новые коннотации, хотя французский продолжал служить международным языком-посредником для авторитетных идей и европейских культур, несмотря даже на то, что по мере развития их самосознания социальные группы, стоящие на более низких ступенях социальной лестницы, стали более критически относиться к французскому как культурному капиталу элиты.
Вестернизация России в XVIII веке
В этом разделе мы хотели напомнить читателю некоторые хорошо известные факты о европеизации или вестернизации России в XVIII веке, которая представляет важный контекст нашего исследования.
Французский язык и французская культура, с которой он ассоциировался, пришли в Россию, когда страна перестала быть изолированным, обращенным внутрь себя государством и стала превращаться в великую державу, претендующую на статус европейской и приобретающую силу благодаря новым связям с западным миром[206]. Отчеты, составленные в XVI–XVII веках дипломатами, посетившими Московию (например, австрийцем Сигизмундом фон Герберштейном, англичанином сэром Джайлсом Флетчером и немцем Адамом Олеарием), содержат описание диких земель на краю Европы, где под властью деспотичного монарха существуют раболепное дворянство и тупой, смиренный народ[207]. Так, на пуританина Дж. Флетчера Московия, в которой он побывал в 1588–1589 годах, произвела впечатление варварской страны, деспотического антипода елизаветинской Англии. Он замечал, что образ правления у них «чисто тиранический» и «весьма похож на турецкий»[208]. Жители здесь страдают от отсутствия законов и испорчены ложной религией. В экономическом отношении страна отстает от европейских государств, потому что богатство сосредоточено в руках монарха и его приближенных, вследствие чего у народа нет стимула трудиться. Нравы людей, живущих здесь, развращены, ведь «все государство преисполнено <…> грехами» и в нем «нет законов для обуздания блуда, прелюбодеяния и других пороков»[209]. С нашей точки зрения, важнее всего то, что контакты Московии с западноевропейским миром (в отличие от контактов с Речью Посполитой, православными странами Восточной Европы и, конечно, татарскими ханствами на востоке и юге) были незначительными, по крайней мере до второй половины XVII века. Флетчер писал, что русских, пытавшихся попасть за границу, могли подвергнуть суровым наказаниям вплоть до смертной казни, а посещение иностранцами Московии строго регулировалось:
Вы редко встретите Русского путешественника, разве только с посланником или беглого; но бежать отсюда очень трудно, потому что все границы охраняются чрезвычайно бдительно, а наказание за подобную попытку, в случае, если поймают виновного, есть смертная казнь и конфискация всего имущества. <…> По той же причине не дозволено у них иностранцам приезжать в их государство из какой-либо образованной державы иначе, как по торговым сношениям, для сбыта им своих товаров и для получения через них чужеземных товаров[210].
В XVII веке Московия могла показаться европейским путешественникам местом бесконечно далеким и чуждым. Вероятно, весьма характерным для русского мировоззрения, с которым столкнулись западные люди, было то, что единственный вопрос о жизни по ту сторону западных границ России, который в 1660-х патриарх Никон задал гостю из Голландии, был о церковных колоколах в Амстердаме[211].
Безусловно, наблюдения иностранцев, касающиеся отличий Московии от австрийских и немецких земель или от Англии в раннее Новое время, не отменяют того факта, что еще до XVIII века Московия успела познакомиться с западными обычаями и культурой. Церковная архитектура XVII века испытала на себе влияние западного стиля барокко. В Московию привозили часы и кареты. Была заимствована портретная живопись[212]. Появились ученые люди, такие как поэт и драматург Симеон Полоцкий[213]. Государственные деятели, такие как Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, учили иностранные языки и выступали за расширение экономических и культурных контактов с Западом[214]. Начали формироваться личные библиотеки книг на иностранных языках. Контактов с западными странами стало больше во время царствования Алексея Михайловича. Основными посредниками между Россией и Западом, влияние которого постепенно усиливалось, стали Киев и Левобережная Украина[215], отошедшие к России от Речи Посполитой после заключения в 1667 году Андрусовского договора. Таким образом, вестернизация XVIII века, о которой пойдет речь дальше, представляла собой ускорение процесса, который начался раньше, а не полную смену старого порядка новым, как это часто пытались представить Петр и его сподвижники (это же представление можно обнаружить в работах, где петровские реформы называются «революцией»[216]). Тем не менее изменения, произошедшие в России с того момента, как Петр в 1696 году стал единоличным правителем страны, действительно, были весьма обширными.
Основные мотивы, побудившие Петра приступить к модернизации отстающего государства, на престол которого он взошел, были прагматическими: модернизация была необходимым условием для дальнейшего построения империи, которое, как и западные культурные инновации, активно развивалось уже в XVII веке. По этой причине, говоря о вестернизации России в XVIII столетии, мы считаем необходимым учитывать и сопутствующее ей расширение территории государства, особенно в период правления Петра и Екатерины II[217]. Это расширение происходило в основном за счет территорий, принадлежавших Швеции, Турции и Речи Посполитой. Так, Россия победила в продолжительной Северной войне, в которой противником Петра была Швеция (1700–1721). Победа русской армии над шведами под Полтавой в 1709 году была поворотным моментом для русской нации[218]. В результате этой победы Россия приобрела статус крупной североевропейской державы, имеющей выход к Балтийскому морю. Российские границы были значительно расширены за счет территорий вдоль северного берега Черного моря и территорий на Северном Кавказе, отошедших к России в результате двух русско-турецких войн (1768–1774 и 1787–1791), которые вела Екатерина. В 1783 году Россия присоединила Крым, который – с формальной точки зрения – был независимым с 1774 года, а до этого подчинялся Османской империи. На западе большие части польской территории в Белоруссии, Ливонии, Литве и северо-западной Украине отошли к Российской империи в результате трех разделов Речи Посполитой между Пруссией, Россией и Австрией в 1772, 1793 и 1795 годах (Австрия участвовала только в первом и третьем разделах).
Это расширение территории, несомненно, воспринималось как процесс построения империи и было предметом гордости для россиян. В 1721 году, после триумфальной победы в войне со Швецией, Петр принял титул императора, заимствованный из латыни, вероятно следуя примеру правителей Священной Римской империи, титул которых имел наибольший вес в системе международных отношений того времени[219]. Военная мощь и воинская отвага, лежащие в основе империи, многократно восхвалялись русскими литераторами XVIII века вне зависимости от их идей и политических взглядов. Важную роль в этом отношении играли оды (например, М. В. Ломоносова и Г. Р. Державина) и эпическая поэзия (например, М. М. Хераскова). Наиболее ярким сочинением, воплотившим традицию восхваления имперских завоеваний, является двенадцатитомная, хотя и незавершенная «История государства Российского» (1818–1829), написанию которой Н. М. Карамзин посвятил последние двадцать пять лет своей жизни (ил. 2). В ней Карамзин утверждал, что монархи позднесредневековой Московии, в особенности Иван III (годы правления 1462–1505), которого он возвеличивал, вели Россию к славе, которая должна была затмить собой даже славу Древнего Рима[220].
Ил. 2. В. А. Тропинин. Портрет Н. М. Карамзина. Копия портрета из издания: Русские портреты XVIII и XIX веков. Издание великого князя Николая Михайловича Романова: В 5 т. Т. 1. М., 1999. С. 58, предоставлена Российской национальной библиотекой.
Основную роль в строительстве империи играла модернизация в военной сфере. С помощью многочисленных иностранных наемников и советников Петр реорганизовал свою армию, обучил ее и дал ей новое вооружение. Он также построил флот, благодаря которому Россия стала морской державой на Балтийском, а впоследствии и на Черном море, и в Восточном Средиземноморье[221]. Наряду с этим он основал институты и ввел практики, целью которых было целесообразное распределение человеческих ресурсов, увеличение налогов и развитие технических возможностей, необходимых для ведения военных действий, а также превращение России в одну из главных европейских держав. Он произвел изменения и на административном уровне: распределил чиновников по «коллегиям», организованным в соответствии с моделями, взятыми на вооружение у Швеции и других европейских стран. Коллегии начали свою работу в 1719 году, каждая отвечала за одно из важнейших направлений государственной деятельности, например ведение иностранных дел, торговлю, управление государственными доходами. В 1722 году Петр учредил созданную по примеру датских, прусских и шведских аналогов «Табель о рангах», которая приписывала лиц, состоящих на государственной службе (военной, государственной или придворной), к одному из четырнадцати классов. При этом чины, перечисленные в табели (например, адмирал, генерал, камергер и канцлер), как и новые титулы (например, барон или граф), указывали на то, что, проводя свои реформы, Петр ориентировался на западные образцы. Стремительный технический прогресс, во многом обеспеченный силами иностранцев, позволил резко увеличить добычу угля и железной руды, организовать новые типы производства и реализовать серьезные строительные проекты, в первую очередь строительство новой столицы на берегу Финского залива, Санкт-Петербурга, которое началось в 1703 году. В целях развития науки и культуры и распространения знаний были учреждены научные и учебные заведения, включая Академию наук, которая была открыта в Санкт-Петербурге вскоре после смерти Петра в 1725 году, причем консультантом при ее создании выступил немецкий математик и философ Готфрид Вильгельм Лейбниц.
Как замечает П. Рузвельт, в основе петровских реформ лежала идея о том, что технологии и культура неразделимы: Петр «пришел к убеждению, что, чтобы мыслить по-европейски – то есть понимать, как устроены западные технологии, военные методы и система управления государством, – русские должны научиться вести себя по-европейски». По этой причине он решил заставить русских дворян вести себя и одеваться по-новому[222], а некоторых подданных обязал посещать общественные собрания[223]. Социальная и культурная вестернизация продолжилась и во время правления императриц, которые занимали российский престол почти все время после смерти Петра в 1725 году вплоть до конца столетия. И действительно, в годы правления Елизаветы Петровны и в особенности Екатерины II создание образа России как мощной державы, которая может похвастаться изысканным обществом и культурой западного типа, было важной задачей империи. Приемы, организованные на французский манер, soirées, салоны и балы в конце концов стали привычной частью жизни элиты. Женщины, которые в допетровской Московии, по замечанию Герберштейна[224], вели затворническую жизнь, стали заметными, вызывающими восхищение членами общества. Начиная с 1699 года Петр издавал указы, обязывавшие дворян носить европейскую одежду, и ко времени правления Екатерины II представители русской элиты благодаря модным костюмам, прическам и украшениям выглядели совсем как европейцы. Расширение лексического значения русского слова «свет» (в смысле «мир»), которое теперь стало обозначать и высшее общество (фр. monde), было отражением этих социальных и культурных изменений. Заметным было и развитие литературы. В XVIII веке, особенно во второй его половине, русские авторы (А. Д. Кантемир, М. В. Ломоносов, А. П. Сумароков, Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин, Н. М. Карамзин, И. А. Крылов и многие другие) создали русские образцы жанров классической и современной европейской литературы, таких как сатира, размышление, трагедия, комедия, элегия, метафизическая поэзия, басня, ода, эпическая поэма, а также беллетристика. Начала развиваться периодическая печать, в которой находило выражение только зародившееся общественное мнение. Екатерина II сама поощряла ее развитие, по крайней мере до тех пор, пока безобидные насмешки над общественными нравами не начали перерастать в подобие критики общественного порядка и органов политической власти.
Знакомство с иностранными языками в России XVIII века
Приобщение России к западной культуре и ее практикам неизбежно влекло за собой знакомство с живыми западноевропейскими языками: голландским, английским, французским, немецким, итальянским, – о которых практически не имели представления жители Московии XVII века, где еще не существовало университетов[225]. Эти языки служили посредниками, позволявшими русским людям XVIII века получать информацию о темах, которые теперь представляли для них живой интерес: оружие, военная стратегия, кораблестроение, навигация, фортификация, гражданская архитектура, математика, медицина, государственное управление, налогообложение, горное дело, промышленное производство, педагогика, география, история, литература, светское общество, одежда, кухня, вкусы, мода и способы проводить досуг. Возникла большая потребность в знающих иностранные языки людях, которые могли бы познакомить русских с огромным количеством печатных источников, содержавших сведения об этих практических вопросах, не говоря уже о литературном, художественном и музыкальном наследии Запада. Задача была непосильной, и, если русские хотели приобщиться к этому широкому полю информации, у них не оставалось иного выбора, кроме как научиться читать эти источники в оригинале или в переводе на язык-посредник, которым чаще всего в XVIII веке был французский. Во всяком случае, чтобы общаться с иностранными военными, моряками, инженерами, архитекторами, дипломатами, врачами, учеными и учителями, которые наводнили обновленную Россию после 1700 года, русским требовалось умение разговаривать на других европейских языках, так как мало кто из этих иностранцев говорил по-русски. Для того чтобы получить образование за рубежом, русский человек также должен был хорошо владеть языком страны, в которую направлялся, или, по крайней мере, одним из широкоупотребительных международных языков того времени, например латинским, французским или немецким.
Однако нарастающая коммуникация между Россией и Западом в XVIII веке развивалась не только в одном направлении, и иностранные языки были необходимы не только для того, чтобы запустить процесс восприятия иностранной культуры – процесс, который в дальнейшем, особенно в XIX веке, сформировал особую русскую культуру Нового времени. Знание иностранных языков дало русским еще и возможность изменить представления западных людей о своей стране, представив им образ государства, радикально отличавшийся от того, что те могли обнаружить в текстах Герберштейна, Флетчера, Олеария, равно как и других авторов, которые сами не бывали в России, но с готовностью воспроизводили негативные стереотипы[226]. Послепетровская Россия позиционировала себя как «европейская держава» – эти слова можно встретить в «Наказе» Екатерины II[227], – которой правит просвещенный монарх. В течение XVIII столетия российский двор и элита добивались, чтобы другие европейцы признали Россию цивилизованным членом их сообщества. Владение самыми широкоупотребительными языками этого сообщества было важным условием для такого признания, оно давало Российской империи право претендовать на столь же высокий статус в культурной сфере, который она обеспечила себе в сфере дипломатической благодаря военным успехам. Владение этими языками позволило русским писателям войти в европейские литературные круги и познакомить западную публику со своим творчеством как посредством переводов, так и в личной переписке на языке, понятном иностранным читателям. Таким образом, новоприобретенная способность русских говорить на иностранных языках и активно использовать их сильно изменила восприятие России другими народами и самовосприятие русских как на национальном, так и на личном уровне[228].
Многие иностранные языки появились в России в XVIII веке, когда монархи пытались вывести государство на путь ускоренной модернизации, русские дворяне перенимали западные практики и показывали западному миру новый образ своей страны, а количество торговых и личных контактов с Западом увеличилось благодаря участившимся путешествиям русских за границу и иностранцев в Россию. Голландский – язык великой морской державы, флот и коммерческие достижения которой произвели огромное впечатление на Петра, – был полезен в сфере судостроения, что подтверждают языковые заимствования того времени[229]. Немецкий язык находил применение во многих практических сферах, таких как металлургия, горное дело и медицина[230]. На протяжении большей части XVIII века ему обучали так же активно, как и французскому, а в некоторых учебных заведениях немецкому уделяли даже больше внимания, чем французскому языку[231]. Немецкий широко использовался в Академии наук, где большинство ученых в первое время были выходцами из немецкоговорящих стран[232]. В екатерининскую эпоху этот язык осваивали наиболее талантливые студенты, которых отправляли учиться в университеты Германии. И что самое главное, немецкий был родным языком значительной части российской имперской элиты, особенно семей из прибалтийского региона, оказавшегося под властью Российской империи в результате расширения ее границ в XVIII веке. (Прибалтийско-немецкие семьи проявляли исключительную преданность российской императорской власти и снабжали ее огромным количеством военного и гражданского персонала, что особенно впечатляет, если учесть, насколько незначительную часть от общего населения империи составляло это сообщество.) Итальянский также стал частью языкового репертуара некоторых русских дворян, что отчасти объясняется его важной ролью в сфере изобразительных искусств (итальянскому обучали, например, студентов Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге) и его первостепенным значением для музыки, которое не было утрачено даже после того, как французский занял доминирующее положение в других сферах европейской культуры. Кроме того, в Средиземноморском регионе итальянский был важным языком дипломатии, так как служил lingua franca в деловых контактах европейцев с турецким двором[233]. К английскому языку некоторые группы русского дворянства также относились с уважением, особенно высоко он ценился в конце XIX века людьми, которые желали продемонстрировать свое социальное превосходство, однако при этом он не имел первостепенного значения, как можно было ожидать, учитывая существенную роль дипломатических и торговых контактов Британии с Россией в XVIII веке и англоманию, периодически возникавшую в среде русского дворянства, особенно в начале XIX столетия[234]. Латынь тоже использовалась в России XVIII века, она была языком учености в Академии наук, на латыни составлялись девизы и надписи (например, надпись на постаменте медного всадника в Санкт-Петербурге – памятника, воздвигнутого Екатериной II Петру I)[235].
Несмотря на то что к моменту смерти Петра Великого в 1725 году французский уже, по всей видимости, стал основным языком международной коммуникации в Европе и на то что к этому времени российская элита начала высоко ценить знание иностранных языков, люди, принадлежавшие к этой элите, не отдавали предпочтение французскому перед другими упомянутыми выше языками вплоть до середины XVIII века. Однако во второй половине столетия симпатии русской аристократии уже оказались полностью на стороне французского языка и французской культуры. По замечанию Д. Дидро, в Европе не было нации, которая поддалась бы французскому влиянию – в отношении как языка, так и поведения – столь же быстро, как русская[236]. Несомненно, одной из причин доминирования французского в России послужило то, что императрица Елизавета Петровна, которая с детства при дворе Петра училась этому языку у француженки, прекрасно им владела[237]. Более того, в начале правления Елизаветы французский язык был важен для нее в политическом смысле: он позволил ей дистанцироваться от немецкоговорящих претендентов на престол после смерти императрицы Анны Иоанновны в 1740 году, а впоследствии сформировать двор, принципиально отличавшийся от двора Анны Иоанновны, фавориты которой, столь ненавистные Елизавете, и главные государственные деятели (Э. И. Бирон, Х. А. Миних и А. И. Остерман) были немцами[238]. Однако и после этого Елизавета Петровна не переставала отдавать предпочтение французскому языку. Во времена ее правления при дворе французские театральные труппы часто играли французские комедии[239], а посетивший Россию в 1755 году француз Ла Мессельер заметил, что придворные там говорят по-французски «comme à Paris» (как в Париже)[240]. В середине века владение французским и привычку говорить дома на этом языке можно было наблюдать в некоторых дворянских семьях (например, у Воронцовых, Шуваловых, Разумовских), чьи представители были приближенными Елизаветы Петровны и сделали весьма успешные карьеры во времена ее правления[241].
Кроме важной роли, которую французский язык играл в придворной жизни, были и другие факторы, способствовавшие его распространению в среде элиты в середине столетия. Два автора, творчество которых имеет важное значение для истории русской литературы XVIII века, – поэт, автор трактатов о стихосложении и переводчик Василий Кириллович Тредиаковский и сатирик и дипломат Антиох Дмитриевич Кантемир – провели долгое время в Париже: первый в 1727–1730 годах учился в Сорбонне, а второй с 1738 года до своей кончины в 1744 году руководил российской дипломатической миссией. Возможно, их знакомство с французским языком обусловило то, что недавно сформировавшееся в России литературное сообщество уже в начале своего существования обратило внимание на Францию. В любом случае именно у французской литературы русские авторы XVIII века, заложившие основы национальной светской литературы, переняли принципы эстетической парадигмы классицизма и заимствовали основные жанровые модели. На политическом уровне хорошие дипломатические отношения между Россией и Францией установились в начале Семилетней войны (1756–1763), которая стала поворотным моментом, когда Россия начала активно позиционировать себя как ведущая европейская держава. Тот факт, что Екатерина II, взошедшая на престол после краткого периода правления ее мужа Петра III, который унаследовал трон после смерти Елизаветы Петровны в 1761 году (или в начале 1762 по новому стилю), сама была иностранкой, также способствовал тому, чтобы обратить взгляды русских на западный мир, где французская культура была в большом почете[242].
Однако среди всех причин, по которым французский стал самым важным иностранным языком в среде российской элиты XVIII века, основной, вероятно, было то, что дворяне из смирных слуг всемогущего монарха превратились в членов сообщества, обладающего самосознанием и собственной инициативой. Будучи главной силой, с помощью которой власть проводила процесс вестернизации России, дворяне (по крайней мере, высшее и отчасти среднее дворянство) подражали европейцам и учились у них тому, как, в том числе с помощью речи, можно было демонстрировать свою принадлежность к определенной социальной группе. Начиная с середины XVIII века владение французским стало важнейшим навыком, необходимым для улучшения или поддержания своего положения в обществе, и дворяне были готовы вкладывать много сил и ресурсов в изучение этого языка, стремясь к тому, чтобы их дети приобрели культурный капитал (термин П. Бурдье), который впоследствии мог быть преобразован в капитал материальный, так как знание французского было необходимо для того, чтобы занимать высокие посты и добиться успеха при дворе и в высшем обществе. Однако прежде чем подробнее рассмотреть эту социальную трансформацию и проанализировать ее влияние на культуру, мы должны сделать два замечания о распространении французского языка в среде русского дворянства XVIII века.
Во-первых, процесс перенесения практик и продуктов западной культуры в Россию происходил при участии множества посредников разных национальностей, что не удивительно, принимая во внимание огромное количество социальных и культурных изменений, которые претерпела российская элита. Если говорить о французах или франкоязычных посредниках, то среди них были дипломаты из аристократических семей, такие как барон Мари-Даниэль Бурре де Корберон и Луи-Филипп граф де Сегюр, другие члены высшего дворянства, такие как принц Шарль-Жозеф де Линь, и такие европейские интеллектуалы, как энциклопедист Дени Дидро, родившийся в Регенсбурге и живший долго в Париже журналист и художественный критик Фридрих Мельхиор Гримм, будущий писатель и представитель предромантизма Жак-Анри Бернарден де Сен-Пьер и будущий историк Пьер-Шарль Левек. Возможности сбыта товаров в России, появившиеся с развитием у российского дворянства новых вкусов, привлекали многих франкоязычных эмигрантов различных профессий. Среди них были издатели и книгопродавцы[243], удовлетворявшие спрос на иностранную литературу и западную периодику, торговцы галантерейными товарами, портные, модистки, парикмахеры, парфюмеры, мебельщики, виноторговцы, повара, кондитеры и другие специалисты. Представить себе разнообразие коммерческих задач, решением которых занимались такие посредники, и, как следствие, степень обновления русской материальной культуры можно, обратившись к перечню товаров, привезенных в 1747 году из Руана в Санкт-Петербург французским гугенотом Жаном Дюбиссоном, который был известен в основном как виноторговец, но при этом явно учитывал спрос на другие продукты. Среди его товаров были дамские гарнитуры, мантильи, костюмы для маскарадов, шляпы, кресла, канапе, комоды, зеркала, щетки, трости, кисти, темляки на шпаги, чулки, пудра, гребни, гвозди, булавки, иглы, чернильницы и многое другое[244]. Французский дипломат Ла Мессельер с ужасом заметил, что «у многих знатных господ живут беглецы, банкроты, развратники, и немало женщин такого же рода, которые, по здешнему пристрастию к французам, занимались воспитанием детей значительных лиц»[245]. Все, кто приезжал или эмигрировал в Россию, каковы бы ни были их происхождение или личные мотивы, побудившие их отправиться туда, были прямо или косвенно причастны к распространению французского в этой стране. Многие из них, независимо от педагогической квалификации, становились преподавателями в таких учебных заведениях, как Сухопутный шляхетный кадетский корпус (основан в Санкт-Петербурге в 1731 году), в разного рода пансионах, появившихся в Санкт-Петербурге и Москве, или устраивались учителями и гувернантками в дворянские дома[246].
Во-вторых, энтузиазм, с которым дворянство осваивало иностранные культурные практики и использовало западные товары, заставляет нас задуматься о том, в какой степени вестернизация XVIII века, по крайней мере в сфере культуры, была продиктована обществу императорской властью. Есть основания предполагать, что в петровскую эпоху вестернизация во всех сферах в основном насаждалась свыше и была обусловлена волей государя, а не духом предпринимательства и любознательностью членов общества. Здесь можно вспомнить упомянутый Е. В. Анисимовым принцип Петра Великого: «Прогресс достигается насилием»[247]. Однако в период после смерти Петра дворянство стало более независимым в интеллектуальном и культурном отношении. По замечанию И. И. Федюкина, вследствие изменения представлений о человеческой природе дворяне в глазах государства (как и в своих собственных) превратились в сословие, представители которого благодаря «наличию у них амбиций и честолюбия могли претендовать на право самостоятельно распоряжаться своими собственными жизнями и участвовать в принятии решений касательно общего блага». Честолюбие и «анкуражирование» гораздо сильнее, чем принуждение, способствовали тому, что дворяне из слуг превратились в автономных субъектов[248]. Таким образом отдельные люди, как и государство в целом, начали проявлять инициативу в важных вопросах[249]. Деятельность дворянства, безусловно, не противоречила ориентированной на Запад политике власти или «государственному проекту европеизации», если воспользоваться выражением А. Шёнле и А. Л. Зорина[250]. Однако со временем дворянам на пути к изменениям уже больше не требовалось (или почти не требовалось) поощрение власти, особенно в таких сферах, как образование детей, развитие определенных форм социальных отношений и речевого поведения. Свидетельства, к которым мы обратимся, демонстрируют, насколько восприимчивым русское высшее дворянство было по отношению к западным идеям и культуре и насколько сильно вследствие этого обогатилась культурная жизнь общества, что невозможно объяснить только лишь стремлением дворянства исполнить волю властей. В частности, серьезные и настойчивые попытки овладеть иностранными языками, находившие выражение в том воспитании, которое дворяне по возможности давали своим детям, приводят нас к мысли о том, что формирование по-европейски образованной, но патриотически настроенной элиты не было просто учреждено повелением сверху, а согласовалось с желаниями и стремлениями дворянства. Более того, считается, что государство само поощряло «личную инициативу, при этом навязывая дворянству политические обязанности – участие в управлении страной»[251], о чем мы подробнее поговорим в следующем разделе.
Золотой век дворянства
Петр Великий требовал, чтобы начиная с пятнадцати лет дворяне несли пожизненную службу, а из учрежденной им Табели о рангах следовало, что построение карьеры дворянина зависело в большей степени от его заслуг перед государством, нежели от происхождения[252]. Однако последующие правители начали смягчать чрезмерные требования, которые Петр предъявлял к дворянству. В манифесте 1736 года «О порядке приема в службу шляхетских детей и увольнения от оной» Анна Иоанновна ограничила срок службы двадцатью пятью годами и повысила возраст призыва дворян на службу до двадцати лет; кроме того, она предоставила им право оставлять одного или нескольких сыновей дома, чтобы они управляли имением[253]. Затем, в годы правления Елизаветы Петровны, был разработан проект закона, определявшего дворянские привилегии, в том числе экономические – исключительное право на владение металлургическими и винными заводами, на получение займов и ссуд[254]. Наиболее масштабным документом в этом отношении был манифест «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству», изданный Петром III в 1762 году, спустя меньше чем два месяца после его восшествия на престол и примерно за четыре до того, как он был свергнут Екатериной II и лишен жизни. Во вступительной части манифеста отмечается, что суровые меры, которые Петр Великий применял к своим подданным, хотя и принесли России много пользы, познакомив дворян с благами просвещения и приучив их к прилежной службе, теперь могут быть ослаблены. Документ освобождал дворян от обязательной военной и гражданской службы и давал им право свободно выезжать за границу (хотя для путешествий им все еще необходимо было получать разрешение, поскольку для выезда требовался паспорт[255]). Дворяне, имевшие звание офицера, могли уйти в отставку, однако во время войны или за три месяца до начала военной кампании обязаны были оставаться на службе (Статья 1). Дворяне, не дослужившиеся до офицерского звания, могли получить отставку, прослужив двенадцать лет (Статья 8). В пункте манифеста, иллюстрировавшем представление о дворянстве как о европейском сословии, дворянам разрешалось служить другим европейским правителям и сохранять звание, полученное ими за границей, по возвращении в Россию (Статья 5). Дворянин был обязан по требованию властей вернуться в Россию под угрозой конфискации его имения (Статья 4), но кроме этого на дворян налагалось всего одно обязательство – дать своим детям образование, отправив их в учебные заведения России или других европейских стран или наняв им хороших учителей (Статья 7)[256].
В 1785 году Екатерина II издала собственную «Жалованную грамоту дворянству», подтверждающую данные дворянам Петром III привилегии, такие как право увольняться со службы, выезжать за границу и служить другим европейским державам (Статьи 17–19). Более того, грамота Екатерины II давала им куда больше послаблений и привилегий, чем манифест Петра III. Дворянское достоинство передавалось по наследству, а лишить его могли только человека, совершившего особые преступления, которые считались противоречащими статусу дворянина (4–6). Дворянина могли лишить дворянского достоинства, чести, жизни или имущества только через суд, вершимый людьми того же сословия (8–12). Дворяне были освобождены от телесных наказаний (15) и личных налогов (36). Они могли распоряжаться своей собственностью по своему усмотрению (22). Им было дано право покупать деревни (26), продавать оптом все, что растет или производится в их имениях (27), устраивать фабрики и заводы на принадлежащей им земле (28), добывать в своих владениях полезные ископаемые (33), а также иметь, покупать или строить дома в городах (30)[257].
Манифест Петра III и грамота Екатерины II считаются важными вехами в истории русского дворянства, поэтому мы не можем не учитывать их в своем исследовании речевого поведения, то есть использования дворянами определенного языка и их отношения к нему. Насколько сильно появление этих законодательных актов изменило образ жизни дворян? Как они изменили представление дворян о себе? Одинаково ли повлияли эти законы на всех дворян? И в какой степени эти меры властей (то есть действия сверху) в противовес инициативам самих дворян (то есть спонтанным действиям снизу) послужили причиной преобразования дворянства в сообщество западного типа?
Безусловно, манифест и грамота способствовали тому, что высшие слои дворянства стали более образованными (манифест Петра III открыто призывал их к этому), в результате чего у них развилось особое чувство собственного достоинства (выражаясь по-французски, amour-propre, от чего произошла русская калька «самолюбие»)[258]. Они много путешествовали, пользуясь свободным временем и доходом, получаемым с имений, где трудились крепостные. Если в петровскую эпоху дворяне выезжали за границу в основном по делам, связанным с их профессией, или по указанию монарха, то в годы правления Екатерины II они чаще путешествовали по собственному желанию, подражая западным людям, отправлявшимся в гран-тур. Они перенимали привычки дворян других стран. Сопоставляя русских аристократов с австрийскими, Д. Ливен отмечает, что они «читали те же книги, носили похожую одежду, у них были одинаковые развлечения, они легко общались друг с другом по-французски в модных салонах и на курортах по всей Европе»[259]. Особенно важным, с нашей точки зрения, был тот факт, что русские дворяне переняли манеру говорить и – без преувеличения, как между делом замечает Д. Ливен, – язык своих новых европейских собратьев. Владение французским языком было очень важно для молодых русских дворян и дворянок, наряду с утонченными манерами, способностью вести непринужденную беседу, умением рисовать и танцевать, а также фехтовать (в случае с юношами) или петь и играть на музыкальных инструментах (в случае с девочками). Оно было залогом вхождения в ряды европейской социальной элиты. Более того, приобщение к этой элите влекло за собой знакомство с принятыми ею законами чести и нормами социального поведения. Доброе имя, иметь которое стремился каждый уважающий себя благородный человек, стало ключевым компонентом социальной идентичности русских дворян, как и дворян английских. При необходимости они были готовы защищать свою честь на дуэли, считая, что потерять здоровье или жизнь менее страшно, чем потерять репутацию, то есть свой культурный капитал, отказавшись от поединка.
Может возникнуть вопрос, многие ли русские дворяне могли в полной мере использовать возможности, открывшиеся им в связи с получением новых юридических прав во второй половине XVIII века. М. Ламарш Маррезе считает, что для многих дворян XVIII столетия эти возможности были ограничены даже после 1762 года из-за долгов и зависимости от покровителей[260]. И действительно, согласно статистике, приведенной Ириной Викторовной Фаизовой, после 1762 года число дворян, воспользовавшихся возможностью уйти в отставку, значительно не возросло[261]. Е. Н. Марасинова также задается вопросом, стало ли появление манифеста 1762 года по-настоящему поворотным моментом для дворянства, а если стало, то в чем это выражалось. Исследовательница рассматривает этот документ как попытку «не столько провозгласить новые привилегии высшего сословия, сколько усилить воздействие на мотивацию его представителей в нужном для абсолютизма направлении», для чего требовалось «повысить престиж образования» и «усилить авторитет чинов»[262]. После 1762 года служба, строго говоря, из юридической обязанности превратилась в нравственный долг, однако при этом, как утверждает Е. Н. Марасинова, дворяне все еще ревностно желали служить, так как служба императрице и Отечеству понималась как привилегия, дающая дворянину благосклонность монарха, престиж и, как считалось, доступ к утонченному образу жизни[263]. Говоря о том, стал ли манифест 1762 года решающим стимулом для тех дворян, которые использовали свободное время, стараясь просвещаться (например, путешествуя за границу), следует отметить, что некоторые аристократы поступали так еще до издания Петром III этого документа. Таким образом, возникают сомнения в том, что качественные и количественные изменения в деятельности значительного числа дворян после 1762 года произошли именно благодаря привилегиям, данным им Петром III и подтвержденным спустя два десятилетия Екатериной II.
Говоря о дворянских обязанностях, правах, привычках и самовосприятии, следует пояснить и еще раз подчеркнуть один момент, прежде чем перейти к рассмотрению важных для нашего исследования аспектов исторического контекста XIX века. Несмотря на то что в манифесте Петра III 1762 года и грамоте Екатерины II 1785 года были описаны привилегии, которые – теоретически – давались всему дворянскому сословию и проводили резкую границу между дворянами и остальными социальными слоями, российское поместное дворянство само по себе было неоднородным. Пестрота дворянства становится очевидна при чтении грамоты Екатерины II, где, в частности, находит отражение тот факт, что в течение веков люди становились дворянами по разным причинам. Так, из Статьи 91 становится ясно, что при Екатерине дворяне могли унаследовать свое звание, однако оно также могло быть пожаловано им монархом. О том, насколько разнообразным был состав дворянского сословия, можно судить не только по пунктам, прямо говорящим об этом, но и по подробному списку официально признаваемых доказательств благородства и, конечно, по содержащемуся в конце Статьи 91 замечанию о том, что, кроме отмеченных в документе, могут существовать и иные доказательства подобного рода. Мы обратим внимание на некоторые различия между дворянами и объясним, почему они представляют важность для нашего исследования языковой практики дворян.
Во-первых, огромная пропасть разделяла высшую аристократию и мелкопоместное дворянство. Как указывает Элис Кимерлинг Виртшафтер, дворянство представляло собой неоднородный класс: от придворных-аристократов, стоявших у подножия трона, до «однодворцев», людей из нижних слоев дворянства, которые владели скромным имением и несколькими крепостными[264]. Русская литература и публицистика XVIII–XIX веков содержат много свидетельств того, что подобное социальное ранжирование действительно существовало, а дворяне имели представление об иерархии, пронизывающей их сословие. Ярким примером может послужить воспоминание одного из мемуаристов о том, как провинциальная помещица требовала, чтобы соседи более низкого социального положения входили к ней в усадебный дом только через вход для прислуги[265]. Неравенство внутри дворянского сословия – которое, как считается, было гораздо более значительным, чем неравенство в среде английского или немецкого дворянства середины XIX века[266], – можно отчасти объяснить жесткими рамками, наложенными на общество петровской Табелью о рангах, регулировавшей даже то, как следует обращаться к человеку определенного чина. Однако неравенство касалось и благосостояния. Наиболее устойчивым критерием для оценки состояния дворян до отмены крепостного права в 1861 году было число мужчин-крепостных, находящихся во владении семьи. Дворяне, во владении которых было более 5000 душ, считались невероятно богатыми; те, у кого было от 800 до 5000 душ, – весьма состоятельными; от 200 до 800 душ – обеспеченными; владение 80–200 душами было среднестатистическим показателем; а имение, в котором было меньше 80 крепостных-мужчин, считалось экономически несостоятельным. Следует отметить, что большинство русских дворян попадало в две последние категории[267]. И действительно, в 1766–1767 годах в 52 % имений, принадлежавших провинциальным помещикам, насчитывалось по 20 душ или меньше, а в 34,7 % – от 21 до 100 душ. При этом только малую часть помещиков (незадолго до отмены крепостного права в 1861 году эта часть составляла лишь 1 %) можно было бы назвать вельможами[268]. Таким образом, число дворян, которые могли позволить себе образование, путешествия, чтение книг и периодики, услуги заграничных мастеров и контакты с европеизированным обществом в той мере, которая дала бы им возможность овладеть французским на высоком уровне, было очень мало.
Во-вторых, дворянские семьи одинакового статуса и благосостояния тоже могли быть не равны, их различия определялись происхождением и древностью рода, причинами, по которым семье изначально было пожаловано дворянство; учитывалось и то, что члены определенного семейства на протяжении многих поколений несли безупречную службу на благо государства. Важнейшими представителями российского дворянства в XVIII веке были Волконские, Воронцовы, Голицыны, Нарышкины, Толстые и Шереметевы, которые приобрели богатство и власть в результате долгой и верной службы монархам допетровского времени. Другие семьи, которые также можно причислить к самой богатой и могущественной части элиты, стали таковыми лишь недавно, и поэтому люди голубых кровей порой (по крайней мере, на протяжении некоторого времени) относились к ним с пренебрежением, как к «nouveaux riches». Так, Зубовы, Меншиковы, Орловы, Панины, Потемкины, Разумовские, Рюмины и Шуваловы были обязаны своим высоким положением щедрости монархов XVIII века, имевших обыкновение одаривать землями и крепостными своих придворных и фаворитов. Гончаровы, Демидовы, Строгановы и другие недавно аноблированные дворянские фамилии разбогатели не так давно и не по милости монарха; они с успехом пользовались новыми возможностями, проявляя себя в таких сферах, как добыча полезных ископаемых и соли и производство оружия и ткани в период, когда Россия вступила на путь модернизации. Люди из таких семей могли повысить свой социальный статус через заключение браков с представителями древних аристократических родов[269]. О том, насколько эти различия были важны для русских дворян XVIII века, можно судить по упоминаниям или рассуждениям о них, которые встречаются в литературе, например во второй сатире А. Д. Кантемира и пьесах Д. И. Фонвизина, и по спорам, которые велись в учрежденной Екатериной II Уложенной комиссии о том, что является более важным критерием для пожалования дворянства и сохранения дворянского статуса – происхождение или безупречная служба[270].
В-третьих, образ жизни семьи во многом зависел от того, имели ли ее члены средства проводить значительное время за пределами деревенского имения и тем более за границей. Британский путешественник Роберт Лайолл, который жил в России в годы после окончания Наполеоновских войн, отмечал разницу в поведении и манерах аристократов из высшего общества и дворян более низкого положения, особенно тех, кто «не бывал в других странах»[271]. Кругозор дворян, имевших дома в одном из двух наиболее крупных и многонациональных городов России – Санкт-Петербурге и Москве, – где обычно проводили зимние месяцы семьи высшего дворянства, был, естественно, шире кругозора дворян, которые по тем или иным причинам проводили всю жизнь в деревне. Впрочем, считалось, что дворяне из Санкт-Петербурга, где протекала придворная жизнь и располагались органы центрального управления, сильно отличались от московских дворян, симпатия к которым нашла отражение в произведениях таких значительных русских авторов, как А. И. Герцен и Л. Н. Толстой. Качественно отличалась и светская жизнь дворян, проживавших в сельских частях империи, ее особенности определялись степенью удаленности того или иного региона от метрополии и числом представителей местного дворянства. В плодородных сельскохозяйственных областях центральной части государства (каковыми являлись, например, Владимир, Воронеж, Калуга, Кострома, Курск, Орел, Рязань, Смоленск, Тамбов, Тверь, Тула и Ярославль) дворянские имения были не столь малочисленны и располагались не так далеко друг от друга, а расстояние до Москвы или Санкт-Петербурга было не таким огромным, как в случае с областями, расположенными на периферии Европейской России (например, Казань, Пенза, Самара, Саратов, Симбирск в Поволжье).
Кроме того, следует учесть, что русское дворянство было неоднородно не только в социальном плане, но и в этническом отношении. К середине XVIII века среди дворян встречались как многочисленные татары, потомки кочевников из Центральной Азии, вторгшихся на Русь в XIII веке, так и выходцы с территорий, завоеванных в XVII–XVIII веках, во время формирования империи, особенно украинцы и немцы. Многим иммигрантам с Запада, поступившим в России на службу, также было пожаловано дворянство. Ф. Ф. Вигель писал: «Кажется, нет ни одного народа ни в Европе, ни в Азии, коего бы представители, образчики, не находились в русской службе и, следственно, наконец, не делались русскими дворянами, отчего сие сословие у нас так отличается от других, чисто русских, и становится помесью всех пород»[272]. В связи с этим, если речь идет об этническом составе дворянства, исследователи иногда считают Россию примером премодерной империи, как ее иногда называют, в которой элита практически не чувствует связи с людьми более низкого социального положения, имеющими те же национальные корни, однако при этом «принимает, ассимилирует аристократов из периферийных районов империи» и сотрудничает с ними[273]. Кроме того, после петровских реформ дворянство в Российской империи было разнородно и в конфессиональном отношении: иностранцы, исповедовавшие католицизм или протестантизм, могли стать частью российского правящего класса, не обращаясь в православие и не перенимая русских культурных ценностей[274].
Факт существования такого разнообразия в среде дворянского сословия представляется нам важным, потому что он опровергает расхожие убеждения о тех возможностях, которые позволяли дворянам учить иностранные языки и говорить на них, а также о том, насколько хорошо дворяне их знали. В разных семьях возможности обеспечить детям хорошее знание языков – и особенно нанять учителей и гувернанток из иностранцев, а в идеале отправить детей за границу путешествовать или продолжать обучение – были очень разными. Следовательно, семьи, которые не могли позволить себе такие расходы, или те, которые вели уединенную жизнь в деревне и нечасто общались с дворянами, говорящими по-французски, оказывались в невыгодном положении, когда речь шла о владении несколькими языками и тех преимуществах, которые были с ним связаны. Разные возможности дворян в отношении изучения французского могут отчасти объяснить, почему в конце XVIII – начале XIX века некоторые писатели в негативном ключе отзывались о русской франкофонии и о ленивых или неграмотных, по их мнению, учителях-иностранцах, которых нанимали в свои дома дворяне, желающие произвести впечатление образованных людей. Не стоит забывать о том, что многие члены литературного сообщества происходили из небогатых дворянских семей или вовсе не имели благородного происхождения, включая поэта Г. Р. Державина (детство которого прошло в отдаленном селе Казанской губернии) и Д. И. Фонвизина, отец которого – Фонвизин упоминал об этом в короткой автобиографии – не мог позволить себе нанять для сына частного учителя иностранных языков[275]. Переводчик и драматург Владимир Игнатьевич Лукин, весьма язвительно отзывавшийся в своих произведениях о стремлении русских говорить по-французски[276], был сыном небогатого придворного лакея.
И наконец, необходимо вспомнить о том, что в XVIII веке среди представителей зарождавшегося образованного класса и литературного сообщества наряду с аристократами были не только люди из средних и низких дворянских слоев, но и люди неблагородного происхождения. В относительно меритократическую эпоху, начавшуюся после петровских реформ, многие выдающиеся ученые и писатели не были выходцами из дворянского сословия: например, экономист Иван Тихонович Посошков, оратор, драматург и священнослужитель Феофан Прокопович, поэт и переводчик В. К. Тредиаковский, ученый и поэт М. В. Ломоносов, драматург и баснописец И. А. Крылов. Таким образом, уже в XVIII веке, еще до начала екатерининской эпохи, можно увидеть признаки процесса, который отчетливо проявился и вызывал множество дискуссий в середине XIX столетия, когда к формирующейся интеллигенции примкнули так называемые «разночинцы», отказавшиеся от привычек и ценностей дворянства. Две группы, образовавшие интеллигенцию, различались кроме всего прочего и в отношении изучения языков и использования их[277].
Мы вернемся к вопросам, связанным с литературным сообществом и появлением неоднородной по своей природе интеллигенции, в последнем разделе этой главы, чтобы осветить дальнейшую судьбу этих групп во второй четверти XIX века, в период правления Николая I. Однако перед этим нужно сказать несколько слов об участии России в Наполеоновских войнах в начале XIX века и о восстании декабристов, последовавшем за смертью Александра I в 1825 году, так как при анализе проблем русской франкофонии и отношения к ней нам еще не раз придется обратиться к этим событиям.
Наполеоновские войны и восстание декабристов
Военные действия между Францией и Россией во времена Наполеона начались в 1799 году, при правлении Павла I, когда Россия присоединилась ко Второй коалиции против Франции, и возобновились в 1805–1807 годах при Александре I. Армии России и Австрии были разбиты Наполеоном в декабре 1805 года в битве при Аустерлице. Следующим крупным сражением между наполеоновской армией и силами России и Пруссии была битва при Прейсиш-Эйлау в Восточной Пруссии, которая состоялась в феврале 1807 года. (Эта битва не принесла победы ни одной из сторон.) В июне того же года Наполеон одержал решительную победу над русской армией при Фридланде, также в Восточной Пруссии. Военные действия на время прекратились в связи с заключением в июле 1807 года Тильзитского мира, в результате которого Россия и Франция стали союзниками, а Александр I тайно согласился присоединиться к наполеоновской континентальной блокаде против Великобритании. Однако в следующие годы Александр не поддерживал политику Наполеона, и отношения между Россией и Францией опять ухудшились. В июне 1812 года войска Наполеона вторглись в Россию. В последовавшей за этим борьбе русской армии под командованием М. И. Кутузова удалось замедлить, но не остановить продвижение Великой армии Наполеона 7 сентября при Бородино, где развернулась кровавая битва, в которой сражалось около четверти миллиона человек. Неделю спустя Наполеон занял Москву, которая вскоре серьезно пострадала от пожара, предположительно учиненного самими русскими при массовом бегстве из города. Отечественная война завершилась в ноябре – декабре отступлением разрозненных частей наполеоновской армии, солдаты которой страдали от голода, погибали от партизанских атак и не имели экипировки, способной защитить их от суровых русских холодов.
Как и следовало ожидать, военный конфликт с Францией усугубил критический напор, с которым русские писатели и прежде высказывались о галломании своих соотечественников. И действительно, в начале XIX века и позднее в произведениях русских авторов встречаются разнообразные свидетельства о том, что война с Францией остудила страсть, которую русское дворянство питало к французской цивилизации в самом широком смысле слова, и к языку, с помощью которого можно было к ней приобщиться. Галлофобия, выражавшаяся отчасти в критике российской франкофонии, весьма заметна, например, в текстах Ф. В. Ростопчина, который был губернатором Москвы, когда в 1812 году ее заняла Великая армия Наполеона, и который, как предполагали, мог быть ответственен за поджог города[278]. Ф. Ф. Вигель так описывал воздействие, которое оказало на язык высшего общества вспыхнувшее в его рядах накануне Отечественной войны 1812 года чувство патриотизма:
Знатные барыни на французском языке начали восхвалять русский, изъявлять желание выучиться ему или притворно показывать, будто его знают. Им и придворным людям натолковали, что он искажен, заражен, начинен словами и оборотами, заимствованными у иностранных языков, и что «Беседа» составилась единственно с целью возвратить и сохранить ему его чистоту и непорочность; и они все взялись быть главными ее поборницами[279].
Французский театр в Санкт-Петербурге, который часто посещали люди из высшего общества в начале царствования Александра I, «по мере как французские войска приближались к Москве, начал <…> пустеть и, наконец, всеми брошен. Государь, который никогда не был охотник до театральных зрелищ, сим воспользовался, чтобы велеть его закрыть»[280]. В то время, когда Ф. В. Ростопчин был губернатором Москвы, владелицам модных магазинов в этом городе было запрещено делать вывески на французском[281]. Даже в провинциальной Пензе осенью 1812 года дамы, стараясь продемонстрировать свой патриотизм, «отказались от французского языка. Многие из них <…> оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки»[282]. Л. Н. Толстой изобразил эту реакцию на вторжение Наполеона в Россию на страницах «Войны и мира»: «В обществе Жюли Друбецкой, как и во многих обществах Москвы, было положено говорить только по-русски, и те, которые ошибались, говоря французские слова, платили штраф в пользу комитета пожертвований»[283]. А. С. Пушкин, которому, в отличие от Л. Н. Толстого, довелось жить во времена Отечественной войны, также писал в неоконченном романе «Рославлев» о том, что московские дворяне «закаялись говорить по-французски»[284].
Однако подобные жесты были явно демонстративными и через некоторое время сошли на нет, и примечательно, что такие консервативно настроенные патриоты, как Ростопчин, несмотря на свои страстные протесты против французской культуры и русской франкофонии, продолжали говорить по-французски в обществе и пользовались французским в переписке[285]. Кроме того, активное использование французского языка в высоких общественных, военных и официальных кругах в течение долгого времени после 1815 года и та важная роль, которую французский язык продолжал играть в обучении дворянских детей, позволяют предположить, что опыт войны с Францией лишь на незначительное время изменил отношение дворянства к французскому языку и французской культуре. Однако были и другие исторические факторы, которые воздействовали на лояльность некоторых дворян по отношению к власти, раскололи прежде однородную образованную элиту и поставили под вопрос ценности дворянской культуры и связанные с ней практики, включая использование иностранного языка в обществе[286].
Хронологически первым из исторических факторов, на которые следует обратить внимание, было расхождение между самодержавием, с одной стороны, и общественной и культурной элитой, с другой. В XVIII веке дворянство в целом поддерживало имперскую программу российских монархов, несмотря ни на неоднородную структуру сословия, ни на напряжение, существовавшее между входившими в него группами, ни на время от времени возникавшие проявления политической оппозиции, самым ярким из которых было обличение произвола самодержавия и жестокого обращения с крепостными Александром Николаевичем Радищевым в «Путешествии из Петербурга в Москву» (1790)[287]. Однако в течение нескольких лет после победы над Наполеоном дворянское чувство солидарности с монархическим государством начало очевидным образом ослабевать. После 1815 года Александр I вступил в Священный союз, связавший три консервативные державы (Австрию, Пруссию и Россию), которые стремились поддерживать старые монархические порядки в Европе. В своем государстве он предоставил свободу действий таким реакционно настроенным государственным деятелям, как Алексей Андреевич Аракчеев, который был сторонником строгой дисциплины. После окончания Наполеоновских войн, в 1814–1815 годах, полные прекрасных впечатлений о жизни в Западной Европе русские офицеры, в которых с детства воспитывалось чувство гражданской ответственности, вернулись в Россию. Здесь они с потрясением обнаружили, что их родной стране уготован жребий оставаться в ряду отсталых государств под властью деспотичного монарха. В них укоренилось сильное чувство разочарования, послужившее толчком к основанию после 1816 года нескольких тайных обществ («Союз спасения», «Союз благоденствия», «Северное общество» в Санкт-Петербурге и «Южное общество» на Украине). Произошло возрождение масонства, которое начиная с екатерининской эпохи призывало русских дворян к самосовершенствованию и благотворительности (и к тому же стало прообразом тайных обществ)[288]. Были составлены проекты политических реформ: Никита Михайлович Муравьев разработал подробный план введения конституционной монархии с двухпалатным Народным вечем в качестве основного законодательного органа и федеративным устройством, соотносящимся с американской моделью; Павел Иванович Пестель в незавершенном проекте «Русской правды» предлагал установление авторитарной республики по примеру французской якобинской[289].
Недовольство сложившейся ситуацией и жажда нравственного совершенствования и политических изменений – на которые Л. Н. Толстой намекает в первой части эпилога к «Войне и миру»[290] – в конечном итоге нашли выражение в совершенно непродуманном восстании, которое вошло в историю как восстание декабристов. 14 декабря 1825 года, вскоре после внезапной кончины Александра I, офицеры из «Северного общества» и около 3000 присоединившихся к ним человек отказались присягнуть на верность Николаю I, к которому перешли права на престол после отречения его старшего брата Константина. К концу дня верные государю войска обстреляли солдат, собравшихся на Сенатской площади Санкт-Петербурга, и разогнали их. Было проведено долгое расследование, в результате которого пятеро лидеров восстания в Санкт-Петербурге и последовавшего вскоре после него восстания, организованного «Южным обществом», были повешены, а более ста других участников мятежа приговорены к каторжным работам, ссылке и разжалованию в солдаты. Несмотря на то что среди декабристов были люди разного происхождения[291], многие из лидеров восстания принадлежали к семьям, занимавшим весьма высокое положение в российском обществе. Декабристами были, например, князья Евгений Петрович Оболенский, Сергей Петрович Трубецкой и Сергей Григорьевич Волконский (его мать была фрейлиной при дворе), барон Вениамин Николаевич Соловьев, граф Захар Григорьевич Чернышев, а также братья Матвей Иванович и Сергей Иванович Муравьевы-Апостолы, сыновья дипломата, и П. И. Пестель, отец которого с 1806 по 1816 год был генерал-губернатором Сибири. Участие в восстании членов таких благородных семейств и сочувствие, которое проявляли к мятежникам члены других семей, прямо не причастных к мятежу, были знаком того, что монархия оказалось под угрозой утраты морального авторитета[292].
Мир, в котором жили эти члены имперской элиты, был многонациональным и многоязычным. Братья Муравьевы-Апостолы в детстве учились в частном пансионе в Париже. Во время Наполеоновских войн члены тайных декабристских обществ нередко вступали в контакты с французами и француженками. С. П. Трубецкой был женат на дочери французского иммигранта. Н. М. Муравьев дома разговаривал по-французски, хотя жена его была русской. Следует отметить, что некоторые декабристы не были этническими русскими, а для кого-то из них русский не был родным языком. Например, братья Поджио, Александр Викторович и Иосиф Викторович, были сыновьями итальянца, переселившегося в многоязычную и многонациональную Одессу, а Андрей Евгеньевич фон Розен принадлежал к немецкоговорящей семье прибалтийского дворянства. И хотя они вдохновлялись событиями, происходившими в других странах (испанская революция 1820 года, направленная против реставрировавшего монархию Фердинанда VII, Греческая война за независимость от Оттоманской империи, которая началась в 1821 году), декабристы имели склонность к культурному национализму, вследствие чего некоторые из них (например, Николай Александрович Бестужев, П. И. Пестель и С. Г. Волконский) придавали значение речевому поведению[293]. Таким образом, к концу правления Александра I часть социальной элиты дистанцировалась от двора, причем не только в отношении политики. В годы правления последующих монархов это разочарование подпитывалось недовольством более общего характера, которое испытывали широкие круги образованной элиты, чей социальный состав менялся в результате вхождения в нее людей недворянского происхождения, которых все больше и больше привлекали для решения самых разных задач, встающих перед модернизирующимся государством и быстро расширяющейся империей.
Литературное сообщество и интеллигенция в николаевскую эпоху
Потрясенный декабрьским восстанием 1825 года, Николай I немедленно предпринял шаги, чтобы в дальнейшем не допустить появления политического инакомыслия, подобного тому, которое развилось в годы, последовавшие за Наполеоновскими войнами. Его вера в легитимность самодержавия была неколебимой, и он тут же принял меры, направленные на ограничение свободы слова и на выявление любых намеков на оппозицию. В 1826 году он ужесточил цензуру, и к 1848 году было создано более десятка комитетов, которые должны были следить за исполнением устава о цензуре. В том же году он учредил новый орган полиции, Третье отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии во главе с графом Александром Христофоровичем Бенкендорфом[294]. Эта канцелярия, в работе которой, кроме жандармов, было задействовано множество осведомителей, занималась надзором за неблагонадежными (или потенциально неблагонадежными) лицами, в круг которых, кроме политических противников режима, входили также члены религиозных сект и иностранные граждане. В конце николаевского правления – в так называемое «мрачное семилетие», длившееся с 1848 по 1855 год, – правительственные меры стали особенно жесткими, так как Николай I не желал допустить, чтобы восстания, подобные тем, которые имели место в 1848 году во Франции, разных частях Австрийской империи, Германии и Италии, вспыхнули в России. Многие члены петербургского кружка Буташевича-Петрашевского, где в конце 1840-х годов обсуждались идеи социалистов-утопистов, – так называемого кружка петрашевцев, в который входил молодой Ф. М. Достоевский, – были сурово наказаны. В 1849 году Николай I направил русские войска в Венгрию с целью подавления восстания против Габсбургов.
Однако, несмотря на все усилия, Николаю I не удалось предотвратить формирование независимого общественного мнения, которое в конечном итоге помогло расшатать как старые устои дворянской жизни, так и саму империю. Культурный подъем, начавшийся в этот момент, нашел выражение в создании оригинальной литературной традиции. Не стоит забывать о том, что именно в николаевскую эпоху А. С. Пушкин написал бо́льшую часть своих произведений, и что именно на этот период пришлось творчество М. Ю. Лермонтова, а также Н. В. Гоголя. И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой начали свою литературную карьеру в конце 1840-х или начале 1850-х годов. Эти авторы не только заложили основы русского литературного канона, их считают создателями современного русского языка, а их произведения стали источником стандартного словоупотребления, что подтверждается большим количеством цитат, помещенных в Словарь современного русского литературного языка, составленный Академией наук[295].
Классическая литературная традиция развивалась параллельно с не менее мощной традицией размышлений об эстетических, нравственных, социальных, теологических и в конечном счете политических вопросов. Произведения, принадлежащие к обоим типам словесности – поэзия и проза, с одной стороны, и беллетристика и политическая журналистика, с другой, – публиковались бок о бок в «толстых» журналах, которые возникли в николаевскую эпоху и приобрели особую популярность, когда условия стали более свободными, – в первый период гласности, последовавший за смертью Николая I в 1855 году и поражением России в Крымской войне (1853–1856). Группа, сформировавшая традицию социополитической литературы, впоследствии стала называться интеллигенцией[296]. Ее нельзя полностью отождествить с литературным сообществом, особенно когда речь идет о николаевской эпохе: было бы неверно, скажем, приписывать А. С. Пушкину или М. Ю. Лермонтову интерес к тем нравственным проблемам, которые волновали представителей интеллигенции[297]. Однако зачастую один и тот же человек (например, А. И. Герцен, Ф. М. Достоевский или Л. Н. Толстой) выступал, с одной стороны, как писатель, а с другой – как автор полемических текстов, публицист и памфлетист. Более того, как литераторы, так и интеллигенты обычно испытывали чувство гражданского долга, имели высокие нравственные цели и в одинаковой мере вызывали неодобрение властей или несли наказание за выражение взглядов, неприемлемых для правительства. Как правило, и те и другие были бесконечно далеки от государственной власти (хотя, конечно, не без исключений). И действительно, они считали, как отмечал советский диссидент Андрей Донатович Синявский, что «не должны становиться частью власти, [они] должны наблюдать за ней со стороны»[298]. Вместе с тем они приобрели большой культурный и моральный авторитет, став своего рода выразителями совести нации, и преследования со стороны власти лишь усиливали этот авторитет.
Появление литературного и интеллектуального сообщества в годы правления Николая I является свидетельством того, что в среде культурной элиты произошел еще один раскол. Рядом с теми дворянами, которые оставались в большей или меньшей степени лояльны по отношению к самодержавию, формировалось сообщество эрудированных, свободомыслящих авторов, которые далеко не всегда принадлежали к дворянскому сословию. Многие члены литературного сообщества и интеллигенции (например, ведущий критик В. Г. Белинский, одаренный дилетант Василий Петрович Боткин, историк Михаил Петрович Погодин, историограф и критик Николай Алексеевич Полевой) были детьми людей разных профессий, купцов или даже крестьян[299]. Самые выдающиеся литераторы и публицисты николаевской эпохи (Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Гончаров, Тургенев, молодые Достоевский и Толстой, а также Тимофей Николаевич Грановский, Герцен и многие другие) были дворянами, пусть и разными по своему социальному положению. Однако даже дворяне, ощутив себя частью литературного и интеллектуального сообщества, могли отказаться от дворянских идеалов или, по крайней мере, перестать всецело разделять их. Дворяне продолжали испытывать чувство долга перед империей, бывшей их отечеством, первыми сынами которого, метафорически выражаясь, они были. В противовес этому представители новой литературной и интеллектуальной элиты считали скорее, что они служат нации, идею которой они почерпнули в философии и литературе европейского контрпросвещения и романтизма. Более всего они стремились выявить исключительность России, ее «самобытность», и разрешить загадку ее судьбы. Их великая миссия состояла в том чтобы пояснить важность роли России в некой универсальной системе, похожей на ту, которую описал Георг Вильгельм Фридрих Гегель в своей философии истории. Уверенные в том, что, благодаря своим знаниям они куда лучше дворян и корыстолюбивых государственных деятелей смогут описать сущность России и понять ее нужды, они считали себя той социальной группой, которая достойна говорить от лица нации[300]. И хотя это может показаться парадоксальным, многие писатели и философы, принадлежащие к противоборствующим лагерям западников и славянофилов, придерживались схожих взглядов, в основе которых лежал культурный национализм. Как заметил А. И. Герцен в мемуарном произведении «Былое и думы», западники и славянофилы, «как двуглавый орел, смотрели в разные стороны в то время, как сердце билось одно»[301].
Раскол в среде образованной элиты выражался в разнице ценностей. Можно сказать, что формы культурного капитала, которые были важны для литературного и интеллектуального сообщества, отличались от тех, которые ценило дворянство, несмотря даже на то, что многие члены этого сообщества имели благородное происхождение и отголоски дворянских ценностей находили отражение в речи и поведении таких людей, как Пушкин, Герцен и Толстой. Если дворяне стремились заслужить благосклонность монарха и одобрение высшего света как на родине, так и за границей, для писателей и мыслителей было важнее заслужить уважение других писателей, критиков, журналистов, читателей и европейских литераторов и интеллектуалов. Многие из них демонстративно выказывали неприязнь к светскому обществу, в котором вращались дворяне, считая его притворным, манерным и лицемерным, и предпочитали более простой и, на их взгляд, более естественный образ жизни[302]. Они презирали материализм (понимаемый как любовь к земным благам), порицая как расточительность высшего дворянства, так и скупость, приписываемую западной буржуазии. Вместо этого они культивировали нестяжательство[303]. Общественное сознание и альтруизм занимали более высокое место в их системе ценностей, чем личная честь. Взяв на вооружение ценности, противоположные ценностям политически лояльного дворянина, они, как заметила И. Клиспис, говоря о Герцене, могли даже воспринимать наказание, полученное от власти, как «явный и особо ценный знак царской немилости»[304].
Для нашего исследования важно, что языком, имевшим большое значение для литературного сообщества и интеллигенции, был не французский, а русский. Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, у многих представителей культурного и интеллектуального сообщества середины XIX века не было того высокого уровня устного владения иностранными языками, в особенности французским, которое могли продемонстрировать дворяне. Так, можно вспомнить о В. Г. Белинском, который в значительной степени повлиял на развитие русской литературы 1830–1840-х годов и который считается ярким примером первого поколения интеллигенции, активно интересовавшейся нравственными и общественными проблемами. Белинский был сыном бедного военного врача и информацию о философии и литературе Франции и Германии, повлиявшую на его осмысление русской литературы, получал во многом от владевших иностранными языками дворян: Павла Васильевича Анненкова, Михаила Александровича Бакунина, А. И. Герцена, Т. Н. Грановского и И. С. Тургенева. Это вовсе не значит, что знание иностранных языков было бесполезно для интеллигенции, ведь с их помощью можно было напрямую познакомиться с новой европейской литературой и европейскими идеями. Белинский и сам пытался лучше изучить французский язык в 1840-е годы, чтобы иметь возможность читать в оригинале Жорж Санд, Пьера Леру и других авторов[305]. Однако это не могло стать ключевым элементом коллективной идентичности или личного статуса в группе, основанной на меритократическом принципе, чьи члены в силу своего социального происхождения не имели возможности овладеть иностранными языками в раннем детстве.
Во-вторых, представители формирующегося литературного сообщества, происходившие не из дворян, не стремились сравняться по социальному статусу с элитой, для которой владение французским – равно как и хорошие манеры, титулы и гербы – имело знаковый характер. Напротив, они демонстрировали безразличие к высокому социальному положению. Некоторые представители литературного сообщества из числа дворян высказывались о своем происхождении в виноватом тоне[306] или даже пытались опроститься, нося народные костюмы и перенимая крестьянские привычки[307]. Чувство отмежевания, отчуждения от привилегированного социального класса естественным образом влекло за собой и неприятие его языковых практик. Поскольку представители новой социальной группы желали говорить от лица всей нации, литераторы и интеллигенты, как мы увидим в дальнейшем, постоянно критиковали языковые привычки дворянства[308]. Не случайно эта критика достигла своего апогея во второй половине XIX столетия, когда дворяне ощутили, что их главенство в среде образованной элиты находится в как никогда уязвимом положении, и когда они потеряли свое исключительное право владеть землей, на которой трудились крепостные.
В-третьих, как мы отметили, в XIX веке нации начали ассоциироваться с конкретными «народами»[309], и язык того народа, который составлял ядро нации, начал восприниматься в качестве фундаментального элемента национальной идентичности. По этой причине члены литературного сообщества и интеллигенция, которые были главными представителями национальной культуры, отвечали за сохранение и развитие ее языковых традиций, а также воплощали в себе социальное и политическое самосознание нации. Для того чтобы играть эту роль, им необходимо было создать корпус текстов на русском языке, и то значение, которое их тексты имели для формирования чувства национального единства в России этой эпохи, едва ли можно переоценить[310]. В противоположность этому, дворяне, в эпоху национализма, переживавшего подъем в середине XIX века, говорившие по-французски в свете и дома, не обладали теми качествами, которые позволили бы им стать голосом русской нации, а не Российской империи.
И наконец, следует отметить, что сущность нации, по представлению многих писателей и мыслителей середины XIX века, в чистом виде находила воплощение в народе, то есть в крестьянах, чья жизнь была свободна от великосветских привычек высших слоев общества. Эту мысль разделяли многие писатели и мыслители, независимо от их политических взглядов, включая А. И. Герцена, М. А. Бакунина, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и славянофилов. Народные массы вызывали живой интерес литераторов и интеллигенции. Смещение фокуса с петербургских салонов на крестьянскую избу, являвшую собой противоположность дворянскому миру, нашло отражение в многочисленных публикациях периода, последовавшего за николаевской эпохой, некоторые из этих публикаций представляли собой результаты работы, начало которой было положено много лет назад. Среди них были рассказы о крестьянской жизни, исследования, посвященные истории крепостного права, крестьянской общины и крестьянских восстаний, а также сборники народных песен, сказок, преданий, мифов и устного эпоса[311]. Большое внимание уделялось и народной речи: в 1862 году лексикограф Владимир Иванович Даль выпустил сборник, включавший в себя более 30 000 пословиц и поговорок, который можно считать своего рода хранилищем самобытности и мудрости русского народа[312].
Безусловно, не стоит забывать о том, что не весь народ в Российской империи говорил по-русски: этнические меньшинства, проживавшие в разных регионах (например, эстонцы, грузины, евреи, калмыки, марийцы, а также не русскоязычные славяне, такие как украинцы), могли вообще не знать русского языка, знать его довольно плохо или быть в той или иной степени двуязычными. Тем не менее в основной своей массе крестьяне в Центральной России – и та их часть, которая в первую очередь интересовала литературное сообщество и интеллигенцию, – были русскими и говорили только на одном языке, что также объясняет, почему во второй половине XIX века франко-русский билингвизм начал терять свою ценность в глазах русских писателей и мыслителей.
Речевое поведение, которое мы будем описывать, и отношение к языку, формирование которого мы проследим на страницах этой книги, должны рассматриваться в контексте социальных и культурных процессов, происходивших в России в XVIII–XIX веках. По этой причине мы кратко охарактеризовали европеизацию российского дворянства, которая началась еще в XVII веке и резко интенсифицировалась в XVIII, особенно во время царствования Петра Великого, будучи частью его программы создания империи, и сопровождалась масштабной модернизацией государства. Мы указали на неоднородность дворянства и подчеркнули, что владение французским языком было распространено преимущественно в высших слоях этого сословия, причем выучить этот язык было невозможно, не обладая определенными материальными ресурсами, поэтому умение говорить по-французски считалось признаком принадлежности к элите. Мы затронули вопрос о том, в какой степени (по-нашему мнению, в незначительной) действия царской власти обусловили формирование многоязычного и космополитичного типа высшего дворянства в России XVIII века. На протяжении долгого периода, который находится в центре нашего внимания в данной книге, дворянство постепенно утрачивало позиции главного сословия империи, тогда как литературное сообщество и интеллигенция, напротив, становились важнейшими культурными и нравственными представителями нации. Эти процессы сопровождались различиями в речевом поведении и отношении к языку, и обсуждение этих различий является частью большого нарратива о судьбе нации, наложившего значительный отпечаток на быстро развивавшиеся литературу и публицистику дореволюционной России.
Глава 2. Преподавание и изучение французского языка
Владение французским языком стало необходимым атрибутом социальной и личной жизни русского дворянина XVIII–XIX веков: французским пользовались в обществе, в театре, во время путешествий, для чтения или просто для ведения дневника. Однако другие языки – прежде всего немецкий, английский, латынь и, конечно, русский – также широко использовались и в каком-то смысле были конкурентами французского языка в России в имперский период. В этой главе мы увидим, какие языки отдельные люди и целые социальные группы выбирали для изучения, и постараемся понять, что выбор языка говорит нам об их социальной и культурной идентичности. Изучение языка покажет нам, с какими «воображаемыми сообществами», используя выражение Бенедикта Андерсона, ассоциировали себя люди того времени. Языки были формой культурного капитала, в этом смысле они обладали разной ценностью в представлении тех, кто изучал их. Мы обратим пристальное внимание на эти различия и на то, как они противопоставляют группы людей в социальном и культурном планах. Мы также покажем, что близкие дворянству идеи и ценности, такие как дружба, учтивость и стиль, а также главное занятие дворянства – общение с равными себе – оказали влияние на формы изучения французского в этой среде. Но сначала мы кратко очертим хронологию развития преподавания французского языка в России начиная с конца XVII и до начала XX века.
Обзор преподавания французского языка в России
До XVIII века в России мало преподавали живые иностранные языки[313]. Это объясняется культурной изоляцией страны: тем немногим иностранным купцам, которые приезжали в Московию, приходилось самим учить русский, чтобы вести дела в России. Так было, например, с купцами из ганзейских городов. Кроме того, русские с опасением относились к присутствию «схизматиков» в православных школах, поэтому иностранцев не допускали к преподаванию в них, даже при том, что в России почти не было своих учителей иностранных языков. Однако государству нужны были люди со знанием новых языков, особенно для переговоров с дипломатами других стран и для перевода документов. Правда, в XVII веке эти потребности еще не были столь большими, и Посольский приказ мог удовлетворять их. Здесь делали переводы для единственного русского периодического издания того времени – «Вестей-Курантов», важного источника информации о внешнем мире, предназначенного для царя и его ближайшего окружения[314]. Когда в результате политики ускоренной модернизации, проводимой Петром I, потребность в переводчиках резко возросла, количество людей со знанием языков так быстро не увеличилось. Никакого преподавания французского или других живых иностранных языков не было в большинстве учебных заведений петровского времени: ни в начальных школах (так называемых «цифирных» и «арифметических»), ни в Морской академии в Петербурге, ни в Славяно-греко-латинской академии в Москве.
На исходе XVII века в изучении французского языка многие европейские страны (Голландия, германские государства, Швеция, Польша и Англия) ушли далеко вперед по сравнению с Россией. В некоторых странах существовала давняя традиция использования французского как профессионального языка, например в области права в Англии (хотя интерес к использованию французского в этой сфере снизился в конце Средних веков)[315]. В Голландии, взаимоотношения которой с Францией были тесными, французский использовался в сфере внешних сношений, его изучали еще в Средние века, а в XVI веке его преподавание достигло расцвета, прежде всего во вспомогательных школах, которые были разрешены муниципальными властями, в то время как в официальных школах царила латынь. В последнюю треть XVI века, после завоевания части Нидерландов испанцами, произошел отток франкоговорящих протестантов в северные Нидерланды, что привело к дальнейшему усилению позиций французского языка в этой стране[316]. Затем, в XVII веке, французский постепенно превратился в lingua franca Европы[317]. В Швеции сделать карьеру в сфере управления без знания этого языка было уже невозможно. Учебники по военному делу, в особенности по фортификации, в большинстве своем были написаны на французском[318]. Всякому, кто хотел зарабатывать на жизнь частным преподаванием в Швеции, знание французского тоже было важным подспорьем. Кроме дворянских пансионов, там стали развиваться частные школы, готовившие коммерсантов и рассчитанные на средний класс, в них также преподавали французский[319]. В некоторых местах распространению французского языка способствовали группы религиозных проповедников – так было в Польше, куда были приглашены французские монахини после того, как французская принцесса вышла замуж за польского короля[320]. В Италии тоже изучали этот язык – в дворянских коллегиумах в Пьемонте и в герцогстве Пармском, а также в Риме, где многие ученые и духовные лица знали его уже в начале XVII века, а также во Флоренции и других крупных городах[321]. Нередко изучение французского инициировал королевский двор – либо из-за матримониальных связей с французским двором, либо из-за предпочтения такой модели придворной культуры, в которой развлечения на французском языке, такие как театр, играли центральную роль. В то же время французский сталкивался и с мощным сопротивлением: в университетах и в иезуитских коллегиумах латынь долгое время не уступала ему пальму первенства.
Если мы проанализируем эволюцию изучения французского языка в России, мы увидим, что хронология, которой до сих пор придерживались историки, должна быть несколько пересмотрена. Небольшие группы людей изучали французский уже в царствование Петра I, в конце XVII – начале XVIII века. Это были, как правило, члены семей, близких к царю-реформатору, а также семьи иностранцев на русской службе. Французский также изучали по крайней мере в одной школе, пользовавшейся поддержкой государства, – школе пастора Эрнста Иоганна Глюка, который готовил учеников к службе в Посольском приказе[322]. Напротив, в католических и протестантских школах при иноверческих церквях Москвы и Петербурга, которые привлекали и семьи русского дворянства, французский не преподавали, зато там учили немецкому и латыни[323]. После смерти Петра французский стали преподавать в гимназии Академии наук (осн. 1724) и в Кадетском корпусе (осн. 1731) наряду с немецким и латынью. Таким образом, в послепетровский период французский был признан важным языком культуры, который невозможно было игнорировать. Его стали преподавать и в Московском университете (осн. 1755), и в Институте благородных девиц (или Смольном институте, осн. 1764) – первой государственной школе для девочек в России. При этом вплоть до эпохи Екатерины II знание иностранных языков было нечастым явлением даже в дворянской среде. Ф. Вигель в своих мемуарах подчеркивает, как мало было знатоков французского языка среди русских до 1760-х годов: он упоминает князя Сергея Федоровича Голицына, представителя видной ветви этой известной семьи, который в конце царствования Елизаветы учился в Кадетском корпусе, где изучал немецкий. Только после окончания корпуса Голицын хорошо выучил французский через общение в благородном обществе. «Знание языков было тогда не безделица, – замечает Вигель, – оно вело к повышению»[324].
Развитие преподавания французского в русских учебных заведениях XVIII века не должно скрывать тот факт, что в середине века обучение этому языку все так же во многом ограничивалось двумя главными городами страны, Санкт-Петербургом и Москвой. Помимо столичных городов, было мало центров изучения живых иностранных языков. Хотя в Екатеринбурге на Урале благодаря усилиям Василия Никитича Татищева иностранные языки преподавали уже в 1730-е годы, это было скорее исключение, чем правило. Более того, единственными языками, введенными Татищевым в преподавание, были латынь и немецкий – последний считали важным для горной промышленности, которая развивалась в этом регионе и для которой технологии и часть рабочей силы поступали из германских государств[325]. Но во второй половине века, особенно в царствование Екатерины II, изучение языков распространилось в русской провинции – не только благодаря гувернерам и частным школам, но и благодаря появлению новых казенных учебных заведений для дворянства, например дворянского училища в Твери (осн. 1779)[326]. Однако в провинции было трудно найти учителей, если судить по тому факту, что в 1784 году дворянское училище в Курске, открытое в предыдущем году, искало учителя французского в Москве[327].
В конце XVIII века события, начавшиеся с Французской революции, на какое-то время бросили тень на репутацию французского языка, на который некоторые стали смотреть как на возможное средство распространения опасных идей. В царствование Павла I торговля французскими книгами была запрещена в России, а преподавание французского прекращено в учебных заведениях. Митрополит Гавриил Новгородский (Петр Петров-Шапошников) послал распоряжение в епархии, объясняя причины этого запрета: «Семинаристы ваши обучаются французскому языку, но как опыт доказал, что неблагонамеренные из них злоупотребляют знанием сего языка, мне поручено вашему Преосвященству писать, чтобы благоволили сей класс оставить»[328]. Трудно сказать, существовали ли доказательства подобного «злоупотребления» знаниями французского, но очевидно, что власти пытались изменить взгляд общества на этот язык, чтобы представить его как средство для проникновения в Россию революционных идей. Однако эти меры недолго оставались в силе, и с 1797 года преподавание французского начало возобновляться[329].
Долгое время препятствием в изучении французского языка в России был недостаток учителей. В государственных учебных заведениях (Сухопутном кадетском корпусе, Морском кадетском корпусе, Пажеском корпусе…) французский преподавали иностранцы самого разного происхождения: среди них были немцы, итальянцы, шведы, так же как французы и швейцарцы, как мужчины, так и женщины. Поскольку многие русского не знали, они обучали французскому через другой иностранный язык, обычно через немецкий. Русских учителей иностранных языков было очень мало в XVIII веке, поэтому учебные заведения, так же как и семьи, были вынуждены приглашать для этой цели иностранцев. Это вызвало обеспокоенность властей в 1780-х годах, когда Комиссия по учреждению народных училищ стала проводить реформу государственного образования, затронувшую и Воспитательное общество благородных девиц, более известное как Смольный институт. Комиссия заключила, что преподавание в Обществе нельзя было назвать удовлетворительным, в том числе потому, что ученицы плохо владели русским, почему Комиссия и решила заменить бо́льшую часть иностранных учителей на русских.
Однако и в XIX веке положение с учителями иностранных языков во многом осталось таким же, что и раньше. В Царскосельском лицее, в котором учился Пушкин, французский язык и литературу преподавал швейцарец Давид Будри (David Boudri), брат Жана-Поля Марата, лидера радикальной фракции монтаньяров во время Французской революции. В Петербургском университете, основанном в 1819 году, французскому обучали Жан Тийо (Jean Tillot), Антуан Дюгур (Antoine Dugourt), Шарль де Сен-Жюльен (Charles de Saint-Julien), Жан Флери (Jean Fleury) и другие, а первый русский лектор французского языка, Федор Батюшков, получил свое место только в 1895 году! В Училище правоведения и в Николаевском сиротском институте французский преподавал все тот же Флери[330]. В Институте Корпуса инженеров путей сообщения занятия вел Сен-Жюльен, в Мариинском институте и в Обществе благородных девиц – Альфонс Жобар (Alfonse Jobart), бывший преподаватель Казанского университета, в Гатчинском сиротском институте и в Демидовском лицее – Жюль Перро (Jules Perrault), который позже станет лектором в Санкт-Петербургском университете. Этот список учебных заведений свидетельствует о распространении изучения французского языка в XIX веке. Очевидно, что знания и опытность учителей намного выросли со временем, не в последнюю очередь потому, что в XIX столетии в России было гораздо больше франкоговорящих иностранцев. Некоторые из них (например, Будри, Флери, Сен-Жюльен) сами были авторами учебников французского языка и литературы[331]. Иностранцы продолжали преобладать среди учителей иностранных языков в российских учебных заведениях и позже: даже в 1900 году большинство учителей французского в средних школах в России были французами и швейцарцами[332].
В конце XVIII и начале XIX века присутствие многочисленных иностранцев в роли воспитателей, особенно в домах дворянства, вызывало у многих обеспокоенность, поскольку считалось, что такое воспитание влияло на национальное самосознание детей[333]. В высших слоях бюрократии было немало противников «французского» воспитания: адмирал Александр Шишков, граф Федор Ростопчин, адмирал Николай Мордвинов, как и другие государственные деятели, писали о недостатках, происходивших от воспитания дворянства иностранцами. Мордвинов, например, рекомендовал прививать молодым дворянам привязанность к их стране и языку и советовал Александру I
<…> сделать двор образцом любви ко всему хорошему русскому – к языку, вере, обычаям и обрядам. На сей конец должно вывести из употребления при дворе и во всех обществах французский язык, французские вещи, французские обряды, которые так много ослабляют дух народный и любовь к отечеству и внимательному наблюдателю деяний человеческих предвещают следствия печальныя[334].
Мордвинов предлагал запретить дворянству брать к себе в дом иностранцев в качестве воспитателей и позволить иностранцам давать частные уроки только при условии, что они будут знать русский язык. Для него было очень важно, чтобы предметы преподавались дворянству на русском языке. Воспитание дворян иностранцами, как и воспитание их за границей, он считал злом. По его мнению, Россия уже испытывала пагубные последствия этих практик:
Лучшие иностранные воспитатели, не зная духа русского народа, не имея сыновняго усердия и преданности к России, и при добрых своих желаниях не могут дать русскому юношеству хорошаго воспитания, не могут приготовить полезных сынов отечеству. Чего же ожидать должно от толпы бродяг-учителей неискусных, корыстолюбивых и, может быть, даже злонамеренных, которым дворянство русское вверяет образование умов и сердец своих детей? Питомцы сих наставников будут истинными всемирными гражданами, т. е. не будут иметь ни своего отечества, ни своего языка, ни своих обычаев, не будут знать ни отечественных постановлений, ни своих обязанностей, ни связей кровных[335].
Мордвинов особенно жестко критикует пансионы, которые содержали иностранцы, поскольку, как он писал, дети выходят из них с плохим знанием французского, поверхностными и часто ложными знаниями, умея только худо-бедно танцевать и музицировать, и становятся иностранцами по духу. Такое воспитание, продолжает он, делает их вялыми «в теле и духе». Язык Мордвинова (он пишет о кровных связях, теле, духе, вялости) отражает идею о естественной и исключительной связи человека с родной страной и помогает ему противопоставить крепость и нравственную природу русской нации вялости и аморальности французской.
Можно быть уверенным в том, что критика Мордвинова относится прежде всего к людям его социального круга, потому что именно в высших слоях русского общества детей воспитывали дома, прибегая к услугам иностранных гувернеров. Согласно данным, собранным Александром Феофановым, во второй половине XVIII века военные первых трех классов по Табели о рангах (то есть от фельдмаршала до генерал-лейтенанта) все реже и реже посылали своих сыновей в одну из государственных дворянских школ, таких как Шляхетный кадетский корпус. Они отдавали предпочтение другим возможностям получать образование, таким как домашнее воспитание, образование за границей (во время гран-тура) или обучение в Пажеском корпусе, который с точки зрения социального уровня учеников был гораздо более элитным заведением, чем Кадетский корпус[336].
В XIX веке контроль за иностранными гувернерами, больша́я часть которых преподавала французский язык в семьях, становится константой российской политики: для них вводятся обязательные экзамены, их пыта