Черубина де Габриак. Неверная комета бесплатное чтение
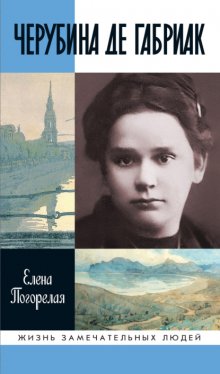
Елена Погорелая
Черубина де Габриак. Неверная комета
- В мирах любви — неверные кометы, —
- Закрыт нам путь проверенных орбит!
- Явь наших снов земля не истребит, —
- Полночных солнц к себе нас манят светы.
- Ах, не крещен в глубоких водах Леты
- Наш горький дух, и память нас томит.
- В нас тлеет боль внежизненных обид —
- Изгнанники, скитальцы и поэты!
- Тому, кто зряч, но светом дня ослеп,
- Тому, кто жив и брошен в темный склеп,
- Кому земля — священный край изгнанья,
- Кто видит сны и помнит имена, —
- Тому в любви не радость встреч дана,
- А темные восторги расставанья!
ПРЕДИСЛОВИЕ[1]
Если бы я осталась жить, я бы жила совсем по-другому.
Е. И. Васильева, декабрь 1928-го
Елизавету Ивановну Дмитриеву мало кто знает.
Многие знают Черубину де Габриак.
Черубина де Габриак — роковая красавица, сладкозвучная чаровница, автор пленительных пряных стихов вроде «С моею царственной мечтой / Одна брожу во всей Вселенной…» — словом, «одна из самых фантастических и печальных фигур русской литературы».[2]
Елизавета Ивановна Дмитриева, Лиля, — «скромная, неэлегантная и хромая» [3] учительница истории в женской гимназии, поэтесса, пишущая «милые и простые стихи»[4]; и — адресат любовных посланий Н. Гумилева, многолетняя подруга М. Волошина, гарант русского отделения Антропософского общества, поверенная Доктора Штейнера, женщина, по признанию С. Маршака, побудившая его писать для детей…
Как это всё увязать воедино? В чем причина и тайна двойничества Лили Дмитриевой и Черубины де Габриак?
В эстетике жизнетворчества, которую Лиля последовательно исповедовала до конца жизни — с того момента, как девочкой радовалась своей болезни, приближающей ее к святости, до твердого решения расплатиться за сотворение Черубины, страшного двойника, — расплатиться семейным союзом с любимым мужчиной, М. Волошиным, и отказом от литературной карьеры?
В заклятости Петербурга, располагающей ко всякого рода шутовским карнавалам и появлению «ряженых», о чем полвека спустя после заката звезды Черубины скажет ее современница (и соперница!) А. Ахматова, возводя трагедии XX столетия к тем самым шутовским маскарадам, с которых столетие и начиналось?
В вечном поиске Учителя, который, «опираясь на жезл пророка», являлся к восторженной ученице в образе то крымского «прохожего» Максимилиана Волошина, то властного духовного вождя Доктора Штейнера? В поиске, под конец жизни обернувшемся поиском ученика?
В стихах, которые даже в ранние Лилины годы вовсе не были такими уж «милыми и простыми», а, напротив, свидетельствовали о напряженном болезненном поиске собственного сюжета судьбы?
В историю русской литературы Дмитриева вернулась в 1989 году вместе с публикацией книги «Черубина де Габриак. Избранные стихотворения», составленной ее другом по переписке Е. Архипповым еще в 1927-м и более полувека ожидавшей издателя. После этого о Черубине заговорили. М. Гаспаров в своих исследованиях о символизме упомянул о ее версификационном мастерстве и о той роли, которую она в 1909-м играла на «Башне» в кругу знаменитого символистского гуру Вяч. Иванова. О. Кушлина написала о ней для сборника «101 поэтесса Серебряного века» (1996), возвращая исследование ее творчества в литературоведческий обиход. Волошиновед В. Купченко совместно с И. Репиной и М. Ландой составил «Исповедь» Черубины де Габриак (1999) — на сегодняшний день самый полный и превосходно откомментированный сборник ее стихов вкупе с выдержками из «Истории моей души» М. Волошина. В том же 1999-м В. Глоцер издал ее «Домик под грушевым деревом» — созданный в ссылке цикл стихов, стилизованный под китайскую лирику и адресованный синологу Ю. Щуцкому, Лилиному близкому другу и ученику. Наконец, в 2006 году Л. Агеева опубликовала свою «Неразгаданную Черубину» — единственную биографию поэтессы, включающую не только мистификационный и дуэльный эпизод, но и историю детства Дмитриевой, и ее антропософскую деятельность, и новаторскую работу в сфере детской литературы…
И все-таки, заговаривая о Елизавете Ивановне Дмитриевой-Васильевой, до сих пор подразумевают Черубину де Габриак. Если она и становится объектом внимания биографов, то лишь как участница событий жизни Н. Гумилева и М. Волошина, реже — С. Маршака. Если о ней и пишут, то с плохо скрываемым неодобрением: на нее возлагают ответственность за дуэль, ей (только-только двадцатилетней!) вменяют в вину эротическую игру, сталкивание лбами двух зрелых поэтов; а уж за откровенное, в духе Серебряного века, признание: «Мне все казалось, я хочу обоих, зачем выбирать?» — не пеняет ей только ленивый. Между тем вряд ли та, что сделала это признание, имела в виду, что «не выбирать» означает спать с обоими. Скорее всего, речь шла о выборе между старшим — и младшим, между плотской любовью — и духовным содружеством, между обессиливающей страстью — и высоким родством. Любовь для Черубины всегда была многолика — как в ранние, так и в зрелые годы…
Как бы то ни было, сегодня, когда история Черубины де Габриак — от первых надушенных писем к Сергею Маковскому до второй знаменитой дуэли на Черной речке [5] — уже успела приесться, самое время услышать историю Елизаветы Ивановны Дмитриевой-Васильевой. Историю, порожденную и побужденную Серебряным веком, но сумевшую, кажется, вырваться за пределы его.
Часть I
НЕВИННОСТЬ ЛИЛИЙ
Лиля Дмитриева
СЛУЧАЙНОЕ СЕМЕЙСТВО
А начинается эта история 31 марта 1887 года в Петербурге на Васильевском острове, когда в семье гимназического учителя чистописания Ивана Васильевича Дмитриева рождается младшая дочь.
Рождается — в те годы «давние и глухие», когда убийство царя Александра II Освободителя (1881) и последовавшие затем контрреформы наглухо закрывают проекты по эволюционному обустройству России.
Поколение шестидесятников XIX века — народники, демократы и разночинцы, с которыми связывались все надежды на обновление, теряют сторонников, ибо что ни говори, а мало кто готов одобрить открытый террор. Государство, в свою очередь, прихлопывает форточку свободы, ужесточает цензуру, стагнирует, обрубает протест на корню. Россия в очередной раз погружается в долгий сон, тягостный и лихорадочный; в этом предгрозовом ее сне вызревает Серебряный век.
Позже, оплакивая поколение рожденных на переломе времен, Максимилиан Волошин, которому предстоит сыграть едва ли не ключевую роль в нашей истории, точно и горько напишет: «В других — лишенных всех корней — / Тлетворный дух столицы Невской: / Толстой и Чехов, Достоевский — / Надрыв и смута наших дней…» (1919).
Жизнь в семье Дмитриевых полностью соответствовала этой формуле.
Родители напоминали классических чеховских интеллигентов. Отец, «мечтатель и неудачник», обладал только одним даром — каллиграфическим почерком, благодаря которому смог устроиться в среднюю школу на должность учителя чистописания; а поскольку чистописание в то время было самым низкооплачиваемым предметом в гимназии, семья из пяти человек выживала в основном благодаря матери, по профессии — акушерке (судя по отзывам ее пациентов — умелой и сведущей). Елизавета Кузьминична Дмитриева, в девичестве — Нагорная, по всей вероятности, окончила знаменитое «Родовспомогательное заведение» на Надеждинской улице, где готовили повивальных бабок 1-го и 2-го разряда, соединив родильный госпиталь с Повивальным училищем — «бабичьей школой», известной на всю страну. Если так, то в годы учебы ей посчастливилось иметь обширную практику в одном из лучших медицинских заведений Петербурга. Невысокая, крепкая, темноволосая; среди ее предков были украинцы и цыгане. Внешне младшая дочь была очень похожа на нее.
«Много традиций, мечтаний о прошлом и беспомощность в настоящем»[6] — так Лиля Дмитриева говорила о жизни в родительском доме. Действительно, в том новом времени, в той лихорадке символистского карнавала, которая начинала охватывать Петербург, простые и прозаические попытки родителей выжить могли показаться беспомощными. Сопротивляясь новому и непонятному, лезущему из всех щелей, мать и отец свято чтили традиции, в том числе и религиозные; Елизавета Кузьминична ревностно следила за порядком исповеди и причастия не только кровных троих детей, но и своих «восприемников» — некогда принятых ею младенцев[7]. Бабушка — видимо, тоже по линии Елизаветы Кузьминичны — ночью поднимала маленькую Лилю, изнуренную тяжелой болезнью, чтобы поцеловать образ целителя Пантелеймона и проговорить: «„Младенец Пантелей, исцели младенца Елисавету“. И я думала, что если мы оба младенцы, он лучше меня поймет…»
Третий ребенок, последыш, Лиля родилась слабой, болезненной, в год с трудом села, долго не начинала ходить. Естественно, что едва ли не первой ее детской радостью стали книги. Отец, Иван Васильевич, много читал младшей дочери — в основном то, что сам любил в детстве: сначала «Сказки кота Мурлыки» Н. Вагнера, потом — Андерсена, потом — сказки Гофмана и его знаменитого «Кота Мурра». С «кошачьей» темой связаны первые Лилины стихотворные опыты, по ее позднейшему утверждению, написанные в возрасте до семи лет, — в меру забавные, в меру простодушные, как и положено стихам шестилетки, но неожиданно приоткрывающие историю ее вечной душевной раздвоенности. Можно ведь и так прочитать эту притчу из жизни животных:
- В правом ящике стола
- Кошка серая жила.
- Ела масло, ела сало
- И в блаженстве утопала.
- В левом ящике стола
- Кошка рыжая жила,
- Ела масло, ела сало,
- Но все кошке было мало,
- И тогда она пищала…
Понятно, чем были тогда и для Лили, и для отца эти строки и сказки: тоской по несбыточному, возможностью оторваться от быта, приподняться над ним… Потому что потом их ждало неизменное возвращение к семейным заботам, к порядку, который неукоснительно поддерживала Елизавета Кузьминична.
Над этим стремлением упорядочить, а фактически — удержать подступающий хаос Лиля грустно посмеивалась и во взрослых стихах. Вот, например, — «Моей матери»: формально это пародия на соответствующее стихотворение А. Блока, фактически — образец мирочувствования всего поколения, на рубеже XIX–XX веков оторвавшегося от быта и устремившегося в запредельное (и смертельное) бытие:
- Я насадил свой светлый рай
- И оградил высоким тыном,
- И за ограду невзначай
- Приходит мать за керосином.
- — «Сын милый, где ты?» Тишина.
- Над частым тыном солнце греет.
- — «Меня никто не пожалеет,
- Я с керосином здесь одна».
- И медленно обходит мать
- Мои сады, мои заветы.
- — «Ведь пережарятся котлеты.
- Пора белье мне выжимать!»
- Все тихо. Знает ли она,
- Что сердце зреет за оградой,
- И что котлет тому не надо,
- Кто выпил райского вина.
Дети увлечены утверждением новых заветов, а родители, как и прежде, думают лишь о хлебе насущном да керосине? Ату их, ату! Без сомнения, в семье Дмитриевых это противоречие высвечивалось даже ярче, чем в блоковской, ибо не было того интеллектуального понимания друг друга, того эмоционально насыщенного родства. А было — прямое, опять-таки, следование пророческому наблюдению Волошина: родители, стоящие за сохранение прежнего уклада («не стало бы хуже!»), по-чеховски углублены в работу и по-толстовски держатся за семью, дети же — Валериан, Антонина и младшая Елизавета — по-достоевски взвинченны и экзальтированны и все время на острие.
Надрыв и смута? Они тоже присутствуют, в основном в облике и поведении старшего сына Валериана, рожденного в 1880 году. Нервный, начитанный («он мне рассказывал всякие истории из Эдгара По…»[8]), откровенно недобрый, он имел сильное влияние не только на сестер, но и на мать с отцом — в воспоминаниях Дмитриевой приведен показательный эпизод:
Когда ему было десять лет, он убежал в Америку. Он добежал до Новгорода. Пропадал неделю. Он украл деньги у папы и оставил ему записку: «Я беру у тебя деньги и верну их через два года. Если ты честный человек, то ты никому не скажешь, что я еду в Америку». Папа никому и не сказал. Узналось после. <…> Потом, когда его нашли, он самостоятельно вернулся в Петербург. И никто его ни о чем не расспрашивал и не упрекал. [9]
Нечто подобное происходит и в других семействах, чье старшее поколение попросту не поспевает за метафизической лихорадкой детей. Ахматову отец еще до всяких стихов дразнит «декадентской поэтессой». В семье Цветаевых в спальне старшей сестры Валерии живет Черт, а в комнате самой Марины в киоте для иконы в углу над письменным столом вставлен Наполеон. «Этого долго в доме не замечали, — вспоминает Анастасия Цветаева. — Но однажды папа, зайдя к Марине за чем-то, увидал. Гнев поднялся в нем за это бесчинство! Повысив голос, он потребовал, чтобы она вынула из иконы Наполеона. Но неистовство Марины превзошло его ожидания: Марина схватила стоявший на столе тяжелый подсвечник, — у нее не было слов!» [10] На этом фоне выходки детей Дмитриевых, как-то: игры в прошение милостыни на бульваре, прыжки на сеновал сквозь отверстие в крыше с высоты второго этажа, сожжение любимых игрушек в качестве приношения огню — выглядят более чем безобидно. Вот только мы сегодня задумываемся: что же все-таки это было? Обычный подростковый протест против всеобщей стагнации, попытка пощекотать себе нервы — или подготовка к тем жертвам и испытаниям, которые ждут этих детей в новом веке?
Однако до нового века еще далеко. Пока что племя младое и незнакомое активно протестует против обветшавших устоев, стремится очутиться по ту сторону добра и зла, всячески открещивается от «нормальности». В конце XIX столетия смешно чтить традиции, стыдно казаться нормальным (о, как эта «норма» человеческая, честность и чистота, будет цениться спустя каких-нибудь тридцать лет, а чуть позже — как безвозвратно уйдет!). Помните Достоевского с его приговором болезненно самолюбивому и тщеславному русскому мальчику Гане Иволгину из «Идиота»? «Вы, по-моему, просто самый обыкновенный человек, какой только может быть, разве только что слабый очень и нисколько не оригинальный». Что может быть страшнее этой обыкновенности?! Скорее, скорее отречемся от нормы, скорее отправимся в темную приграничную зону сознания! И вот сестра Дмитриевой Антонина (та самая, что рассказывала прикованной к постели маленькой Лиле истории, а потом разбивала одну из ее любимых фарфоровых кукол, «чтобы ничего не было даром») уходит в роковую любовь, закончившуюся смертью от заражения крови и самоубийством молодого мужа над ее гробом; брат Валериан — в психоделические, как сейчас бы сказали, эксперименты с сознанием («Он стал мне давать нюхать эфир и сам нюхал. <…> Через две недели, когда взрослые вернулись, он уже ходил по дому и резал какие-то невидимые нити…»); а сама Лиля — так уж получилось — в болезнь.
Брат, между прочим, сперва запрещал ей лечиться, говоря, что болезнь надо преодолеть. Лиля, привыкшая ему верить, послушно повиновалась. У них были прочно сложившиеся отношения вассала и сюзерена: в пять лет Лиля делала для Валериана чудеса («Он заставил меня тогда поклясться (уже было 5 лет), что я не совершила в жизни ни одного преступления, и мы пошли делать чудеса. Он налил в ковшик воды и сказал: „Скажи, чтобы она стала вином“. Я сказала. „Попробуй“. Я попробовала… „Да, совсем вино“. <…> Но Тоня сказала: „Ведь вино красное“. Тогда он вылил мне ковшик на голову. И был уверен, что я скрыла какое-то преступление»), в десять — писала расписку, что шестнадцати лет она выйдет замуж и у нее будет 24 человека детей: «…я всех их буду отдавать ему, а он их будет мучить и убивать». Читая эти Лилины воспоминания, одни твердят о наследственном психическом расстройстве, преследующем семью будущей Черубины, другие — подозревают в ее словах «интересничание» и призывают не принимать их на веру. Но, собственно говоря, почему бы и нет? В сущности, брат Лили Дмитриевой, отношения с которым в раннем детстве значили для нее особенно много (что естественно — младшим сестрам свойственно обожествлять старших братьев, а здесь к тому же восторженная привязанность Лили соединилась с жестким и властным характером Валериана), был тем самым обыкновенным, по Достоевскому, человеком, прилагающим все усилия к тому, чтобы выглядеть оригинальным. Отсюда и все его эскапады вроде нападения на гимназиста-еврея, и требования кровавых «расписок», и извращенные опыты над собой и над младшей сестрой. Не обладая никакими особенными талантами, но нервно и остро чувствуя атмосферу времени, он пытался искать в нем себя, оборачиваясь то жестоким поводырем «малых сих», то мучителем-инквизитором, то воинствующим ницшеанцем, то путешественником-первопроходцем. Лиля наблюдала за этими поисками долгие десять лет, а потом…
Когда ему было 18, я вошла в его комнату и увидела, что он плачет. Это было очень страшно. Потому что он никогда не плакал, а только кусал себе губы. Он сказал: «Ты знаешь, я чувствую, что глупею». С тех пор он больше ни о чем не говорил со мной и страшно замкнулся…[11]
Валериан Дмитриев не поглупел. Он просто вырос. Стал морским офицером, командовал подводными лодками и миноносцами, участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах, потопил и взорвал несколько неприятельских кораблей, заслужил ордена, и Лиля писала о нем подруге: «…брат выдержал весь Артур, теперь приходится переживать вторую войну…»[12] Детская жестокость в нем обернулась расчетливостью и властностью; сослуживцы отзывались о Дмитриеве как о хитром и циничном карьеристе, который думает исключительно «о своем личном благополучии, рассчитывая для этого каждый свой шаг и проявляя в этом направлении невероятный цинизм. На глазах начальства он исполнительный, за спиною же делает то, что ему удобно. Доверия к нему нельзя иметь»[13].
За десять лет Валериан прошел карьерный путь от мичмана до капитана 2-го ранга. Отношения с сестрой сохранились приязненными. Лиля поддерживала с ним регулярную переписку, он даже делился по ее просьбе литературными новинками со своими знакомыми — в частности, в годы службы в китайском порту Чифу послал приятелю П. Клоделя, также одно время бывшего на дипломатической службе в Пекине, переводы из Клоделя, сделанные М. Волошиным. После Первой мировой войны, пройденной им уже кавторангом-подводником, и революции Валериан Дмитриев оказался в эмиграции в Англии, и там его след затерялся.[14]
С фотографии середины 1890-х годов на нас смотрят восьми- или девятилетняя Лиля, еще по-детски светловолосая, с открытым доверчивым взглядом, бабушка, мать Елизаветы Кузьминичны, и юноша Валериан — мы видим его франтоватую красоту, выправку и вместе с тем некоторую прохладную безучастность. В отличие от сестры и бабушки, одна — доверчиво, другая — скорбно глядящих прямо в фотографический объектив, Валериан смотрит как бы поверх их голов, в приближающийся новый век — век сотрясающих землю войн, век большой крови, век молодых и бесстрашных мужчин. Что-то долоховское есть в его облике — долоховское или, может быть, гумилевское? Гумилев-то ведь тоже до последнего оставался солдатом Империи…
А психоделических экспериментов и опытов по приближению безумия больше не требовалось. Безумие овладело Россией всерьез.
Впрочем, и без этих опытов Лилина жизнь не могла показаться безоблачной. В 1894 году у нее диагностируют костный, а затем легочный туберкулез, на много лет фактически приковавший ее к постели. Болезнь месяцами держала ее в забытьи, а в редкие дни облегчения она почти не могла ходить и полулежала в кресле у камина. Должно быть, именно тогда, в эти годы недуга, которые девочка проводила в постели наедине со своими мыслями и желаниями, в ее сознании зарождались причудливые видения, переплетающие действительность с призрачностью, вымысел — с явью; видения, в которых брат представлялся ей сказочным монструозным злодеем, сестра — жестокой колдуньей… Из этого морока, уводящего за собой в фантастические миры, и родится потом Черубина де Габриак.
Но где он, тот момент, когда болезненная девочка, то страдающая слепотой, то впадающая в беспамятство, осознает себя кем-то другим? Некрасивая — видит свою красоту, больная — чувствует собственную волшебную окрыленность, живущая под угрозой смерти от туберкулеза — осознает, что бессмертна?
Пожалуй, с Лилей Дмитриевой это случилось в 1900 году.
Уже будучи Черубиной, в одном из самых чеканных и гордых стихотворений она проговорится о том, что случилось, но проговорится все тем же призрачным языком, зашифровывая реально имевшее место событие в тайнописи экстатических средневековых видений:
- Он пришел сюда от Востока,
- Запыленным плащом одет,
- Опираясь на жезл пророка,
- А мне было тринадцать лет.
- Он, как весть о моей победе,
- Показал со скалистых круч
- Город, отлитый весь из меди
- На пожарище рдяных туч.
- Там — к железным дверям собора
- Шел Один — красив и высок.
- Его взгляд — торжество позора,
- А лицо — золотой цветок.
- На камнях, под его ногами,
- Разгорался огненный след,
- Поднимал он черное знамя…
- А мне было тринадцать лет…
В стихотворении, разумеется, речь идет об избранничестве, об утверждении собственного победного и рокового пути. А что в жизни?
Сейчас уже трудно восстановить, что именно произошло тогда с тринадцатилетней Лилей Дмитриевой. Сама она рисовала события в драматических — смутных и надрывных — тонах:
Мне было 13 лет, когда в мою жизнь вошел тот человек. <…> Я ему очень многим обязана. Он много говорил со мной. Он хотел, чтобы все во мне пробудилось сразу. Когда же этого не случалось, он говорил, что я такая же, как все (а мы помним, что именно этого дети-Дмитриевы боялись больше всего на свете. — Е. П.). <…> И он был влюблен в меня, он требовал от меня любви: я в то время еще не понимала совсем ничего. Я иногда соглашалась и говорила, что буду его любить, и тогда он начинал насмехаться надо мной. Его жена знала и ревновала меня. Она делала мне ужасные сцены. Все забывали, что мне 13 лет…[15]
Спустя несколько лет она настойчиво будет просить Волошина оставить за ней этот пароль к собственной судьбе — «любви к судьбе», если воспользоваться позаимствованной Волошиным формулой ницшеанства: «Макс, я хочу, чтобы ты из своего „Amor fati“ вычеркнул „Тринадцать лет“ — я тебя очень прошу. Ты мне скажи, сделаешь ли ты это? Если нет, то я уничтожу мое стихотворение „А мне было 13 лет“. Мне это совсем не трудно и не жаль».[16] Собственно, это стихотворение, одно из лучших у Черубины, как раз таки и выросло из приведенного выше горячечного рассказа Волошину в сумерках Коктебеля. Волошин уже любил Лилю (Лилю — не Черубину!), и каково ему было слышать следующее признание: «Макс, это было… Он взял меня…»? Отзвуки этой истории еще долго будут просвечивать в текстах Волошина — взять хотя бы стихотворение, написанное в год переживания ими обоими гибели Черубины и открывающее его страстную и одновременно бережную, сострадающую любовь:
- С тех пор как тяжкий жернов слепой судьбы
- Смолол незрелый колос твоей любви,
- Познала ты тоску слепых дней,
- Горечь рассвета и сладость смерти.
- Стыдом и страстью в детстве ты крещена,
- Для жгучей пытки избрана ты судьбой!
- Но в чресла уголь мой тебе вжег
- Неутолимую жажду жизни.
- Не вольной волей ты подошла ко мне
- И обнажила тайны ночной души,
- Но боль моя твою сожгла боль,
- Пламя двойное сплелось, как змеи.
- Когда глубокой ночью я в первый раз
- Поверил правде пристальных глаз твоих
- И прочитал изгиб твоих губ —
- Древние тайны в душе раскрылись…
В тот «первый раз» картина рисуется в самом деле трагическая: тринадцатилетняя девочка, жертва тяжелой болезни, прикованная к постели; знакомый матери, что, воспользовавшись ее беспомощностью, прямо на этой постели «берет» ее… Но и это еще не всё! На заднем плане мелькает мать Лили, Елизавета Кузьминична, зрелое отражение дочери — вспомним о их поразительной внешней похожести, подкрепленной одинаковым именем: «…я думаю, мама знает. Мама любила его… И она была на его стороне».
Есть от чего зашевелиться волосам на голове. Между тем уже в наши дни Д. Быков пишет статью под названием «Метасюжет русской революции: в реальности и в литературе» (2014), называя общим сюжетом по крайней мере для трех русских романов XX века: «Тихого Дона» М. Шолохова, «Лолиты» В. Набокова и «Доктора Живаго» Б. Пастернака — сюжет растления малолетней отцом или отчимом (либо кем-то, стоящим на месте отцовской фигуры). То есть — история, для декадентского века обычная, особенно если учесть, что во всех трех романах главная героиня олицетворяет Россию? И Лиля, рассказывая Волошину о своей детской драме, с точностью попадает в исторический унисон?
Упоминание в этом контексте «Доктора Живаго» особенно интересно. Все знают о биографической подноготной истории Лары и Комаровского, все помнят, что Лара создана Пастернаком по образу и подобию его жены Зинаиды Николаевны, которая «девочкой, красавицей» ходила в номера к соблазнителю под черной вуалью, а соблазнителем был ее сорокалетний кузен Николай Милитинский. Но ведь Милитинский-то не был возлюбленным ее матери! А в «Докторе Живаго» эта тень адвоката Комаровского между Амалией Карловной и ее дочерью Ларой вырисовывается очень четко: «Ведь для него мама — как это называется… Ведь он — мамин, это самое… Это гадкие слова, не хочу повторять. Так зачем в таком случае он смотрит на меня такими глазами? Ведь я ее дочь». Так не из биографии ли Дмитриевой эта линия? Нельзя ли предположить, что Пастернак обращался к сюжету судьбы Лили Дмитриевой — безусловно, известной ему со слов современников и, возможно, обсуждаемой в тесных кругах завсегдатаев Коктебеля — как к некоей квинтэссенции жизнетворчества Серебряного века, а к ее зашкаливающе-откровенным признаниям — как к общему поэтическому камертону 1900-х годов?[17]
Как бы то ни было, сам Волошин свидетельствует: в 1909 году мать Лили Дмитриевой переслала ей письмо от «того человека», поздравляющего Елизавету Кузьминичну с помолвкой ее дочери Лили и Всеволода Васильева, инженера-гидролога, которому еще предстоит появиться на наших страницах:
— Лиля, а что означают эти слова: то, что невозможно было между нами…
— Ведь она любила его, Макс. И она потому так странно относилась ко мне: у нее был упрек ко мне за то, что я не могла дать ему любви.
Однако признания признаниями, а все-таки — что же в действительности произошло с Лилей в 1900 году?
Видимо, в этот год и вправду вошел в ее жизнь человек, близкий матери, увлекающийся теософией и разительно отличающийся от всех прочих Дмитриевских прагматичных знакомых.
Видимо, болезненная, впечатлительная девочка была им болезненно увлечена.
Видимо, и он влекся к этому взвинченному, изломанному, умному, пытливому и доверчивому подростку.
А что уже там было дальше — бог весть.
В любом случае в тринадцать лет Лилей Дмитриевой была пройдена инициация, и новый отсчет ее внутренней жизни, уже не детской, а юношеской, напряженно-духовной, начался с 1900 года.
А год спустя, в 1901-м, умирает отец. Семья съезжает из дома на Малом проспекте Васильевского острова, где прожила много лет, в дешевую квартиру на четвертом этаже мрачного, массивного доходного дома по 6-й линии, и прежнее существование меняется безвозвратно.
«ЛИДА БРЮЛЛОВА, ПОЧТИ МОЯ СЕСТРА…»
К 1901 году Валериан Дмитриев уже оставил университет, поступив в Морской корпус, чтобы получить звание гардемарина, а Антонина училась на педагогических курсах при Санкт-Петербургских женских гимназиях. Матери приходилось особенно много работать, и Лиля, только что пережившая два самых тяжелых потрясения в своей короткой жизни: 1900 год и похороны отца, — подолгу оставалась одна. Впрочем, между приступами болезни она ухитрялась посещать занятия в Василеостровской женской гимназии (9-я линия, д. 6; сейчас там находится школа № 27 с углубленным изучением гуманитарных предметов), куда поступила девяти лет, в 1896 году, и где, несмотря на затяжные пропуски по состоянию здоровья, была на хорошем счету. Ту же гимназию, кстати, окончила и Антонина.
В целом с гимназией Лиле Дмитриевой повезло. В основанное императрицей Марией Александровной учебное заведение принимались девятилетние девочки всех сословий и вероисповеданий — Лилю, живо интересующуюся людьми и вынужденно ограниченную в своих дружбах из-за болезни, это пестрое разнообразие могло увлекать. Могли увлекать и предметы: читая беглую автохарактеристику Лили в советской служебной анкете («знаю следующие языки: французский (и старо-французский), немецкий, английский и испанский»[18]), не забудем, что в Василеостровской гимназии особое внимание уделялось языкам — преподавание немецкого, французского и, разумеется, русского занимало добрую половину всех часов учебного времени. Вот примерное перечисление предметов на пятом году обучения, то есть для Лили — как раз таки в самом начале XX века:
Закон Божий — два урока в неделю;
русский язык — три;
французский и немецкий — по четыре урока;
арифметика, география, рукоделие — по два;
история, естествознание, рисование, чистописание, танцы, пение — по одному.
В гимназии обучались дети университетской профессуры: Александра и Мария Бекетовы (мать и тетка Блока), внучатые племянницы знаменитого ученого А. Н. Веселовского, который числился в попечителях школы и иногда заходил прочесть лекцию для учениц. Занятия продолжались с девяти утра до трех часов дня по четыре урока в день; расписание щадящее. Вероятно, гимназистке Дмитриевой нравились прежде всего языки (немецким и французским, к слову, в совершенстве владел и брат Лили Валериан, что немало помогало ему в военной карьере) — и, вероятно, оттуда, из стен классически петербургского здания гимназии, и было вынесено решение заниматься старофранцузской литературой.
Что же до других предметов, то чистописание Лиля освоила еще под руководством отца, петь и танцевать ей, чахоточной, было нельзя… А вот истории, думается, ей хотелось бы больше, тем более что именно историю она в свое время и будет преподавать.
Занятия занятиями, но не только они влекли Лилю в гимназию. Несколько лет назад у нее, одинокой, мечтательной, появилась подруга, с которой теперь они вместе учились. Позднее ей — Лидии Павловне Брюлловой, внучатой племяннице знаменитого живописца, — будет посвящен куртуазно-многозначительный сонет «Моей одной» (1910), который, если прорваться сквозь его многослойную образность, полную нарочитых красивостей, способен многое прояснить в характере Лили и в ее отношении к себе:
- Есть два креста — то два креста печали,
- Из семигранных горных хрусталей.
- Один из них и ярче, и алей,
- А на другом лучи гореть устали.
- Один из них в оправе темной стали,
- И в серебре — другой. О, если можешь, слей
- Два голоса в душе твоей смелей,
- Пока еще они не отзвучали.
- Пусть бледные лучи приимут страсть,
- И алый блеск коснется белых лилий;
- Пусть на твоем пути не будет вех.
- Когда берем, как тяжкий подвиг, грех,
- Мы от него отымем этим власть, —
- Мы два креста в один чудесно слили.
По словам комментаторов, загадочные «два креста, вероятно, символизируют в этом стихотворении святость и грех» [19] — то есть, призывая соединить их в один, Лиля призывает к отрицанию условностей, к преодолению ограничений, в конечном итоге — к бытию без границ. Но и к тому, чтобы напомнить себе самой: они с Лидой Брюлловой идут одним крестным путем, поддерживая и дополняя друг друга. Можно предположить, кстати, что «ярче и алей» на момент написания сонета была именно Лидина жизнь, в то время как Лиля, переживавшая развоплощение Черубины, замкнулась в себе, и лучи ее дара «устали гореть», — но в том-то и дело, что на протяжении всей их (пожизненной) дружбы Лиля Дмитриева и Лида Брюллова нередко менялись местами: одна шла впереди, торя литературную или антропософскую тропку, другая следовала за ней, и «кресты» их действительно были слиты в один.
В семье Лиды Брюлловой «шестеро детей росли без матери под каменной рукой гувернантки». [20] Их дружба началась в 1894 году, когда семьи Дмитриевых и Брюлловых проводили лето на даче в Иванове. Заболевшей Лиле нужны были свежий воздух и солнце, ее подростку-брату и сестре Антонине — компания одногодков, детям-Брюлловым, которых строгая гувернантка, не умея придумать занятия на лето, заставляла проходить за каникулы полный курс гимназии на год вперед, — хотя бы какой-нибудь выход за пределы холодноватого и церемонного домашнего мира.
Фактически семьи дружили давно — Антонина училась в гимназии вместе с Еленой Брюлловой, в Петербурге они были соседями по адресам на Васильевском острове. Но еще больше, чем соседями или друзьями, были они современниками: в семье Брюлловых чувствовалось то же напряжение рубежа веков, то же предвосхищение мирового пожара, дававшее знать о себе то революционными настроениями, то декадентскими эскападами, то жизнетворческими трагедиями. В 1896 году застрелился старший брат Лиды Александр Брюллов, сестры тяжело переживали его смерть; общее горе еще теснее связало их с Дмитриевыми… К тому же слегка затравленную старшими сиблингами Лилю Дмитриеву явно успокаивали сдержанные и доверительные отношения Брюлловых, а чуткую Лиду Брюллову согревало материнское тепло и участие Елизаветы Кузьминичны. Ее осиротевшие девочки Брюлловы порой называли мамой.
Позднее Елизавета Кузьминична заменит им не только мать, но и бабушку. Племянница Лидии Маргарита Зарудная-Фриман вспоминает:
У мамы была любимая подруга Тоня, которая умерла незадолго до ее свадьбы. <…> Тонина мама после ее кончины относилась к маме как к родной дочери. Акушерка по профессии, она старалась быть с мамой при рождении всех детей. Наши родные бабушки обе умерли еще до нашего рождения. Заменой для нас стала Бабушка, поэтому мы так ее и звали. Настоящее ее имя было Елизавета Дмитриева, но отчества ее я не помню.[21]
Пятерых детей Елены Брюлловой-Зарудной (всего в семье их было шестеро; клан Брюлловых, в отличие от клана Дмитриевых, даже и в леденящие времена революции и Гражданской войны прирастал многолюдьем) приняла Елизавета Кузьминична. В 1910-е годы она взяла на себя их религиозное воспитание: водила в церковь маленькую Маргариту, назначала даты первых исповеди и причастия. Так получилось, что после смерти старшей дочери Антонины в 1908-м утешение она нашла не в карьеристе Валериане и не в Лиле с ее жизнетворческой одержимостью, а в Елене Брюлловой-Зарудной, счастливой жене, самоотверженной матери. Такими Елизавета Кузьминична хотела бы видеть собственных дочерей.
Вообще, есть какая-то горькая горечь в судьбе этой женщины, будто бы кто-то нарочно решил посмеяться над ней. В сорок лет овдоветь, пережить всех родных и детей; всю жизнь принимать младенцев и остаться без внуков; похоронить дочь, умершую в затяжных родах (!) от заражения крови; проводить другую дочь в ссылку, из которой та уже не вернется; потерять всякую связь с первенцем, оказавшимся в эмиграции; умереть в родном городе одинокой глубокой старухой в 1942-м — в самый страшный год Ленинградской блокады… Какие уж там «керосин» и «котлеты», какой уж там быт, который вечно воспаряющая дочь ставила ей в вину! Всё то, чего Елизавета Кузьминична добивалась столь долгим и постоянным трудом, оказалось разрушено. Что ей осталось — воспоминания, редкие визиты поклонников творчества Черубины де Габриак, которых к 1930-м годам не осталось совсем? Вера в Бога?..
В недавно изданном романе Е. Чижовой «Город, написанный по памяти» (2018) есть короткий рассказ из 1930-х («маме — семь, значит, 1938-й», — оговаривается Чижова) о «тайной монашенке, одетой в черное»: «Маленькая, сгорбленная (но не согбенная), голова покрыта капюшоном. Не то чтобы мама ее побаивалась, но в комнату к Елизавете Кузьминичне (sic!) заходила редко. На ребенка, выросшего в советской коммуналке, эта комната производит странное, едва ли не пугающее, впечатление: все завешено иконами. От пола до потолка. Скорей всего, храмовыми. Спасенными от большевистского погрома. Но сама ли Елизавета Кузьминична спасала, или выбрана хранителем — этого уже не узнать…» Соблазнительно думать, что этой тайной монашенкой была именно Елизавета Кузьминична Дмитриева, мать Черубины, но даже если не так — описанная Чижовой судьба могла быть и ее судьбой. Учитывая ее набожность и поистине страшные личностные испытания, выпавшие ей на долю, путь тайной монахини, хранительницы подпольной (почти катакомбной) часовни, мог оказаться для нее выбором и спасением. К тому же ведь мать и дочь были очень похожи, а Лиля, и будучи высланной из Ленинграда за антисоветскую деятельность, устроила у себя на ташкентской террасе антропософский «храм» с чтением лекций Доктора Штейнера и собраниями посвященных антропософов!..
В 1938 году Елизавете Кузьминичне Дмитриевой было семьдесят восемь…
Однако вернемся в последнее десятилетие позапрошлого века, в просторное здание гимназии на Васильевском острове.
В 1890-е Лида Брюллова и Лиля Дмитриева старательно учатся, много читают, понемногу взрослеют и исподволь впитывают всю эту неподражаемую атмосферу женского института, знакомую нам по сентиментальным повестям Л. Чарской и по автобиографической трилогии «Дорога уходит вдаль» А. Бруштейн. Многое в Лилиной экзальтации кажется принесенным оттуда: и галлюцинаторные видения, которыми она делится в письмах, и совместные, шерочкины-машерочкины, влюбленности, и будоражащие воображение истории вроде той, что произошла с Удо Штенгеле, немецким студентом, влюбившимся в Лиду Брюллову и завязавшим с ней романтическую переписку. Когда его длинные высокопарные письма надоели Брюлловой, «Лиля сказала: „Дай адрес, я влюблю его в себя“. И добилась этого. Потом и ей надоело. И она написала студенту анонимно, что Лиля умерла. И бедный влюбленный прислал в Петербург лавровый венок с траурной лентой».[22]
В этой юношеской истории показательно многое — и панибратское, дерзкое отношение к смерти, и желание попробовать свои женские силы, и тайное, тоже такое юношеское, соперничество с красавицей Лидой Брюлловой. Действительно, Лида — «миниатюрная, грациозная, с черными бархатными бровями и волнующими синими глазами» [23], была хороша безусловной канонической красотой; где бы ни появлялись подруги, всеобщее восхищение обращалось в первую очередь к ней. Как же было Лиле не ухватиться за розыгрыш с под руку подвернувшимся Штенгеле, как было не спрятать под юношеским хулиганством тайную жажду хотя бы в эпистолярном сентиментальном романе сыграть свою первую главную роль! Тем более что этот розыгрыш не нарушил их дружбы, и Лиля, на всю жизнь сохранившая восхищение Брюлловой и искреннюю привязанность к ней, уже в 1920-е годы будет писать: «Видали Вы итальянок на картинах Карла Брюллова? С четким профилем, с блестящими черными волосами? Вот такая моя Лида Брюллова, почти моя сестра. <…> Она прекрасна и лицом, и душою»[24].
«Лида Брюллова, почти моя сестра…» Запомним это извечное стремление Дмитриевой обрести в чужих людях родных: в Лиде — сестру, в ее детях — своих детей, в легендарной Пра[25], матери Максимилиана Волошина, — мать, отца — в Докторе Штейнере… На роль отца, впрочем, пробовался и Макс Волошин, но не прошел, ибо не его была эта роль. Позиция «отца и учителя» отвергалась Волошиным начисто — этим он даже раздражал своих молодых протеже, от Маргариты Сабашниковой до Марины Цветаевой. От увесистого, монументального, бородатого Макса все ждали наставничества, все готовы были пойти за символистским мудрым гуру; но вот чего-чего, а модного в кругах старших символистов «вождизма» в Волошине не было ни на грош. Было — вдохновенное желание делиться тем, что он знал и любил, будь то мемуары Казановы, как в случае с Цветаевой («В семнадцать лет — Мемуары Казановы, Макс, ты просто дурак!» — ругалась Елена Оттобальдовна Волошина. «Но, мама, эпоха та же, что в Жозефе Бальзамо и в Консуэле, которые ей так нравятся… Мне казалось…» — «Тебе казалось, а ей не показалось. Ни одной порядочной девушке в семнадцать лет не могут показаться Мемуары Казановы!» — «Но сам Казанова, мама, нравился каждой семнадцатилетней девушке!»), парижская живопись, как в случае с Маргаритой Сабашниковой, или различные теософские выкладки, с обмена которыми и началось их знакомство с Лилей.
Делиться — да, но вести за собой? Да еще утверждать, будто знаешь, куда вести? «Я старше тебя. Я больше перетерпел. Я опытнее. В конце концов, я твой учитель. Но ведь я не учу тебя жить» — этими словами географа Служкина из романа А. Иванова «Географ глобус пропил», столь популярного в наши дни, мог бы сказать и Волошин. Думается, что финальная отповедь Лили («Я не вернусь к тебе женой, я не люблю тебя») связана именно с этим — таким, в сущности, детски-беспомощным! — разочарованием в Учителе: создал легенду, увлек за собой, а сам, оказывается, не знал ни куда идти Лиле, ни что делать теперь с Черубиной. В растерянности и отчаянии, отказавшись от водительства Макса, Лиля бросается к другому учителю, в отличие от Волошина чувствующему себя в роли гуру куда как уверенно, — к Доктору Штейнеру, одной из самых культовых и загадочных фигур европейской культуры начала XX века.
Впрочем, ничего этого легкомысленно хохочущая над траурным венком, присланным ей безутешным возлюбленным, Лиля пока что не знает. Как не знает и следующего: явившись к Удо Штенгеле в роковой и таинственной роли, утвердив свою власть над ним и расправившись с собственным эпистолярным лирическим «я», она, в сущности, набросала черновик жизни будущей Черубины де Габриак! Только в 1909 году на месте безвестного одураченного студента окажется сам Сергей Маковский, вершитель тогдашних поэтических судеб, да и Дмитриевой придется пережить не комическое истекание клюквенным соком, а гибель всерьез.
Ну да что-что, а гибель ее не пугает. Забегая вперед скажем, что и собственную реальную, а не вымышленную смерть Елизавета Ивановна Дмитриева-Васильева встретит мужественно и открыто, хотя действительное событие смерти в ссыльном Ташкенте, вдалеке от родных и друзей, окажется вовсе не столь декадентски-романтизированным, как представлялось ей это в 1910 году. Перед смертью она успеет увидеться с Лидией Брюлловой-Владимировой — та приедет к подруге в ссылку в августе 1928 года, а 5 декабря 1928-го Лили не станет.
Их дружба, начавшись под летним небом равнинной России, окрепнет, пропитанная туманами призрачного Петербурга, и завершится под дикими звездами Азии, властно вторгшейся в судьбу Лиды Брюлловой уже после смерти «ее одной». Когда Лидию с Дмитрием Владимировым, ее третьим мужем, вышлют из Ленинграда во время кровавой чистки 1930-х годов, местом ссылки они выберут город, где жила и умерла сосланная еще раньше Лиля. Там, в Ташкенте, в 1941-м их настигнет очередной арест. Дмитрий Владимиров год спустя умрет в лагере, а Лидия Павловна, пережив и его, и детей, отсидев свои десять лет за контрреволюционную агитацию, 30 марта 1951 года будет «освобождена из мест лишения свободы Узбекской ССР по отбытии срока».
Дальнейшая ее судьба неизвестна.
Известны стихи, которые она посвятила подруге где-то в середине 1920-х, не то откликаясь на давнее юношеское посвящение, не то предчувствуя скорую их разлуку и будущую судьбу:
- Ветры бродят духами бездомными,
- И полям неявленное снится.
- О Тебе, Одна, с глазами темными,
- О Тебе мне хочется молиться.
- О Твоих руках, печалью связанных,
- Гибких пальцах, вымытых слезами,
- О Твоих страданьях нерассказанных,
- Грустная, с глубокими глазами.
- Все провижу, тихая, скорбящая,
- Все вложу
- в молитвенные строфы.
- Поведет Тебя судьба незрящая
- Через жизнь до благостной Голгофы.
С точки зрения всего последующего XX века Голгофа Дмитриевой и действительно была благостной — во всяком случае, благостнее Голгофы Брюлловой, на долю которой выпали и гибель близких, и лагерь в Фергане, и одинокая смерть. Кто знает, о чем она вспоминала, затерянная в душной и чуждой ей Азии, утратившая все дружеские и семейные связи? Может быть, о далеком Васильевском острове, о гимназии, о 1900-х годах? О двух девочках, темноволосых сиротах (у старшей нет матери, а у младшей — отца), вместе взрослеющих, вместе мечтающих, вместе вступающих в новую взрослую жизнь?..
В 1904 году перед ними, семнадцатилетними, с блеском окончившими гимназию («с медалью, конечно», — снисходительно будет писать Лиля в поздних воспоминаниях), а также перед их третьей подругой Майей Звягиной, в 1900-м перебравшейся в Петербург из Сибири, вставал вопрос о том, что делать дальше. И здесь их пути ненадолго расходятся. Брюллова, девочка из обеспеченной семьи, может позволить себе не стремиться к какой-либо узкой профессии и решает закончить учебу, а Дмитриева — по собственной воле или по совету родных выбравшая карьеру учительницы — продолжает образование и поступает на словесно-историческое отделение в свежеоткрытый (в 1903-м) Императорский женский педагогический институт.
«ИНСТИТУТКА, КУЗИНА, ДЖУЛЬЕТТА»
Институт на Малой Посадской, дом 6, был едва ли не лучшей кузницей педагогических кадров начала XX века. Его открытие приветствовали как культурный прорыв того времени, и сам В. Розанов в заметке «Женский педагогический институт», опубликованной в «Новом времени», воодушевленно писал:
Преобразование женских педагогических курсов, которые стояли в тени около высших женских курсов (бывших Бестужевских) и женского медицинского института, в законченное высшее специальное заведение представляет собою многоразличный интерес и важность. <…> До сих пор женщина русская трудилась исключительно на низшем педагогическом поприще: как учительница сельских и городских начальных училищ и как преподавательница в низших классах женской гимназии. Недостаток высшего научного образования, именно недостаток для женщины соответственных частей университетского преподавания, не пускал ее далее. Учительский персонал женских гимназий был поэтому крайне пестрый: начинали гимназисток учить учительницы, — сами со средним гимназическим образованием, — а кончали их учить учителя, большею частью имеющие уроки в женских гимназиях как побочное пополнение главного своего заработка в мужских. <…> Между тем женская гимназия в численности своей сравнялась давно с мужскою, а когда открылся женский медицинский институт уже с задачами государственными, обширными, — к женской гимназии, естественно, предъявились и требования преподавания приблизительно столь же строгого, точного и обширного, как и к питомцу мужской гимназии, готовящемуся в высшее заведение. Таким образом, подготовка учительского персонала специально для женских гимназий стала задачею времени.[26]
Вряд ли, конечно, Лиля Дмитриева расценивала свое поступление как следование педагогическому призванию или — тем более — исполнение «задачи времени»: гимназическая карьера отца, да и учительство старшей сестры, с преподавательской кафедры Василеостровской начальной школы поторопившейся выйти замуж, не казались особенно вдохновляющими. Однако она хорошо понимала необходимость получения профессии — все трое детей Дмитриевых готовились самостоятельно зарабатывать на жизнь, а уж перед Лилей, младшей и болезненной, призрак «благородной бедности» маячил вполне ощутимо. (Едва оправившись от туберкулеза, она начнет совмещать работу в гимназии и частные уроки, в одном из писем в Коктебель обмолвится, что к ней в поездке присоединится Гумилев, «если ему не очень дешево в III классе»… Отметим и бедность, и благородство.) А Женский педагогический институт не только предоставлял отличные знания, но и заботился о трудоустройстве своих выпускниц.
К тому же Лилиному честолюбию льстил статус новоиспеченного института, собравшего лучших из лучших. В числе преподавателей были философы Э. Радлов, Н. Лосский, историки Э. Гримм и А. Васильев; с лекциями выступал Веселовский, которого Лиля любила еще по гимназии, зачитываясь и его программной работой «Женщина и старинные теории любви», и знаменитой «средневековой» «Поэтикой розы» (что и вовсе была напечатана в благотворительном альманахе под названием «Привет», выходившем в гимназии в пользу нуждающихся учениц). Как всегда бывает в первые годы после открытия, институт привлекал молодых специалистов, энтузиастов преподавания, увлеченных не только прошлым, но и современностью, мало отстоявших по возрасту от своих учениц и не требовавших от них соблюдения субординации. Так что уже в 1905 году Лиля близко общается с преподавателем философии и сотрудником Публичной библиотеки Э. Радловым, он предлагает ей материалы для чтения; в годы учебы Лилей прочитаны первые книги А. Блока, книги «отцов символизма» Д. Мережковского и В. Брюсова, сборники Ф. Сологуба, М. Кузмина, К. Бальмонта…
Видимо, поначалу вчерашнюю гимназистку, воспитанную на Гофмане, Сервантесе и — в крайнем случае — Мирре Лохвицкой, современная поэзия неприятно шокирует. В те годы, когда большинство читателей пишут бесчисленные подражания, она пишет пародии, и весьма остроумные: например, в миниатюре «Из Сологуба» (1907) неплохо передана не только псевдодидактическая манера писателя (можно представить, как жадно Лиля, дочь гимназического преподавателя и сама будущая учительница, вчитывалась в его «Мелкого беса»!), но и общая атмосфера тлетворности и вседозволенности, постепенно охватывающая Петербург:
- Целуйте без мамаши
- Вы милых дев,
- Широкие гамаши
- На них надев.
- Целуйте без супруга
- Вы милых жен, —
- Почетный титул друга
- Вам заслужен.
- Целуйте осторожно
- Вы матерей…
- И, ежели возможно,
- То без детей.
А вот — пародия на блоковскую «Незнакомку», в которой Лиля в 1907-м слышит не божественную музыку сфер, а дикую какофонию современности, вторгшейся в ее зачарованный институтский мирок:
- Здесь по камням стучат извозчики,
- В окошке женщины поют.
- В квартирах спрятались разносчики,
- По небу облака плывут…
- И в этот вечер серо-матовый,
- Когда часы на школе бьют,
- В окне блистает глаз агатовый,
- И дико женщины поют.
- О страсти и плаще разорванном,
- О поцелуях красных уст.
- И песней начатой, оборванной
- Так странен крик, а вечер пуст.
Читать эту пародию тем более странно, что всего лишь через пару лет Лиля Дмитриева упоенно будет петь и плащи («В небе вьется красный плащ…»), и поцелуи («Когда выпадет снег, — ты сказал и коснулся тревожно / Моих губ, заглушив поцелуем слова…»), и пустые трагические вечера…
Первые сохранившиеся стихотворные опыты Дмитриевой относятся к 1906 году. Предыдущий год революции не оставил в них никакого следа. Это и неудивительно: после своей болезни Лиля входит в современность с трудом, предпочитая чтению политических прокламаций — занятия средневековой историей, а посещению студенческих оппозиционных собраний — лекции по испанистике и французскому языку. Однако не забудем, что девушка практически живет на квартире Брюлловой, а все Брюлловы, в отличие от аполитичных Дмитриевых (Елизавета Кузьминична решала практические вопросы ежедневного бытового существования, Валериан, воевавший в Японии, был верным сыном Царя и Отечества, Антонина жила, погруженная в свою женскую жизнь…), были активно вовлечены в политические перипетии начала столетия.
Маргарита Зарудная-Фриман рассказывает:
Мама (Елена Павловна Брюллова, старшая сестра Лидии. — Е. П.) с ее пылкой натурой, конечно, не могла оставаться в стороне от политики. Студенты читали Карла Маркса, Каутского, оппозиционные журналы. Время было бурным. <…> В какой-то момент своей студенческой жизни мама вступила в Социал-демократическую партию, позднее, в 1905 году, вышла из нее и вступила в партию социал-революционеров.[27]
Елена Брюллова не одинока в семье. Симпатии клана Брюлловых (как и другого знаменитого клана, причастного к русской поэзии, — клана Эфронов) были явно на стороне социалистов-революционеров. К эсерам принадлежала не только увлекшаяся революцией на волне общих студенческих настроений Елена, но и Надежда Владимировна Брюллова — ее кузина, член партии, убежденная революционерка, блестящий оратор, впоследствии — профессиональный этнограф; в 1937 году ее расстреляли все в том же ссыльном Ташкенте как эсерку и контрреволюционного агитатора. Вполне вероятно, что именно Надя Брюллова стала для своих кузин Лидии и Елены проводником в общественно-культурную жизнь середины 1900-х годов, а в отношении Лиды — сыграла еще одну важную роль: познакомила ее с критиком и публицистом Петром Пильским, сотрудником эсеровской газеты «Мысли», бывшим офицером и близким другом писателя А. Куприна.
Петр Пильский, автор знаменитой формулы о Серебряном веке: «Литература разручеилась», — был тогда одним из ведущих критиков поколения. Новатор, энтузиаст, остроумец, тот, чьего едкого слова побаивались, тот, о ком Саша Черный от лица молодого поэта с комическим придыханием писал: «Назовет меня Пильский дешевой бездарностью, / А Вакс Калошин — разбитым горшком»[28]… Середина 1900-х годов — время его громкой славы, время, когда он буквально фонтанирует начинаниями и проектами, помимо литературной деятельности увлекаясь еще и политикой: весной 1905 года Пильский дважды был арестован, а год спустя — подвергнут судебному преследованию за написание брошюры под названием «Охранный шпионат», в которой небезосновательно усмотрели оскорбительную и резкую критику царской охранки. Кто знает, уж не сочувствие ли к пламенному «богемисту», не яркость ли его судьбы заставили Лиду Брюллову отдать ему свое сердце? Если так, можно предположить, что первое личное знакомство Лили Дмитриевой, в те годы, очевидно, пребывавшей в тени подруги, с современной литературой и теми, кто ее «делает», происходило именно в поле критика Пильского, широким жестом распахивающего перед вчерашними гимназистками двери в большую литературу блистательного Петербурга.
Никаких точных сведений о том, что именно Пильский ввел Дмитриеву в поэтическую среду, у нас нет, но цепочку достроить легко. Крепкая дружеская, почти сестринская связь Лиды и Лили — связь, которая в юные годы предполагает общую среду и компанию; расширяющийся круг знакомств; множество политических и литературных течений, в которых так трудно и боязно ориентироваться без провожатого… А Пильский литературную среду современности знал хорошо, «дневал и ночевал в кафе и ресторанах, обожал разговоры до утра в каком-нибудь литературно-артистическом клубе, любил возбуждение от вина, атмосферу дружбы, споров и ссор, перекрестный огонь шуток и эпиграмм, игру флирта и влюблений, беспорядок и толчею случайных вечеринок и непринужденных пирушек».[29] Естественно, Лиду после чопорного дома Брюлловых подобная атмосфера пьянила, и вскоре двадцативосьмилетний Пильский сделался ее первым — невенчанным — мужем.
От этого союза в 1909 году у Лиды родился сын Юрий, Лиля Дмитриева стала для него крестной. Но совместная жизнь пары складывалась непросто. Пильскому было не до семьи: его то арестовывали и держали под следствием, то выпускали; он колесил из города в город, сотрудничал с несколькими изданиями, работал над публикацией сборника с характерным названием «Проблемы пола, половые авторы и половой герой» (1909)… Жена с ребенком в эту круговерть совершенно не вписывались, в клане Брюлловых били тревогу — Лиду надо спасать! И вскоре молодой матери уже предлагает руку и сердце Павел Шаскольский, брат Петра Шаскольского, видного эсера и мужа Надежды Брюлловой-Шаскольской, таким образом дважды поучаствовавшей в «женской жизни» кузины.
По всей видимости, Петр Пильский — бретер, самохвал, забияка, кабацкий драчун — не был склонен к мирному расставанию: об этом свидетельствует письмо Петра Шаскольского к брату, где Петр перечисляет, какие скандалы, включая газетные, в этом браке придется выдержать, и обещает от себя и Надежды полную родственную поддержку.
Все газеты были в руках Петра Пильского. Все симпатии — на стороне Лиды.[30]
Что же касается Лили, то и в 1906 году, когда предположительно состоялось знакомство Лиды Брюлловой и Пильского, и в начале 1907-го она пребывала в этом обществе на вторых — по сравнению с Лидой — ролях. Ее принимали здесь если не снисходительно, то покровительственно — к тому же, по-видимому, ей нередко приходилось выступать в роли некрасивой подруги, о чем по-мужски бесхитростно свидетельствуют, например, мемуары И. фон Гюнтера, немецкого журналиста и переводчика, с которым нам еще предстоит встретиться на страницах истории Черубины:
Дмитриева вдруг оживилась, обратила на меня внимание и прочитала еще несколько своих стихотворений. <…> Поскольку она была подругой очаровательной Брюлловой, я не скупился на похвалы. После чего и был зван на вечер к последней, чтобы еще раз послушать стихи ее подруги. Она дала мне свой адрес и телефон. Посчитав, что главная моя цель достигнута, и подустав от «синих чулок», я встал, чтобы откланяться.
Одновременно со мной поднялась и фрейлейн Дмитриева, чтобы тоже проститься. Следуя галантному петербургскому обычаю, я вынужден был предложить себя ей в провожатые. Фрейлейн Дмитриева сразу же согласилась <…>
Когда я помог ей сойти у ее дома и уже собирался прощаться, она вдруг предложила еще немного прогуляться. А так как мне хотелось побольше узнать о ее красивой подружке, я согласился, отпустил кучера и спросил, куда ей хочется пойти.[31]
Удивительно ли, что до поры до времени Лиля затаивается, не выказывает свой «нескромный, нешкольный, жестокий дар»?
По ранним пародиям легко восстановить ее напряженное, недоверчивое отношение к современной словесности, их очевидное — и болезненное для Лили — несовпадение. Современная литература вызывает на откровенность («Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, / Хочу одежды с себя сорвать») — Лиля таится, молчит о себе (и — забегая вперед — так и будет молчать до 1909 года, до самых исповедальных ночей в Коктебеле). Современная литература требует от поэта порочности, искушенности, прикосновения к безднам греха и соблазна («Всё видеть, всё понять, всё знать, всё пережить…») — Лиля, «книжная девочка», только-только оправившаяся от долгой болезни, стыдится своей неопытности. Современная литература исповедует культ красоты («Ты Бог иль Сатана? Ты Ангел иль Сирена? / Не все ль равно: лишь ты, царица Красота, / Освобождаешь мир от тягостного плена…»), культ античного совершенства — Лиля, остро осознающая собственную некрасивость, убегает от этого культа в эпоху Античности, диаметрально противоположную, призывающую к изнурению плоти и отречению от физической красоты в пользу духовного преображения.
Средневековье, испанское и французское, которое она вдумчиво изучает в начале 1900-х годов в институте, оказывается для нее ближе, чем современность. В июне 1907 года, впервые надолго разлучившись с «почти сестрой» Лидой (вот еще один повод предположить, что последняя в это время увлечена собственной личной жизнью и легко отпускает подругу, хотя в любом другом случае готова была бы поехать за ней), Дмитриева уезжает в Париж. После непроговоренного, подспудного, но ощутимого разочарования в русской современности она намеревается задержаться там для учебы в Сорбонне.
СУМЕРКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Всё в той же «Автобиографии» об этом сказано коротко — «после была и училась в Париже, в Сорбонне — бросила». Очевидно, воодушевления эти воспоминания у Лили не вызывают. Возможно, ей, за последние годы в России привыкшей к поддержке подруг, попросту одиноко в Париже («В большом и радостном Париже / Все та же тайная тоска», — двумя годами позже обронит семнадцатилетняя Марина Цветаева, под предлогом посещения лекций в Сорбонне отправившаяся в паломничество по наполеоновским местам), а возможно, причина еще прозаичнее: овдовевшей Елизавете Кузьминичне нелегко приходилось материально, и Лилю то, что ее полноценный курс в Сорбонне семья явно не потянула, могло уязвлять.
Да и сам Париж не нашел отражения в ее стихах. В отличие от Макса Волошина, этот город боготворившего («В дождь Париж расцветает, / Точно серая роза…») и обратившего к нему цикл влюбленных стихов, Дмитриева о Париже — между прочим, увиденном ею впервые, — не пишет. Наоборот: к лету 1907 года относятся несколько ее ранних лирических стихов, уже не пародийных, а искренних, совершенно сомнамбуличных — как будто бы, несмотря на учебу в Сорбонне, к которой она так стремилась, самое главное для нее происходит внутри.
В конце XIX — начале XX века Сорбонна была открыта для иностранцев. Программа общества «Alliance Française», организованного при французском посольстве в 1883 году и имевшего целью содействовать изучению вне Франции французского языка, а также знакомить иностранцев с французским искусством, поощряла стремление к «диалогу культур», по-своему способствуя обретению единого мирового культурного кода. (К этому же периоду, кстати, относятся и работы А. Веселовского о «встречных» культурных течениях, и создание языка эсперанто — как будто в эпоху, предшествующую мировым войнам, деятели культуры предчувствовали грядущее и по мере сил старались его предотвратить.) Лиля Дмитриева отправилась туда по программе летних курсов для иностранных учителей: Министерство народного просвещения в России порою предоставляло возможность посылать (будущих) гимназических преподавателей на стажировку в Париж и, что немаловажно, выдавать им стипендию от соответствующего учебного заведения. Должно быть, Лиле пришлось постараться, чтобы стипендия Женского педагогического института была выдана именно ей, но любовь к средневековой литературе воодушевляла, а прилежания ей было не занимать.
Летние курсы, длившиеся полтора месяца, были усечены по сравнению с полноценной программой, однако посильны финансово: плата за обучение составляла один франк с каждой лекции. Программа была определена еще в 1890-е годы и мало менялась. Слушатели, прошедшие стажировку в 1908 году, указывали, что в нее входили экспериментальная фонетика, современная, историческая и сравнительная грамматика, объяснение классических и современных текстов, практические занятия и экскурсии по парижским музеям. Предположительно в 1907-м было то же, причем достоверно известно, что курс лекций по современной литературе читал видный французский ученый и критик профессор Рене Думик. Среди его слушателей упоминается и Елизавета Ивановна Дмитриева.
Однако ведь все дело в том, что в Сорбонну Лиля отправилась не за лекциями. В Сорбонну она отправилась за европейским Средневековьем.
Хотя программная работа историка П. Бицилли «Элементы средневековой культуры» будет издана только в 1919 году, многое носится в воздухе уже в 1900-е, и параллель между Средневековьем и ранним Серебряным веком напрашивается сама собой. «Символизм и иерархизм — такова формула средневекового мировоззрения и такова формула всей средневековой культуры, — пишет о Средневековье Бицилли. — Все, что видит средневековый человек, он старается истолковать самому себе символически. Все окружающее его полно особого значения, таинственного смысла, и в соответствии с этим отношением к действительности он создает свою науку о ней».[32] Но ведь так было и в начале XX века! Торжество символизма, иерархическая преемственность, подразумевающая непререкаемый авторитет «старших по группе» и почтительное внимание учеников; мистика, оккультизм, всевозможные поэтические суеверия, литературные салоны, собирающие вокруг себя тайные ордены, — «Башня» Вячеслава Иванова и дом Мурузи, в котором встречались приверженцы четы Мережковских, брюсовская квартира на Цветном бульваре, где в 1900-е годы не только читали стихи, но и вертели спиритические столики… В Средневековье их, представителей «поколения кануна», манила прежде всего возможность преодоления инерции и выход к торжественному «Солнцу Завета». Об этом прощании с сумерками эпохи написаны брюсовский «Огненный ангел» и его же «Оклеветанный ученый» — биография знаменитого алхимика Агриппы Неттесгеймского, героя фаустианского типа, особенно близкого старшему поколению отечественного модернизма; об этом же можно прочесть и в «Стихах о Прекрасной Даме» А. Блока, фактически выведшего поэтику темного Средневековья в сияющий Ренессанс.
Серебряный век спрессовал опыт прошлого и за свои тридцать лет ухитрился прожить несколько полноценных эпох. 1890-е были Средневековьем; 1900-е — Возрождением; 1910-е, начавшись акмеистическим классицизмом, тут же перебились барочностью футуризма со свойственной последнему избыточностью и причудливым многообразием форм. Кроме того, не будет преувеличением сказать, что человек Серебряного века ощущал себя кем-то вроде гения Возрождения по отношению к темному русскому реализму с его догматами и стремлением свести личность к типу (по Веселовскому, «Средние века остановились на формуле типа и не добрались до личности»[33], — не напоминает ли это кредо русского реализма об изображении типического человека в типических обстоятельствах?). То есть Средневековье во всем его многообразии одновременно и отталкивало, и манило; плоть от плоти Средневековья с его суевериями, мистическими практиками, исступленной экзальтированной верой и проч., художники 1900-х годов стремились к свету Возрождения и провозглашали человека мерой всех вещей.
Лиля Дмитриева, тянущаяся к образам сумеречным, переходным, канунным, среди своих современников — не исключение. Ее любимые герои: и Дон Кихот Ламанчский, задумавший претворить в реальное существование куртуазную условность, и святая Тереза Авильская — то ли средневековая мученица, то ли исступленно влюбленная в Иисуса Христа еретичка, — это герои эпохи кануна. Сорбонна дает ей возможность заговорить со своими героями на одном языке.
Рыцарская поэзия, провансальская лирика, средневековая латынь голиардов (кстати, известных своими пародиями на самих же себя), трубадуры, труверы, пленительные жанры альбы и лэ… Лиля покупает в Париже гравюру XVI столетия с изображением святой Терезы Авильской, с тех пор сопровождающей ее во всех переездах (именно перевод октав святой Терезы станет первым опубликованным Лилиным стихотворением); Лиля всматривается в глубь веков, воображая себя то героиней куртуазной альбы, то затворницей монастыря, то сгорающей на костре инквизиции «исступленной химерой»-пророчицей. Пройдет два-три года, и все эти образы воплотятся в ее стихах — в этом смысле поездка на курсы в Париж оказалась вполне плодотворной, — но имевшая место, по-видимому, мечта Лили о полноценной учебе в Сорбонне хотя бы в качестве вольнослушательницы потерпела фиаско. К августу Елизавете Кузьминичне Дмитриевой стало ясно, что содержание младшей дочери за границей семья не потянет, а зарабатывать себе на жизнь во Франции Лиля, совсем юная и слабая здоровьем, конечно же не могла.
Должно быть, с этой неуверенностью и зыбкостью, с этим внутренним разочарованием связано Лилино парижское настроение. Мы узнаём его по нескольким стихотворениям, написанным летом 1907-го; к одному из них Лиля вернется в 1909-м, уже обладая версификаторским мастерством Черубины, допишет его, дочеканит — и в таком виде стихотворение о похороненной сказке войдет в ее личный биографический миф:
- Схоронили сказку у прибрежья моря
- В чистом, золотистом тающем песке…
- Схоронили сказку у прибрежья моря
- Вдалеке…
- И могилу сказки скоро смоют волны
- Поцелуем нежным, тихим, как во сне…
- И могилу сказки скоро смоют волны
- В глубине…
- Больно, больно плакать над могилой сказки,
- Потому что сердце умирает в ней…
- Больно, больно плакать над могилой сказки,
- Не своей…
Под стихотворением дата — 1906–1909. Метка «1909» понятна: в ноябре этого года история Черубины завершится дуэлью Волошина и Гумилева и поспешным отказом Дмитриевой от страшной «сказки», чуть было не обернувшейся гибелью одного из дорогих ей людей. А вот что означает первая метка — «1906»?
Осенью 1906 года Лиля знакомится с Всеволодом Васильевым, двадцатитрехлетним студентом Санкт-Петербургского института путей сообщения. О нем самом известно крайне мало, о начинающейся его любви к Лиле — совсем ничего. Можно только гадать, где и как состоялась их первая встреча: в окололитературных кругах, близких Пильскому, на какой-либо из студенческих вечеринок в компании Лилиной сестры Антонины, ровесницы Всеволода, наконец, на одном из бесчисленных религиозно-философских собраний, куда любознательной молодежи того времени трудно было не заглянуть? Первое — вряд ли: судя по всему, Васильев мало интересовался не только чужим, но и Лилиным творчеством. Второе — вполне допустимо, но никаких подтверждений этому нет. Остается третье, тем более вероятное, что впоследствии молодой инженер окажется тесно связан с учением Доктора Штейнера, а его близкий друг еще по гимназии, Борис Леман (запомним это имя!), и вовсе сделает неплохую карьеру антропософа и толкователя каббалы.
Мы не знаем, почему Васильев сделал Дмитриевой предложение практически сразу после знакомства и почему она согласилась. Ясно одно: ее отъезд в Париж — их первая разлука и повод проверить серьезность еще неустойчивого, невнятного чувства. Эти определения, впрочем, относятся больше к Лиле, чем к Всеволоду: тот был очевидно влюблен и от слова, данного Дмитриевой, не отказался даже после весьма для него драматичных событий 1909 года, — но она сомневалась, «металась, не знала» и паузу в отношениях явно восприняла как возможность приостановиться и разобраться в себе.
И вот в летних парижских стихах появляется странный для свадебного сюжета образ осколков — разбитой надежды, разбитого сердца: «Но сердце от первой же ласки / Разбилось, как хрупкий хрусталь», «Надломилось, полно кровью / Сердце, как стекло. / Все оно одной любовью / Истекло». Отметим этот вполне модернистский сбой ритма во всех четных строчках[34], отметим и то, что собственную помолвку автор воспринимает не как исполнение надежд, а как нечто прямо противоположное. Лиля была благодарна Васильеву за его чувство, за то, что он полюбил ее «черненькой» — некрасивой, неловкой, изломанной, — но сама она явно мечтала о большем, а помолвка на этих мечтаниях ставила крест. Отсюда и трогательно-наивное, подростковое удивление: «Зовут это люди любовью… / Какая смешная любовь!», отсюда довольно печальное «антипризнание» («И венок, венок мой бедный / Ты уж сам порви. / Посмотри, какой он бледный / Без любви»), отсюда и горечь о сказке, которая не успела исполниться — а ее уже схоронили.
В 1907 году Лилина роль в их романе свидетельствовала скорее об отчаянной готовности выйти замуж за первого встречного, чем о первой любви. Если вспомнить, что, пребывая в тени блистательной Лиды Брюлловой, Лиля нечасто привлекала мужское внимание, это можно понять; интересно другое — почему за столько лет, проведенных почти что поврозь (окончив институт, Васильев уехал отбывать трехлетнюю воинскую повинность), они не нарушили слова, данного друг другу осенью 1906-го?
«Я… <…> была связана жалостью к большой, непонятной мне любви», — пишет Лиля, объясняя свое обещание Васильеву. «Все, что было во мне хорошего — прямо или косвенно, — было от Лили», — откликается тот. Так или иначе, но когда отгремят выстрелы из пистолетов на Черной речке и утихнет скандал вокруг имени Черубины, Всеволод (Воля) Васильев займет свое место в судьбе Лили Дмитриевой после ее расставания с Волошиным и Гумилевым — уже навсегда.
Кстати, среди стихов, написанных Лилей в Париже, есть и одно каноническое «жениховское» (в данном случае — невестино), в котором она обещает возлюбленному дождаться условленной встречи и питает надежду на новую близость:
- «Когда выпадет снег», — ты сказал и коснулся тревожно
- Моих губ, заглушив поцелуем слова.
- Значит, счастье — не сон. Оно здесь! Оно будет возможно,
- Когда выпадет снег.
- Когда выпадет снег. А пока пусть во взоре томящем
- Затаится, замолкнет ненужный порыв!
- Мой любимый! Все будет жемчужно-блестящим,
- Когда выпадет снег.
- Когда выпадет снег, и как будто опустятся ниже
- Голубые края голубых облаков, —
- И я стану тебе, может быть, и дороже, и ближе,
- Когда выпадет снег.
В этом стихотворении особенно ценны зафиксированная прямая речь и отчетливая биографическая подкладка: вероятно, Лиля и Всеволод, расставаясь, предполагали вновь встретиться осенью — когда в Петербурге «выпадет снег». Сбылись ли их ожидания, неизвестно, но у Лили вскоре после возвращения из Франции действительно начинается новая жизнь.
НАКАНУНЕ
Прежде чем рассказать о Лилином Петербурге 1908–1909-го, стоит упомянуть вот о чем: парадоксально, но, кажется, ее настоящее приобщение к современной русской литературе происходит… в Париже.
В 1900-е годы культурным центром русской жизни во Франции была мастерская художницы Елизаветы Кругликовой на улице Буассанад. Общительная, авантюрная, увлеченная хозяйка мастерской живо интересовалась современным искусством и охотно предоставляла гостям площадку как для общения, так и для серьезной работы, во время отъездов в Россию позволяя им пользоваться помещением и всеми своими живописными принадлежностями. В разные годы на улице Буассанад, 17, останавливались художники Б. Матвеев, Ф. Малявин, М. Волошин, известный тогда едва ли не более как живописец, нежели как поэт… Дружбу с Волошиным Кругликова особенно ценила, и окружающие это знали — в 1902-м Борис Матвеев рассказывал в письме к матери: «Был на вечере у Кругликовой. Там было много народа: компания французов, в которой участвовал и я, устроили шарады в лицах. Было слово „Волошин“ — Vol-oh-chin. А целое, то есть самого Волошина, представлял я, загримировавшись очень удачно: я сопел, как он, и читал его стихи».[35]
К тому времени Кругликова с Волошиным были знакомы всего только год, но успели совершить вместе пешее путешествие в Испанию. Художница привезла оттуда искреннее признание — «Никогда, ни с кем я так весело не путешествовала!», сам Волошин — прелестные «Кастаньеты», посвященные смелой спутнице и воскрешающие в памяти «танец быстрый, голос звонкий, / Грациозный и простой, / С этой южной, с этой тонкой / Стрекозиной красотой». Думается, Дмитриевой с ее любовью к Испании было бы о чем поговорить со своей тезкой; думается также, что с неменьшим любопытством слушала бы она и отзывы о Волошине, с которым в марте 1907-го чуть не пересеклась в Петербурге — весной этого года супруги Волошины, Максимилиан и Маргарита (Аморя), квартировали в знаменитой «Башне» у Вячеслава Иванова, а сама Лиля Дмитриева преподавала немецкий язык его пасынку Косте. А уж в Париже-то имя Волошина было тем более на слуху! Художник, поэт, неутомимый путешественник, странствующий по странам, музеям, библиотекам; убежденный символист, мистик, уверенный, что на парижской площади Иль де Жюиф по ночам слышатся голоса казненных тамплиеров; последователь всевозможных новоявленных религиозных и оккультных течений; постоянный связной между Россией и Францией, а также между представителями разных поэтических и даже политических партий, он как нельзя лучше воплощал в себе всю эту лихорадочную атмосферу рубежа веков — атмосферу непрерывного духовного поиска, политеизма, жизнетворчества и уверенности в безграничных возможностях человека-творца.
С легкой руки Волошина, любившего дарить друзьям друзей (слово самой Кругликовой: «Очень скоро Макс становится центром моего круга знакомых, бесконечно увеличивая его…»), в парижской квартире художницы царил почти коктебельский дух юного творческого содружества. Веселые розыгрыши и религиозные диспуты, научные доклады и сценические этюды, музыка и поэзия… Слава о доме на улице Буассанад распространялась далеко за пределы Парижа, была наслышана о нем и Дмитриева — по всей вероятности, еще в «пильских» кругах, а то и в ивановской «Башне». Жадная до всего нового, в свободное от учебы время она заглядывает к Кругликовой — и застает там художника Себастьяна Гуревича (поговаривали, что он был близок к эсерам, а раз так, то у них могли найтись и общие знакомые — те же Шаскольские), который предлагает Лиле позировать ему для портрета.
Это предложение могло смутить Лилю. И пусть мы не знаем ни ее реакции, ни того, был ли в итоге написан портрет, сам по себе факт подобного предложения — повод поговорить о том самом, что беспокоило Лилю всю жизнь: о ее внешности, описываемой разными мемуаристами столь по-разному, что более противоречивого портрета, пожалуй, мы не встретим во всей истории русской литературы XX века.
Легенда о Лилиной некрасивости стала частью расхожего мифа о Черубине. Главную роль тут сыграла Марина Цветаева, в блестяще проницательной статье «Живое о живом» (1932), посвященной Волошину, припечатавшая со свойственной ей бескомпромиссностью определения — «некрасивая любимица богов»:
Некрасивость лица и жизни, которая не может не мешать ей в даре: в свободном самораскрытии души. Очная ставка двух зеркал: тетради, где ее душа, и зеркала, где ее лицо и лицо ее быта. Тетради, где она похожа, и зеркала, где она не похожа. Жестокий самосуд ума, сводящийся к двум раскрытым глазам. Я себя такую не могу любить, я с собой такой не могу жить. Эта — не я.[36]
Собственно, с цветаевской статьи и началось припоминание истории Черубины. Прежде этих событий кратко касался лишь вышедший в 1921-м очерк-некролог А. Толстого «Гумилев», ну и устные мемуары Волошина, записанные Т. Шанько в Коктебеле в 1930 году. А вот «Портреты современников» С. Маковского (1955) и «Жизнь на восточном ветру» И. фон Гюнтера (1966) в сущности повторили то, что уже было высказано Цветаевой: некрасивая Дмитриева выдумала красавицу Черубину, чтобы образ лирической героини ее стихов соответствовал образу автора.
Но так ли уж автор была некрасива?
Цветаева, конечно, несколько спрямляет ситуацию, приписывая мистификацию Дмитриевой и Волошина действию непреложного жизненного закона — «любят красивых, некрасивых — не любят». Между тем сам Волошин высказывается мягче: «Лиля, скромная, неэлегантная и хромая…» — и это больше похоже на правду, чем ее якобы бросающаяся в глаза некрасивость. О «невыигрышном» стиле Дмитриевой упоминают и щеголь Гюнтер, и денди Маковский; действительно, заработки учительницы, из которых львиная доля уходила, скорее всего, на уплату врачам, не позволяли ей хорошо одеваться, а в дешевых, заурядно скроенных платьях ее невысокий рост и хромающая походка были особенно приметны. Зато как органично выглядела Лиля в Крыму, во владениях Волошина, — в просторной и длинной рубахе, босая, с неизменно повязанной головой!
Кстати сказать, из всех знавших Лилю наиболее отталкивающие ее портреты оставили именно Гюнтер и Маковский, по гневным словам Волошина, буквально ненавидевший «плебейку хромушу Дмитриеву»[37] (но если и ненавидевший, то не столько как человека — он ее почти и не знал, — сколько как явление разночинки, пытавшейся пролезть в высокие сферы искусства, оберегаемые от «профанов», да еще и составлявшей разительный контраст по отношению к даме его сердца аристократке Черубине де Габриак). Эстеты, богатые баловни, они требовали от пишущей женщины прежде всего изысканности, утонченности, приближения к прекрасному. И если воспоминания Гюнтера о внешнем облике Лили еще сохраняют некоторую объективность, то образ, вышедший из-под пера Маковского, получился откровенно пугающим:
Дверь медленно, как мне показалось, очень медленно растворилась, и в комнату вошла, сильно прихрамывая, невысокая, довольно полная темноволосая женщина с крупной головой, вздутым чрезмерно лбом и каким-то поистине страшным ртом, из которого высовывались клыкообразные зубы. <…> Стало почти страшно. Сон чудесный канул вдруг в вечность, вступала в свои права неумолимая, чудовищная, стыдная действительность. И сделалось до слез противно и вместе с тем жаль было до слез ее, Черубину…[38]
Не стоит, впрочем, забывать, что портрет Лили автор записок рисует, невольно достраивая реальный сюжет до его романтической завершенности: в страшной сказке полувековой давности заколдованная принцесса, конечно, должна была обернуться злой ведьмой, а не скромной безвкусно одетой учительницей. Маковский и сам допускал, что «чудовищная» внешность Лили только представилась ему «по сравнению с тем образом красоты, что он выносил за эти месяцы». Однако уничижительная характеристика оказалась дана, и вот уже Гюнтер, чьи мемуары написаны с явной оглядкой на мемуары Маковского, вторит художнику, разве что несколько сглаживая его слишком уж резкие формулировки:
Она была чуть ниже среднего роста, немного полноватой, но довольно изящной. В России часто встречаются такие фигуры. У нее были странно большая голова, темно-каштановые волосы, отливавшие иногда махагониевым оттенком, желтоватый, почти сырный цвет лица; темно-синие глаза под ее непропорционально большим лбом смотрели печально и угнетенно, хотя она могла быть веселой и очень острой на язычок. Рот ее был великоват, зубы выступали вперед, но губы были полные, красные, красивые. Круглый подбородок казался тоже широковатым, зато шея была тонкой и длинной. Туловище с мягко округленными плечами и несколько выпирающей грудью выглядело довольно неуклюже, но, может быть, из-за не слишком выигрышной одежды.[39]
Удивительно, но на многочисленных Лилиных фотографиях никакой непропорционально большой головы не найти — разве что «лоб в кудрях отлива бронзы», описанный Гумилевым, лоб крупный, крутой и широкий, привлекает внимание. На своих «официальных», скорее всего — школьных, снимках она открывала его, собирая темные волосы в строгий пучок (мало кому идущая, старящая прическа). Но стоило ей выпустить на лоб пышную челку либо повязаться белым платком-тюрбаном, как было принято в Коктебеле, как ее лицо тут же приобретало лукавое выжидательное выражение, нисколько не подтверждающее наблюдение Гюнтера о «печальных и угнетенных» глазах (кстати — карих, а вовсе не темно-синих). Насколько точнее в этом случае Волошин, обронивший при самом начале их знакомства в 1908-м: «Лиля Дмитриева. Некрасивое лицо и сияющие, ясные, неустанно спрашивающие глаза»[40]…
Возможно, конечно, что в 1909-м, предчувствуя скорый конец Черубины, Лиля действительно выглядела угнетенной. Но по большому счету образу, описанному Маковским и Гюнтером, соответствует лишь одна фотография Дмитриевой — 1907 года, где Лиля изображена почти что послушницей: темная одежда, крупный крест на шнурке, высоко зачесанные волосы и исступленное выражение лица, напоминающее о духовном прозрении и телесном страдании. Однако сама отчетливость этого выражения и тщательно подобранная «монашеская» одежда наводят на мысль — не постановочный ли это снимок, призванный продемонстрировать все напряжение мятущейся юной души? Впрочем, 1907 год был трудным годом для Лили, и запечатленная в кадре болезненная угнетенность вполне может быть следствием тяжелых учебных нагрузок (кроме занятий в Педагогическом институте она проходила практику в Константиновской женской гимназии) и участившихся приступов кровохарканья.
Все остальные ее фотографии рисуют скорее привлекательный образ сдержанной, чуть ироничной юной женщины с широко распахнутыми глазами: деталь, которую неизменно упоминали все, кто описывал внешность Лили, — от влюбленного Макса Волошина до мимолетной приятельницы 1920-х годов антропософки Лиды Хейфец («Огромные, орехово-карие, изумительной окраски, полные света, жизни. <…> Я даже рассмотреть ее не успела в первую встречу. Видела одни глаза»[41]). Сам Гюнтер, чей рассказ строится в основном на воображаемой им любовной игре, не забыл подчеркнуть, что «красавицей она не была, но какой-то изюминкой обладала — теми флюидами, которые теперь назвали бы „секси“. Проявлялось это в том, как она распахивала глаза, как подрагивали ее ноздри, как медленно покачивались ее круглые плечи. <…> Не заметить ее было нельзя».
Как-то это видение распахнутых глаз плохо вяжется с их «печалью» и «угнетенностью»! А вот более поздняя характеристика, данная Дмитриевой не кем иным, как Иммануэлем Маршаком, сыном С. Маршака, с которым спустя десять лет ее неожиданно свяжет не только крепкая дружба, но и общее дело:
В воспоминаниях Маковского содержится много неточностей (главная — утверждение, что часть стихов Черубины написана будто бы Волошиным; сам Волошин это категорически отрицал) и дается не слишком доброжелательный отзыв о внешнем облике Елизаветы Ивановны.
Я сам хорошо запомнил высокую одухотворенность и доброту, которые светились в ее глубоких, чем-то загадочных глазах, делавших ее по-настоящему прекрасной, и отношу эту недоброжелательность к недостаткам личности автора записок.[42]
Вероятно, именно эту «одухотворенность» почувствовал и парижский художник Гуревич, решившийся написать Лилин портрет. Скорее всего, дело ограничилось несколькими набросками, однако в любом случае Лилино появление в мастерской оказалось счастливым. У Гуревича она не только впервые почувствовала себя нравящейся, а художника — заинтересованным ее внешностью, но и… познакомилась с Н. Гумилевым, после нескольких литературных петербургских неудач тоже пытавшимся закрепиться в Париже.
Знакомство получилось коротким — и Лилю, и Гумилева занимали другие заботы. Поэт хлопотал над изданием журнала «Сириус» (неудачного подобия символистского «Золотого руна»), к оформлению которого привлекал и Гуревича; Лилино же обучение в Сорбонне заканчивалось, и пора было собираться домой. Девушке предстоял трудный год: впереди — окончание института, обязательная педагогическая практика, частные уроки — у Лили в 1907–1908-м было много учеников… Кстати об учениках. Возможно, говоря о «долитературной», «дочерубининской» эпохе жизни Елизаветы Ивановны Дмитриевой, стоит сказать и об этой ее ипостаси — учительской?
«Я ХОТЕЛА УЧИТЬ РАЗНЫХ ДЕТЕЙ РАЗНЫМ ВЕЩАМ…»
Итак, «жила-была молодая девушка, скромная школьная учительница. Из ее преподавательской жизни знаю один только случай, а именно — вопрос школьникам попечителя округа:
— Ну кто же, дети, ваш любимый русский царь? — и единогласный ответ школьников:
— Гришка Отрепьев!»
Эту вошедшую в биографический миф Дмитриевой-Черубины историю Цветаева слышала от Волошина.[43] Если же обратиться не к мифам, а к фактам, — они таковы: 18 февраля 1907 года Лиля Дмитриева помимо официального права считаться домашней наставницей-репетитором получила право «преподавать русский язык и историю во всех классах женских средних учебных заведений и в четырех классах мужских средних учебных заведений», а также французский язык как в женских, так и в мужских школах «ввиду отличного знания этого языка».[44] Ее деятельность частного репетитора началась в тот же месяц: мартом 1907 года датировано несколько Лилиных писем к родителям учеников, в числе которых был и пасынок Вячеслава Иванова — четырнадцатилетний Константин Шварсалон.
О нем Лиля пишет сбивчиво и подробно, адресуя письмо домоправительнице Ивановых Марии Замятиной, долгие годы бывшей преданной и молчаливой помощницей венценосной литературной семьи:
Многоуважаемая Мария Михайловна,
Очень сожалею, что косвенно способствовала тому, что Костя так глупо провел вчера день. Во вторник он так жаловался на нездоровье, что я сама находила нужным лучше сразу поберечься и отделаться от недомогания. Мы условились, что если его в восемь с половиной часов не будет, он не прийдет весь день и в четверг явится здоровым. Появление его вчера после обеда было для меня неожиданностью. <…> На беду по просьбе другого ученика я переменила вчера свои уроки (после того, что Костя утром не пришел). Но тем не менее я оставляла его здесь написать немецкий перевод, который он не приготовил. Он предпочел ехать домой и сделать это дома. Но вместо того, несмотря на все усовещания, сам поехал кататься, чем, конечно, доказал, что утром не пришел на урок не по нездоровью, а по лени.
Я сказала ему придти сегодня от 8–9, чтобы заняться вместо вчерашнего урока; придти-то он пришел, но оказалось: перевода немецкого не написал, славянского — половина совсем не написана и не выучена, а другая половина написана небрежно и выучена плохо. Только половина урока истории выучена хорошо, а вторая половина неважно. А после катанья и утра, проведенного зачем-то дома, он доказывает, что не имел времени учить и я задаю много. Все это время последнее он сокращает задаваемые мною уроки (во вторник выучил половину заданного), а потому прошу Вас написать мне, действительно ли он так много учится, что Вы находите, что я много задаю.
Если нет, то не можете ли Вы каким-нибудь способом проверять заданное и призывать его к учению всего, а не половины, иначе мы, право, не поспеем. Нам еще пропасть повторения, а Костя думает только о двухнедельных каникулах.[45]
Прежде не публиковавшееся, это послание многое может сказать о педагогических методах Лили и о той обстановке, в которой она начинала работать. Во-первых, супруги Ивановы к Лиле, пришедшей скорее всего по рекомендации Лиды Брюлловой, а то и самого Пильского, относились как к приходящей учительнице и не больше — не случайно ее обращение не к матери ученика, а к Марии Замятниной, исполняющей в доме Ивановых роль экономки. Во-вторых, ей было трудно «поставить себя» с учениками всего лишь несколькими годами младше ее, допускавшими по отношению к ней хулиганские выходки. В-третьих, бросается в глаза ее настойчивость: педантичная, требовательная по отношению к себе и другим, она искренне обижается нежеланию Кости готовить задания и даже очевидно не справляющемуся ученику продолжает задавать много. Может быть, Лиля с ее блестящими способностями к языкам, двадцатилетняя, трудолюбивая и строгая Лиля попросту не в состоянии поверить, что кому-либо это учение может быть трудно?
Видимо, так. Ее представления об учительстве как о совместном увлеченном труде и старании рано столкнулись с реальностью: ни Костя, ни другие ученики не стремились к требуемому Лилей уровню знаний (а ведь по указанному в письме перечню: немецкий, славянский, история… — видно, как много и разносторонне Лиля с ними занималась). Ни полета творческой мысли, ни даже прилежного штудирования не было в этих занятиях. Ей доставалось подтягивать отстающих, воспитывать начинающих… А если порой удавалось увлечь их какой-либо темой (не зря же у Кости «половина урока истории выучена хорошо»!), то поддерживать интерес не хватало физических сил, о чем Лиля с некоторым даже юмором пишет в одном из позднейших посланий к Волошину, которому будет много рассказывать о своем невеселом учительстве: «Что именно работать зимой я буду — я еще не знаю; всё, что найду. Я хотела учить разных детей разным вещам, но это нельзя; когда я говорю громко, то у меня идет горлом кровь, а от этого я уже не говорю громко, а дети не научатся разным вещам».[46] Дети учились у нее русскому языку и истории в Петровской гимназии, куда ее приняли с осени 1908-го; подготовка учениц оставляла желать лучшего — девочки то уверяли, что Владимир Святой был лютеранин, то называли Олега царем варягов, ходившим на Корсунь; осень началась «скверно, некрасиво и одиноко» — выручала лишь переписка с Волошиным, завязавшаяся еще прошлой весной и с той поры сделавшаяся Лиле необходимой.
Они познакомились в «Башне» у Вячеслава Иванова. Волошин вернулся туда после длительного отсутствия, а точнее — после того, как в марте 1907 года его жена Маргарита Сабашникова вступила в «тройственный союз» с Вяч. Ивановым и Лидией Зиновьевой-Аннибал, и самоотверженному толстому увальню Максу не стало места в этих безумных и взвинченных отношениях. Задумавший сыграть с Маргаритой-Аморей в очередной символистской «мистерии свободного Эроса», Иванов, по свидетельству самой Маргариты, настаивал, что она и Волошин — «существа разной духовной природы, разных „вероисповеданий“… <…> и что брак между иноверцами недействителен».[47] Жена Иванова Лидия, женщина сильная и эксцентричная, поощряла ухаживания мужа, подчеркивая религиозное начало его влечения и не забывая при том о себе: «Более истинного и более настоящего в духе брака тройственного я не могу себе представить, потому что последний наш свет и последняя наша воля тождественны и едины».[48] Маргарита, влюбленная в Вячеслава и связанная с Волошиным, чувствовала себя по-детски беспомощной и отказывалась что-либо решать. Атмосфера на «Башне», и без того грозовая, казалась наэлектризованной до предела.
Кстати, пренебрежение Кости занятиями вполне могло быть следствием происходившего тогда в доме Ивановых. И то сказать: мать пребывала в экзальтации и напряжении, отчим ухаживал за субтильной Аморей, Волошин неприкаянно перемещался по дому, возможно, как это ему было свойственно, заводил разговоры с детьми… Дети вольны были как затаенно переживать за родителей, так и пользоваться внезапной свободой — в любом случае и Вере, позже — близкой приятельнице Лили Дмитриевой, и ее младшему брату было не до уроков. Относительный мир в «Башне» воцарился только после 19-го числа, когда, верный своей позиции «прохожего» («близкий всем, всему чужой»), Волошин отошел в сторону, отбыл в Коктебель, предоставив Аморе свободу, — и приехал назад в Петербург лишь окончательно удостоверившись, что их брак с Маргаритой Сабашниковой завершен.
Как, впрочем, и ее страстный роман с Вячеславом Ивановым. Осенью 1907-го хозяйка «Башни», Лидия Зиновьева-Аннибал, скоропостижно скончалась от скарлатины, и узы их тройственного союза распались, а еще позже место жены Вячеслава Великолепного заняла его падчерица — девятнадцатилетняя Вера Шварсалон. Вот и еще один поэтический выверт эпохи, породившей и набоковскую «Лолиту», и пастернаковского «Доктора Живаго», и дмитриевско-волошинскую Черубину…
Что же до первой встречи Волошина с Лилей, то она произошла в марте 1908-го все в той же квартире Ивановых, на вечере, куда кто-то — может быть, Вера, которая, по ее же собственным словам, «очень увлекалась» Дмитриевой позднее, а поначалу испытывала естественную симпатию к скромной наставнице брата? — Лилю позвал. Там они некоторое время поговорили — о чем, неизвестно; но уже через несколько дней Лиля отослала Волошину данную ей для чтения теософскую книгу с запиской: «Не поздно вернула? <…> Хотелось бы видеть Вас после среды 26-го; хотелось бы придти к Вам. Можно?» Ответ, разумеется, был утвердительным, и начались их едва ли не еженедельные встречи, чью хронологию мы можем восстановить как по Лилиным письмам, так и по волошинским дневникам.
Вот, скажем, запись Волошина от 18 апреля:
Лиля Дмитриева. <…> В комнате несколько человек, но мы говорим, уже понимая, при других и непонятно им.
«Да… галлюцинации. Звуки и видения. Он был сперва черный, потом коричневый… потом белый, и в последний раз я видела сияние вокруг. Да… это радость. Звуки — звон… стеклянный… И голоса… Я целые дни молчу. Потом ночью спрашиваю, и они отвечают… Нет, я в первый раз говорю… Нам надо говорить».
Жутковатая запись — о галлюцинациях, о бредовых видениях, но Волошин — сам визионер и, как называет его А. Варламов, «авгур» — кажется, Лилиной откровенности рад. Ему, питающему жгучий интерес к оккультным практикам, спиритизму и теософии, близки ее мистицизм, готовность к контакту с неведомыми инфернальными силами и уверенность в собственной избранности. Он осторожно готовит ее к восприятию теософских идей, и она откликается — откликается истово, рьяно, с готовностью, увидев в этом могучем благожелательном человеке того, кому можно довериться, под чьим водительством можно решиться на странствие в тот мистический мир, где годами блуждала ее душа.[49]
«Она была во вторник, я говорил много — о смерти, об Иуде… — записывает Волошин в дневник спустя несколько дней. — Она слушала. Отвечала честно и немногосложно на каждый вопрос. <…> Через день я получил от нее записку: „Я весь день сегодня думала, много и мучительно. О том, что Вы говорили вчера. О возможности истины на этом пути. Читала Ваши книги. Теперь знаю, что пойду по этому пути. Твердо знаю. Хотя еще много мыслей, в которых нет порядка. Жму Вашу руку“. Мне эти слова были глубокой радостью. Это не я, но я благодарен, что это через меня…»
По пути теософии — а именно эти книги имелись в виду — Лиля Дмитриева действительно пойдет, но чуть позже. А пока она упоенно впитывает то, о чем говорит ей Волошин, и — едва ли не впервые в жизни — учится говорить о себе. Учится быстро: так, в записи от 26 апреля Волошин еще называет ее «непроницаемой в своей честной откровенности», а спустя всего десять дней, 4 мая, Лиля свободно рассказывает ему о смерти старшей сестры Антонины, скончавшейся в первые дни января:
…Сестра умерла в 3 дня от заражения крови. Ее муж застрелился. При мне. Я знала, что он застрелится. Я только ждала. И когда последнее дыхание, даже был страх: неужели не застрелится? Но он застрелился. Их хоронили вместе. Было радостно, как свадьба… У мамы началось с этого. Это ее потрясло, у нее явилась мания преследования. Самое тяжелое, что она начинает меня бояться…
Лилин 1908 год начался с этой смерти.
Двадцатичетырехлетняя Антонина, счастливая, обожаемая мужем, носила ребенка. В первых числах января Елизавета Кузьминична, поняв, что сердцебиение плода не прослушивается, забеспокоилась, начала хлопотать; решено было вызвать искусственные роды, во время которых и произошло заражение. 5 января Антонина впала в беспамятство, а младшая сестра, вместе с матерью дежурившая у ее постели, принялась готовиться к встрече со смертью:
- Она ступает без усилья,
- Она неслышна, как гроза,
- У ней серебряные крылья
- И темно-серые глаза.
- Ее любовь неотвратима,
- В ее касаньях свежесть сна,
- И, проходя с другими мимо,
- Меня отметила она.
- Не преступлю и не забуду.
- Я буду неотступно ждать,
- Чтоб смерти, радостному чуду,
- Цветы сладчайшие отдать.
Эти стихи были написаны уже после похорон Антонины, когда Лилино отношение к смерти не только как к освобождению (от собственного физического несовершенства, да и от условностей материального мира вообще), но и как к празднику, если угодно — как к тайному браку, стало вполне символистским. Отсюда и некоторая, мягко говоря, странность реакций, которые Лиля себе позволяла, отсюда и «радость», с которой она наблюдала готовность Тониного супруга последовать за умершей женой[50]:
Тоня умерла от заражения крови. У нее был мертвый ребенок. Она не знала, что умирает. Когда на теле начали появляться черные пятна, она думала, что это синяки. Она была еще жива, когда начало разлагаться лицо. Но она была уже без сознания. На лице появились раны. Губы разлагались. Все зубы почернели, и только один вставной оставался белым. Я давала ей пить шампанское с ложки. И сама пила. Ее муж сперва — за 3 дня, когда узнал, что нет спасения, кричал, что он не хочет. Потом вдруг успокоился и повеселел. Я поняла, что он убьет себя. Потом все время, когда шла агония, он был весел и спокоен. Мама его страшно не любила. Она была несправедлива, она кричала на него. Говорила, что это он убил ее. Он так радостно кивал головой и соглашался: «да, убил». Она видела, как он написал записку и положил в карман. Я видела, по тому, как он садился, что у него револьвер в кармане. От него прятали опий. Но мы смотрели друг на друга и улыбались. Потом у нас осталась бутылка шампанского. Мы пили вдвоем в соседней комнате и смеялись. Было очень весело. Брат его, он был младше и страшно любил его, спросил: «Как вы думаете, он ничего не сделает с собой? Нужно ли воспрепятствовать?» Я сказала: не надо. И он согласился.
Тоня умерла в час ночи, а в 11 он сказал мне: «Вы видели?»
Я ничего не видела.
— «Черная тень легла на ее лицо. Она умрет ровно через 2 часа». — Я посмотрела тогда на часы, чтобы знать. Потом всё в комнате начало трещать, как паркет летом. Он сказал:
— «Так всегда, когда покойники». Я переспросила еще, и он опять сказал: «Покойники». Потом он лежал поперек комнаты, загородив дверь. Он упал на лицо, и его волосы откинулись вперед и совсем намокли в крови. Надо было переступать через него, чтобы выйти. Потом мы остались вдвоем с тетей Машутой. Искали разных вещей, не могли найти ключей в их доме. Было очень весело. Через полчаса пришел пристав составлять протокол. Строго спросил, было ли у него разрешение на ношение оружия. Нам стало очень смешно. Он писал всё в протокол: «розовый дом и второй этаж» — и очень подозрительно смотрел на нас. Их не хотели хоронить вместе. Это было трудно устроить. Мама и теперь не может примириться с тем, что они вместе похоронены. Тоне прислали много венков. Мы с Лидой делили их поровну. Но ему кто-то прислал громадный венок из белой сирени с белыми лентами: «Отошедшему». Так и не узнали, кто.[51]
В общем-то, оторопь матери, после смерти Антонины действительно начавшей обходить младшую дочь стороной, более чем понятна. Но… Елизавета Кузьминична Дмитриева не принадлежала к культуре Серебряного века, воспевавшего суицид и влюбленного в смерть. Не знала, что тот же Вячеслав Иванов, к примеру, прощаясь с умирающей от скарлатины Лидией Зиновьевой-Аннибал, «лег с ней на постель, поднял ее. Она прижимала его, легла на него и на нем умерла. Когда с него сняли ее тело, то думали, что он лежит без чувств. Но он встал сам, спокойный и радостный. Ее последние слова были: „Возвещаю вам великую радость: Христос родился!“». [52]Не предполагала, что настойчивый рефрен Лилиного рассказа — «было очень весело… нам стало очень смешно…» — вписывается в широкое поле ассоциаций — от христианского «возрадуемся и возвеселимся» до ницшеанской «Веселой науки», от экстатического дионисийского карнавала до памятной блоковской фразы «Война — это прежде всего весело!», произнесенной в 1914 году. Поведение Лили у смертного ложа сестры, их матери несомненно казавшееся кощунством, на деле всего лишь свидетельствовало о ее принадлежности к «поколению кануна», о стремлении уничтожить границу между добром и злом, жизнью и смертью, бытом и бытием. В конце концов, знаменитое брюсовское «И Господа и Дьявола / хочу прославить я» уже было написано и уже стало девизом Лилиного обреченного и безумного поколения.
Елизавета Кузьминична Дмитриева всего этого, разумеется, не понимала.
А вот Волошин, Лилин корреспондент, — понимал.
Начиная с апреля 1908-го Лиля пишет ему регулярно — о семье, о друзьях, об уроках, о книгах; о жизни в Халиле (в ее написании — Халоле) — санаторном курорте в Финляндии, где она летом лечится от туберкулеза, но уж очень гнетет обстановка: «Здесь, где я живу, — страшный дом. <…> Здесь только чахоточные, все они видят и знают близко смерть. Про нее здесь только и говорят. Никто не смеется. Говорят тихо. И ночью все кашляют и стонут. <…> Но я здесь совсем одна — и это хорошо».[53] И дальше, в другом письме: «Здесь не только ждут смерти, здесь еще и плачут о жизни, и она сюда приходит, принимая странные, едкие формы. И от невозможности восприятия ее плачут целые ночи; нужно долго гладить руки и говорить печальные слова о Радости, чтобы перестали. И то ненадолго. Но во мне самой наряду с тоской есть Радость, я могу слушать жизнь, и мне не так трудно.
У меня есть книги, сирень, ко мне приходят Ваши письма».[54]
Письма Волошина приходили к Лиле из Парижа. Он был к ней «очень мил»: заинтересованно и терпеливо выслушивал, справлялся о здоровье Елизаветы Кузьминичны («Маме теперь лучше, чем было раньше, она почти здорова», — с благодарностью откликалась Лиля), присылал книги, подарки, его сердоликовые коктебельские четки висели над Лилиным изголовьем. Еще интенсивнее переписка сделалась по возвращении Дмитриевой в Петербург. «Сейчас в меня вошла пестрая жизнь, вся та, которая растаяла весной», — признавалась она в письме от 8 сентября, уже начав работать в гимназии и обратившись к домашним заботам и частным урокам. Но занимает ее в это время другое.
Фактически всё, что мы знаем о Лиле в этот период, мы знаем из ее писем Волошину. С Волошиным она делится огорчениями и заботами, в том числе и педагогическими («…последнюю неделю у меня не всё удавалось, и всё точно насмехалось: одна маленькая девочка из моего класса сказала мне с самым серьезным видом, что Владимир Святой был лютеранин, и всё так…»). Волошину пишет о круге своего чтения («Я Вам напишу про Марию d’Agreda, когда прочту ее переписку, Вы не знаете, она переведена на какие-нибудь языки? Если нет, то я переведу ее для Вас — хотите? Это совсем ничего не значит — п<отому> ч<то> я очень люблю переводить с испанского, и это очень полезно»). Волошину жалуется на одиночество в доме и сложности с матерью («У мамы в последнее время опять плохи нервы…»), заочно знакомит его с подругами — Лидой Брюлловой и Майей Звягиной, женой революционера В. Лихтенштадта, недавно освобожденной из Петропавловской крепости и оплакивающей мужа, сосланного на бессрочную каторгу. Волошина благодарит за присланные стихи, а когда тот просит ее стихов, отвечает почти что с отчаянием:
Путь искусства — путь избранных, людей, умеющих претворять воду в вино. А для других — это путь постоянной горечи; нет ничего тяжелее как невозможность творчества, если есть вечное стремление к нему. <…> Мне это понятно, п<отому> ч<то> во мне этого так много; у меня так много жажды творчества и так мало творчества; т. е. его нет совсем. Меня так тянет писать, и я так часто пишу, но ведь я знаю, хорошо знаю, что этого не нужно писать, что всё это бледно и серо и по содержанию, и по форме. Чувство моей обездоленности здесь меня очень мучает. Я сейчас пересмотрела все мои стихотворения, и ни одно не выражает того, что я хочу…[55]
И все-таки в 1908 году Лиля продолжает писать. Среди ее рукописей — несколько типичных символистских элегий (увы, действительно бедноватых по форме и содержанию), а также еще полудетское посвящение Волошину, выдающее как смятенные Лилины чувства, так и старательные упражнения в версификации — как будто бы изощренностью формы, почерпнутой в том числе из переводческих опытов, она маскирует неловкость лирического выражения:
- Ты помнишь высокое небо из звезд?
- Ты помнишь, ты знаешь, откуда, —
- Ты помнишь, как мы прочитали средь звезд
- Закон нашей встречи, как чудо?
- И шли века… С другими рядом
- Я шла в пыли слепых дорог,
- Я не смотрела на Восток
- И не искала в небе взглядом
- Звезду, твою звезду.
- И шли века… Ты был далеко, —
- Глаза не видели от слез, —
- Но в сердце вместе с болью рос
- Завет любви, завет Востока.
- Иду к тебе, иду!
- Не бойся земли, утонувшей в снегу, —
- То белый узор на невесте!
- И белые звезды кружатся в снегу,
- И звезды спустились. Мы вместе!
Кто знает, не этим ли первым обращенным к нему признанием Дмитриевой, не этой ли звездной образностью был вдохновлен написанный полгода спустя волошинский венок сонетов «Corona Astralis»?
- Тому, кто зряч, но светом дня ослеп,
- Тому, кто жив и брошен в темный склеп,
- Кому земля — священный край изгнанья,
- Кто видит сны и помнит имена, —
- Тому в любви не радость встреч дана,
- А темные восторги расставанья!
Ведь это уж точно — о нем и о Лиле. Ей этот цикл и был посвящен.
Читая Лилины письма и присланные ему стихи, Волошин хорошо понимал: его корреспондентке не хватает не столько версификационной техники (техника, благодаря ее упорному и вдумчивому чтению, была как раз таки на высоте) или таланта, сколько литературной среды — не случайно на протяжении всей осени 1908-го она жалуется на одиночество. Работа в гимназии, переводы, занятия в Публичной библиотеке — вот и все, что заполняло тогда ее дни. Подруги? Но ни Лиде Брюлловой, беременной, переживающей разлад с Пильским, ни тем более Майе Звягиной-Лихтенштадт было не до стихов. Новые знакомства? В ноябре 1908-го Волошин обращается к матери, Елене Оттобальдовне, гостившей осенью в Петербурге, с примечательной просьбой: «…Мне хочется, чтобы ты познакомилась с моей новой подругой Лилей Дмитриевой, с которой мы очень подружились в письмах. Это, помнишь, такая маленькая и страшно сериозная и юная девушка. <…> Я напишу ей, и она придет к тебе».[56] Лиля действительно приходит к Пра, та с радушием принимает ее; судя по позднейшим воспоминаниям, они говорят о Волошине, о поэзии, о Льве Толстом, — но стеснительность Лили не позволяет ей злоупотреблять чьим-либо гостеприимством, а сложившегося литературного круга единомышленников у нее нет. Остается лишь переписка с Волошиным, продолжающаяся вплоть до 25 января 1908 года — число, которым датирована короткая открытка от Лили: «Милый Макс Алек<сандрович>, о Вас ничего не слышно, скучно без Вас. Когда Вы что-нибудь скажете или придете?»
«Или придете» — стало быть, Лиля уже ожидала приезда Волошина в Петербург. Около 27-го он возвращается, и примерно тогда же возобновляются знаменитые «среды» в ивановской «Башне».
«УВЕЛИЧИЛИСЬ У ЛИЛИ ШАНСЫ В АКАДЕМИИ ПОЭТИЧЕСКОЙ…»
«Башней» именовалась квартира Вячеслава Иванова в доме 25 по Таврической улице — в круглом эркере на последнем, седьмом, этаже. Над «Башней» возвышался купол, из окон просматривались Нева и Таврический сад; на пологую красную крышу по ночам выбирались читать стихи — там в 1907 году была прочитана блоковская «Незнакомка» (интересно, присутствовала ли при том Лиля?). Иванов и Зиновьева-Аннибал переехали в «Башню» в 1905-м и сразу же превратили квартиру не просто в литературный салон, а в настоящий языческий храм искусства. Там собирался весь цвет современной отечественной словесности, там царила таинственная инфернальная атмосфера, там Андрей Белый с мистическим ужасом и восторгом писал:
- Быт… <…> «башни», — единственный, неповторимый; жильцы притекали; ломалися стены; квартира, глотая соседние, стала тремя, представляя сплетение причудливейших коридорчиков, комнат, бездверных передних; квадратные комнаты, ромбы и секторы; коврики шаг заглушали, пропер книжных полок меж серо-бурявых коврищ, статуэток, качающихся этажерочек; эта — музеик; та — точно сараище; войдешь, — забудешь, в какой ты стране, в каком времени; все закосится; и день будет ночью, ночь — днем; даже «среды» Иванова были уже четвергами; они начинались позднее 12 ночи…
Иванова «каждую среду собирался для всенощного бдения весь артистический Петербург», — откликается Белому К. Чуковский. Молодой философ Н. Бердяев был председателем, М. Замятнина протоколировала; в «Башне» спорили о религии, обсуждали искусство, выступали с докладами, волхвовали, читали стихи. «Почти вся наша молодая тогда поэзия если не “вышла” из ивановской “башни”, то прошла через нее — все поэты нового толка, модернисты, или, как говорила большая публика, декаденты, начиная с Бальмонта: Гиппиус, Сологуб, Кузмин, Блок, Городецкий, Волошин, Гумилев, Ахматова, не считая наезжавших из Москвы Брюсова, Андрея Белого, Цветаевой… — уже в эмиграции, вспоминая о Петербурге 1900-х годов, подытоживает С. Маковский. — Я перечислил наиболее громкие имена; можно было бы назвать еще очень многих dii minores».
Среди этих «dii minores» — «младших божеств» — была Лиля.
Как известно, ивановские «среды» прерывались дважды: с конца 1906 года до весны 1907-го в связи с болезнью Зиновьевой-Аннибал и с осени 1907-го больше чем на год — в связи с ее смертью. К началу 1909-го Иванов оправился от потери жены и снова открыл «Поэтическую Академию», решив на этот раз разработать подробную программу занятий с молодыми поэтами и прежде всего — посвятить их в теорию стихосложения. Лиля, в 1909 году войдя в «Башню» в сопровождении Волошина уже как литератор, а не как учительница хозяйских детей, принимала в этих занятиях самое деятельное участие — несмотря на усталость от преподавания в гимназии, не пропускала ни одной лекции, прилежно записывала, выполняла «технические задания» и даже участвовала в докладах: «Потом я говорила о старо-фр<анцузских> формах, но это я Вам расскажу сама, если Вы захотите, много полнее…» (из письма к М. Волошину от 1 мая 1909 года). По ее переписке с Волошиным видно, как легко ей дается учение, с какой ненасытностью она вслушивается в доклады Иванова и как торопится применить эти знания на практике. Меняется даже сам тон ее писем — из лиричных, печально-доверчивых они становятся сжатыми, деловыми, точно Лиля стремится как можно скорее поделиться с опытным другом собственными поэтическими открытиями, чтобы их не упустить:
23-го апреля Вяч<еслав> Ив<анович> говорил о рифме. Он говорил, что дело не в ней, позволяя минимальную рифму, как напр<имер> alla / mena, говорил, что важны переливы основного вокала, тон перелива 2 а дает впечатление света, таинственности и унылости. Говорил, что выбор рифмы не должен быть случайным, она должна являться ключом строки. Против жонглерских рифм люблю ли я / Юлия. Ему на первую часть возражал Верховский, как сторонник rime riche.[57]
Поэт и переводчик Юрий Верховский — один из участников Академии, слушатель и докладчик наряду с Михаилом Кузминым, Алексеем Толстым, Николаем Гумилевым, сестрами Аделаидой и Евгенией Герцык и др. Начиналось все при горячем участии Волошина, но в апреле 1909-го он уезжает к матери в Коктебель, и туда-то к нему летят Лилины письма:
Сегодня 1-ое мая, и Ваше красное письмо, Макс милый! Но сначала мой отчет о лекции в среду. Она была очень содержательна и интересна. <…> Вяч<еслав> Ив<анович> рассказал, что можно написать сонет, и другой должен ответить, повторяя рифмы, но по возможности избегая в одной и той <же> катр<ене> одинаковых слов. На этом, кажется, все сойдут с ума. Гумилев прислал мне сонет, и я ответила; посылаю на Ваш суд. Пришлите и Вы мне сонет. Ваш о Трианоне страшно хорош. Еще стихов, милый, милый Макс!
Так в переписке с Волошиным Лиля впервые произносит имя Николая Гумилева.
Гумилев был одним из самых старательных слушателей «Поэтической Академии» и не раз уходил на рассвете из-под круглого купола в совершенном восторге. «Мне кажется, что только теперь я начинаю понимать, что такое стих», — писал он весной 1909 года своему учителю, мэтру Валерию Брюсову; и действительно, только в ходе посещений «Башни» Гумилеву удалось свести разрозненные, эклектические сведения о классическом и современном стихосложении в единое целое. Автор нескольких поэтических сборников, критик, издатель двух (неудавшихся и прогоревших) журналов, он испытывал острую нехватку в систематическом литературном образовании. «Башня» дала ему эту систему — столь стройную и согласованную, что спустя пару лет из нее сможет вырасти акмеизм.
Наибольшее воодушевление у Гумилева, известного своей тягой к организованной корпоративной работе (недаром открытое им акмеистическое объединение будет именоваться Цехом поэтов: трудовая, ремесленная символика в пику мистической световой символике «Башни»), вызывали именно «ученические» ремесленные задания. Написать стихотворение по заданным рифмам? Легко! Сонет Гумилева, о котором идет речь в письме Лили Дмитриевой, представляет собой примечательное сочетание символистской патетики, явно почерпнутой у Вячеслава Иванова, и африканской экзотики, позволяющей нам безошибочно опознать гумилевскую руку даже и в холодноватой условленной форме:
- Тебе бродить по солнечным лугам,
- Зеленых трав, смеясь, раздвинуть стены!
- Так любят льнуть серебряные пены
- К твоим нагим и маленьким ногам.
- Весной в лесах звучит веселый гам,
- Всё чувствует дыханье перемены;
- Больны луной, проносятся гиены,
- И пляски змей странны по вечерам.
- Как белая восторженная птица,
- В груди огонь желанья распаля,
- Проходишь ты, и мысль твоя томится:
- Ты ждешь любви, как влаги ждут поля;
- Ты ждешь греха, как воли кобылица;
- Ты страсти ждешь, как осени земля!
На это горячее и — в гумилевском духе — пассионарное признание (ведь невозможно же не расслышать в этих строчках признание в любви — одни только «нагие и маленькие ноги», вызывающие в памяти пушкинский элегический вздох, чего стоят!) Лиля отвечает сдержанно и осторожно, гася его солнечную эмоцию в привычном ей мареве утомленной печали:
- Закрыли путь к нескошенным лугам
- Темничные, незыблемые стены;
- Не видеть мне морских опалов пены,
- Не мять полей моим больным ногам.
- За окнами не слышать птичий гам,
- Как мелкий дождь, все дни без перемены.
- Моя душа израненной гиены
- Тоскует по нездешним вечерам.
- По вечерам, когда поет Жар-птица,
- Сиянием весь воздух распаля,
- Когда душа от счастия томится,
- Когда во мгле сквозь темные поля,
- Как дикая, степная кобылица,
- От радости вздыхает вся земля…
В ее сонете, куда менее стилистически цельном, чем сонет Гумилева, звучит попытка примирить унылые однообразные дни и «нездешние вечера»; если прочитывать совсем уж буквально — утомительные трудовые будни в Петровской гимназии и собрания на «Башне», в той самой «огненной комнате» (не оттуда ли образ Жар-птицы, не от золотого ли облика Вячеслава Великолепного?), откуда она уходила на раннем рассвете вдвоем с Гумилевым. Да, в это время Лилю и молодого конквистадора, преданного поклонника Ани Горенко, еще не успевшей сделаться Анной Ахматовой, связывают романтические отношения — тем более удивительные, что возникли они, по Лилиному же собственному признанию, если не с одобрения, то с бессознательного благословения Волошина:
Весной уже 1909 года была в большой компании на какой-то художественной лекции в Академии художеств. На этой лекции меня познакомили с Н. Степ., но мы вспомнили друг друга. Это был значительный вечер в «моей жизни». Мы все поехали ужинать в «Вену», мы много говорили с Н. Степ. — об Африке, почти в полусловах понимая друг друга, обо львах и крокодилах. Я помню, я тогда сказала очень серьезно, потому что я ведь никогда не улыбалась: «Не надо убивать крокодилов». Ник. Степ, отвел в сторону М. А. и спросил: «Она всегда так говорит?» — «Да, всегда», — ответил М. А. <…> Эта маленькая глупая фраза повернула ко мне целиком Н. С. Он поехал меня провожать, и тут же сразу мы оба с беспощадной ясностью поняли, что это «встреча», и не нам ей противиться.[58]
И вот Лиля встречается с Гумилевым почти ежедневно, спорит с ним о стихах, много пишет, иллюстрируя лекции в «Поэтической Академии», складывает триолеты, канцоны, сонеты… При этом главным судьей ее стихов, которому она доверяет безоговорочно, остается Волошин. Ему она шлет свои тексты, ему, бывшему тогда для нее «недосягаемым идеалом во всем», как бы вскользь предлагает принять участие в их поэтическом — а заодно, может быть, и любовном? — соревновании.
Волошин, обрадовавшись игре, отвечает из Коктебеля сонетом «Сехмет»:
- Влачился день по выжженным лугам.
- Струился зной. Хребтов синели стены.
- Шли облака, взметая клочья пены
- На горный кряж. (Доступный чьим ногам?)
- Чей голос с гор звенел сквозь знойный гам
- Цикад и ос? Кто мыслил перемены?
- Кто, с узкой грудью, с профилем гиены,
- Лик обращал навстречу вечерам?
- Теперь на дол ночная пала птица,
- Край запада лудою распаля.
- И персть путей блуждает и томится…
- Чу! В теплой мгле (померкнули поля…)
- Далеко ржет и долго кобылица.
- И трепетом ответствует земля.
Интересно, что в отличие от абстрактного пейзажа в Лилином сонете и Гумилев, и Волошин в точности воспроизводят то, что знают и любят: Гумилев — экзотическую саванну, Волошин — суровый и знойный ландшафт Киммерии. Думается, не в последнюю очередь его сонет преследует своей целью как можно скорее заманить новую подругу в Коктебель; Лиля не возражает и на волошинское послание откликается моментально:
Дорогой Макс,
я уже три дня лежу, у меня идет горлом кровь, и мне грустно.
А Ваше письмо пришло сегодня, оно — длинное, ласковое и в нем много стихов.
Стало лучше. Ваш сонет «о гиене» лучший из трех; на Ваш я попробую ответить. Когда я приеду, буду рассказывать об образцах по лекциям Вяч<еслава> Ив<ановича>, а то писать все очень много. Теперь в субботу последняя лекция, но она будет носить характер conferee, так что писать о ней я не буду, а расскажу.[59]
Расставаясь в апреле 1909 года, Волошин и Лиля условились, что на лето она приедет к нему в «Дом поэта». Тогдашний сезон в Коктебеле стоял у истоков позднейших волшебных литературных сезонов, о которых потом с неизменной пронзительной ностальгией писали гостившие у Волошина сестры и братья Эфроны, М. Цветаева, О. Мандельштам, А. Белый, И. Эренбург… В то, первое, лето к Волошину собиралась компания пускай не столь звездная, но весьма примечательная: входившие в моду Алексей Толстой с красавицей женой Софьей Дымшиц, озорная Маргарита Гринвальд по прозвищу «Девочка»[60], собственно Лиля Дмитриева и Николай Гумилев, который весной 1909 года также увлеченно переписывался с Волошиным и обменивался с ним сонетами:
Дорогой Максимилиан Александрович,
Вы меня очень обрадовали и письмом, и сонетом. И вызовом. На последний я Вам отвечаю в этом письме через два часа после его получения. Я написал еще сонет — посвящение Вячеславу Иванову, и он пишет мне ответ. Если хотите поспорить с более достойным Вас противником, я прилагаю Вам мои рифмы: — книга — полудней — рига — будней — расстрига — трудный — верига — судный — слоновью — пророку — сердца — единоверца — Року — кровью. Как видите, рифмы не вполне точны. Это Ваш развращающий пример. В Коктебель я думаю выехать числа 27-го, вряд ли раньше, может быть, позже.[61]
Обращает на себя внимание как напряженность общего интеллектуального, поэтического пространства, в котором находятся этой весной все участники действия: Лиля, Гумилев, Волошин, зажженный их энтузиазмом Иванов, — так и проскальзывающая усмешка незримых распорядителей, в чьих руках напряглись нити судеб пока что беспечных, ни о чем не подозревающих персонажей. Олимпийские ли это боги, царящие в Коктебеле, инферны, таящиеся под куполом «Башни», вызванные символистским волхвованием «демоны глухонемые»? Кто подсказал Гумилеву разящую формулировку — «Вы меня очень обрадовали и письмом, и сонетом, и вызовом», и вспомнил ли эту формулировку ее адресат, стоя под пистолетом прежнего друга на берегу Черной речки? А уж как вписывается в это пространство незлобивая эпиграмма А. Толстого: «Косясь на дуло пистолета, / Считает медленно шаги. / Ах, ямбы вечные враги / Для долговязого поэта…» — написанная еще до печально известной дуэли!
Однако не будем спешить. До поединка Гумилева с Волошиным еще около полугода, еще не родилась на свет Черубина де Габриак; Лиля Дмитриева еще спешно доучивает своих девочек и только 25 мая, распустив учениц на каникулы, отправляется в Коктебель вместе с вызвавшимся ее сопровождать Гумилевым.
Впрочем, подробности их короткого, но насыщенного романа заслуживают отдельной главы.
ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ
«Не смущаясь и не кроясь, я смотрю в глаза людей, я нашел себе подругу из породы лебедей», — писал Гумилев в пору ранней и пылкой влюбленности в Лилю.
Любопытна эта отточенная лирическая формулировка. О чем она? О лебединой верности, на которую вправе был надеяться Гумилев? Или это нечто вроде пароля? Еще девочкой Лиля грезила сказками Андерсена; в воспоминаниях она называет «Русалочку», однако, учитывая весь контекст ее жизни, наиболее близким ей представляется «Гадкий утенок» — история чудесного преображения и, главное, обретения собственной стаи-семьи. Могла ли она не сопоставлять судьбу утенка-подкидыша со своей личной историей, могла ли не ждать превращения в прекрасного лебедя?
Да и сам Гумилев… В воспоминаниях современников о его детстве и юности нередко появляется образ именно такого гадкого утенка — неловкого, косоглазого, угловатого, надменного от робости и неуверенности в себе, — а в многочисленных описаниях преобладают птичьи ассоциации. «В нем было что-то павлинье: напыщенность, важность, неповоротливость»[62], — рассказывает А. Толстой. «Бледного юношу с глазами гуся» описывает Андрей Белый. «Только, ставший лебедем надменным, / Изменился серый лебеденок», — со свойственной ей афористичностью довершает метафорический ряд Анна Ахматова…
Возможно, образ существа «лебединой породы» был близок обоим — и Лиле, и Гумилеву — как обещание преображения? Преображения близкого: в 1909-м гумилевская поэтическая карьера — на взлете, да и Лиля, кажется, обретает свою «семью», уже практически на равных общаясь с представителями тогдашней богемы и участниками «Академии поэтической». После первой их встречи не прошло и двух лет, а сколь многое изменилось!
Как уже было сказано, в первый раз Лиля увидела Гумилева в Париже в студии Себастьяна Гуревича. Он показался юной студентке Сорбонны совсем еще мальчиком: «бледное, манерное лицо, шепелявый говор, в руках он держал небольшую змейку из голубого бисера. Она меня больше всего поразила».[63] Поразила настолько, что Лиля вспоминает об этом спустя почти двадцать лет? Интересно, почему поразила? Просто ли приглянулась красивая безделушка (Лиля, чьей натуре был присущ эстетизм, порой тосковала по красивым вещам, доверчиво писала друзьям о своей тяге к бусам, изящным книжным переплетам…) — или в змейке она, начинающая теософка, углядела оккультный символ, втайне сближающий ее с Гумилевым, который тоже в ту пору увлекается оккультизмом и эзотерикой?
Об оккультизме, однако, при той первой встрече речь не идет. Вообще — практически ни о чем не идет, но от нескольких дней, проведенных в компании Гуревича и Гумилева, у Лили остается ощущение праздника, а праздников в ее жизни до той поры было немного:
Мы говорили о Царском Селе, Н. С. читал стихи (из «Ром<антических> цветов»). Стихи мне очень понравились. Через несколько дней мы опять все втроем были в ночном кафе, я первый раз в моей жизни. Маленькая цветочница продавала большие букеты пушистых белых гвоздик, Н. С. купил для меня такой букет; а уже поздно ночью мы втроем ходили вокруг Люксембур<гского> сада и Н. С. говорил о Пресвятой Деве…
Впечатление оказалось светлым и радостным — а какой еще может запомниться двадцатилетней девушке встреча в летнем Париже? Они расстаются, не думая о дальнейших свиданиях. Путь Гумилева лежит в Киев, к Анне Горенко, которая в эти парижские дни неожиданно соглашается выйти за него замуж (вскоре помолвка расстроится), путь его новой знакомой — назад, в Петербург.
Возникает резонный вопрос: как Гумилев, несколько лет уже преданный Анне Горенко, мог влюбиться в «хромую и неэлегантную» Лилю Дмитриеву? Да так влюбиться, что этого до последних дней не прощала ей Анна Ахматова, по свидетельству многих мемуаристов, «сбрасывая всякую меру» и — сама великая мифотворица — все свои силы обрушивая на то, чтобы сокрушить ее миф?
Приходится признать, что Лиля Дмитриева обладала множеством качеств, которые по достоинству оценил Гумилев. Была умна, дьявольски работоспособна и истово предана литературе (играючи предлагала Волошину перевести переписку испанки Марии д’Агреда или уверенно писала на доске на собраниях «Поэтической Академии» формулу средневекового романса, которую не знал сам Иванов). Не отличалась излишней манерностью («Она всегда так говорит?» — «Да, всегда»). Видимо, была чувственна и пластична и чувственности своей не стеснялась (летом 1909 года это чувственное начало, пробужденное первым счастливым любовным опытом, будет с предельной ясностью выражено в стихах Черубины: «Лишь раз один, как папоротник, я / Цвету огнем весенней, пьяной ночью. / Приди за мной к лесному средоточью / В заклятый круг, приди, сорви меня!»), что Гумилеву, измученному девичьей холодностью будущей златоустой Анны всея Руси, было особенно дорого. А самое главное… Самое главное — Лиля могла говорить с ним о том, что его занимало, не притворяясь и проявляя к его путешествиям, экспедициям, поискам искренний интерес.
Взять хотя бы их судьбоносную «встречу». О чем они говорили? «Об Африке, почти в полусловах понимая друг друга, обо львах и крокодилах…» А ведь именно этого интереса к географическому познанию мира, к преодолению культурных границ Гумилев и искал в современниках — и досадовал, натыкаясь вместо него то на плохо скрываемую иронию, то на вежливое равнодушие, о чем признавался в письме соратнику по акмеизму М. Лозинскому в разгар войны — в 1915 году:
…Мне досадно за Африку. Когда полтора года тому назад я вернулся из страны Галла, никто не имел терпенья выслушать мои впечатления и приключения до конца. А ведь правда, все то, что я выдумал один и для себя одного, ржанье зебр ночью, переправа через крокодильи реки, ссоры и примиренья с медведеобразными вождями посреди пустыни, величавый святой, никогда не видевший белых в своем африканском Ватикане, — все это гораздо значительнее тех работ по ассенизации Европы, которыми сейчас заняты миллионы рядовых обывателей, и я в том числе.[64]
Поневоле подумаешь о Волошине: вот кто мог бы со всем пылом своей необъятной души разделить интерес Гумилева! Но после дуэли их прежние дружеские отношения так никогда и не будут возобновлены. А Лилю — возможно, первую увлеченную слушательницу гумилевских новелл о его экзотических приключениях — Гумилев и вовсе до конца жизни будет именовать «той сумасшедшей женщиной»…
В свою очередь, Лилино увлечение Гумилевым могло быть вызвано в том числе и одним любопытным психологическим фактором — к слову, практически не учтенным биографами [65], но способным в этих взвинченных и изломанных отношениях кое-что прояснить.
Дело в том, что Николай Гумилев образца 1909 года был чрезвычайно похож на Валериана Дмитриева, Лилиного обожаемого старшего брата.
Высокие, тонкокостные внешне; жесткие, властные, честолюбивые; убежденные милитаристы (думается, под словами Гумилева: «И воистину светло и свято / Дело величавое войны. / Серафимы, ясны и крылаты, / За плечами воинов видны…», которые вызывали резкую критику современников, мог бы подписаться и Валериан) и карьеристы… В детстве оба были одержимы дальними странствиями (вспомним о побеге Валериана в Америку), оба «делали чудеса», оба ставили рискованные эксперименты над окружающими их людьми и животными. Про опыты юного Дмитриева мы уже знаем, а вот — параллельный эпизод из биографии Гумилева, демонстрирующий, что способности этих «колдовских детей» если не читать, то по крайней мере — щадить чувства близких стремились к нулю:
В саду я взял ее за руку:
— Закрой глаза, мама, и не открывай, пока я не скажу.
И она, смеясь, дала вести себя по дорожке. Я был так горд. Я задыхался от радости.
— Вот, мама, смотри. Это я для тебя! Это музей! Твой музей!
Она открыла глаза и увидела: на клумбе между цветов понатыканы шесты. На них извивались лягушки и ящерицы. Четыре лягушки, две жабы и две ящерицы. Поймать их мне стоило большого труда.[66]
Гумилев, после «маленькой глупой фразы» о крокодилах проникшийся к Лиле доверием, вполне мог ей об этом рассказывать — ведь рассказывал же он эти мифологизированные истории о детстве Ирине Одоевцевой! А в памяти Лили гумилевские признания в детской бессмысленной и одновременно сладострастной жестокости не могли не вызвать воспоминаний о соответствующем поведении брата, и она с тайной нежностью повторяла: «Н<иколай> Ст<епанович> был для меня цветение весны, „мальчик“, мы были ровесники, но он всегда казался мне младше…» Младше — не потому ли, что уже двадцатилетняя Лиля видела в нем угловатого, властного, непредсказуемого подростка Валериана? В таком случае привычные для нее отношения изощренной родственной пытки проецировались на роман с Гумилевым, и естественно, что его «железная воля» и «желание даже в ласке подчинить» сталкивались с ее извечным упрямством — «желанием мучить…».
Беда в том, что единственная форма любви, знакомая Лиле, заключалась в трагическом роковом поединке, в котором непременно нужно было стать победителем, ибо побежденному полагались унижение и смерть. Гумилев, будучи все-таки старше и искушеннее — по крайней мере, в поэзии, — оставил тому немало свидетельств:
- Это было не раз, это будет не раз
- В нашей битве глухой и упорной:
- Как всегда, от меня ты теперь отреклась,
- Завтра, знаю, вернешься покорной.
- Но зато не дивись, мой враждующий друг,
- Враг мой, схваченный темной любовью,
- Если стоны любви будут стонами мук,
- Поцелуи — окрашены кровью.
Или еще одно — более известное и откровенное, в первой же строчке приоткрывающее посвященным имя возлюбленной:
- В твоем гербе — невинность лилий,
- В моем — багряные цветы.
- И близок бой, рога завыли,
- Сверкнули золотом щиты.
- …………………
- Ты — дева-воин песен давних,
- Тобой гордятся короли,
- Твое копье не знает равных
- В пределах моря и земли.
- Вот мы схватились и застыли,
- И войско с трепетом глядит,
- Кто побеждает: я ли, ты ли,
- Иль гибкость стали, иль гранит…
Это стихотворение, озаглавленное «Поединок», существует в двух принципиально разных редакциях. В первой публикации — в «Журнале Театра Литературно-художественного общества» (1909) — оно составляет 14 строф, более пространно, если не сказать затянуто, и включает в себя подробности, туманные для читателя, но, вероятно, внятные тем, кто участвовал в поединке: «Страшна борьба меж днем и ночью, / Но Богом нам она дана…», «Уходишь ты, с тобою клятвы, / Ненарушимые вовек…». Этот вариант содержит и позже исключенную строфу с портретом героини — портретом, по которому очевидцам их романа нетрудно было бы опознать Лилю:
- Меня слепит твой взгляд упорный,
- Твои сомкнутые уста,
- Я задыхаюсь в муке черной,
- И побеждает красота.
Сравним в дневниках Максимилиана Волошина: «Лиля Дмитриева. Тот же взгляд, упорный и немигающий». Видимо, так вот она и смотрела, не в силах поверить, что ею интересуются, что в нее влюблены (то-то Гумилев и убеждает ее в ее же собственной победительной «красоте»), что в ней видят не жалкую хромоножку, а легендарную деву-воина, сразившую молодого конквистадора:
- Я пал, и молнии победней
- Сверкнул и в тело впился нож.
- Тебе восторг — мой стон последний,
- Моя прерывистая дрожь.
- И ты уходишь в славе ратной,
- Толпа поет тебе хвалы,
- Но ты воротишься обратно,
- Одна, в плаще весенней мглы.
- И над равниной дымно-белой
- Мерцая шлемом золотым,
- Найдешь мой труп окоченелый
- И снова склонишься над ним:
- «Люблю! Ты слышишь, милый, милый?
- Открой глаза, ответь мне — да.
- За то, что я тебя убила,
- Твоей я стану навсегда».
- Еще не умер звук рыданий,
- Еще шуршит твой белый шелк,
- А уж ко мне ползет в тумане
- Нетерпеливо-жадный волк.
Позже Гумилев значительно переработал текст «Поединка»: исключил оттуда недвусмысленно биографические строфы, отшлифовал сюжет, вычеркнул длинноты и проставил посвящение — «Графине С. И. Толстой». Оно и понятно. В 1910-м, уже женатый на Анне Ахматовой, он меньше всего хотел вспоминать те давние поединки, а при имени Лили Дмитриевой его просто трясло. Но сначала, сначала…
Мы стали часто встречаться, все дни мы были вместе и друг для друга. Писали стихи, ездили на «Башню» и возвращались на рассвете по просыпающемуся серо-розовому городу. Много раз просил меня Н.С. выйти за него замуж, никогда не соглашалась я на это; — в это время я была невестой другого, была связана жалостью к большой, непонятной мне любви. В «будни своей жизни» не хотела я вводить Н. Степ. Те минуты, которые я была с ним, я ни о чем не помнила, а потом плакала у себя дома, металась, не знала. Всей моей жизни не покрывал Н.С. <…> Воистину он больше любил меня, чем я его. Он знал, что я не его невеста, видел даже моего жениха. Ревновал. Ломал мне пальцы, а потом плакал и целовал край платья.[67]
Учитывая, что эти изломанные пальцы и поцелуи в жизни Дмитриевой уже были (и, судя по истории 1900 года, оставили кровоточащий след), можно понять, что любовь как поединок, как постоянное испытание начинает ее обессиливать — не случайны ее повторяющиеся проговорки в казалось бы сдержанных письмах Волошину: «Я уезжаю… <…> 24 или 26-го. С кем — не знаю. У нас холодно и грустно» (9 мая 1909-го); «Если достану билеты, то выеду 24-го, в первый день, когда могу. Марго ждать не стану, очень мне здесь плохо» (13 мая 1909-го).
Контраст тем сильнее, что все это время в эмоциональной близости к ней находится человек, до грядущей дуэли ни в какие поединки не вступавший принципиально и любовь понимающий как отдачу, как постоянную заботу о другом, пусть даже и ценой собственного благополучия.
Естественно, Лиля рвется к Волошину в Коктебель.
Но как получилось, что в Коктебеле она оказалась вдвоем с Гумилевым?
За это биографы Гумилева особенно порицают ее, предполагая, что Лиля сама позвала молодого поэта с собой, а ее оправдание: «Гум<илев> напросился, я не звала его, но т. к. мне нездоровится, то пусть» — суть сплошное лукавство. Игнорируя и ее слова, и приведенное выше письмо Гумилева, из которого в точности явствует, что приглашение он получил от Волошина! — настаивают: позвала, позвала. Но для чего? Чтобы пробудить в Волошине ревность и спровоцировать его на признание (версия в целом по-доброму относящегося к Лиле В. Купченко)? Чтобы столкнуть лбами двух популярных поэтов и обеспечить себе почетное место в литературных кругах столицы (версия А. Ахматовой)? Чтобы сократить дорожные расходы и возложить на Гумилева оплату за билет (версия В. Шубинского)? Первые две версии критики не выдерживают, третью также легко опровергнуть: если бы «за себя и за свою девушку платил Гумилев»[68], он бы, конечно, расщедрился и на билет в класс повыше. Но Лиля подчеркивает: «Если ему не очень дешево в третьем классе», — стало быть, платит сама.
Не очень понятно, отчего бы биографам не поверить в ее собственное объяснение. Напомним — все прошлое лето Лиля лечилась от туберкулеза в санатории в Халиле. Жаркую погоду она, уроженка промозглого Питера, переносила неважно, и, естественно, многочасовой путь в тесном и душном вагоне, без друга, способного скрасить дорогу, а в случае чего и оказать некоторую помощь, вызывал у нее резонные опасения. Уж на что крепок был Макс Волошин, но и он, вспоминая ночи в вагоне третьего класса («сидят у нас на ногах, на головах, пошевельнуться нельзя… младенцы орут… духота и вонь ужасающие…»), зарекался когда-либо ездить так даже по суровым экономическим соображениям. Что уж говорить о не приученной к путешествиям Лиле! Правда, тем же поездом ехала в Феодосию и подруга Волошина Маргарита Гринвальд с отцом, но щепетильная Лиля боялась быть им обузой, а с Гумилевым, как ни крути, ее уже связывали очень близкие отношения.
В конце концов, повторим, — Гумилева к себе зазывал сам Волошин, и Николай Степанович радостно собирался, предупреждая об этом друзей: «Мейерхольд едет завтра, Толстые 12 мая. Я в конце месяца» (письмо М. Кузмину от 7 мая 1909 года); «Это последний раз в этом сезоне собираются у меня» (письмо В. Кривичу-Анненскому от 23 мая 1909-го). Как видим, настроение у поэта приподнятое (отсюда — прощальная вечеринка), и ожидания от путешествия — самые радужные. Хотя… Гумилев, как и прочие посетители «Башни» и «Академии», волхвовал понемногу и был наделен тайным даром предвидения — не случайно еще в ноябре 1907-го им было написано стихотворение, в точности воспроизводящее коктебельскую драму — 1909:
- Любовь их душ родилась возле моря,
- В священных рощах девственных наяд,
- Чьи песни вечно-радостно звучат,
- С напевом струн, с игрою ветра споря.
- Великий жрец… Страннее и суровей
- Едва ль была людская красота,
- Спокойный взгляд, сомкнутые уста
- И на кудрях повязка цвета крови.
- Когда вставал туман над водной степью,
- Великий жрец творил святой обряд,
- И танцы гибких, трепетных наяд
- По берегу вились жемчужной цепью.
- Средь них одной, пленительней, чем сказка,
- Великий жрец оказывал почет.
- Он позабыл, что красота влечет,
- Что опьяняет красная повязка.
- И звезды предрассветные мерцали,
- Когда забыл великий жрец обет,
- Ее уста не говорили «нет»,
- Ее глаза ему не отказали.
- И, преданы клеймящему злословью,
- Они ушли из тьмы священных рощ
- Туда, где их сердец исчезла мощь,
- Где их сердца живут одной любовью.
Интересно, вспомнил ли сам Гумилев собственное пророчество, подвергая «клеймящему злословью» жреца и его ученицу?
25 мая они с Лилей отбывают из Петербурга и отправляются в Крым. По пути делают остановку в Москве: влюбленный Гумилев ведет спутницу в редакцию ежемесячного журнала «Весы», чтобы представить Валерию Брюсову. Одобрение учителя для него важно, да и хочется, чтобы Лиля узнала еще одного легендарного мэтра и демиурга, вождя символизма, чье влияние в богемной Москве 1900-х годов было сопоставимо с влиянием Вячеслава Иванова в Петербурге.
Брюсов относится к Дмитриевой благосклонно, дает ей советы, рекомендует прочесть книгу графа П. Бутурлина — полузабытого поэта XIX века, в 1880-е увлекавшегося написанием сонетов. (Книга «Стихотворения графа Петра Дмитриевича Бутурлина» (1897), купленная тогда же на московском книжном развале, долгое время хранилась в Лилиной библиотечке, сопровожденная дарственной надписью: «Лиле, по приказанию Брюсова. Н. Гумилев».) А вот на саму Лилю встреча доброго впечатления не произвела. В 1927-м, в письме к Е. Архиппову, она подчеркнет — «Я никогда не любила и не буду любить Брюсова», — что, очевидно, вызвало недовольство, а то и гнев Гумилева, боготворившего старшего друга. [69]Вообще, чем ближе был Коктебель, тем большее расхождение намечалось между влюбленными, и когда 30 мая они сошли на перрон в Феодосии, время их «молодой, звонкой страсти» уже подходило к концу.
КИММЕРИЙСКИЕ СУМЕРКИ
Из Феодосии до Коктебеля добирались в то время по грунтовой дороге в арбах или на лошадях. То есть Волошин-то мог ходить и пешком, по тропе, позже названной его именем, но гости, приехавшие с вещами, нанимали на станции экипаж по тройной цене (вот тут уже можно с уверенностью сказать, что платил Гумилев) и через некоторое время оказывались возле дома Волошина.
В 1909 году Волошин и его мать Елена Оттобальдовна, легендарная Пра, владели двумя домами. В одном из них — просторном, каменном, с высокими окнами и террасой, открывающей вид на море, — жил сам поэт, в беленом трехэтажном строении неподалеку — Елена Оттобальдовна. Двадцать одна комната в доме Волошина и несколько комнат, не занятых Пра, были к услугам гостей. И хотя Коктебель начала XX века отнюдь не казался модным курортом — не было ни привычных удобных прогулочных тропок, ни набережной, ни ресторана, — поэты, художники, писатели и актеры рвались в дом Волошина, а сам хозяин каждого вновь прибывающего встречал будто бы своего личного гостя.
Так было и с Гумилевым, и с Лилей.
Любопытно, что, приехав вместе, они получили комнаты в разных домах: Лиля — в доме Волошина, Гумилев — в доме Елены Оттобальдовны, на третьем этаже, под покатой крышей. Оба помещения были скромными: кровать, стол, окошко, откуда доносился неумолчный шум моря. В Лилиной «келье» висел на стене ковер, а на столике возле постели красовался круглый глиняный кувшин в стиле греческой амфоры. И, конечно, кругом — книги, книги… Волошин гордился своей огромной многоязычной библиотекой, гордился и Коктебелем как книгой ландшафта с его суровыми и сухими холмами, потрескавшейся землей, морщинистыми рельефами, скалами Карадага. Побережье, простиравшееся перед домом, было пустынным, растительность — скудной, земля — раскаленной. Самый подходящий фон для тех дней «глубокого напряжения жизни», которые, по меткой характеристике Волошина, ожидали хозяина и гостей.
«Первые дни после приезда Толстых, а неделю спустя — Лили с Гумилевым — было радостно и беззаботно. Мы с Лилей, встретясь, целовались», — 14 июня 1909 года записывает Волошин в дневник. Целовались, а еще — бродили по выжженной древней земле Коктебеля, катались на лодках, заплывая то в легендарную Сердоликовую, то в более близкую Мертвую бухту, отгороженную от штормящего моря мысом Хамелеон, зарывались в горячий песок, пили вино на террасе, читали стихи. Между прочим, поэтическое соревнование, стартовавшее в «Башне», было продолжено и в Коктебеле: на этот раз Волошин предложил сочинить мадригал Софье Дымшиц, юной жене «Алихана» — Алексея Толстого. Дымшиц заставили облачиться в синее платье и позировать на фоне моря и гор, а четыре поэта соперничали в наиболее ярком ее описании. Сам хозяин коктебельского дома увлекся воссозданием стилизованного под восточный наряда, цепким взглядом живописца выхватив «извив откинутого стана / И нити темно-синих бус, / Чувяки синего сафьяна / И синий шелковый бурнус» и восхитившись его монохромностью; Толстой — победивший в соревновании — воспел Софьину «неуловимость» и «нежность»… Что написал Гумилев, мы не знаем, ну а Лиля — Лиля отозвалась все тем же свойственным ей преклонением перед чужой красотой:
- Она задумалась. За парусом фелуки
- Следят ее глаза сквозь завесы ресниц.
- И подняты наверх сверкающие руки,
- Как крылья легких птиц.
- Она пришла из моря, где кораллы
- Раскинулись на дне, как пламя от костра.
- И губы у нее так влажно алы,
- И пеною морской пропитана чадра.
- И цвет ее одежд синее цвета моря,
- В ее чертах сокрыт его глубин родник.
- Она сейчас уйдет, волнам мечтою вторя,
- Она пришла на миг.
Утрата текста гумилевского посвящения не случайна. Он не сберег его, ибо очевидно чувствовал себя лишним в этом веселом содружестве, тем более что Дымшиц не скрывала своей насмешливости по отношению к нему и приязни — к Волошину, а Лиля все чаще избегала общества Гумилева и оставалась с Волошиным наедине. «Помню, в теплую, звездную ночь я вышел на открытую веранду волошинского дома, у самого берега моря, — рассказывает А. Толстой. — В темноте на полу, на ковре, лежала Д<митриева> и вполголоса читала стихотворение. Мне запомнилась одна строчка, которую через два месяца я услышал совсем в иной оправе стихов, окруженных фантастикой и тайной…»
И далее:
Гумилев с иронией встретил любовную неудачу: в продолжение недели он занимался ловлей тарантулов. Его карманы были набиты пауками, посаженными в спичечные коробки. Он устраивал бои тарантулов. К нему было страшно подойти. Затем он заперся у себя в чердачной комнате дачи и написал замечательную, столь прославленную впоследствии поэму «Капитаны». После этого он выпустил пауков и уехал.
По свидетельству Лили, «Капитаны» не только были посвящены ей, но и писались почти что в соавторстве. Возможно, Лиля выдает желаемое за действительное, подчеркивая, что как молодые поэты они с Гумилевым держались практически наравне («Вместе каждую строчку обдумывали мы…»), а возможно — говорит правду: судя по ее дальнейшему сотрудничеству с Маршаком, она была способна не только к соавторству, но и к деликатному и вдумчивому отношению к чужому тексту. Да и самая форма тетраптиха, выбранная Гумилевым для «Капитанов», перекликается с «Пророком» Черубины де Габриак, а «многозвездная ночь», «охранительный свет маяков», «мучительная луна» и тому подобные образы недвусмысленно отсылают к ночной поэтике Дмитриевой, к ее мерцающему обаянию, которому в 1909 году поддадутся и Гумилев, и Волошин: вспомним его сонетные циклы «Corona Astralis» и «Lunaria», обращенные к Лиле, вспомним и то, как после расставания с ней оба поэта открестятся от поэтики ночи. «Я полуднем объятый, / Точно крепким вином. / Пахну солнцем и мятой…» — обронит Макс в пику прежним своим заверениям о близости к звездам, а Гумилев — тот и вовсе откликнется на весь этот ночной романтизм знаменитой и страшной формулой «звездного ужаса». Кто знает, не на черноморском ли побережье пришлось Гумилеву впервые его испытать?
После его отъезда Волошин и Лиля практически не расстаются. Обсуждают стихи, читают и переводят; Волошин, затворившись в «зимней мастерской», пишет свой «Звездный венок», Лиля любуется древним ликом египетской царевны Таиах — скульптуры, привезенной Волошиным из Берлина, чей облик обошел все воспоминания о доме поэта. Вместе они наведываются в Феодосию — именно там завязывается Лилино знакомство с Александрой Петровой, преподавательницей Александровского училища, давней подругой Волошина и впоследствии — Лилиной верной наперсницей. Как видим, Волошин щедро делится с Лилей подробностями своего коктебельского быта и бытия и получает в ответ то, на что она была способна в 1909 году, — ее безграничное доверие и столь же безграничную искренность.
Вынужденная смирять душевные порывы в ходе обыденной, трудовой и не слишком устроенной жизни, Лиля ехала в Коктебель за свободой, а, уверенная в глубокой земной укорененности и эмоциональной устойчивости Волошина, ждала от него духовного руководства и даже — водительства. «Я много жду от Вас, и еду для многого, — вырывается у нее в мае 1909-го, в самый разгар романа с Гумилевым. — Мне грустно сейчас. А Вы знаете травы…» В Волошине она не без основания видела того, кто способен не только разрешить ее духовные сомнения, но и «заговорить», излечить затаенную — еще детскую — боль.
И вот начиная с 14 июня 1909 года Волошин фиксирует в дневнике Лилины исповедальные монологи. Градус доверия зашкаливал, и даже ему, привыкшему к роли исповедника и психотерапевта для своих многочисленных друзей, приходилось непросто: слишком уж сильной была концентрация боли, слишком большой вовлеченности требовала. Во всяком случае, именно это явствует из адресованного Лиле сонета, несмотря на всю свою иносказательность довольно внятно описывающего то, что между ними происходило и о чем они говорили в то лето:
- Сочилась желчь шафранного тумана.
- Был стоптан стыд, притуплена любовь…
- Стихала боль. Дрожала зыбко бровь.
- Плыл горизонт. Глаз видел четко, пьяно.
- Был в свитках туч на небе явлен вновь
- Грозящий стих закатного Корана…
- И был наш день — одна большая рана,
- И вечер стал — запекшаяся кровь.
- В тупой тоске мы отвратили лица.
- В пустых сердцах звучало глухо: «Нет!»
- И, застонав, как раненая львица,
- Вдоль по камням влача кровавый след,
- Ты на руках ползла от места боя,
- С древком в боку, от боли долго воя…
На самом деле, в Коктебеле Лиля проходит то, что в современной психологии зовется «психотерапией травмы» и заключается в постепенном избавлении от травмирующих воспоминаний путем их проживания и переработки в присутствии старшей, «защитной» фигуры. Волошин фактически обеспечивает ей три необходимых условия для освобождения от травмы: безопасную, стабилизирующую обстановку; творческую обработку травмирующего события; и — наконец — обретение ресурсов для восстановления внутренней жизни, в которой травма уже не будет образовывать прежнюю энергетическую дыру. Рассказывая о надломленном детстве, о смерти отца и сестры, о пережитом насилии (отсюда и образы из волошинского сонета: скрытая рана, отвержение и/или отстранение близких, необходимость залечивать боль в одиночестве…), Лиля не просто исповедуется Волошину, но и освобождается от той детской, затравленной части себя, которая мешает ее полноценному взрослому воплощению.
Необходимо, однако, иметь в виду, что, проживая травму, человек часто заново возвращается в исходную болевую точку, как будто бы разрешая себе те эмоции, что прежде были запрещены. Естественно поэтому, что в свое коктебельское лето Лиля время от времени впадала в измененное состояние сознания; именно с этим периодическим «возвращением», а не с общей экзальтацией «на грани психопатии» (как о ней пишет В. Шубинский), связаны те пугающие моменты, о которых Волошин записывает в дневнике:
Лиля пришла смутная и тревожная. Ее рот нервно подергивался. Хотела взять воды. Кружка была пуста. Мы сидели на кровати, и она говорила смутные слова о девочке… о Петербурге… Я ушел за водой. Она выпила глоток. «Мне хочется крикнуть»…
— Нет, Лиля, нельзя! — Я увел ее в комнату. Она не отвечала на мои вопросы, у нее морщился лоб, и она делала рукою знаки, что не может говорить. «У тебя болит?» Она показывала рукою на горло. Так было долго, а может, и очень кратко. Я принес снова воды и дал ей выпить. И тогда она вдруг будто проснулась: «Который час?»
— Половина четвертого.
«Половина четвертого и вторник?»
— Да, Лиля. («Это час и день, в который умер мой отец», — сказала она позже.)
— Лиля, что с тобою было?
«Не знаю, я ведь спала…»
— Нет, ты не спала.
Она мучительно и долго старалась что-то вспомнить.
— «Макс, я что-то забыла, не знаю, что. Что-то мучительное. Скажи, ты не будешь смеяться? Нет, если я спрошу. Можно? Я всё забыла. Скажи, Аморя твоя жена?.. Да… И она любила… Да, Вячеслава… Нет, был еще другой человек, ты говорил… Другой… Нет, я всё забыла… Макс, я ведь была твоей… Да, но я не помню… Я ведь уже не девушка… Ты у меня взял… Тебе я всё отдала, только тебе. Ты ведь меня никому не отдашь? Но я совсем не помню ничего, Макс. Я не помню, что я была твоей. Но я еще буду твоей. Ведь никто раньше тебя… Я не помню…»[70]
Волошин, крымский маг и авгур, раскрыл форточку между мирами, и все болезненные воспоминания: о детской беспомощности, о трагической смерти отца и сестры, о «том Человеке», который был с нею в 1900 году, наконец, возможно, о ее полудетском обещании Всеволоду Васильеву, также взявшему у нее слово почти что насильно, — хлынули в Лилино настоящее и расшатали границы сознания. Потом, уже после ее смерти, Волошин вспомнит о тех минутах, «когда на нее находил ужас и она боялась свиста ветра, раскатов волн, теней от свечи и, глядя на меня, говорила плачущим голосом: „А почему я знаю, может быть, ты вовсе не ты, а только прикидываешься“»,[71] — а он успокаивал ее как только мог… Вероятно, порой Лиля и впрямь балансировала на грани безумия (что естественно — практикующие психологи могут многое рассказать об опасности выпадения в травму, а ведь им приходится иметь дело с более защищенными и устойчивыми людьми, нежели физически слабая, да еще и «раскачанная» Серебряным веком Лиля), но как только приступы проходили, выяснялось, что в целом больная довольно неплохо владеет собой. Вот, скажем, свидетельство все того же Волошина — внимательного, наблюдательного и… влюбленного:
Лиля идет, хромая и шатаясь. Сперва она очень бледна, но потом овладевает собой и разговаривает со всеми, как будто ничего не было. Потом она идет купаться в большую волну и опять возвращается…[72]
Если вдуматься, традиционное восприятие Дмитриевой как полубезумной визионерки, путающей реальность и вымысел, мало соответствует истине. Лиле была свойственна трезвость (о ее остроумии, язвительности и даже «злости» вспоминают и Лида Брюллова, и Александра Петрова, и Лидия Хейфец, которую и спустя годы не оставляло видение Лилиной «короткой, быстрой, полной юмора, а иногда и не очень-то ласковой иронии усмешки»). Лиле были свойственны выдержка и самообладание (запись Волошина это подчеркивает, да и способность вести классы, невзирая на периодическое горловое кровотечение, многого стоит). Лиле была свойственна смелость — даже Марина Цветаева при всей ее дикости и любви к волошинскому Коктебелю не отваживалась купаться «в большую волну»! Наконец, Лиля, по-видимому, пребывала в нечеловеческом напряжении все эти несколько лет, охватившие и блестящее окончание института, взятое на пределе физических сил, и учебу в Париже, и преподавание в гимназии, а еще — смерть сестры, болезнь матери, собственный продолжающийся туберкулез… Лишь в Коктебеле она позволила себе сбросить часть этого напряжения, обретя опору в Волошине. Удивительны ли ее срывы, галлюцинации и признания?
— «Макс, теперь я ничего не помню. Но ведь ты все знаешь, все помнишь. Я тебе все рассказала. Тебе меня отдали. Я вся твоя. Ты помнишь за меня».
Она садится на пол и целует мои ноги. «Макс, ты лучше всех, на тебя надо молиться. Ты мой бог. Я тебе молюсь, Макс».
Меня охватывает большая грусть.
— Лиля, не надо. Этого нельзя.
— Нет, надо, Макс…
В конечном итоге Волошин не просто помог Лиле избавиться от ранящих воспоминаний, бережно взяв на себя ее боль (отсюда признание «я ничего не помню, ты помнишь за меня», доказывающее незаурядный дар Волошина как психотерапевта; да и Лилины отношения с семьей после Коктебеля волшебным образом изменились, и вот уже в письмах 1910-х годов не слышно ни малейшей обиды на мать или брата, а, напротив, появляется нежное восклицание — «бедная моя мама!»), но и позволил ей преобразиться и довоплотиться.
Так появилась на свет Черубина де Габриак.
Ведь что есть ее появление, как не попытка раздвинуть рамки той привычной ролевой и поведенческой модели, из которой Лиля Дмитриева уже выросла и которая ей причиняла страдания? «Нерусская, явно. Красавица, явно. Католичка, явно. Богатая, о, несметно богатая, явно. <…> И главное забыла: свободная — явно». — Марина Цветаева точно перечисляет те качества Черубины, которые явились своеобразной зеркальной проекцией соответствующих биографических черт Лили Дмитриевой. Лиля стыдится собственной скромной внешности? Мы выдумаем из нее красавицу, которую не смогут уже ни задеть, ни обидеть мужские равнодушные взгляды. Стесняется бедности, не позволяющей ей хорошо одеваться и учиться в Сорбонне? Выдумаем «несметно богатую», утонченную и изысканную. Стыдится родных-обывателей, не поспевающих за страстями детей? Выдумаем родословную, включив туда и строгого отца, пуще глаза берегущего юную дочь, и пиковую даму-бабушку, аристократку, свидетельницу всего прошлого века, а стыдные и утомительные бытовые разногласия заменим высокими религиозными. Мечется, не умея прийти к христианскому Богу, одержимая галлюцинациями и видениями, в которых к ней время от времени приближается сам Люцифер? Выдумаем из нее истовую католичку, если чем-либо и одержимую, так только преступной любовью к Христу…
Мистификация? Разумеется. Однако то, что в Серебряном веке именовалось мистификацией, в современности именуется по-другому, а именно — психодрамой, и роль ее в нынешней психотерапии трудно переоценить. Психодрама (буквально — ролевая, театральная проработка какой-либо сложной, болезненной жизненной ситуации) сегодня известна как один из успешнейших методов изживания психологической травмы, ибо в ее основе — возможность выбрать или даже выдумать некоего персонажа, от лица которого человек, находящийся под защитой условной, игровой ситуации, наконец-то может заговорить так, как хочется.
Например, так, как Лиля заговорила в 1909 году:
- С моею царственной мечтой
- Одна брожу по всей вселенной,
- С моим презреньем к жизни тленной,
- С моею горькой красотой.
- Царицей призрачного трона
- Меня поставила судьба…
- Венчает гордый выгиб лба
- Червонных кос моих корона.
- Но спят в угаснувших веках
- Все те, кто были бы любимы,
- Как я, печалию томимы,
- Как я, одни в своих мечтах.
- И я умру в степях чужбины,
- Не разомкну заклятый круг.
- К чему так нежны кисти рук,
- Так тонко имя Черубины?
Отзвук этого ролевого, стилизованного по сути стихотворения прокатился по всему Серебряному веку, задев тех, кто был наиболее восприимчив, — от М. Цветаевой, тут же подхватившей мелодию стилизации («Мой шаг изнежен и устал, / И стан, как гибкий стержень, / Склоняется на пьедестал, / Где кто-то ниц повержен…»), до М. Шагинян, отозвавшейся едва ли не пародийно («Я ремни спустила у сандалий, / Я лениво расстегнула пояс. <…> В эту ночь от Каспия до Нила / Девы нет меня благоуханней!»). В вакхическом призыве Шагинян слышится уже не тонкость Черубининой интонации, а грубость газетного шаржа В. Буренина, высмеявшего Черубину под именем Акулины де Писаньяк: «…у ней, Акулины, пятки как „опортовые яблоки“ и косы цвета ультрамарина». [73] Однако и пародии, и подражания свидетельствуют о небывалом читательском ажиотаже, то есть техника вышла яркая и работающая! Современный психодраматист по окончании сеанса предложил бы клиентке попросту время от времени включать «режим Черубины», но Серебряный век не знал такого приема — Черубину нужно было создать целиком.
И Волошин — создал.
Часть II
ВРЕМЯ «Ч»
Черубина де Габриак
CHERCHEZ LA FEMME
Ее непосредственному созданию, однако, предшествовало еще одно — на сей раз не психотерапевтическое, но литературно-критическое — начинание Волошина. Дело в том, что как раз летом 1909 года художник и поэт Сергей Маковский, заручившись и волошинской, и гумилевской поддержкой, решился издавать журнал, который принял бы знамя русского символизма у московских «Весов» и «Золотого руна».
Указанные два журнала, в начале XX века бывшие бессменной трибуной для целого литературного направления, доживали последние дни. В 1908-м из «Весов» ушел Брюсов, и интеллектуальный напор ежемесячника, прежде известного своей эстетической непреклонностью, явно пошел на спад. «Золотое руно» же хотя и утверждало синтез искусств и идею соборности в пику «Весам» с прежним пылом, но постепенно склонялось к смежным искусствам и всю полноту современной поэзии охватить не могло. Ситуацию усугубляло то, что оба эти журнала слишком явно соперничали друг с другом: «Весы» находились в поле влияния Брюсова, «Золотое руно» — Иванова, и личные отношения двух мэтров, переживавшие сложные периоды притяжения / отталкивания, на журнальной политике не сказываться не могли.
Нужен был новый журнал молодого, нового поколения. Журнал, свободный от влияния «старших» и «авторитетных». Журнал, который бы смог примирить существующие разногласия и обозначить возможное магистральное направление новой поэзии…
В качестве такового возможного «примирителя» и задумывался «Аполлон».
Само его название, впрочем, звучит не примирительно, а полемично. С одной стороны, символисты настойчиво апеллировали к древнегреческой мифологии, позиционируя себя то аргонавтами, то спутниками Одиссея; с другой — в начале 1900-х их симпатии в классическом споре об Аполлоне и Дионисе были все же на стороне Диониса, в пику сдержанному предводителю муз покровительствующего чувственному, роевому началу. Статьи о корнях и началах дионисийства с 1905 года публиковал Вяч. Иванов, дионисийский экстаз проповедовал А. Блок, ему следовал в «Петербурге» А. Белый… Да что там — сам С. Маковский, будущий глава «Аполлона», по свидетельству И. фон Гюнтера, в середине 1900-х годов «размахивал знаменем божественного опьянения»! Однако к концу первого десятилетия XX века дионисийство себя исчерпало: реальность все больше вывертывалась из-под ног, и культура мыслилась уже не подгоняющим экстатическим вихрем, а возможным противовесом.
Когда же в сознании Маковского произошел поворот от «танцующих звезд» и экстаза к классической сдержанности Аполлона? Не в марте ли 1909 года, когда на Университетской набережной в одном из символистских салонов-лекториев была прочитана лекция Максимилиана Волошина «Аполлон и мышь»? Именно после этой лекции Маковский, Волошин и Гумилев отправились с визитом в Царское Село к Иннокентию Анненскому — с визитом, завершившимся памятным признанием Маковского:
Вряд ли возник бы «Аполлон», не случись моей встречи с Иннокентием Федоровичем. <…> Я колебался долго. Не потому, что неясно представлял себе программу журнала, но потому, что недоставало мне опытного старшего советчика (признанного всеми «ближайшими» в будущей редакции), чтобы придать авторитетность мне, только начинавшему тогда писателю, в трудной роли редактора и оградить меня от промахов.
После первой же встречи с Анненским, — нас познакомил царскосел, юноша Гумилев, — я почувствовал, сколько неиспользованных духовных сил накопилось в этом молодом старце и как самоотверженно готов он погрузиться в общее наше дело, не претендуя ни на какое исключительное влияние, просто из преданности к литературе, из сочувствия к талантливой молодости, из желания быть услышанным ею, слиться с нею в работе, — ведь до того почти никто его не слышал и печататься ему было негде.[74]
Видимо, Анненский поддержал как саму идею журнала (обойденный вниманием основных текущих изданий, к возможности фактически вырастить свой журнал он отнесся с естественным трепетом), так и название. После отсылок к таинственному зодиаку («Весы»), после окликания грозного античного рока («Золотое руно») стройный мусикийский шорох имени Аполлона должен был свидетельствовать о легитимизации и соразмерности русского символизма текущей эпохе. Во всяком случае, именно это представлялось Маковскому главной задачей: он стремился избежать как авторитаризма элитарных «Весов», так и сектантской соборности «Золотого руна», он надеялся создать журнал-навигатор, журнал-ориентир, формирующий кругозор завоеванной аудитории; журнал-маяк, не отпугивающий читателя чрезмерно яркими вспышками, но очерчивающий для него берега и границы.
Эта установка сквозит в его летнем письме к Волошину, которого Маковский наряду с Гумилевым и Анненским видел в числе инициаторов и фактически учредителей «Аполлона»:
Читая поступающие в редакцию рукописи, прислушиваясь к чаяниям наших будущих читателей… <…> я все более и более прихожу к убеждению, что поставить себя хорошо сразу — значит не дразнить не посвященных во все тайны символического стиля чрезмерной изощренностью литературных приемов. Оставим в стороне стихи: тут другой вопрос, права поэта — абсолютны. Но проза, рассуждение, изложение мыслей — тут, если мы не хотим повторить «Весов», а хотим сделаться руководителями (sic! — Е.П.) в каком-то угаданном нами процессе литературного «асцендентства», — мы должны избегать языка авгуров, мы — инициаторы и главные работники журнала. Пожалуйста, М.А., напишите мне, так же откровенно, как пишу я, Ваше мнение относительно этой моей редакторской (не личной) точки зрения…[75]
Маковский был осторожен и предусмотрителен: вкладывая в журнал все свои силы, он не хотел рисковать, подставляя под удар критики спорные или (фраза из того же письма) «избранно-субъективные» материалы. Ну а Волошин… Волошин, также глубоко вовлеченный в деятельность «Аполлона», в отличие от Маковского, чьим девизом после некоторого разочарования в старшем символизме были истинно аполлонические «умеренность и аккуратность», ясно осознавал, что одной умеренностью и аккуратностью путь не пробить. Первые номера журнала, дабы привлечь внимание и не потеряться на фоне действительно высококлассных предшественников, должны содержать в себе что-то действительно экстраординарное.
Но как? Почти все поэты, чьи голоса что-то значили для читающей публики, уже появлялись с подборками и в «Весах», и в «Руне» и зарекомендовали себя как их авторы. Манифесты, статьи и обращения редакции, которыми пестрил самый первый, октябрьский, «Аполлон», хотя и звучали заманчиво, но пока больше обещали, чем предъявляли — в литературном приложении к первому выпуску были напечатаны тексты всё тех же Вячеслава Иванова, Константина Бальмонта, Валерия Брюсова, Макса Волошина, Федора Сологуба и проч. Обещанная новизна заволакивалась легкой дымкой сомнения. Чтобы подтвердить собственные претензии на роль маяка-навигатора в современном литературном процессе, новому номеру нужен был гвоздь.
На самом деле Маковский тоже это понимал, поэтому и предложил вывести из тени мощную и трагическую фигуру Иннокентия Анненского. Стихи Анненского в первой «аполлонической» книжке действительно были, а критический блок во многом держался на цикле его статей «О современном лиризме», публиковавшемся в каждом номере и фактически выполнявшем функцию эстетической программы журнала. Но у Волошина появилась идея получше: не просто представить читателям неоцененного или даже открытого «Аполлоном» поэта, но задеть самый животрепещущий нерв современности, удовлетворить самый острый текущий культурный запрос.
В 1900-е годы таковым был запрос на женскую лирику.
«Очевидно, в то время открывалась какая-то тайная вакансия на женское место в русской поэзии», — много позже прокомментирует Анна Ахматова, и этот ее комментарий мы вскорости процитируем целиком. Действительно, женщины, то примеряющие на себя андрогинную роль подобно Зинаиде Гиппиус, то активно вовлеченные во всевозможные тройственные союзы подобно Любови Дмитриевне Менделеевой или Нине Петровской, перестали довольствоваться вспомогательной функцией музы и вдохновительницы и задумались о том, чтобы — опять-таки по-ахматовски — «научиться говорить». В периодике появились подборки Аделины Адалис, Аделаиды Герцык, Любови Столицы, Поликсены Соловьевой, Софии Парнок… Так что же лучше подойдет для привлечения внимания к новому журналу, чем женская лирика?
Хотите успеха в современной литературе? — Cherchez la femme.
Но для символистской трибуны и женщина требовалась соответствующая.
Дело тут было не столько во внешности, сколько в соответствии некоему гипотетическому читательскому идеалу. Волошин, проницательный критик поэзии и вообще — ловец душ человеческих, хорошо понимал, что широкой аудиторией новое имя может быть с одобрением воспринято лишь на волне узнавания (резкая критика парадоксальных новаторских материалов, написанных Анненским, подтверждала это как нельзя лучше). Новую поэтессу, явившуюся к читателям со страниц «Аполлона», примут как подлинное открытие только в том случае, если ее поэтический образ совпадет с неким внутренним абрисом, с тайным читательским представлением о ней.
А поскольку вся поэтическая и читающая Россия конца «нулевых» дышит Блоком, поскольку главный лирический символ эпохи есть блоковская Прекрасная Дама, Незнакомка, Снежная Маска et cetera — значит, эту Прекрасную Даму и надо ввести в «Аполлон»: чтобы журнал заметили, чтобы услышали, чтобы сама эпоха догорающего, но все еще мощного русского символизма женским голосом заговорила с его страниц…
И вот в начале сентября 1909 года в редакцию «Аполлона» приходит письмо. Почерк — женский, уверенный, острый — «отвесный». Страницы стихов переложены пряно пахнущими коктебельскими травами: маслина, чабрец, тамариск? Само письмо, написанное на бумаге с траурным обрезом, запечатано черной сургучной печатью с девизом: «Vale Victis!» («Горе побежденным!»). На конверте — обратный адрес: Санкт-Петербург, до востребования, Ч. де Габриак.
Через несколько недель, в ноябре, подборка за этой подписью (только с расшифрованной «Ч» — Черубина) будет опубликована в «Аполлоне».
Но как «ресурсная речевая роль» Лили, ее alter ego, оказалась наделена таким звучным именем? Сам Волошин рассказывает об этом довольно уклончиво, скорее запутывая, чем проясняя загадку:
Я начну с того, с чего начинаю обычно, — с того, кто был Габриак. Габриак был морской чорт, найденный в Коктебеле, на берегу, против мыса Мальчик. Он был выточен волнами из корня виноградной лозы и имел одну руку, одну ногу и собачью морду с добродушным выражением лица.
Он жил у меня в кабинете, на полке с французскими поэтами, вместе со своей сестрой, девушкой без головы, но с распущенными волосами, также выточенной из виноградного корня, до тех пор, пока не был подарен мною Лиле. <…> Тогда он переселился в Петербург на другую книжную полку.
Имя ему было дано в Коктебеле. Мы долго рылись в чертовских святцах («Демонология» Бодена) и наконец остановились на имени «Габриах». Это был бес, защищающий от злых духов.[76] Такая роль шла к добродушному выражению лица нашего чорта. <…> Лиля писала в это лето милые простые стихи, и тогда-то я ей и подарил чорта Габриаха, которого мы в просторечье звали «Гаврюшкой».[77]
История создания Черубины, записанная со слов Волошина библиографом и антропософкой Т. Шанько, известна от первого до последнего слова, и все-таки — остановимся здесь. Скорее всего, не только «добродушное выражение лица» заставило Волошина дать коктебельскому корню имя демона, защищающего от злых духов! Проведя несколько недель в обществе Лили и ежедневно (а может быть, и еженощно) выслушивая ее исповеди, Волошин успел убедиться в том, что злые духи Лилю нередко одолевали, а вот окружающая стихия — моря ли, ветра или коктебельской земли — обладала целительной силой. В этом случае «чорт», выточенный морскими волнами, мог быть подарен Лиле как оберег; к тому же его одноногость напоминала о Лилиной хромоте, а добродушное выражение лица — о возможности преодоления физического увечья без злости и вызова.
То есть с фамилией все более-менее понятно, а с именем? По Волошину, «для аристократичности Чорт обозначил свое имя первой буквой. Впоследствии „Ч“ было раскрыто. Мы долго ломали голову, ища женское имя, начинающееся на „Ч“, пока, наконец, Лиля не вспомнила об одной Брет-Гартовской героине. Она жила на корабле, была возлюбленной многих матросов и носила имя Черубины…».
Упоминание о Брет Гарте здесь важно. Брет Гарт — предшественник Джека Лондона, self-made man, разнорабочий, впоследствии — предприимчивый журналист, открывший для американской литературы тему «золотой лихорадки» и в годы бурной бродячей молодости успевший поработать в том числе и учителем. Вполне вероятно, что его фигура — фигура преуспевающего литератора, пришедшего к публикациям и признанию от школьной доски и из рудной шахты, была близка Дмитриевой, хотя, конечно, испанская нотка, звучащая в имени Черубины, для нее важнее «Тайны телеграфного холма» Брет Гарта. А еще важнее — та самая блоковская подкладка, ибо все открытия и откровения поэзии Блока, всё, что его многочисленными читателями воспринималось как культовое, в поэзии Черубины оказалось переосмыслено в женском ключе. Чистота и падение («была возлюбленной многих матросов…», но — готовится к постригу); куртуазная любовь к небесному образу (Блок поклоняется Пресвятой Деве, Черубина под «угрожающий хор» Эринний покрывает поцелуями руки Христа); демонстрация чувственности при стремлении к святости и монашескому отречению… Одним словом, стихи Черубины звучали так, как если бы заговорила Прекрасная Дама — не случайно знаменитому блоковскому «Вхожу я в темные храмы…» она откликается страстным «Ищу защиты в преддверьи храма…», кратким стихотворением, образующим со своим поэтическим «прототипом» своеобразный ролевой — гендерный! — диалог:
- Ищу защиты в преддверьи храма
- Пред Богоматерью Всех Сокровищ,
- Пусть орифламма
- Твоя укроет от всех чудовищ…
- Я прибежала из улиц шумных,
- Где бьют во мраке слепые крылья,
- Где ждут безумных
- Соблазны мира и вся Севилья.
- Но я слагаю Тебе к подножью
- Кинжал и веер, цветы, камеи —
- Во славу Божью…
- О Mater Dei, memento mei!
Второй номер журнала, в котором было опубликовано 11 стихов Черубины де Габриак, в отличие от первого в самом деле вышел программным — недаром самое первое слово, содержательно открывающее его, — «символизм». «Символизм в поэзии — дитя города. <…> Символам просторно играть среди прямых каменных линий, в шуме улиц, в волшебстве газовых фонарей и лунных декораций»[78] — так начинается статья Анненского «О современном лиризме», на сей раз представляющая собой апологию молодых символистов — сотрудников «Аполлона». «Чемпионом молодых», символом поколения он называет А. Блока, сочувственно отзывается о Волошине, Кузмине, Гумилеве, Маковском, об Алексее Толстом. В общем обзоре мелькает и тут же отходит на второй план имя Б. Дикса: ему чуткий Анненский кротко, но твердо отказывает в поэтическом даре (и действительно, вскоре Дикс, он же Борис Алексеевич Леман, решительно предпочтет символизму оккультные практики, что сыграет свою роковую роль в судьбе если не Черубины де Габриак, то уж Лили Дмитриевой — наверняка). Далее следуют материалы о символизме в разных видах искусств — в музыке (В. Каратыгин), в живописи (К. Бакст)… А раздел «Хроника», посвященный собственно современной литературе, открывается полумистическим разысканием Волошина «Гороскоп Черубины де Габриак», предваряющим напечатанную в Приложении подборку стихов Черубины и предупреждающим читателей «Аполлона» о том, что им предстоит встретиться с поэтическим образом, прежде в русской словесности небывалым:
Аполлон усыновляет нового поэта. Нам, как Астрологу, состоящему при храме, поручено составить гороскоп Черубины де Габриак. Постараемся, следуя правилам царственной науки, установить его элементы.
Две планеты определяют индивидуальность этого поэта: мертвенно-бледный Сатурн и зеленая вечерняя звезда пастухов — Венера, которая в утренней своей ипостаси именуется Люцифером.
Их сочетание над колыбелью рождающегося говорит о характере обаятельном, страстном и трагическом. Венера — красота. Сатурн — рок. Венера раскрывает ослепительные сверкания любви: Сатурн чертит неотвратимый и скорбный путь жизни.
Венера свидетельствует о великодушии, приветливости и экспансивности; Сатурн сжимает их кольцом гордости, дает характеру замкнутость, которая может быть разорвана лишь страстным, всегда трагическим жестом. <…> Это две звезды того созвездия, которое не восходит, а склоняется над ночным горизонтом европейской мысли и скоро перестанет быть видимым в наших широтах. Мы бы не хотели называть его именем «Романтизма», которое менее глубоко и слишком широко. Черубина де Габриак называет его «Созвездием Сна». Оставим ему это имя.
Некогда это созвездие стояло в зените Европейского Неба, и его токами расцвела прекрасная рыцарская культура, имевшая своим знаком меч в форме креста. Уже давно началось вековое его склонение. Теперь, когда оно в осенние ночи на краткие часы подымается над зыбью волнующегося моря, блеск его не менее величав и ужасен, чем блеск Ориона. Люди, теперь рожденные под ним, похожи на черные бриллианты: они скорбны, темны и ослепительны. В них живет любовь к смерти, их влечет к закату сверкающего Сна — ниже линии видимого горизонта. («Я как миндаль смертельна и горька — нежней, чем Смерть, обманчивей и горче».) Они слышат, как бьются темные крылья невидимых птиц над головой, и в душе звуком заупокойного колокола звучит неустанно: «Слишком поздно!»
Таковы пути, намечаемые созвездиями и планетами для творчества Черубины де Габриак. Но не забудем, что они определяют мировые сферы творчества и вековые устремления жизни. Все сказанное относится к этой области и совсем не касается ни таланта данного поэта, ни его силы, ни его значения. Рожденные под этим сочетанием настолько сгорают в самих себе, что область художественного творчества может отсутствовать в них совершенно. К счастью, этого нельзя сказать о Черубине де Габриак.
Волошин говорит — романтизм, а мы скажем — конечно же, символизм. Уж не замышлял ли Волошин явление Черубины как мощный аккорд, завершающий символистскую пору отечественной поэзии? С него станется — ведь недаром спустя несколько месяцев он задумает написать «большую книгу критики» под названием «Итоги символизма» — о новом реализме, возникающем на символистской почве… «Гороскоп Черубины де Габриак», за который впоследствии его кто только не упрекал, был в последнюю очередь шуткой и розыгрышем, в первую же — подведением итогов эпохи, которая завершалась блистательной мистификацией.
Но время мнимостей истекало, и приближалась эпоха разоблачений.
А пока то, что происходило в редакции «Аполлона» осенью 1909-го, как нельзя лучше вписывалось в знаменитую формулу Анны Ахматовой «петербургская чертовня», потому что иначе как чертовней это трудно было назвать.
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЧЕРТОВНЯ
Маковскому продолжали приходить письма на дорогой бумаге с траурными обрезами и печатью; весь упомянутый реквизит, за исключением привезенных из Коктебеля засушенных травок, случайно обнаружился у Лиды Брюлловой. Сама Лида той же осенью была избрана секретарем «Аполлона» — возможно, благодаря «пильским» связям, а возможно, из сочувствия и симпатии к ней, юной матери, разорвавшей с мужем и оставшейся с ребенком на руках. Впрочем, маленький Юра, сын Пильского, по всей видимости, воспитывался у родственников — или, по крайней мере, они помогали много и безотказно, недаром в воспоминаниях Гюнтера о встречах «аполлоновцев» на квартире Брюлловой ни единого упоминания о мальчике нет.
Лида была не только допущена к участию в мистификации, но и выполняла в ней функцию администратора — в качестве секретаря редакции фиксировала письма Черубины, адресованные Маковскому, передавала его впечатления Волошину с Лилей. Судя по всему, в мистификацию были посвящены и другие Брюлловы. Как убедительно доказывает Л. Агеева, непосредственное участие Лиды, постоянной сотрудницы «Аполлона», в деле Дмитриевой / Черубины тотчас бы было раскрыто, но ее многочисленные сестры и кузины, предоставлявшие свои телефоны и адреса, помогали хранить секрет[79], и мистификация шла полным ходом.
На другой день после одобрения стихов Черубины Лиля Дмитриева, гортанно грассируя, позвонила Маковскому. Голос ее, «немного картавый и затушеванный», голос, каким «разговаривают женщины очень кокетливые, привыкшие нравиться, уверенные в своей неотразимости», молодого художника покорил. Маковский увлекся иноземной красавицей — инфантой, как он, следуя за стихами, ее окрестил, — не на шутку. Он ждал ее писем, звонков и стихов, посылал ей цветы, просил помощи у Волошина, называя его «своим Сирано» и не подозревая, что Волошин был Сирано для обеих сторон. Постепенно Маковскому удалось «выпытать у инфанты» кое-какие подробности ее биографии:
…она и впрямь испанка родом, к тому же ревностная католичка: ей всего осьмнадцать лет, воспитывалась в монастыре, с детства немного страдает грудью. Проговорилась она еще о каких-то посольских приемах в особняке «на Островах» и о строжайшем надзоре со стороны отца-деспота (мать давно умерла) и некоего монаха-иезуита, ее исповедника…[80]
Заметим, как виртуозно Макс, разумеется режиссировавший жизнеописание Черубины, отзеркаливает исходную Лилину ситуацию. На самом-то деле ведь давно умер Лилин болевший чахоткой отец; Елизавете Кузьминичне в известной мере был свойствен деспотизм — возможно, она неоднократно высказывалась о необходимости «строжайшего надзора» над дочерью; под личиной монаха-иезуита угадывался сам Волошин… Однако хотя в дальнейшем Маковский и будет говорить в мемуарах, что таинственный облик и «полубиографические признания» инфанты очаровали его больше стихов, все же он отдал дань и собственно лирике Черубины. Мелодика напряженной чувственности, «страстный католицизм», отчетливый испанский колорит, кровавые и мрачные мотивы европейского Средневековья — все это пленило Маковского, все это заставило его говорить о стихах Черубины, и в конце концов в таинственную инфанту с легкой руки главного редактора заочно влюбился весь «Аполлон».
Вот как об этом рассказывал сам Papa Mako:
Интерес к Черубине не только не ослабевал, а разрастался, вся редакция вместе со мной «переживала» обаяние инфанты, наследницы крестоносцев. <…> Влюбились в нее все «аполлоновцы» поголовно, никто не сомневался в том, что она несказанно прекрасна, и положительно требовали от меня — те, что были помоложе, — чтобы я непременно «разъяснил» обольстительную «незнакомку». Не надо забывать, что от запавших в сердце стихов Блока, обращенных к «Прекрасной Даме», отделяло Черубину всего каких-нибудь три-четыре года: время было насквозь провеяно романтикой…
Маковский, как и многие художники, плохо объясняет, но точно фиксирует. Зафиксировал он и соответствие облика Черубины облику блоковской Незнакомки — а вот то, что ведет она себя как Незнакомка, как тень, то тревожа и ускользая, то очаровывая и насмехаясь, подметить не смог. При том что сама Черубина нисколько не скрывала своей причастности к блоковской мифологии: «Как дева угасшей лампады, / Отвергшая зов Жениха, / Стою у небесной ограды…» — и даже — некоторыми искусными реминисценциями — педалировала ее! Но до поры до времени эта игра проходила никем не замеченной.
Маковский требовал у Черубины свидания. Лиля, наученная Волошиным, соглашалась и говорила по телефону: «„Тогда-то я буду кататься на Островах. Конечно, сердце Вам подскажет, и Вы узнаете меня“. Маковский ехал на Острова, узнавал ее и потом с торжеством рассказывал ей, что он ее видел, что она была так-то одета, в таком-то автомобиле… Лиля смеялась и отвечала, что она никогда не ездит в автомобиле, а только на лошадях. Или же она обещала ему быть в одной из лож бенуара на премьере балета. Он выбирал самую красивую из дам в ложах бенуара и был уверен, что это Черубина, а Лиля на другой день говорила: „Я уверена, что Вам понравилась такая-то“. И начинала критиковать избранную красавицу. Все это Маковский воспринимал как „выбивание шпаги из рук“»[81], — и жаловался редакции на коварство Черубины, и продолжал обсуждать ее удивительную внешность и не менее удивительные стихи. Волошину и Лиле эти нескончаемые разговоры были только на руку, ибо таким образом «вести о Черубине шли только от влюбленного в нее Papa Mako. Были, правда, подозрения в мистификации, но подозревали самого Маковского».[82]
И вот уже «убежденный в своей непобедимости Гумилев… <…> предчувствовал день, когда он покорит эту бронзовокудрую колдунью; Вячеслав Иванов восторгался ее искушенностью в „мистическом эросе“. <…> Но всех нетерпеливее „переживал“ Черубину обычно такой сдержанный Константин Сомов. Ему нравилась „до бессонницы“, как он признавался, воображаемая внешность удивительной девушки. „Скажите ей, — настаивал Сомов, — что я готов с повязкой на глазах ездить к ней на острова в карете, чтобы писать ее портрет, дав ей честное слово не злоупотреблять доверием, не узнавать кто она и где живет“».[83]
Черубина тем временем, видимо испугавшись чрезмерного напора поклонника (согласно воспоминаниям Волошина, имели место роскошный букет белых роз и орхидей, а также попытки подкараулить красавицу на вокзале и в коридорах театров), известила Маковского, что уезжает на пару месяцев за границу по требованию врачей. В период ее отсутствия звонки от Маковского принимала одна из сестер Брюлловых, назвавшаяся кузиной Черубины. Она же рассказывала влюбленному о внезапной болезни сестры, о том, что Черубина готовится к постригу в монастырь, о том, как она «молилась всю ночь исступленно, а утром ее нашли перед распятьем без чувств, на полу спальни». Удивительно, но даже это общее место бульварных любовных романов не охладило Маковского! Напротив, рассказ кузины встревожил его не на шутку, заставив почувствовать, до какой степени он «связан с ней, с Черубиной, с ее волшебным голосом и недоговоренными жалобами…».
И со стихами, конечно же. Ведь все-таки главным для Лили во всей этой мистификации были стихи.
Они печатались в «Аполлоне» дважды — во втором номере за 1909 год, знаменуя блистательное вхождение Черубины в литературный процесс, и в десятом номере за 1910-й — как не менее блистательное, учитывая торжественное оформление гравюрами Е. Лансере, и трагическое прощание. Первая подборка была куртуазной, напевной, пронизанной многозначительными намеками и таинственными признаниями. Вторая явила лирику Черубины де Габриак во всей ее страстной, трагической мощи, так потрясшей семнадцатилетнюю в эту пору Марину Цветаеву, что образы Черубины — запыленное одеяние пророка, красный плащ грозного гения, «любовь и смерть в семнадцать лет…» — ворвались в ее ранние стихи прямо со свежих страниц «Аполлона» и не только узнаваемо замерцали на страницах «Вечернего альбома», но и проникли в более позднюю лирику (прежде всего упомянем поэму «На красном коне» или цикл «Плащ», а к слову — и собственное цветаевское признание про «уцелевшие за двадцатилетие жизни и памяти строки»). Образ таинственной незнакомки, чей голос звучал со страниц «Аполлона», будоражил воображение, ошеломлял, околдовывал, чаровал:
- Замкнули дверь в мою обитель
- навек утерянным ключом,
- и черный Ангел, мой хранитель,
- стоит с пылающим мечом.
- Но блеск венца и пурпур трона
- не увидать моей тоске,
- и на девической руке —
- ненужный перстень Соломона.
- Не осветит мой темный мрак
- великой гордости рубины…
- Я приняла наш древний знак
- святое имя Черубины.
Триумф Черубины де Габриак оказался поддержан и критикой Анненского, подхватившего мысль о женской поэзии и развернувшего ее в третьей части статьи «О современном лиризме» (третья часть была «антитезисом» ко второй, мужской, части и называлась «Оне»). Анненский, не вдаваясь в подробности Черубининой биографии, прямо возвел ее к Вечной Женственности, отмечая необыкновенное попадание образа Черубины в надежды и чаяния ее первых читателей: «Пусть она даже мираж, мною выдуманный, я боюсь этой инфанты, этого папоротника, этой черной склоненной фигуры с веером около исповедальни. <…> Я боюсь той, чья лучистая проекция обещает мне Наше Будущее в виде Женского Будущего…»[84] Как это совпадает с признанием Волошина о Маковском — «Нам удалось сделать необыкновенную вещь: создать человеку такую женщину, которая была воплощением его идеала и которая в то же время не могла его разочаровать, так как эта женщина была призрак»!
Но призрак призраком, а что же в эти дни делала реальная Лиля?
Они с Волошиным вернулись из Коктебеля в Петербург в начале сентября. Лиля учительствовала и — в пику роскоши, окружающей Черубину, — жила на одиннадцать рублей в месяц, которые получала за преподавание в приготовительном классе. Их отношения с Волошиным были почти что супружескими; во всяком случае, Макс видел Лилю своей женой и практически открыто сообщал об этом Маргарите Сабашниковой, а также некоторым друзьям — в частности Александре Петровой, с которой осенью 1909-го он переписывался особенно откровенно:
Я писал Вам о тех отношениях, которые теперь между Аморей, Лилей и мной. Практически и жизненно самое необходимое сейчас — это начать хлопоты о разводе. <…> Но для этого надо денег, очень много денег, очень много времени. Я совсем теряюсь и не знаю, и не вижу, что будет, как это устроить?
Заметим в скобках, что Аморя искренне одобряла выбор бывшего мужа — особенно после того, как, побывав в Петербурге, смогла познакомиться с Лилей лично. В письме всё к той же Петровой, неожиданно для себя сделавшейся задушевной конфиденткой и Макса, и Лили, и Маргариты, она говорит: «Я познакомилась с Лилей Димитриевой, и мне с первой минуты показалось, что я знала ее всегда. Мы очень близки с ней. <…> А Макс… ах, он все еще глуп и только через нее сможет поумнеть; и я ему могу помочь только через нее. Ему и ей я желаю жизни и благословляю обоих».[85] Единственное, что в этом письме настораживает, так это настойчивое желание Амори, самой не особенно твердо держащейся на ногах, «помочь» Лиле («М<ожет> б<ыть>, можно помочь ей. Чувства спокойствия за нее у меня еще нет…»), а заодно и Волошину. Понять, какая помощь имеется в виду, можно, вспомнив, что в это время Сабашникова находится под сильнейшим влиянием учения Р. Штейнера и всех своих близких знакомых стремится увидеть штейнерианцами. [86] Истина, по Сабашниковой, могла быть открыта только в учении Штейнера; и если осенью 1909 года и Макс, и Лиля еще находили в себе силы противостоять стремительно распространяющемуся поветрию, то спустя еще совсем немного времени между Волошиным и последователями Штейнера за душу Лили разгорится нешуточная борьба.
Но сейчас главное, что одолевает пару, как и следует из откровенного письма Макса, — денежные заботы. Для умеренного и аккуратного «Аполлона», с каждым новым номером набирающего популярность, размашистые, импрессионистские статьи Волошина становятся неподходящими. Выход подборки его стихов Маковский мягко откладывает, а потом и вовсе отказывает в публикации («„Аполлон“ не будет издавать его стихи, Макс хочет обратиться к „Грифу“»[87], — сетует Лиля в письме). Про Лилю и говорить нечего: гонорар, высланный Маковским на имя Черубины де Габриак, она использует на покупку новых ботинок — взамен пары рваных, которые ей приходилось носить на протяжении всего петербургского октября. Учительствует она при этом вполсилы: на большую нагрузку элементарно не хватает здоровья, тем более что ее вовлеченность в литературный процесс становится всё более явной и требует самоотдачи и времени. Ведь Лиля не только «работает Черубиной де Габриак» (а значит, много пишет, охваченная лихорадочным вдохновением, — пишет как будто бы под диктовку своего грозного двойника), но и сотрудничает с «Аполлоном» как переводчица и внештатный редактор…
А жизнь вокруг бьет ключом. В молодой журнал рекой текут посетители, Вячеслав Иванов проводит для «аполлоновцев» свои «среды», пленительная Вера Шварсалон устраивает чаепития и особенно привечает Дмитриеву — уже не как домашнюю учительницу младшего брата, но как сотрудницу «Аполлона», как подругу Волошина, как «собеседницу на пиру», сопричастную к зарождению новой эпохи искусства. Молодежь задумывает «Башенный театр», собирается ставить пьесу Кальдерона «Поклонение кресту», раздает роли (одна из них достается и Дмитриевой, но сыграть в «Поклонении…» она не успеет). В редакции днюют и ночуют Кузмин, Гумилев, молодой переводчик русской поэзии на немецкий Иоганнес (или просто Ганс) Гюнтер; Лиля засиживается в «Аполлоне» и у Ивановых допоздна, утром спешит на работу, в холодном классе ждут ученицы, а Черубина в это время молится, запрокинувшись, у своего ажурного кованого креста…
Эта двойная жизнь — в роскошных комнатах готического особняка и в тесных петербургских углах, в уединении и молитвах — и в переполненных неумолкающих классах — подтачивает ее сознание. В конце концов наступает момент, когда уже не Лиля придумывает Черубину, но Черубина видит свою создательницу со стороны:
- Есть на дне геральдических снов
- Перерывы сверкающей ткани;
- В глубине анфилад и дворцов
- На последней таинственной грани
- Повторяется сон между снов.
- В нем все смутно, но с жизнию схоже…
- Вижу девушки бледной лицо,
- Как мое, но иное и то же,
- И мое на мизинце кольцо.
- Это — я, и все так не похоже.
- Никогда среди грязных дворов,
- Среди улиц глухого квартала,
- Переулков и пыльных садов —
- Никогда я еще не бывала
- В низких комнатах старых домов.
- Но Она от томительных будней,
- От слепых паутин вечеров —
- Хочет только заснуть непробудней,
- Чтоб уйти от неверных оков,
- Горьких грез и томительных будней.
- Я так знаю черты ее рук,
- И, во время моих новолуний,
- Обнимающий сердце испуг,
- И походку крылатых вещуний,
- И речей ее вкрадчивый звук.
- И мое на устах ее имя,
- Обо мне ее скорбь и мечты,
- И с печальной каймою листы,
- Что она называет своими,
- Затаили мои же мечты…
- И мой дух ее мукой волнуем…
- Если б встретить ее наяву
- И сказать ей: «Мы обе тоскуем,
- Как и ты, я вне жизни живу», —
- И обжечь ей глаза поцелуем.
Кстати сказать, стихи, написанные Черубиной как Лилиным двойником, без участия Лили, как будто бы отстранившейся от процесса, намного слабее, чем то, что они пишут «вместе». Да и Лилин ответ Черубине — «Что, если я сейчас увижу / Углы опущенные рта, / И предо мною встанет та, / Кого так сладко ненавижу?» — куда экспрессивнее Черубининой сомнамбулической речи. Так ли уж правы те, кто утверждает, что после раскрытия мистификации Дмитриевой не удалось написать ничего равного прежним стихам, сочиненным для голоса Черубины? Слов нет, Черубина, конечно же, активировала в сознании Лили какие-то элементы поэтики, но сама Дмитриева — куда более интересный и самобытный поэт, нежели рафинированная инфанта, о чьих стихах сам Маковский писал: «Стихи — как стихи, не без риторических перепевов с чужого голоса, иногда — словно переводные, выдуманные, не свои». Видимо, некоторую их сделанность, вычурность чувствовала и сама Лиля: не случайно в кругах «аполлоновцев», собиравшихся иногда у Брюлловой к вечернему чаю, были известны пародии Дмитриевой на Черубину — меткие, остроумные и выводящие из себя самых преданных поклонников неуловимой испанки.
Из этих пародий, которых было немало, сохранилась лишь зарисовка «Испанский знак», вскользь проходящаяся по самозабвенным попыткам Маковского опознать роковую красавицу то в театре, то на прогулке, то на изысканном рауте:
- Он поклонился ей приветно,
- Она ж не поклонилась, — нет,
- Но знак испанский незаметный
- Она дала — графиня Z.
- (А рядом с нею был Фернандо,
- Испанский юный атташе,
- Кругом амуры и гирлянды,
- И в них графиня — вся cache.)
- ……………………………
- Ах, голос на нее похожий!
- На Черубину Габриак.
- И так в партер из темной ложи
- Графиня Z, что с нею схожа,
- Ему дала испанский знак.
В данном случае, впрочем, юмор вышел довольно натужный. И неспроста. К ноябрю 1909-го, когда и написана эта пародия, Лиля не могла не чувствовать, что над Черубиной сгущаются тучи. Даже оптимистичный Волошин стал ощущать, что игра затянулась: Маковский, от которого ускользала роковая любовь, решился провести опрос прислуги всех богатых дач на Каменноостровском. Каково же было удивление Волошина, однажды услышавшего от приятеля: «Знаете, мы нашли Черубину»!
«Она — внучка графини Нирод[88], — делился обрадованный Маковский с Волошиным. — Сейчас графиня уехала за границу, и поэтому она может позволять себе такие эскапады. Тот старый дворецкий, который, помните, звонил мне по телефону во время болезни Черубины Георгиевны, был здесь, у меня в кабинете. Мы с бароном дали ему 25 рублей (чуть ли не втрое больше того, что получала за свое учительство Лиля. — Е. П.), и он все рассказал. У старухи две внучки. Одна с ней за границей, а вторая — Черубина. Только он назвал ее каким-то другим именем, но сказал, что ее называют еще и по-иному, но он забыл как. А когда мы его спросили, не Черубиной ли, он вспомнил, что, действительно, Черубиной».
Реакция Макса на это признание нам неизвестна, но Лиля — «Лиля, которая всегда боялась призраков, была в ужасе. Ей все казалось, что она должна встретить живую Черубину, которая спросит у нее ответа».[89] Больше носить в себе эту тайну она не могла, ей было необходимо кому-то открыться.
И вот он — человек, которому пришлось выступить в роли разоблачителя Лилиной мистификации. Импозантный розовощекий Иоганнес фон Гюнтер, выходец из далекой Митавы, влюбленный как в русскую литературу вообще, так и во всех тех, кто ее «делает», в частности… Неизвестно, как так получилось, но в конечном итоге именно его версия событий вокруг финальных эпизодов истории Черубины и собственно дуэли на Черной речке, изложенная в мемуарах «Жизнь на восточном ветру», была признана канонической, и практически все биографы наших героев — от С. Пинаева до В. Шубинского — опираются на нее.
Ознакомимся же с этой версией и попробуем прояснить те моменты, которые в изложении Гюнтера выглядят спорными или сомнительными.
«НА ТАКИХ НЕ ЖЕНЯТСЯ»
Ганс Гюнтер прибыл в Россию весной 1906 года, а к осени 1909-го уже стал своим человеком и в Петербурге, и в «Башне» у Вяч. Иванова, и в редакции «Аполлона». Михаил Кузмин, Вячеслав Иванов и сам Александр Блок посвящают ему стихи, переводят на русский язык его пьесы; тихий социопат Хлебников пишет о нем в письме к брату: «Я познакомился с Гюнтером, которого полюбил»[90]; Гумилев, едва узнав Гюнтера, зазывает его в «Аполлон», где двадцатидвухлетнему переводчику поручают заведовать материалами, связанными с немецкой литературой… Гюнтер был вхож во все литературные салоны, приятельствовал со всеми поэтами, волочился за всеми писательскими подругами. Сегодня он пил с Гумилевым, завтра — плакал на плече у Кузмина; естественно, что слухи о самом необыкновенном романе, зародившемся в «Аполлоне», — о романе Маковского с Черубиной, — волновали его чрезвычайно, да и сам он, ибо «коллективная страсть заразительна», не преминул оказаться в числе рыцарей прельстительной поэтессы.
И вот однажды вечером…
Впрочем, здесь лучше предоставить слово самому Гюнтеру:
Однажды вечером я опять был у Вячеслава Иванова на Таврической, оказавшись единственным петушком в сугубо дамском кружке. Вера, падчерица Вячеслава, превратившаяся с годами в красавицу с пепельными волосами, собрала у себя на чай небольшой дамский кружок. Тут была Анастасия Николаевна Чеботаревская, несколько взвинченная на декадентский лад дама, жена Федора Сологуба, необыкновенно причудливый, претенциозный синий чулок с аффектацией в голосе, хотя, вероятно, милейшая домохозяйка; тут была Любовь Блок, очень укрепившаяся в себе и повзрослевшая, она приветствовала меня как старого доброго друга; тут была совершенно очаровательная художница, которая писала также стихи, Лидия Павловна Брюллова, миниатюрная, грациозная, с черными бархатными бровями и волнующими синими глазами, внучка великого художника-классициста Брюллова, могучими окороками которого восхищался еще Пушкин; тут была поэтесса Елизавета Ивановна Дмитриева — и вот она-то отпускала колкости по адресу Черубины де Габриак, которая должна-де быть ужасной дурнушкой, коли не показывается своим истосковавшимся поклонникам. Дамы с ней, в общем, были согласны; как «аполлоновца» спросили меня, я предпочел уклониться от прямого ответа, прикрываясь плащом невинной незаинтересованности — тем более что меня чрезвычайно заинтриговала фрейлейн Брюллова.
Дмитриева должна была прочесть свои стихи, которые мне показались очень талантливыми, о чем я ей и сказал.
А когда Люба Блок заметила, что я очень хорошо перевел стихи ее мужа и что вообще я много перевожу из русской поэзии, Дмитриева вдруг оживилась, обратила на меня внимание и прочитала еще несколько своих стихотворений, отчасти замечательных; читала она как было принято у символистов, может, с чуть большей нюансировкой звука. В этих стихах было так много оригинального, что я спросил, отчего же она не посылает свои стихи нам в «Аполлон». Она ответила, что господин Волошин, ее добрый знакомый, обещал об этом побеспокоиться. Поскольку она была подругой очаровательной Брюлловой, я не скупился на похвалы.[91]
Это откровенное мужское признание мы уже слышали. Лиле, должно быть, тоже было понятно, с чем в первую очередь связан энтузиазм Гюнтера: вряд ли он, пылкий, двадцатидвухлетний, мог и хотел скрыть свое увлечение красавицей Лидой. Однако же Лиля не только уезжает из «Башни» в сопровождении Гюнтера, но и настаивает на дальнейшей прогулке, в ходе которой — совершенно неожиданно не только для Гюнтера, но и, вероятно, для себя самой — открывает ему свою тайну! Зачем? Почему?
Она остановилась. Я с удивлением заметил, что она тяжело дышит. Она смотрела на меня, распахнув глаза из самой глубокой их глубины.
— Сказать ли вам кое-что?
Я молчал. Она схватила мою руку.
— Обещаете не выдавать меня? — спросила она, почти заикаясь. И запнулась. В неверном свете фонаря я мог видеть, что она дрожит от волнения. Рука ее была влажной, а когда она чуть наклонилась, я почувствовал ее дыхание. — Я скажу вам, но дайте слово, что вы будете вечно хранить эту тайну. Обещаете?
Возможно, в таких случаях мы слишком поспешно даем обещания. Возлюбленная Макса и Гумми… Любопытство? Сочувствие?.. Ах, мы так много всего обещаем.
Она рывком подняла голову, заглянув мне в глаза:
— Я должна вам сказать, что я… — И опять запнулась. Ее рука сжимала мою почти до боли. — Вы единственный, кому я это говорю…
Тут она отступила, решительно вскинула голову — и в глазах ее сверкнула угроза. Наконец она жестко выдохнула:
— Я — Черубина де Габриак!
У меня рот разъехался чуть не до ушей. Что такое? Она и впрямь сказала, что она Черубина де Габриак? Черубина, в которую поголовно влюблена вся новейшая русская поэзия? Этого не может быть! Лжет, интересничает?
Она отступила еще на шаг.
— Вы мне не верите?
Иной раз и молодые псы бывают отважны. Я подтвердил, что не верю.
— А если я вам это докажу?
Я холодно усмехнулся. Задыхаясь, она забормотала:
— Я могу это доказать. Вы ведь знаете, что Черубина де Габриак каждый вечер звонит в редакцию и разговаривает с Сергеем Константиновичем?
— Это все знают.
— Я позвоню ему завтра и спрошу его о вас. Вам этого будет достаточно?
Я вскинул руку, словно защищаясь:
— Спросите обо мне? Но каким образом?.. Ведь тогда я должен буду рассказать ему то, что сейчас услышал…
Она вдруг совершенно успокоилась, обрела уверенность:
— Нет. Я спрошу его об иностранных сотрудниках, а уж когда он назовет ваше имя… — Она задумалась. — Тогда я вас опишу и спрошу, тот ли это человек, с которым я познакомилась три года назад на железной дороге в Германии, не назвав ему мое имя…
Я улыбнулся. Как изобретательно! Но стоило поиграть в эту ложь.
— Скажите ему лучше — два года назад, тогда я действительно был в Мюнхене.
— Хорошо. Два года назад. Между Мюнхеном и…
— Между Мюнхеном и Штарнбергом.
— И если я все это скажу Маковскому, вы поверите, что я Черубина де Габриак? — Она снова схватила меня за руку, сжав ее почти с мольбой. <…> Она была отчаянным игроком. Но, может, она не играет? Но разве так подает себя правда?
— Тогда я, пожалуй, вынужден буду поверить…
— И где мы потом встретимся?
Меня почти испугала твердость ее слов.
— Когда вы позвоните Сергею Константиновичу?
— Как всегда, после пяти.
— Хорошо, приходите в семь часов ко мне. Я живу в «Риге» на Невском проспекте. В ресторане нас могут подслушать. У меня нам никто не помешает. Но вы действительно хотите поговорить об этом с Маковским?
Она приблизилась ко мне почти вплотную.
— Да, хочу. Я должна наконец с кем-то поговорить об этом. Слишком давно я разговариваю только сама с собой.
Она отпустила мою руку и отвернулась. В полном молчании мы дошли до ее дома. Когда я целовал ее руку, как требовал того петербургский обычай, она тихо сказала:
— Вы обещали молчать; да покарает вас Бог, если вы меня выдадите.[92]
Что было дальше, легко догадаться.
Лиля действительно позвонила Маковскому и действительно упомянула фамилию Гюнтера. Маковский и присутствовавший в редакции барон Врангель подступили к счастливчику: как он мог не сказать, что знаком с Черубиной?! Гюнтер принялся лихорадочно отрицать: в поезде между Мюнхеном и Штарнбергом? Господи, да пол-Мюнхена ездит купаться в Штарнберг. Запомнишь ли, с кем познакомился по дороге в вагоне?
Маковский и Врангель были разочарованы, Гюнтер — ошеломлен открывшейся ему тайной. Что же до того, как вообще эта тайна попала к нему… В передаче самого мемуариста эта ситуация выглядит так, как будто Лиле просто нужно было с кем-нибудь поговорить, а Гюнтер не только оказался в нужное время в нужном месте, но и приглянулся взволнованной девушке. Однако Волошин в «Истории Черубины» высказывается жестче:
Одному немецкому поэту, Гансу Гюнтеру, который забавлялся оккультизмом, удалось завладеть доверием Лили. Она была в то время в очень нервном, возбужденном состоянии. Очевидно, Гюнтер добился от нее каких-нибудь признаний. Он стал рассказывать, что Гумилев говорит о том, как у них с Лилей в Коктебеле был большой роман. Все это в очень грубых выражениях. Гюнтер даже устроил Лиле «очную ставку» с Гумилевым, которому она принуждена была сказать, что он лжет. Гюнтер же был с Гумилевым на «ты» и, очевидно, на его стороне.
Волошин уверен, что признание Дмитриевой Гюнтеру — дело не одной встречи и что имело место «завладевание доверием». Действительно, трудно поверить, что Лиля вот так, ни с того ни с сего, выложила малознакомому юноше всю подноготную мистификации с Черубиной. Куда вероятнее, что Гюнтер, увлеченный Лидой Брюлловой, искал близости с ней через Дмитриеву, а та, действительно взвинченная и возбужденная, да еще и знавшая о его тесной дружбе с Маковским, перед которым чувствовала себя виноватой, проговорилась о чем-либо и была поймана на слове — случайно оброненном слове о Черубине. После этого уже могло добавиться и некоторое оккультное воздействие: Лиля относилась к оккультизму довольно серьезно, учитывая, что все ее близкие люди — и Волошин, и Воля Васильев, брачное обещание которому оставалось всё еще в силе, и всё более обретающий авторитет в их кругу Борис Леман — были связаны с эзотерикой и оккультными практиками. Гюнтеру, чье влияние подпитывалось и близостью к оккультизму, и дружбой с Маковским, и увлеченностью Лидой, и собственным Лилиным чувством вины, ничего не стоило потребовать доказательств — и их получить.
Но что было дальше?
Если довериться мемуарам Гюнтера, с момента признания Дмитриева начинает его буквально преследовать: «Она рассказывала о себе и своих милых печалях — и все ей было мало! Читала свои любезные стихи — и все ей было мало! Выслушивала мои утешения — и все ей было мало!..» Всё выглядит так, как будто бы Гюнтер против собственной воли оказывается в роли жилетки, выслушивая все сомнения и горести явно увлеченной им Дмитриевой и думая, как ей помочь, то есть кому из мужчин уступить эту роль утешителя. Однако в данном случае мы имеем и другие свидетельства, в частности — собственные (иронические) стихи Лили, написанные как раз таки осенью 1909-го:
- Увеличились у Лили шансы
- В Академии поэтической.
- Ах, ведь раньше мечтой экзотической
- Наполнял Гумилев свои стансы.
- Но мелодьей теперь эротичной
- Зазвучали немецки романсы, —
- Ах, нашел он ее симпатичной.
- И она оценила Ганса.
- Не боясь, он танцует на кратере,
- Посылает он ей телеграммы!
- «Уезжайте ко мне Вы от матери!»
- А у матери в сердце драмы.
- Напоив ее «белой сиренью»,
- Он пророчит ей яркую славу.
- Двадцать галстухов падают тенью.
- «Уезжаю сегодня в Митаву».
Согласно хронологии жизни и творчества Дмитриевой это шуточное стихотворение написано 29 ноября — через неделю после дуэли Волошина и Гумилева. Верится слабо. Легче предположить, что «Увеличились у Лили шансы…» начаты в первых числах ноября, как раз на фоне завязавшейся дружбы с Гюнтером, чье присутствие в стихах очевидно: здесь и двадцать галстухов — намек на изысканное щегольство, и упоминание Митавы, откуда он родом, и «Белая сирень» — духи фирмы «Ciy и Кº» (которые Гюнтер не то дарил Дмитриевой, не то предпочитал сам)… А закончены уже как послесловие к нашумевшей дуэльной истории. Но то, что явствует из приведенного текста, в любом случае расходится с мемуарами Гюнтера.
Во-первых, всё, что в «Жизни на восточном ветру» подано с истинно символистским надрывом и драматической взвинченностью («Она снова схватила меня за руку, сжав ее почти с мольбой…»; «Не знаю, почему я… почему я вам это сказала. Я узнаю об этом завтра. Я знаю, вы не предадите меня!»), в Лилином стихотворении снижено, прозаизировано и подсвечено ироническим отблеском. Во-вторых, в ее версии именно Гюнтер выглядит заинтересованным и инициирующим общение. И если заинтересованность как таковую себе еще можно навоображать, то выдумать (да к тому же вставить в стихи) такие подробности, как адресованные Лиле и ошарашивающие Елизавету Кузьминичну («Уезжайте ко мне Вы от матери!») телеграммы, а также приглашение Гюнтера ехать с ним вместе в Митаву… Можно ли вообще предположить, что Лиля в шуточном (стало быть, известном в кругу друзей, да той же Лиде Брюлловой) стихотворении так откровенно перевирает происходящее?
Тем более что дальше начинается нечто и вовсе не объяснимое.
По Гюнтеру, будучи утомлен бесконечными излияниями Дмитриевой, он стремится устроить ее брак с Гумилевым — поскольку именно Гумилева она называет ему как своего прежнего и до сих пор не забытого, хотя и вероломного, друга.
Но в какой момент на авансцену снова является Гумилев?
Об этом есть достоверные, хотя и отрывочные свидетельства — записи в дневнике М. Кузмина, осенью 1909-го тесно сблизившегося с центральным кружком «аполлоновцев» — Маковским, Ивановым, Гюнтером и Гумилевым. Постоянный гость как редакции, так и «Башни», он оставил немало беглых, но точных характеристик происходящего. В частности, именно из его дневников явствует, что во второй половине октября Лиля посещает редакцию регулярно и часто сталкивается там с Гумилевым. 24 октября, суббота; 27 октября, вторник… Против последней даты — красноречивая запись: «Гумилев… <…> и Дмитриева работали».[93] Да, они оба славились своей работоспособностью, а дел в раскручивающемся журнале было много: самотек (которым больше всего занимался Кузмин), редактура, переводы, корректорская работа. Вполне возможно, что Лиля с ее педантичностью правила корректуры, пока Гумилев разбирал поэтические подборки. Вполне возможно, что прежние чувства — его уязвленная страсть и ее угрызения совести — вспыхивали с новой силой. Вполне возможно, что Гумилев как-то раз повторил впроброс то, что Лиля цитировала потом в своей «Исповеди», — предложение выйти за него замуж (скорее всего, впрочем, не столько в «классической» форме, сколько как примечание — если вдруг, предложение в силе), а потом, после ее очередного отказа, в сердцах поделился с Гюнтером собственным негодованием. Ведь не случайно же Гюнтер берется организовать их решающее объяснение, руководствуясь предполагаемой «тоской» друга Гумми по определившимся отношениям и «прочной семье»!
…мне захотелось помочь этой женщине, потому что она заслуживала того, чтобы ей помогали. Из стихов ее было видно, насколько она беспомощна и уязвима. <…> Нельзя ли было одним махом помочь обоим — и ей, и Гумилеву, если их помирить? Так как я знал, что мой друг Гумми тосковал по женитьбе, по прочной семье, я решил попробовать их снова свести.
Я ведь видел его каждый день, так что было нетрудно, улучив минуту, заговорить об этом.
— Ты должен жениться!
— На ком?
— На Дмитриевой! <…> Вы бы составили замечательную пару — как Роберт Браунинг и его Елизавета, бессмертная поэтическая пара. Ты должен жениться на поэтессе, только настоящая поэтесса сумеет тебя понять и подняться вместе с тобою.
Он пожал плечами:
— Почему ты подумал именно о ней?
Но прислушивался он ко мне, кажется, со вниманием.
— Она великолепная женщина. Кроме того, ты обещал жениться на ней.
Он взвился:
— Кто это сказал?
Я успокаивал его. Мы долго говорили с ним о ее стихах, которые мне очень нравились, и потом незаметно перешли на личное.
— Означает ли это, что у тебя тоже была связь с этой… с этой дамой?
Я только рассмеялся. По его ревности было заметно, что он к ней по-прежнему неравнодушен!
— Нет, выброси это из головы. Потому что Дмитриева все еще любит тебя. Только тебя. Тебе нужно поговорить с ней. И ты убедишься, что лучшей женщины тебе не найти…
Как будто бы согласившись с уговорами Гюнтера, добровольно взявшего на себя роль свата, Гумилев является — с согласия Лили — в квартиру Брюлловых, где и происходит решительное объяснение:
Мы поехали туда. Нас ожидали. На Дмитриевой было темно-зеленое бархатное платье, которое ей очень шло.
Она страшно волновалась, все ее лицо покрылось красными пятнами.
Красиво накрытый стол тоже, казалось, рассчитывал на примирение. Лидия Брюллова, в черном шелковом платье, приняла нас очень радушно.
Но что произошло? Небрежно, я бы сказал, надменно ступая, Гумилев приблизился к ним.
— Мадемуазель, — начал он, ни с одной из них не поздоровавшись, — вы распространяете ложь, будто я собирался жениться на вас. Вы были моей метреской. На таковых не женятся. Это я хотел вам сказать.
Роковой, презрительный кивок головы. И повернулся спиной. И вышел.
Разумеется, после этого ни о какой благостной идиллии в стиле «мы могли бы составить две пары» не могло быть и речи, и Гюнтер вслед за Гумилевым покинул квартиру Брюлловой.
А через несколько дней состоялась дуэль…
Версия Гюнтера выглядит стройной и выстроенной — не подкопаешься. Но стоит лишь сопоставить ее с версией самой Лили, как возникают вопросы: а точен ли Гюнтер? Не искажает ли происходящего и не преувеличивает ли свою роль?
Потому что о «сватовстве» Гюнтера в «Исповеди» нет ни слова. Вся драма разыгрывается между Лилей и Гумилевым:
Наконец Н.С. не выдержал, любовь ко мне уже стала переходить в ненависть. В «Аполлоне» он остановил меня и сказал: «Я прошу Вас последний раз: выходите за меня замуж». Я сказала: «Нет!»
Он побледнел. «Ну тогда Вы узнаете меня».
Это была суббота. В понедельник ко мне пришел Гюнтер и сказал, что Н.С. на «Башне» говорил Бог знает что обо мне. Я позвала Н.С. к Лидии Павловне Брюлловой, там же был и Гюнтер. Я спросила Н.С.: говорил ли он это. Он повторил мне в лицо. Я вышла из комнаты. Он уже ненавидел меня…[94]
Определенный оттенок мелодраматизма тут тоже присутствует, но все-таки «рабочая» встреча в редакции выглядит более вероятной, чем таинственно подстроенный Гюнтером ужин у Лиды. По Дмитриевой, Гюнтер не организовывал встречу, но всего лишь донес ей о слухах, которые Гумилев распространял в «Аполлоне», и ей пришлось пригласить Гумилева всё в ту же квартиру Брюлловой (ибо сама она жила с матерью), чтобы потребовать у него объяснений. При всей наивности это похоже на правду: Лиля предпочитала оставлять о себе хорошую память, и ей было горько, что любовь Гумилева столь явно оборачивается неприязнью. Чувствуя себя особенно уязвимой в эти последние дни бытия Черубины, она, возможно, хотела восстановить с Гумилевым дружеские отношения, а то и признаться ему в том, кем на самом деле является заинтересовавшая его «бронзовокудрая колдунья». Присутствие Лиды в этом случае обеспечивало некоторую безопасность: встреча должна была быть и уединенной (не в кабинетах редакции и не в перенаселенной символистами «Башне»), и всё же не столь интимной, как если бы они говорили один на один.
Словом, поскольку версии участников событий очевидно расходятся, а там, где сходятся, изобилуют недосказанностями, возможно, существует и третья версия?
Скорее всего, было следующее.
Гюнтер действительно поначалу был влюблен в Лиду, но, поняв, что «с ней толку не добьешься» (брак Лиды и Шаскольского был к тому времени делом решенным), переключился на Лилю. Менял галстуки, производил впечатление. Дарил украшения, напоминающие об их внутренней близости и причастности к посвященным («Браслет у Гюнтера был дублетом такого же у Дмитриевой»[95], — фиксирует педантичный Кузмин, по-видимому подразумевая браслет с масонской символикой: Гюнтер любил подобные многозначительные детали, а Лиля с детства благоговела перед магическими ритуалами и артефактами). Приглашал к себе — вероятно, под предлогом разговора об оккультизме и штейнерианстве: как уроженец Германии Гюнтер многое мог знать о Докторе и его выступлениях, а мятущейся Лиле, боящейся призраков, общество витального румяного немца (не напоминающего ли о давно одураченном Штенгеле?), так жадно вовлеченного во всё, что волновало ее саму, могло казаться целительным. Ему же, наслышанному о романе Лили и Гумилева, Лили и Макса, о таинственном женихе, отбывающем воинскую повинность, и прочее и прочее, — Лиля представлялась легкой добычей.
Он нажимал, Лиля отказывала. Вероятно, отказывая, объясняла свой отказ тем, что любит Волошина, а прежде любила Гумилева. Тогда закономерна и простодушная реплика Гюнтера: «Вот оно что, а теперь вы насмехаетесь над Черубиной де Габриак, потому что ваши друзья, Макс и Гумми, влюбились в эту испанку?» — реплика, естественным образом повлекшая за собой бурную реакцию и неожиданное признание.
В передаче Гюнтера это признание последовало в первый же вечер. В реальности между его знакомством с Дмитриевой и фатальной фразой: «Я — Черубина де Габриак» — могло пройти несколько дней. Так или иначе, но вскоре Гюнтер делается счастливым обладателем тайны, за которой охотился весь Петербург.
Шантажировал ли он Лилю? Вряд ли. Гюнтер был слишком для этого благодушен, поверхностен и болтлив. Однако вряд ли и Лиля навязывала ему свое общество — скорее, с ее стороны имело место желание поддержки и одобрения от единственного обладателя ее тайны, желание подтверждения, что всё это было не зря. Впрочем, долго такая тайна храниться не может, так что вскоре Гюнтер начинает делать прозрачные намеки кое-кому из своих многочисленных знакомых, например Кузмину. «Телефон от Гюнтера, какие-то шашни с Ел<изаветой> Ив<ановной>», — раздраженно записывает тот в дневнике от 10 ноября. Из того же дневника следует, что информация о том, что «de Габриак — не более как Дмитриева», дошла до Кузмина на следующий день — 11 ноября.
Всё это время Лиля с Гюнтером плотно общаются — причем в общих кругах с Гумилевым. В «Аполлоне» особенно шумно и весело, молодежь кочует из редакции в «Башню», из «Башни» — на квартиру Лиды Брюлловой, от Лиды, которая как секретарь редакции принимает оживленное участие во всех этих шумных забавах, — во всевозможные петербургские рестораны. Вспыхивают и гаснут роковые влюбленности: Вера Шварсалон, этой осенью — задушевная подруга Дмитриевой (вспомним Верино признание: «Я ей тогда очень увлекалась…» — да не увлечься было и нельзя, волшебная Черубинина аура делала Лилю магнетически притягательной), влюблена в Кузмина, Кузмин западает на некоего миловидного Белкина, Гумилев увлечен всеми женщинами сразу, в том числе и расцветающей Шварсалон. Лиля кажется всем веселой и оживленной: после нескольких лет фактического затвора, после уединенных трудов вся эта пьянящая, карнавальная атмосфера, царящая в «Аполлоне» и в «Башне», сказывается на ней благотворно. К ней прислушиваются, ей увлекаются, ей симпатизируют даже те, кто от женских прелестей в целом далек! Так, Вера Шварсалон несмотря на все свое дружелюбие с нескрываемой ревностью вспоминает о Лиле и Кузмине: «…вчера у Лидии в комнате они, не обращая никакого внимания на ход игры, лежали на диване, болтали и смеялись, и потом интимно она заговорила о Белкине, а он отвечал ей тоже дружественно, мне нужно было все мое мужество и вся моя заледенелость, чтобы не зареветь, как дикий зверь, которому всадили в бок кол раскаленный».[96] Кстати, не была ли связана пресловутая грубость Гумилева именно с этой Лилиной вольницей, с этим откровенным — «бездны мрачной на краю», но кто же это тогда понимал, — эпатажем? Это тесное и даже «интимное», как подчеркивает уязвленная Вера, общение с Кузминым, с Гюнтером… «Уезжайте ко мне Вы от матери», — просил Гюнтер! Самолюбивого Гумилева, чью историю любви с Лилей «аполлоновцы» знали, шутки на эту тему могли задевать, а легкий характером Гюнтер, которому, в сущности, всё равно было, с кем «образовывать пару», мог отшутиться — в таком случае, дескать, женись на ней сам. Тут-то Гумилев и взвился: «На таких не женятся!» А вся теоретическая база, известная нам по гюнтеровским мемуарам: «Вы будете превосходной парой, как Роберт Браунинг и его Элизабет, бессмертный союз двух поэтов. Ты должен жениться на поэтессе, только настоящая поэтесса может тебя понять и вместе с тобой быть великой… Кроме того, она великолепная женщина, а ты и без того обещал жениться на ней», — оказалась подверстана позже, задним числом.
В поздней Лилиной «Исповеди» подобные детали были и вовсе затушеваны и размыты. Рассказывая историю дуэли и гибели Черубины своему верному рыцарю-корреспонденту Евгению Архиппову, она постаралась отсечь ненужные концы (кстати, «ненужным Гюнтером» именует приятеля и прямолинейный Кузмин) и высветить главное: Гумилев. Черубина. Волошин. Неуклюжим и грубым вмешательством Гюнтера в эту историю, а также всеми скандальными подробностями, всколыхнувшими тогдашний литературный Петербург, в 1920-е она не хотела делиться.
А скандальных подробностей было много. Лучше всего — ибо непредвзято, несочувственно и даже не слишком заинтересованно — о них пишет всё тот же Кузмин, по чьим дневникам легко понять степень вины (либо, скажем мягче, — участия) Гюнтера в самом громком поэтическом скандале 1909 года:
Поплелся в «Аполлон». Маковский совещался о ходе действий. Меня мучает мысль, что я ему должен открыть Черубину. Гумми отправился к нам, я же с графом поехал к Веньямину, которого не было дома. Оставили ему проклинательную записку и поехал домой. Граф мне все подтвердил о Черубине. Гумми без конца толковал с Вяч<еславом> о путешествии, я же беседовал с Гюнтером. Как удивительно<?>, что Дмитриева — Черубина, представлял все в неприглядном свете. Действительно, история грязная. Любовница и Гумми, и еще кого-то, и теперь Гюнтера, креатура Макса, путающая бедного Мако, рядом Гюнтер и Макс, компания почтенная…
Понятно, что сведения о «любовнице» Гюнтера Кузмин мог получить только от самого Гюнтера. Его руку — руку «первого ученика» русского символизма, хвастающегося своими победами и пытающегося перещеголять символистов в их жизнетворчестве, — выдает и беспорядочный перечислительный стиль, и само увлеченное упоение «грязной» историей, вызвавшее брезгливость даже у не особенно брезгливого Кузмина. А вот граф, «всё подтвердивший» о Черубине, — он же Алексей Толстой, на чьих глазах в Коктебеле эта мистификация зарождалась, — повел себя при известии о том, что тайна раскрыта, куда более сдержанно и тепло. Его симпатии были на стороне Дмитриевой; не случайно спустя неделю Толстой окажется в числе явных сторонников (и секундантов) Волошина, а Кузмин выступит на стороне оскорбленного Гумилева.
ЕЩЕ ОДНА ДУЭЛЬ НА ЧЕРНОЙ РЕЧКЕ
Знаменитый инцидент произошел в декоративной мастерской художника А. Я. Головина на самой вышке Мариинского театра. Головин собирался писать там большой групповой портрет «аполлоновцев»: на портрете должно было разместиться человек десять-двенадцать писателей и художников, в том числе и Гумилев с Волошиным.
Их отношения после печально окончившегося вечера у Брюлловой 14 ноября стали натянутыми. До той поры успешно сохранявшие нейтралитет (хотя, конечно, коктебельская история не могла не задеть Гумилева, и он порой довольно резко высказывался в редакции о волошинских текстах и взглядах, а тот в свою очередь рьяно критиковал назначения Маковского, доверившего Гумилеву вести ежемесячную хронику стихов в «Аполлоне»), теперь они явно избегали друг друга. Об этом свидетельствует очередная запись в дневнике Кузмина: вечер 18 ноября он, как всегда, проводил в «Башне», присутствовала там и Дмитриева — «печальная и оскорбл<енная>»: «На мой вопрос, отчего она не была у нас сегодня, она стала плести, что „как же она может оправдаться, чем она может защититься?“ и т. д. То же она говорила и Вере. Гумилев сидел сам не свой в недрах „башни“. Макс с графом о чем-то совещались у клозета».
Несмотря на то что Кузмин явно старается придать событиям фарсовый, пародийный оттенок (упоминание клозета тут вряд ли случайно, да и вообще — по его пренебрежительному, а то и презрительному отношению к Лиле трудно заключить, что они некогда были дружны), сами участники действия переживают трагедию. Лиля, конечно, рассказала Волошину о происшествии. Волошин, конечно, негодовал. Он лучше других знал, в каком напряжении живет сейчас Лиля, насколько хрупко и нестабильно ее эмоциональное состояние. К тому же она только-только вырвалась из оскорбительной для нее тяжести собственного одинокого быта, только-только успела поверить в возможность счастливой звезды! В этом контексте обида, нанесенная Гумилевым, и беззастенчивый треп Гюнтера могли подорвать все ее «аполлонические» начинания… И Волошин принимает решение: не допустить торжества бытовой пошлости, настаивать на высоком регистре происходящего. Иными словами — перевести фарс в трагедию.
Об этом он — трогательно и нелепо — советуется с Волей Васильевым, до сих пор считающимся официальным Лилиным женихом. Надо сказать, что фигура Васильева — хотя и отбывающего воинскую повинность где-то под Петербургом, но незримо присутствующего рядом с Лилей — бросает на любовь Дмитриевой и Волошина всё ту же неуловимую тень надрыва и смуты, сопутствовавшую Лиле всю жизнь. Их отношения складываются практически по-достоевски: жених и возлюбленный знакомятся, явно друг другу симпатизируют, пишут друг другу; каждый из них щеголяет своим благородством и каждый готов если не уступить другому Прекрасную Даму, то по крайней мере предоставить ей право выбора. Во всяком случае, Волошин был на это готов — см., скажем, одно из его писем к Александре Петровой:
У Лили есть жених, которому она обещала стать его женой три года назад. Это юноша бесконечной доброты и самоотвержения, который бесконечно любит ее. Но кроме сердца у него нет ничего — ни ума, ни лица. [97] Он знает все. Он любит меня. Во всех его отношениях ко мне я узнаю свои отношения к Вячеславу три года назад (когда Аморя металась по «Башне», пытаясь выбрать между мужем и Вячеславом Великолепным. — Е. П.). <…> Вот что остается неразрешимым еще. Между нами, т. е. между мной и Всеволодом Николаевичем, это разрешимо и теперь даже легко. Но все это совсем неразрешимо в душе Лили и рождает в ней смертельную тоску и жажду безумия и забвения во внешней жизни…[98]
Заметим, как точно и бережно Волошин интерпретирует Лилино поведение — всем остальным, от Гюнтера до Кузмина и Веры Шварсалон, казавшееся вызывающим и сумбурным: оно действительно было прежде всего жаждой забвения, стремлением хоть ненадолго отвлечься от одолевающих ее «проклятых вопросов» о собственной жизни. К тому же, по-видимому, в тот момент Черубиной она уже не управляла, и даже присутствие Волошина не могло сдержать эскапад своенравной испанки. Контуры Лилиной личности размывались, и требовалась серьезная встряска, чтобы вернуть ее к собственному, человеческому и женскому, «я». Оскорбительные слова Гумилева, адресованные ей, Лиле, а вовсе не Черубине, в сущности, именно такой встряской и были. Однако самостоятельно справиться с перенесенной обидой она не могла.
Поэтому, услышав (от Лили?) историю с вмешательством Гюнтера и оскорблением Гумилева, Волошин обращается к Васильеву с просьбой позволить ему заступиться за Лилю. Тот, очевидно растерянный, оглушенный и категорически не способный противостоять этой буре страстей, соглашается — и Волошин фактически провоцирует Гумилева на вызов.
Это случилось 19 ноября, в уже упомянутой мастерской Головина в Мариинском театре. На полу были разостланы декорации к «Орфею», все, кто собирался позировать, были в сборе. Гумилев стоял с Блоком на одном конце залы, Волошин с Маковским, все еще пребывающим в неведении по поводу мистификации Дмитриевой, — на другом. Внизу Шаляпин пел «Заклинание цветов»… Волошин дал ему допеть и направился к Гумилеву. Что было дальше, рассказывает он сам:
Я подошел к Гумилеву, который разговаривал с Толстым, и дал ему пощечину. В первый момент я сам ужасно опешил, а когда опомнился, услышал голос И. Ф. Анненского: «Достоевский прав, звук пощечины — действительно мокрый». Гумилев отшатнулся от меня и сказал: «Ты мне за это ответишь» (мы с ним не были на «ты»). Мне хотелось сказать: «Николай Степанович, это не брудершафт». Но я тут же сообразил, что это не вязалось с правилами дуэльного искусства, и у меня внезапно вырвался вопрос: «Вы поняли?» (То есть: поняли ли — за что?) Он ответил: «Понял».[99]
Маковский передает эту сцену несколько по-другому:
Волошин казался взволнованным, не разжимал рта и только посапывал. Вдруг, поравнявшись с Гумилевым, не произнеся ни слова, он размахнулся и изо всей силы ударил его по лицу могучей своей дланью. Сразу побагровела правая щека Гумилева и глаз припух. Он бросился, было, на обидчика с кулаками. Но его оттащили — не допускать же рукопашной между хилым Николаем Степановичем и таким силачом, как Волошин! Да это и не могло быть ответом на тяжкое оскорбление.
Вызов на поединок произошел тут же. Секретарь редакции Евгений Александрович Зноско-Боровский (известный шахматист) согласился быть секундантом Гумилева.
— Вы недовольны мною? — спросил Волошин, заметив, что меня покоробила грубая расправа его с человеком, который до того считался ему приятелем.
— Вы слишком великолепны физически, Максимилиан Александрович, чтобы наносить удары с такой силой. В этих случаях достаточно ведь символического жеста…
Силач смутился, пробормотал сконфуженно:
— Да, я не соразмерил…[100]
Существует и еще одна реплика — Алексея Толстого, будущего секунданта Волошина, реплика строгая и лаконичная:
В Мариинском театре, наверху, в огромной, как площадь, мастерской Головина, в половине одиннадцатого, когда под колосниками, в черной пропасти сцены, раздавались звуки «Орфея», произошла тяжелая сцена в двух шагах от меня: поэт В<олошин>, бросившись к Гумилеву, оскорбил его. К ним подбежали Анненский, Головин, В. Иванов. Но Гумилев, прямой, весь напряженный, заложив руки за спину и стиснув их, уже овладел собою. Здесь же он вызвал В<олошина> на дуэль.[101]
М. Кузмин, правда, пишет, что и в пятницу 20-го «Макс еще не получал оф<ициального> вызова», но это уже детали. Главное — то, что буквально в день ссоры Волошина и Гумилева симпатии разделяются, и разделяются вовсе не поровну. Это видно по тому, как различно проводят участники последние сутки перед дуэлью. Гумилева не отпускают домой, в Царское, он остается у Вячеслава Иванова, «окруженный трагической нежностью башни»; в «Башню» же торопится пристыженный Гюнтер с заявлениями, что-де он всецело на Колиной стороне; Гумилев диктует условия поединка, требуя стреляться в пяти шагах до смерти одного из противников… Одним словом, его дни наполнены сдержанной героикой романтизма и заботой друзей. Ну а что же Волошин?
А Волошин в эти последние сутки спешно улаживает финансовые дела и торопится — нет, не обратиться к друзьям за поддержкой, но самому поддержать самых близких и адресовать им слова благодарности:
Дорогая Александра Михайловна!
Вчера я послал в уплату долга и в погашенье 10 р<ублей>. У меня действительно не было ничего до этого дня. Как мне благодарить Вас за Вашу внимательность? Я сегодня же перевожу Вам 6 рублей. Простите, что сейчас не могу написать ничего о себе. <…> Сию минуту все обстоятельства нашей общей жизни осложнились, но на этих дня<х> жду благодетельного кризиса и тогда напишу во всех подробностях ретроспективно. Лиля пишет гениальные стихи. Аморя ее страшно любит. До свиданья, милая, заботливая, больная Александ<ра> Мих<айловна>. На будущей неделе буду платить свои письменные долги…[102]
Письмо датировано 21 ноября, на следующий день — поединок. Как видим, хотя Волошин и не верит, что дуэль может окончиться его гибелью (и тем более гибелью Гумилева), все его чувства обострены, а все его мысли — не о себе, но о Лиле. Лилю любит Аморя (значит, развод с Аморей и брак с Лилей — дело пусть не решенное, но кажущееся таким близким!). Лиля пишет гениальные стихи (значит, всё это сумасшествие, вся эта петербургская чертовня завязались не зря!). Лиля, Лиля, Лиля… Не очень понятно, знала ли она о дуэли — и если да (могла ли не знать, если все в «Башне» и вокруг только об этом и говорили?), то как реагировала? Остановить дуэлянтов она не пыталась, в «Аполлоне» не появлялась, с общими знакомыми не контактировала. Сохранилась ее краткая записка к Вячеславу Иванову — записка, фактически обрывающая ее связи с «Башней» и показывающая, что Лиля довольно трезво воспринимала происходящее, понимая, сколь немного значит она для обитателей «Башни» сама по себе: «Мне очень жаль, Вячеслав Иванович, что после всего происшедшего я не могу бывать в Вашем доме. Но думаю, что Вы не будете жалеть об этом».[103] Собственно, ее свидетельства о тех днях — не более чем пара кратких записок: к Иванову, к Вере, к Петровой, которой она, наконец, признается, что «очень перемучилась за эти дни, да и за всё время»…[104] Очевидно, единственное, что она могла делать, — быть рядом с Волошиным и ожидать исхода дуэли.
Дуэль между тем откладывалась, так как между секундантами шли напряженные переговоры: князь Шервашидзе и граф Толстой просили у Кузмина и Зноско-Боровского поменять смертоубийственные условия дуэли на более мягкие и стреляться не на пяти, а хотя бы на пятнадцати шагах. Секунданты как люди здравомыслящие согласились, однако надо было уговорить Гумилева. На это, как пишет Алексей Толстой, был потрачен еще день.
Как признавали свидетели, именно толстовское описание дуэли было самым исчерпывающим и точным. Обратимся к нему:
Наконец, на рассвете третьего дня, наш автомобиль выехал за город по направлению к Новой Деревне. Дул мокрый морской ветер, и вдоль дороги свистели и мотались голые вербы. За городом мы нагнали автомобиль противников, застрявший в снегу. Мы позвали дворников с лопатами, и все, общими усилиями, выставили машину из сугроба. Гумилев, спокойный и серьезный, заложив руки в карманы, следил за нашей работой, стоя в стороне.
Выехав за город, мы оставили на дороге автомобили и пошли на голое поле, где были свалки, занесенные снегом. Противники стояли поодаль. Мы совещались, меня выбрали распорядителем дуэли. Когда я стал отсчитывать шаги, Гумилев, внимательно следивший за мной, просил мне передать, что я шагаю слишком широко… Гумилеву я понес пистолет первому. Он стоял на кочке, длинным черным силуэтом, различимый во мгле рассвета. На нем был цилиндр и сюртук, шубу он сбросил на снег. Подбегая к нему, я провалился по пояс в яму с талой водой. Он спокойно выжидал, когда я выберусь, — взял пистолет, и тогда только я заметил, что он, не отрываясь, с ледяной ненавистью глядит на В., стоявшего, расставив ноги, без шапки.
Передав второй пистолет В., я по правилам в последний раз предложил мириться. Но Гумилев перебил меня, сказав глухо и недовольно: «Я приехал драться, а не мириться». Тогда я попросил приготовиться и начал громко считать: «Раз, два»… (Кузмин, не в силах стоять, сел на снег и заслонился цинковым хирургическим ящиком…) «Три!» — крикнул я. У Гумилева блеснул красноватый свет и раздался выстрел.
Хотя эту дуэль и называют «второй дуэлью на Черной речке», имея в виду поединок Пушкина и Дантеса и, возможно, некоторые «онегинские» ассоциации (ср.: «За ближний ствол / Становится Гильо смущенный…» — «Кузмин, не в силах стоять, сел на снег и заслонился цинковым хирургическим ящиком»), на память приходит другой поединок — Пьера Безухова с Долоховым. С одной стороны — Волошин: толстый, мощный, добродушный, обладающий редкостной физической силой, да вдобавок еще и масон. С другой — Гумилев: хладнокровный, надменный, прославившийся романтическим ранним цинизмом, к тому же и реплики его лирического героя: «Я нигде не встретил дамы — / той, чьи взоры непреклонны» — вполне в стиле Долохова, помнится, говорившего, что женщин, кроме продажных тварей — графинь или кухарок, всё равно, — он не встречал еще: «Я не встречал еще той небесной чистоты, преданности, которых я ищу в женщине. Ежели бы я нашел такую женщину, я бы жизнь отдал за нее…» (Кстати, это гумилевское стихотворение: «Он поклялся в строгом храме, / Перед статуей мадонны, / Что он будет верен даме — / Той, чьи взоры непреклонны…» было написано вскоре после дуэли. Не вслед ли напрашивающимся ассоциациям?) С одной стороны — «ах, да, ужасно глупо…». С другой — «никаких извинений, ничего решительно». Волошин, как и Безухов, не умеет стрелять и боится, «по своему неумению», попасть в Гумилева. Гумилев, куда более искушенный в военном искусстве, настроен непримиримо. Саспенс нарастает. Окружающим и друзьям, приехавшим на щекочущее нервы театральное действие, становится не по себе: пожалуй, прав предусмотрительный Толстой, тайком подсыпавший в пистолеты тройную порцию пороха — чтобы уменьшить отдачу!
Прошло несколько секунд. Второго выстрела не последовало. Тогда Гумилев крикнул с бешенством: — «Я требую, чтобы этот господин стрелял…» В. проговорил в волнении: «У меня была осечка». «Пускай он стреляет во второй раз, — крикнул опять Гумилев, — я требую этого…» В. поднял пистолет, и я слышал, как щелкнул курок, но выстрела не было… Я подбежал к нему, выдернул у него из дрожавшей руки пистолет и, уже в снег, выстрелил. Гашеткой мне ободрало палец. Гумилев продолжал неподвижно стоять. — «Я требую третьего выстрела», — упрямо проговорил он. Мы начали совещаться и отказали. Гумилев поднял шубу, перекинул ее через руку и пошел к автомобилям.
К счастью, в отличие от дуэли Безухова с Долоховым, на поединке Волошина с Гумилевым не было пролито крови. И вот уже по возвращении домой Кузмин с явным облегчением протоколирует:
Граф распоряжался на славу, противники стояли живописные, с длинными пистолетами в вытянутых руках. Когда грянул выстрел, они стояли целы; у Макса — осечка. Еще выстрел, еще осечка. Дуэль прекратили. Покатили назад. Бежа <так!> с револьверным ящиком, я упал и отшиб себе грудь. Застряли в сугробе. Кажется, записали номер. Назад ехали веселее, хотя Коля загрустил о безрезультатности дуэли. Дома не спали, волнуясь. Беседовали. Грудь болела, прилег спать. <…> Отлично помню длинный огонь выстрела в полумраке утра.
Да, несмотря на «безрезультатность» (интересно, какого именно результата ожидал Гумилев? По свидетельству сочувствующих, сам он стрелял в воздух; впрочем, те же сочувствующие упрекали Волошина в попытке выстрелить в Гумилева в упор), дуэль произвела на всех ее участников сильное впечатление. Однако если Гумилев и вправду мог думать о том, чтобы кровью смыть нанесенное ему оскорбление, то на что надеялся и рассчитывал явно выглядевший агрессором и зачинщиком Макс?
Ясное дело — стреляясь, он вовсе не собирался сражать Гумилева. («Он промахнулся. У меня была осечка. Надо ли говорить, что я целил в воздух», — сообщает он Александре Петровой в первом «последуэльном» письме.) Скорее всего, помимо естественного желания защитить честь возлюбленной им руководила двойная — вдвойне утопическая и безумная — цель: во-первых, вывести Лилю на мысль, что между любовью (Волошин) и долгом (Васильев) следует выбрать любовь; во-вторых, как уже говорилось, — перевести буффонаду и фарс вокруг имени Лили в регистр высокой трагедии.
В итоге Волошину не удается ни первое, ни второе.
Высокой трагедии не получилось. Газеты откликнулись на дуэль в пародийном и карикатурном ключе; тут, конечно, сыграла свою комическую роль злосчастная галоша, забытая в снегу одним из секундантов, а именно — Зноско-Боровским, которую, впрочем, тут же приписали Максу, припомнив его давнее прозвище — Вакс Калошин. Галоша и сделалась подлинной героиней всех репортажей — а их о дуэли было немало! Одни «Биржевые ведомости» дали три материала, в первом, от 23 ноября, — вкратце информируя читателей о поединке между «художественными» (и даже «модернистскими») критиками, а уж во втором и третьем — подробно прохаживаясь в фельетонах насчет нелепости поединка, после которого на снегу остается не окровавленный труп, а потерянная галоша:
Жили-были два писателя, два поэта, два критика, и вдруг воспылали друг к другу ненавистью лютою, непримиримою.
Тесно им стало жить на белом свете и решили, что надо им друг друга истребить. <…>
…Когда дым рассеялся, на снегу вместо двух поэтов осталась одна только галоша.
Говорят, что страха полицейского ради и Волошин, и Гумилев притворяются живыми и показывают вид, что с ними ничего не произошло.
Никто, конечно, такому вздору не поверит.
Разве могут остаться живыми люди, от которых осталась одна галоша.
В надгробных речах необходимо будет подчеркнуть скромность безвременно погибших писателей.
Люди, которые владеют пером, мыслью и словом, настолько скромного мнения о своих силах, что предпочитают этому своему естественному оружию глупую стрельбу из пистолетов.
Граждане великой республики слова — правда, маленькие, незаметные граждане — берут на себя чужие роли, наряжаются в доспехи чужих варварских племен и смело идут на всеобщее посмешище.
И как апофеоз, как неизменный чеховский штрих — эта старая галоша, оставленная на поле битвы.
Какой необыкновенный символизм, какой необычный стиль в этой старой галоше.
Господина Гумилева, каюсь, я совершенна не знал при жизни. Только из «Биржевки» я узнал, что был такой писатель земли русской. А теперь его имя и его память для меня нераздельно связаны с этой проклятой галошей…
Это из фельетона А. Колосова (псевдоним А. Е. Зарина, актуального публициста). А вот эпиграмма А. Измайлова, над которой в конце ноября 1909 года покатывался весь Петербург:
- На поединке встарь лилася кровь рекой,
- Иной и жизнь свою терял, коль был поплоше,
- На поле чести нынешний герой
- Теряет лишь… галоши.
То есть Волошин, конечно, отвлек внимание от Лилиной скомпрометированной фигуры, но самого себя выставил, как бывало, на общечитательское посмешище. Иначе как Ваксом Калошиным его теперь никто и не называл.
Что же касается Воли Васильева, с чьего «разрешения» и состоялась дуэль… Видимо, ощутив и собственную неприглядную роль в этом деле (что это за жених, передоверяющий защиту невестиной чести фактически постороннему человеку?), и всё увеличивающееся охлаждение невесты, он вдруг осознал, что по-настоящему может потерять Лилю, и тут же начал — довольно искусно для юноши, у которого нет «ни ума, ни лица», вбивать клин между ней и Волошиным, прибегая для этого к помощи близкого и влиятельного для последнего человека. А как еще объяснить то, что Борис Леман, он же Дикс, он же университетский товарищ Васильева, до дуэли регулярно бывавший в компании «аполлоновцев» и пользовавшийся глубоким доверием Волошина, вдруг начинает властно препятствовать общению с ним Лили и все настойчивее беседует с Лилей наедине?
Эту загадку нам еще предстоит разрешить, а пока что — договорим о дуэли.
Единственным человеком, выигравшим от поединка на Черной речке, как ни странно, оказался Николай Гумилев. Дуэль не только дала ему необходимый импульс для разрыва с символистами (воплотившимися для него в фигуре Волошина — эстетствующего и шаманствующего; именно это символистское поэтическое камлание Гумилев будет отныне ненавидеть до конца жизни) и поставила во главе нового поэтического движения, но и принесла то, на что он почти не надеялся: согласие Анны Ахматовой, тогда еще Ани Горенко, выйти за него замуж.
Лиле же и Волошину предстояло еще одно объяснение — с Маковским.
Объясниться было необходимо. Мистификация затянулась и обрастала событиями, явно противоречащими игровому формату. 30 ноября скоропостижно умирает И. Ф. Анненский, за пару недель до смерти пославший Маковскому горестное письмо о своих стихах, сдвинутых из второго номера «Аполлона» как раз таки ради стихов Черубины де Габриак.[105] Злые языки начинают винить в этой смерти Маковского. Прежние поклонники Черубины заговаривают о прелестной испанке с насмешкой. «В тесном литературном круге этот псевдоним уже стал секретом полишинеля», — признается Волошин Петровой — и, кажется, один только Маковский до поры до времени остается не в курсе происходящего.
Открыть ему правду приехал Кузмин, предварительно заручившись информационной поддержкой вездесущего Гюнтера. Вошел в редакцию, протянул листок бумаги с записанным номером:
— Вот номер телефона: позвоните хоть сейчас. Вам ответит так называемая Черубина… Да вы, пожалуй, и сами догадываетесь? Она — не кто иной, как поэтесса Елизавета Ивановна Димитриева, ненавистница Черубины, школьная учительница, приятельница Волошина. А пресловутая ее «кузина» — Брюллова, из ее квартиры обе и звонят к вам…[106]
Маковский ни о чем не догадывался, но, по словам Марины Цветаевой, «повел себя безупречным рыцарем», сумев убедить окружающих и — прежде всего — саму Лилю, «что всё давно знал, а если не показывал, то только затем, чтобы дать ей самораскрыть себя в Черубине до конца». Позвонив по указанному Кузминым номеру, он пригласил Лилю Дмитриеву к себе, выслушал, ободрил и посетовал, что пропустил ее столь очевидный талант. Предложил сотрудничество с «Аполлоном» — на правах переводчика и возможного автора… В его поздних воспоминаниях, правда, их встреча представлена как Лилино объяснение в любви. Но в тот момент Лиля говорила не за себя, а за Черубину, прощаясь с Маковским — преданным рыцарем Черной Дамы, прощаясь и с собственным alter ego, которое не защитило ее ни от мужского пренебрежения (достаточно вспомнить мемуары Маковского, в которых он рисует Дмитриеву едва ли не в облике сказочного вурдалака), ни от человеческой клеветы:
- Милый рыцарь Дамы Черной,
- Вы несли цветы учтиво,
- Власти призрака покорный,
- Вы склонились молчаливо.
- Храбрый рыцарь! Вы дерзнули
- Приподнять вуаль мой шпагой…
- Гордый мой венец согнули
- Перед дерзкою отвагой.
- Бедный рыцарь! Нет отгадки,
- Ухожу незримой в дали…
- Удержали Вы в перчатке
- Только край моей вуали.
Путь в литературу, однако, Лиле Дмитриевой не был никем прегражден. В том же 10-м номере «Аполлона», в котором Маковский поместил прощальную подборку Черубины де Габриак, было напечатано и новое стихотворение Дмитриевой «Встреча» — свободой дыхания и смелостью речевого жеста столь откровенно перекрывающее Черубинины стилизации, что становится ясно: волошинская психодрама действительно высвободила в Лиле глубинные творческие возможности, мало кому доступные даже и в приснопамятные серебряные «нулевые». Ее ли вина, что ее литературная карьера прерывается так же стремительно, как и началась?
- «Кто ты, Дева?» — Зверь и птица.
- «Как зовут тебя?» — Узнай.
- Ходит ночью Ледяница,
- С нею — белый горностай.
- «Ты куда идешь?» — В туманы.
- «Ты откуда?» — Я с земли.
- И метелей караваны
- Вьюги к югу понесли.
- «Ты зачем пришла?» — Хотела.
- «Что несешь с собой?» — Любовь.
- Гибко, радостно и смело
- Поднялись метели вновь.
- «Где страна твоя?» — На юге.
- «Кто велел прийти?» — Сама.
- И свистят, как змеи, вьюги,
- В ноги стелется зима.
- «Что ж ты хочешь?» — Снов и снега.
- «Ты надолго ль?» — Навсегда.
- Над снегами блещет Вега,
- Льдисто-белая звезда.
Воистину, «она пришла, она пришла сама!». Как уже неоднократно писали и говорили, именно Черубина де Габриак, самим своим явлением сформулировав запрос на женскую лирическую ипостась Серебряного века, подготовила «выход на поле» двух центральных фигур женской лирики — Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. С обеими ее связывали напряженные нити взаимного интереса, негодования, восторга, отталкивания, реминисцентных перекличек, сюжетных контактов… Об этих многочисленных перекличках и стоит поговорить, чтобы — на фоне «ахматовской кротости» и «цветаевской ярости» — яснее прорисовалось, а что, собственно, значат для русской поэзии Елизавета Дмитриева-Васильева и Черубина де Габриак?
ТАЙНАЯ ВАКАНСИЯ: ЧЕРУБИНА ДЕ ГАБРИАК, АННА АХМАТОВА И МАРИНА ЦВЕТАЕВА
Когда на склоне лет Анна Ахматова оставила в своих дневниках раздраженную запись: «Очевидно, в то время открывалась какая-то тайная вакансия на женское место в русской поэзии. И Черубина устремилась туда. Дуэль или что-то в ее стихах помешали ей занять это место. Судьба захотела, чтобы оно стало моим»[107], — она приписала Лиле собственные амбиции. Лиля ни на какую вакансию не претендовала — она претендовала на довоплощение, и не ее вина, что довоплотиться в 1909 году можно было только в облике Прекрасной Дамы, наделив ее соответствующими голосом, внешностью и судьбой.
Мечта о возможном довоплощении сопутствовала Лиле всю жизнь, оборачиваясь к ней то Дульсинеей Тобосской, любимым образом одинокого детства, то святой Терезой — спутницей аскетической юности, то, наконец, Черубиной де Габриак. Озвучить эту мечту, позволить ей действовать и говорить — тут была жизнетворческая, а совсем не карьеристская одержимость; Ахматовой, вполне довоплощенной и состоявшейся, было этого не понять. Дмитриеву она судила по себе — отсюда все эти упреки в сознательной «работе над имиджем» и злорадное «просчиталась», брошенное вслед той, кто заведомо проиграла Ахматовой и в любви, и в стихах:
Лиз<авета> Иван<овна> все же чего-то не рассчитала. Ей казалось, что дуэль двух поэтов из-за нее сделает ее модной петербургской дамой и обеспечит почетное место в литературных кругах столицы, но и ей почему-то пришлось почти навсегда уехать (она возникла в 1922 г. из Ростова с группой молодежи…). Она написала мне надрывное письмо и пламенные стихи Николаю Степановичу. Из нашей встречи ничего не вышло. Всего этого никто не знает. В Коктебеле болтали и болтают чушь. <…> А вот стихи Анненского, чтобы напечатать ее, Маковский действительно выбросил из первого номера, что и ускорило смерть Иннокентия Федоровича. Об этом Цветаева не пишет, а разводит вокруг Волошина невообразимый очень стыдный сюсюк.[108]
Несправедливость Ахматовой в этом случае чувствуют даже преданные ей биографы. Смерть Анненского, вызванная отложенной публикацией? Полноте, «Аполлон» печатал и почитал Анненского, именно его стихи подтверждали, а критические выступления определяли направление журнала. «Пришлось навсегда уехать»? Да, но это решение было принято самой Дмитриевой после мистификации и дуэли в качестве своеобразной епитимьи. О «сюсюке», который «разводит» Цветаева вокруг Волошина — всячески униженного ранней советской властью, умершего в забвении, вычеркнутого из истории литературы и только спустя почти тридцать лет краем чужих записей возвращающегося туда… Словом, об этой характеристике блестящего и щедрого «Живого о живом» даже и говорить грустно. Впрочем, можно легко объяснить раздражение Эпохи, как называли Ахматову молодые друзья, сразу несколькими совпавшими факторами: и выходом в свет мемуаров Цветаевой, все видевшей резко по-своему и нарушавшей классическую стройность ахматовских воспоминаний; и возвращением внимания к тем лицам Серебряного века, которые были Ахматовой часто не только чужды, но и личностно неприятны; и, наконец, воскрешением легенды о Черубине — легенды, которую Ахматова полагала глубоко похороненной в памяти очевидцев и современников.
«Златоустая Анна всея Руси» не терпела никакой конкуренции и не прощала отклонения от канона истории современной поэзии, который создавала сама.
Можно предположить, тем не менее, что ахматовский канон учитывает если не стихи Черубины, то по крайней мере ее историю и что мистификация, которую Ахматова столь гневно клеймит, оставила в ее сознании и жизни вполне внятный след.
Во-первых, по мнению ряда биографов, именно вызов Гумилева и его безукоризненное поведение во время дуэли заставили Анну Горенко взглянуть на него благосклонно. Уехав из Петербурга через пару дней после дуэли, в конце ноября 1909-го Гумилев был уже в Киеве, где снова просил руки Анны. «Перед этим она ему трижды отказывала. Последний раз летом, когда он приехал к ней из Коктебеля, изгнанный Дмитриевой. Теперь — согласилась. Отчасти из сострадания, чтобы не добивать Гумилева»[109], — комментирует А. Варламов. Отчасти из сострадания, отчасти — добавим мы — из-за того, что в литературных кругах Петербурга эта дуэль придавала Гумилеву ореол героизма и связывала его имя с именем Дмитриевой, а уж этого Анна Ахматова, не терпевшая, чтобы мужчины были влюблены не в нее, перенести не могла.
Во-вторых, отзвуки трагедии Черубины время от времени возникают в ахматовских стихах, особенно в «Поэме без героя», в ее трагическом маскараде, в вихре таинственных совпадений и перекличек, плащей и личин.
«Ужас в том, что на этом маскараде были „все“. Отказа никто не прислал. И не написавший еще ни одного любовного стихотворения, но уже знаменитый Осип Мандельштам, и приехавшая из Москвы на свой „Нездешний вечер“ и все на свете перепутавшая Марина Цветаева, и будущий историк и гениальный истолкователь десятых годов Бердяев. Тень Врубеля — от него все демоны XX в., первый он сам. Таинственный деревенский Клюев и заставивший звучать по-своему весь XX век великий Стравинский, и демонический Доктор Дапертутто, и погруженный уже пять лет в безнадежную скуку Блок (трагический тенор эпохи), и пришедший как в „Собаку“ — Велимир I, и бессмертная тень — Саломея, которая может хоть сейчас подтвердить, что все это — правда (хотя сон снился мне, а не ей), и Фауст — Вячеслав Иванов… <…> и прибежавший своей танцующей походкой и с рукописью своего „Петербурга“ под мышкой — Андрей Белый, и сказочная Тамара Карсавина, и я не поручусь, что там, в углу, не поблескивают очки Розанова и не клубится борода Распутина…»[110] — записывала Ахматова в 1962 году. Перечисляя всех, кто явился к ней в оттепельный Ленинград из лихорадочного Петербурга 1910-х, могла ли она не вспомнить историю «ряженой» самозванки — давней соперницы?
- С детства ряженых я боялась,
- Мне всегда почему-то казалось,
- Что какая-то лишняя тень
- Среди них «без лица и названья»
- Затесалась…
- Откроем собранье
- В новогодний торжественный день!
- ………………………………
- Крик петуший нам только снится,
- За окошком Нева дымится,
- Ночь бездонна и длится, длится —
- Петербургская чертовня…
- В черном небе звезды не видно,
- Гибель где-то здесь, очевидно,
- Но беспечна, пряна, бесстыдна
- Маскарадная болтовня…
И дальше — с красноречивой обмолвкой о том, что «где-то вокруг этого места» бродили другие напрашивающиеся строки, но она не пустила их в основной текст:
- «Уверяю, это не ново…
- Вы дитя, синьор Казанова…»
- «На Исакьевской ровно в шесть…»
- «Как-нибудь побредем по мраку,
- Мы отсюда еще в „Собаку“…»
- «Вы отсюда куда?» —
- «Бог весть!»
- Санчо Пансы и Дон-Кихоты
- И увы, содомские Лоты
- Смертоносный пробуют сок,
- Афродиты возникли из пены,
- Шевельнулись в стекле Елены,
- И безумья близится срок.
И хотя тут же происходит подготовленное всеми этими театральными проходками явление Ольги Глебовой-Судейкиной, героини «Поэмы…», но промельк возникающей из пены (не киммерийской ли?) Афродиты и несущей раздор Елены так или иначе напоминает о Черубине, звуча грозным предупреждением безумия. В конце концов, не история ли Черубины отвратила Ахматову от эстетики маскарада задолго до «мирового пожара» Октябрьского переворота? Ведь не случайно ахматовские стихи 1910–1911 годов, составившие прославленный «Вечер», столь разительно отличаются от более ранних — эстетствующих, выспренних, густо приправленных декадентским томлением. «На руке его много блестящих колец — / Покоренных им девичьих нежных сердец. / Там ликует алмаз, и мечтает опал, / И красивый рубин так причудливо ал…» — так, в сущности, мог написать кто угодно, от манерной Аделины Адалис до горько-разочарованной Черубины, но вот заметить, как утренний луч играет на позеленевшем медном рукомойнике, в начале XX века могла только Ахматова. И если до поры до времени она будто бы колеблется, что предпочесть: прозаический рукомойник или доступный лишь посвященным таинственный шифр цветов и камней, — то с 1910-го с уверенностью избирает для себя ту манеру, которая вскоре начинает безошибочно считываться как ахматовская. Беглый росчерк детали, подчеркнутая предметная заземленность… А вместо ожившей и заговорившей Прекрасной Дамы, спустившейся с пьедестала подобно знаменитой статуе из «Формулы любви», — «дерзкая, злая и веселая» девчонка из Старого Херсонеса, наотрез отказывающаяся играть по чужим правилам и уверенно устанавливающая свои.
Между прочим, Гумилев, неистово влюбленный в эту самую приморскую девчонку, резко высмеивал все, что касалось ахматовской «позы», особенно — интересничанья в духе Марии Башкирцевой (или же Черубины де Габриак). «Аня не только в жизни, но и в стихах постоянно жаловалась на жар, бред, одышку, бессонницу и даже на чахотку, хотя отличалась завидным здоровьем и аппетитом, и плавала как рыба, что при слабых легких никак невозможно, и спала как сурок — пушками не разбудишь»[111], — с нескрываемым раздражением жаловался он Ирине Одоевцевой. Раздражение неудивительно: будучи близок к Лиле на протяжении всей весны 1909 года, уж он-то знал, что такое настоящая чахотка с удушьем и кровохарканьем, что такое бессонница и болезненный бред! Не исключено, что и его иронически-отстраненное отношение к ахматовским ранним стихам связано с тем же самым принципом — «обжегшись на молоке, дуют на воду»: одна «декадентская поэтесса» в его жизни уже была, больше он не хотел. Ахматова же, зная весь этот сюжет из первых — гумилевских — уст и в гумилевской трактовке, навсегда запомнила его как пример неудачной и пошлой мистификации, разочаровавшей свидетелей в жизнетворческих методах символистов — ведь недаром последние вскоре тихо сошли с поэтической авансцены, уступая место новому направлению и новой поэзии.
А поэтическое наследие Черубины в ее глазах не стоило ничего. Все это — и горькие заклинания, и филигранные рифмы, и тонкие стилизации — кануло в прошлое, стало нелепым и неуместным в разгар «настоящего, некалендарного» XX века. Вот и Э. Бабаев, юношей встретившийся в Ташкенте с Ахматовой, вспоминает, как ташкентский букинист Дивов однажды принес Ахматовой позднюю книгу Дмитриевой-Васильевой «Домик под грушевым деревом» (речь о «Домике…», о последнем Лилином поэтическом цикле, у нас впереди) и, надеясь ее поразить и порадовать, начал читать оттуда стихи. Однако Ахматова слушать не захотела. Более того — тут же скомандовала юному Эдуарду: «Бежим!»
И они действительно побежали — свернули на боковую пустынную улицу. А потрясенный Дивов кричал им вслед:
— Куда же вы? Я покажу вам домик под грушевым деревом, где жила Черубина де Габриак. Это совсем недалеко отсюда…
— Боже! — сказала Ахматова. — Если бы он знал, как это далеко отсюда…[112]
Стоит ли упоминать, что, оказавшись в эвакуации там, где четырнадцать лет назад умерла и была похоронена Черубина, Ахматова предпочла не встречаться с людьми, которые ее помнили, и уж конечно не заглянула на кладбище? В 1940-е тайная вакансия осталась за ней окончательно и бесповоротно. Больше ей не было дела до Черубины де Габриак.
Не то Цветаева, историю Черубины узнавшая непосредственно от Волошина, чью жизнетворческую роль в ее собственной судьбе трудно переоценить.
Их знакомство завязалось в 1910-м — после того, как Волошин восторженно приветствовал выход цветаевской первой книги и безоговорочно вписал ее полудетский «Вечерний альбом» в блестящую палитру женской лирики начала XX века, не забыв назвать в числе прочих и Черубину де Габриак:
«Вечерний альбом» — прекрасная и непосредственная книга, исполненная истинно женским обаянием. Рядом с сивиллинскими шепотами, шорохами степных трав и древними заплатками Аделаиды Герцык, рядом с настроенно-католическими молитвами, демоническими и кощунственными признаниями изысканной и фантастичной и капризной Черубины де Габриак, рядом с северно-русской менадой, Любовью Столицей, Марина Цветаева дает новый, еще не рассказанный облик женственности.[113]
Имя Черубины до сих пор отдает для Волошина горечью, а женская лирика до сих пор его неодолимо влечет и волнует. Цветаева, так же как и Лиля, как и Аделаида Герцык — постоянная и желанная коктебельская гостья, известная всем под именем крымской сивиллы, — становится для него проводником в эту тайну, в эту неизведанную и влекущую даль поэтической женственности. В ответ сам Волошин успешно «проводит» Цветаеву в современную литературу — и трудно сказать, для кого из них это знакомство, практически сразу переросшее в крепкую безупречную дружбу, было важнее и значимее. Для Цветаевой, и через два десятка лет благодарной Волошину за его ненавязчивое водительство, в котором не было ничего «мэтрского», авторитарного (чем немало грешили также благосклонно отозвавшиеся о «Вечернем альбоме» и Брюсов, и Гумилев), а только совместное бытие в потоке поэзии, co-бытие? Или для самого Макса, несмотря на всю свою благожелательность и литературно-критический энтузиазм глубоко обожженного разрывом с Дмитриевой и нуждавшегося в Маринином жизнелюбии, в ее дружеской преданности, в ее страстной готовности к рискам и экспериментам?
В первой половине 1910-х Волошин, как будто стремясь компенсировать потерю Черубины и по-детски забыться в игре, с головой уходит в розыгрыши и мистификации, благо коктебельская атмосфера располагает. Марина, дерзкая и эксцентричная, всячески этим розыгрышам содействует. Анастасия Цветаева вспоминает, как Марина и Макс одурачили ее в самый первый приезд, выдав Сергея Эфрона за Игоря Северянина, а его сестру Лилю Эфрон — за испанку Кончитту, влюбленную в Макса и ни слова не знающую по-русски (уж не напоминание ли о другой Лиле, которую Макс потерял так недавно?). Да и саму Марину увлекшийся Макс долго уговаривал на очередную мистификацию, надеясь с ее помощью взять реванш над презрительными «аполлоновцами», практически отвернувшимися от него после битвы за Черубину:
— Марина! Ты сама себе вредишь избытком. В тебе материал десяти поэтов и сплошь — замечательных!.. А ты не хочешь (вкрадчиво) все свои стихи о России, например, напечатать от лица какого-нибудь его, ну хоть Петухова? Ты увидишь (разгораясь), как их через десять дней вся Москва и весь Петербург будут знать наизусть. Брюсов напишет статью. Яблоновский напишет статью. А я напишу предисловие. И ты никогда (подымает палец, глаза страшные), ни-ког-да не скажешь, что это ты, Марина (умоляюще), ты не понимаешь, как это будет чудесно! Тебя — Брюсов, например, — будет колоть стихами Петухова: «Вот, если бы г-жа Цветаева, вместо того чтобы воспевать собственные зеленые глаза, обратилась к родимым зеленым полям, как г. Петухов, которому тоже семнадцать лет…» <…> Марина! ты под конец возненавидишь Петухова! А потом (совсем уж захлебнувшись) нет! зачем потом, сейчас же, одновременно с Петуховым мы создадим еще поэта, — поэтессу или поэта? — и поэтессу и поэта, это будут близнецы, поэтические близнецы, Крюковы, скажем, брат и сестра. Мы создадим то, чего еще не было, то есть гениальных близнецов. Они будут писать твои романтические стихи.
— Макс! — а мне что останется?
— Тебе? Все, Марина. Все, чем ты еще будешь! <…> Ты своими Петуховыми и близнецами выживешь всех, Марина, и Ахматову, и Гумилева, и Кузмина…
— И тебя, Макс!
— И меня, конечно. От нас ничего не останется. Ты будешь — все, ты будешь — всё. И (глаза белые, шепот) тебя самой не останется. Ты будешь — me… [114]
Здесь очевидно, как истово Волошин защищал свою правду, доказывая, что изначальная идея мистификации была плодотворной и неопасной; похоже, он убеждал в этом не только Цветаеву, но и — прежде всего — себя самого. Однако Цветаева отказалась. Она, как и Ахматова, не нуждалась в довоплощении, и прятаться под маской Петухова ли, поэтических близнецов ли ей не было нужды — тем более что летом 1911-го в Коктебеле появился Эфрон, и Волошину удалось срежиссировать для него и Марины уже не куртуазно-романную, как в случае с Маковским и Лилей, а подлинную и многолетнюю историю любви.
В сущности, лучше Цветаевой так никто и не понял, что сделал Волошин для Дмитриевой, и никто не нашел для Волошина более благодарных и радостных слов, чем Цветаева в 1934 году: «Макс в жизни женщин и поэтов был providentiel’, когда же это, как в случае Черубины, Аделаиды Герцык и моем, сливалось, когда женщина оказывалась поэтом или, что вернее, поэт — женщиной, его дружбе, бережности, терпению, вниманию, поклонению и сотворчеству не было конца. Это был прежде всего человек co-бытийный. Как вся его душа — прежде всего — сосуществование, которое иные, не глубоко глядящие, называли мозаикой, а любители ученых терминов — эклектизмом». Думается, Волошин, в котором действительно не было «ничего от мэтра, а все — от спутника», гордился бы, если бы это услышал.
Естественно, что Цветаеву в ситуации с Черубиной заворожила не мистификация, не любовная линия «Гумилев — Черубина — Волошин» и уж тем более не дуэль, но мысль о поэтическом гении, о духе, который дышит, где хощет, о крылатом Пегасе, уносящем бестрепетную героиню туда, где не знают земли. Для Ахматовой история Черубины была не более чем очередной мелодрамой, да еще и с интриганкой, покушающейся на тайную поэтическую вакансию, в главной роли. Для Цветаевой та же история была проявлением страшного и жестокого дара, знамением неумолимого бога, то милующего, то карающего, самого выбирающего себе жертв и жрецов:
- Кто-то мне сказал: твой милый
- Будет в огненном плаще…
- Камень, сжатый в чьей праще,
- Загремел с безумной силой?
- Чья кремнистая стрела
- У ключа в песок зарыта?
- Чье летучее копыто
- Отчеканила скала?
- Чье блестящее забрало
- Промелькнуло там, средь чащ?
- В небе вьется красный плащ…
- Я лица не увидала.
Это — из прощальной подборки Черубины де Габриак в «Аполлоне». А вот — из поэмы Марины Цветаевой, видимо поразившейся точности образа и развернувшей Черубинин случайный намек в едва ли не философский трактат о природе поэзии, во всяком случае — о внеморальной сущности поэтического дара, ослепляющего, будто промельк огненного плаща:
- Кто это — вслед — скоком гоня
- Взор мне метнул — властный?
- Кто это — вслед — скоком с коня
- Красного — в дом — красный?!
- …………………………..
- Огненный плащ — в прорезь окон.
- Огненный — вскачь — конь…
Огненный плащ — прямая отсылка к Черубине, не говоря уже о том, что вся сюжетная коллизия цветаевской поэмы «На Красном коне» выглядит навеянной ее историей. Это последовательное, трехкратное отречение лирической героини от куклы, от любимого и от ребенка по требованию некоего Всадника-Гения, с каждым своим появлением настаивающего на еще более страшной жертве: девочка остается — без — куклы; девушка — без — друга; женщина — без — чрева… Разве это не о Черубине? Разве не ту же самую историю варьирует и «Живое о живом»? Цветаева с ее гениальной памятью могла запомнить — по рассказам Волошина — и то, как маленькая Лиля Дмитриева скармливала огню свои игрушки, и то, как не воплотилась ее любовь, и то, какие стихи она обращала к вымышленной — такой же фантомной, какой бывает фантомная боль — дочери Веронике; а самое главное — могла понять, что все это делалось не во имя призрачной «вакансии», а во имя собственного поэтического дара, «который не только не хромал, а, как Пегас, земли не знал. Жил внутри, один, сжирая и сжигая». Этому дару было принесено в жертву всё — и детская безмятежность, и несбывшееся материнство, и сбывшаяся любовь:
- Не Муза, не Муза
- Над бедною люлькой
- Мне пела, за ручку водила.
- Не Муза холодные руки мне грела,
- Горячие веки студила.
- Вихор ото лба отводила — не Муза,
- В большие поля уводила — не Муза…
- Не Муза, не черные косы, не бусы,
- Не басни, — всего два крыла светлорусых —
- Коротких — над бровью крылатой.
- Стан в латах.
- Султан.
- К устам не клонился,
- На сон не крестил.
- О сломанной кукле
- Со мной не грустил.
- Всех птиц моих — на свободу
- Пускал — и потом — не жалея шпор,
- На красном коне — промеж синих гор
- Гремящего ледохода!
Читатели скажут: поэма «На Красном коне» посвящена Анне Ахматовой — при чем здесь вообще Черубина? Однако история с посвящением неоднозначна. Поначалу поэма была адресована Евгению Ланну, молодому поэту, явившемуся к Цветаевой в Борисоглебский переулок в 1920 году прямиком из волошинского Коктебеля. Недолгое увлечение Анастасии Цветаевой, близкий друг Макса, он готов был ночи напролет читать стихи, часами пересказывал Марине вести из обетованного Крыма, вместо «Бог с вами!» говорил «Аполлон с вами!» (sic!) и уже носил в себе замыслы двух книг, которые напишет в течение 1920-х — «Писательская судьба Максимилиана Волошина» (1926) и «Литературные мистификации» (1930). Конечно, в их разговорах тысячекратно повторялось имя Волошина и почти наверняка — Черубины. А новый тоненький сборник Ахматовой «Белая стая» был привезен Ланном в подарок Марине из Коктебеля… Отсюда и взяли начало цветаевские размышления о Гении поэтического вдохновения, карающем божестве, чью силу так хорошо теперь знают и она, и Ахматова — а впервые об этом обмолвилась Черубина де Габриак:
- Не Муза, не Муза, — не бренные узы
- Родства, — не твои путы,
- О Дружба! — Не женской рукой, — лютой,
- Затянут на мне —
- Узел.
- Сей страшен союз. — В черноте рва
- Лежу — а Восход светел.
- О кто невесомых моих два
- Крыла за плечом —
- Взвесил?
- Немой соглядатай
- Живых бурь —
- Лежу — и слежу
- Тени.
- Доколе меня
- Не умчит в лазурь
- На красном коне —
- Мой Гений!
После разрыва отношений с Евгением Ланном Цветаева перепосвятила поэму Анне Ахматовой. Но истинная ее героиня или, по крайней мере, одна из героинь — Черубина, в XX столетии — первая избранница грозного Гения в красном плаще. К слову, и Цветаева, и Ахматова называли Черубину предшественницей, первая — щедро одаривая признанием: «Образ — ахматовский, удар — мой, стихи, написанные и до Ахматовой, и до меня — до того правильно мое утверждение, что все стихи, бывшие, сущие и будущие, написаны одной женщиной — безымянной», вторая — надменно разоблачая как самозванку, покусившуюся на уготованный Ахматовой трон. Однако и та и другая рассматривали Черубину как точку отсчета, либо развивая и уплотняя ее метафоры, либо отталкиваясь от нее с тем, чтобы разогнаться в противоположную сторону.
От Черубины вообще чрезвычайно легко оттолкнуться: природа ее творчества такова, что позволяет ей не создавать, а угадывать образы, не развивать, а высвечивать смыслы. Так, играючи угадала она как минимум три центральных для женской лирики прошлого века сюжета.
Во-первых, сюжет взаимоотношений женщины-поэта с «красным Гением», мужским воплощением Музы и носителем демонического начала. В лирике Черубины он разворачивается в «Пророке» — от черного посвящения в избранницы: «Поднимал он черное знамя… / А мне было тринадцать лет…» до черного же пророчества: «Смирив „святую“ плоть постом, / Вы — исступленная химера — Падете ниц перед Христом: / Пред слабым братом Люцифера», у Цветаевой трансформируется в инфернального «Молодца», а у Ахматовой — в «Поэму без героя» и в цикл поздних стихов о взаимодействии с нечистой силой, среди которых — «И юностью манит, и славу сулит…», «Всем обещаньям вопреки…» и др.
Во-вторых, сюжет о рождении лирической героини. Разумеется, до Черубины были и родоначальница отечественной женской лирики Каролина Павлова, и кумир тысяч читательниц, в том числе и самой Лили Дмитриевой, Мирра Лохвицкая[115], однако только в стихах Черубины произошло столь решительное размежевание «личной» и «творческой» биографии, быта и бытия. Пока Лиля преподавала историю в петербургской гимназии, душа ее — Черубина — в средневековом костеле исповедовалась влюбленному духовнику, «быстро сдергивая» дорогие перчатки. Пока Ахматова в полдень полулежала в постели, сквозь сон слыша поскрипывание пера Гумилева, с рассвета усаживавшегося за работу, душа ее блуждала утопленницей под петербургским мостом. Пока Цветаева вела материнский дневник, записывая в него смешные словечки и достижения маленькой Ариадны, душа ее лихо отплясывала с кабацкой голытьбой на московских окраинах и выслушивала проклятия «лютой» бабки-цыганки:
- Говорила мне бабка лютая,
- Коромыслом от злости гнутая:
- — Не дремить тебе в люльке дитятка,
- Не белить тебе пряжи вытканной, —
- Царевать тебе — под заборами!
- Целовать тебе, внучка, — ворона…
И это все стало возможным после стихов Черубины, после ее жизнетворчества.
А вот на третьем сюжете необходимо остановиться отдельно. Ибо это — сюжет о мертвом ребенке, который пульсирующей красной нитью протягивается через весь женский XX век.
ВОЛОСЫ ВЕРОНИКИ
Знающие Лилю Дмитриеву лишь понаслышке шептались: кажется, у нее был ребенок, кажется, девочка. Кажется, девочка умерла в раннем детстве и ее похоронили в Париже… Некоторые биографы, например Р. Дитман, прочесывали парижские кладбища в поисках детской могилы.
Задача усложнялась отсутствием вводных: когда родилась девочка, чью фамилию носит (носила)? Возможное отцовство приписывали то Волошину, то Гумилеву, однако никаких доказательств не существует. В Коктебеле Лиля действительно мечтала о дочери от Волошина, но в 1909–1910-м беременной не ходила, а стихи уже были написаны, да и в стихах она не рожала, а хоронила ребенка:
- Я венки тебе часто плету
- Из пахучей и ласковой мяты,
- Из травинок, что ветром примяты,
- И из каперсов в белом цвету.
- Но сама я закрыла дороги,
- На которых бы встретилась ты…
- И в руках моих, полных тревоги,
- Умирают и пахнут цветы.
- Кто-то отнял любимые лики
- И безумьем сдавил мне виски.
- Но никто не отнимет тоски
- О могиле моей Вероники.
Здесь Лиля Дмитриева проговаривается о сокровенном, о том, что глухими свидетельствами отзывается и в волошинских дневниках. В Коктебеле они с Лилей много говорили о «девочке», если не мечтая, то по крайней мере задумываясь об общем ребенке. Оба они любили и умели обращаться с детьми («Дети никогда не мешают», — говорил Волошин жене К. Бальмонта Екатерине, часами возясь с капризной и нервной Ниникой Бальмонт), к тому же Лиля, вполне вероятно, в беседах с Волошиным заново переживала смерть и примеряла на себя несостоявшееся материнство сестры Антонины. Рискнем предположить, однако, что не в последнюю очередь именно эта смерть в родах пугала девушку и, несмотря на многократно повторенное «нам было очень весело», напоминала о себе бредом, галлюцинациями и обещанием безумия — для матери и для ребенка.
Волошин фиксирует Лилины галлюцинаторные монологи — с подробностями, которые свидетельствуют о его напряженном внимании и погруженности в тему:
— Макс, были опять события, много и важные… Нет, не несколько минут, целых полчаса. Я видела опять Того Человека… Я умывалась… Он появился между мною и окном… там… Я чувствовала холод от него. Точные слова не помню… Они точно звучали во мне… Когда я увидала его, я всё вспомнила. И Он сказал мне, что он не должен был больше приходить ко мне, но пришел… предупредить… Что если я останусь твоей, то в конце будет безумие для меня… И для тебя. Макс. Страшно сладкое безумие. Он сказал, что девочка может быть у нас, но и она будет безумна… Что ее не надо… Макс… и что надо выбрать… Или безумие… сладкое! или путь сознания — тяжелый, больной… И я, Макс, выбрала за себя и за тебя… Я не могла иначе… Я должна была выбрать. Я выбрала не быть твоей… И «девочки» не надо… Что ж, Макс, она будет безумная?..
«Девочки не надо…» Несмотря на столь явное отречение Волошин позднее снова возвращается к этой теме и снова напоминает о «девочке». По дальнейшему короткому диалогу видно, что Макс настаивает, пытаясь прояснить для себя ситуацию: сколько в ней галлюцинаторного страха, а сколько — осознанного неприятия? Макс настаивает, Лиля же ускользает. Сознательно или нет?
— Макс, напомни, о чем мы говорили до тех пор, как я заснула.
— Лиля, ты не спала. У тебя глаза были раскрыты. Только ты не могла говорить и отвечала мне жестами. Мы говорили раньше о девочке…
Тут Волошин приостанавливается, надеясь навести Лилю на продолжение важного для него разговора, но Лиля не понимает его или делает вид:
— Почему о девочке… О Марго? Она смешная…
Как мы помним, «Девочкой» в Коктебеле именовали сумасбродную подругу Дмитриевой Маргариту Гринвальд, и «непонимание» Дмитриевой вопроса Волошина, разумеется, показательно. Деликатный и мягкий, Волошин, впрочем, более не заговаривает с ней о том, что столь явно ее беспокоит и мучает: во всяком случае, в дневниках ничего подобного не зафиксировано. Но судя по тому, как глубоко проникает этот мотив в стихи Лили, мысль о «девочке» продолжала ее волновать, а утраченная возможность стать матерью — матерью именно волошинского ребенка! — наполняла ее тайной горечью вплоть до последних дней жизни.
И все-таки — откуда этот настойчивый мотив смерти ребенка?
Возможно, и Волошин, и Дмитриева сомневались, способна ли вообще Лиля, при ее слабости и сопутствующих диагнозах, выносить и родить. Если пойти дальше, то можно допустить, что смерть дочери — не совсем выдумка и, быть может, имела место потеря нерожденного ребенка. А если учесть, что образ Вероники настойчиво возникает в поэзии Дмитриевой в конкретные временные моменты, а именно — в 1909 и 1920 годах, то это могло повториться как минимум дважды, правда, второй раз — уже не с Волошиным, а с Васильевым или с Леманом…
Сама Лиля не оставила об этом никаких свидетельств — только любовно воссозданный портрет «девочки» в «Песнях Вероники» и оплакивание ее довременного ухода:
- Умерла вчера инфанта
- На моих руках.
- Распустились крылья банта
- В пепельных кудрях.
- И в глазах бледно-зеленых
- Смеха больше нет.
- Много гномов есть влюбленных
- В их неверный свет.
- Рот увял в последнем стоне,
- Словно алый мак,
- И на маленькой ладони —
- Ранней смерти знак.
- Смерть, как призрак белой дамы,
- Встретилась с тобой,
- И, отняв тебя у мамы,
- Увела с собой.
Воля ваша, но даже если рождение и смерть Вероники — стопроцентный плод вымысла, переживание этого вымысла подлинно и мучительно. И как беспомощно, жалобно звучит слово «мама» в предпоследней строке! В этой жалобе — и оплакивание пусть фантомной, но такой горестной смерти, и тайное желание, чтобы хоть кто-то однажды назвал ее, Лилю, мамой… К счастью, несмотря на отсутствие у Дмитриевой собственных детей это желание сбылось. Когда Лиля Дмитриева стала Елизаветой Васильевой и вместе с мужем обосновалась в Петербурге, через лестничную площадку с подругой юности Лидой Брюлловой, Лидины дети охотно начали звать ее второй мамой и даже сложили об этом шуточную частушку:
- Мама-прима, мама-бис,
- Мама-прима, не сердись,
- Мама-прима, ты любима,
- Хоть люблю я маму-бис!
Часто бывала в доме Брюлловой-Владимировой и дочь ее сестры Любови — Вероника. Родившаяся в 1916 году, скорее всего она была названа так по (невысказанной) просьбе Лили — в память о знаменитой мистификации, в память о тайном вымысле Дмитриевой-Черубины. В маленькой Веронике Лиля могла видеть черты своей «девочки», недаром и спустя десятилетия после Лилиной смерти взрослая уже Вероника Соболева вспоминала названую «маму-бис» с теплом и любовью. Вероника, в сущности, тоже росла в семье Лиды, а значит — и Лили: ее мать, Любовь Павловна Брюллова, по профессии — врач, всегда много и тяжело работала, а в последние годы жизни страдала туберкулезом. В 1933-м, когда семнадцатилетняя Вероника осиротела, она осталась жить в доме у Лидии, где и жила вплоть до ссылки последней в Ташкент.
Но если с именем Вероники Соболевой все более-менее понятно: здесь и прощальный поклон Черубине, и дань дружбе, овеянной авантюризмом и юношеской романтикой, — то откуда взялась Вероника в стихах Черубины?
М. Ланда предполагает, что образ Вероники возник из книги «Путевые картины» Г. Гейне: «Как хороша была маленькая Вероника, когда она лежала в маленьком гробе. Горящие свечи, уставленные кругом, бросали отсвет на ее бледное, улыбающееся личико, на красные шелковые розы и на шуршащие золотые блестки, которыми разукрашены были ее головка и белая рубашка…»[116] Учитывая «отраженность» Лилиного существования, ее погруженность — в ущерб реальной — в книжную жизнь, это объяснение выглядит убедительным. Но есть и еще два возможных источника. Во-первых, Волошин много лет подряд дружил с одной из дочерей Константина Бальмонта — Ниной (Ниникой), причем это была не просто снисходительность взрослого к ребенку, а именно дружба — деятельная и насыщенная. Екатерина Андреева-Бальмонт вспоминала, как «он приходил прямо к ней в детскую, садился на ковер (у них не было принято здороваться), и начиналась возня. Макс ползал на четвереньках и рычал, Нина садилась к нему на спину, держась за его волосы — „гриву льва“. Когда она той весной заболела, никто лучше Макса не умел уговорить ее принять лекарство. Когда Макс с ней не играл, он рассказывал ей сказки и истории своего сочинения. Говорил он с ней совсем так же, как говорил со взрослыми, внимательно выслушивал ее и возражал ей».[117] Лиле, которая часто обсуждала с Волошиным учениц, жаловалась на них и советовалась, Макс мог многое рассказать о Нинике — взбалмошной, нежной, с трудом приспосабливавшейся к постоянным отцовским загулам и материнским слезам. У Бальмонтов — Ниника, а у Волошина будет — Вероника, могли они решить с Лилей; у них — так, а у нас будет всё по-другому…
Во-вторых, и Волошин, и Лиля, убежденные символисты и мистики, не могли не принимать в расчет звездную метафорику имени. Есть такое созвездие — Волосы Вероники, особенно ярко сияющее на южном небосводе в летние ночи, с апреля по октябрь. В августе 1909 года Волошин пишет свой цикл «Corona Astralis» — звездный венок сонетов, посвященный Лиле и произведший в Петербурге настоящий фурор. «„Венок“ Макса производит в Петербурге огромное впечатление, Вячеслав очень волновался, узнав, что М<акс> написал его в 6 дней, а он свой в ½ года», — с гордостью сообщает Лиля Петровой 29 сентября 1909-го. Ее гордость понятна: «Звездный венок» вдохновлен ее близостью, теми ночами, когда они с Волошиным наблюдали вдвоем ход полночных крымских созвездий; там и мелькнуло это мерцающее название — «Волосы Вероники», эти пепельные, как будто бы млечные кудри их сказочной девочки.
Да, Лиля выдумала историю о смерти ребенка, но после выяснилось: не выдумала, а предсказала. Вскоре страшный сюжет обернулся реальностью. «Где, высокая, твой цыганенок, / Тот, что плакал под черным платком, / Где твой маленький первый ребенок, / Что ты знаешь, что помнишь о нем?» — вопрошала Ахматова; пока что ее «цыганенок»-Гумильвенок был жив и здоров и у тетки на попечении, но в будущем ему предстояло пережить лагеря, а Ахматовой — многочасовые стояния с передачами у тюремных ворот и мучительное ожидание казни. «Россия! Зачем моему / Ребенку — такая судьбина?» — взывала Цветаева: через несколько лет в подмосковном приюте умрет ее младшая дочь… О том же — о несбывшемся материнстве, о нерожденном ребенке, о потере, которую вскоре придется пережить всей России, обреченной хоронить своих сыновей, — написаны и «Небесные верблюжата» Елены Гуро, в 1910-м — Лилиной близкой подруги, также выдумавшей себе сына, оплакавшей и похоронившей его; и скупые погребальные строфы Ольги Берггольц, нагим телеграфным стилем зафиксировавшей запредельное: «Двух детей схоронила / Я на воле сама. / Третью дочь погубила / До рожденья — тюрьма…»; и траурные речитативы Марии Шкапской, прославившейся откровенными, почти постмодернистскими стихами не просто о смерти ребенка, но о вынужденном аборте. Лиля, любя саму Шкапскую, относилась к ее стихам с настороженностью[118], и неспроста: Шкапской было свойственно то, что заведомо отсутствовало у Дмитриевой, — плотский, физиологический опыт переживания, привкус крови, тяжелое дыхание роженицы, ритм схваток и потуг. Фактически Шкапская начинала в той точке, где Дмитриева заканчивала, и договаривала до конца всё, что в Дмитриевских стихах было только намечено. Намечено призрачной блоковской рифмой «дамы — мамы»…
Детей от Прекрасной Дамы иметь никому не дано, но только Она Адамово оканчивает звено.
И только в Ней оправданье темных наших кровей, тысячелетней данью влагаемых в сыновей.
И лишь по Ее зарокам, гонима во имя Ея — в пустыне времен и сроков летит, стеная, земля.
К слову, Шкапская, как и Дмитриева, в 1920-е годы увлекалась китайской поэзией и даже выпустила сборник стихов-стилизаций «Ца-ца-ца». Неизвестно: читала ли Шкапская стихи Дмитриевой? Скорее всего, да — пройти мимо имени Черубины де Габриак в 1910-е было нельзя. Однако она, как и многие, двинулась дальше.
То, что Дмитриева только предвидела, остальные — переживали. Им пришлось хоронить детей и оплакивать милых. Лиля, все понимавшая и предчувствовавшая, но недовоплотившаяся, оставалась предшественницей, предтечей. И, как нередко бывает с предтечами, чуть было не растаяла без следа.
В последний раз она вспомнит о Веронике в 1921-м, в письме к Архиппову, уронив между делом: «Там, в Париже, могила моей дочери — Вероники» — и заставив опешившего собеседника занести этот факт в протокол, то есть в составленную им биографию Черубины. Позже за это признание зацепятся как за явное подтверждение Лилиной нездоровой фантазии, если не склонности к манипуляциям и дурному кокетству. Между тем ее реплику можно истолковать и как типичное мифотворчество (что, конечно, наивно и театрально, но вполне в духе времени), а можно — и как подведение итогов, сведение воедино сюжетов и смыслов собственной поэтической биографии. Архиппову Лиля пишет от имени Черубины, а Вероника, будь она рождена, оказалась бы Черубининой, а не Лилиной дочерью; так что далее в письме Лиля расшифровывает Архиппову и Веронику, и сам Париж:
Для меня это большой, большой этап моей жизни, переход от неясных стремлений к большому пламени. Мне чудится, что в Париже <я> схоронила себя и никогда не умираю. <…> Там начались самые страшные и самые прекрасные пути моей души.[119]
И если мы вспомним, что в Париже Лиля встретилась с Гумилевым и что эта фатальная встреча в конце концов стала причиной ее расставания с Волошиным, несбывшимся отцом Вероники, то поймем и упоминание о детской могиле. В пространстве Лилиной души и памяти эта могила — была: мечта о ребенке оказалась заранее обречена и фактически похоронена там, в летнем Париже 1907 года, в кафе на бульваре, где молодой Гумилев читал юной Дмитриевой «Романтические цветы».
«Я НЕ ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ ЖЕНОЙ, Я НЕ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
«Эпоха Черубины де Габриак» завершилась в 1909 году. По крайней мере, завершилась в столице: в провинциальных альманахах еще долго перепечатывали ее подборки и грезили о таинственной аристократке — слух о мистификации мало куда доходил. В литературных кругах с легкой руки В. Ходасевича о ней продолжали говорить как о «полумифической Черубине де Габриак», неизменно упоминавшейся в перечислительных списках талантливых женщин-поэтов, которых год от года становилось все больше и больше. Учитывая хронологию, именно Черубина, а не Ахматова, «научила женщин говорить», но сама растворилась, уступив место реальным именам и стихам.
Среди этих имен не было имени Дмитриевой.
Несмотря на рыцарское поведение Маковского, готового признать, что он просмотрел Лилино дарование, и предоставить ей возможность печататься под своим именем, Лиля, до глубины души потрясенная дуэлью и всем, что творилось вокруг, вскоре после дуэли отказывается от стихов. Интенсивно и много писавшая на протяжении лета и осени 1909-го, она замолкает буквально на вдохе. Да и не до стихов ей сейчас: решается вопрос о ее будущем, о ее близости с Максом…
Если судить по письмам Лили, буквально сразу после поединка в ее душе происходит резкий и болевой поворот. На то, чтобы написать Петровой: «Макс… <…> все время держал себя великолепно»[120], — ее еще хватает, на то, чтобы перебороть свою собственную боль, — уже нет. Кажется, Лиля попросту испугалась: испугалась злых слухов и сплетен, испугалась привкуса крови, которой запахла мистификация; а больше всего — испугалась смертельной серьезности, с которой Волошин встал на ее защиту. Серьезности и настойчивого желания, чтобы Лиля как можно скорее стала его женой.
Думала ли она, что ее брак с Волошиным сделает их обоих изгоями в литературной среде? Или — что это будет слишком счастливый конец для той страшной истории, в которой она почитала себя виноватой, и подлинная расплата не заставит себя долго ждать? Казалось ли ей, что она не заслуживает Волошина? Или она, как Волошин с горечью подозревал, все же втайне любила другого? Размотать этот спутанный клубок чрезвычайно болезненных для них обоих вопросов могли бы только близкие люди, корреспондентки, наперсницы — Лида Брюллова или Александра Петрова. Но ни та ни другая о том, что происходило между влюбленными той петербургской зимой, не оставили ни свидетельств, ни воспоминаний.
Свидетельствовать, впрочем, могут стихи. То, что в письмах выражено обиняками и умолчаниями, в стихах, предшествующих Лилиному долгому молчанию, высказывается с присущей ей прямотой — как, например, в восьмистишии, написанном, скорее всего, в ноябре — декабре 1909 года и обращенном к Волошину:
- Когда томилась я от жажды,
- Ты воду претворил в вино, —
- Но чудо, бывшее однажды,
- Опять свершить нам не дано.
- Твое вино не опьяняло,
- Но горечь мук таилась в нем,
- И цвет его был цвет опала —
- Ты напоил меня огнем!
Действительно, многолетняя духовная жажда Лили была утолена нежностью и любовью Волошина, но чудо сотворчества, столь легко давшееся им в Коктебеле, утратило силу, а то, что казалось вином Святого причастия (создание Черубины? мечта о Веронике? поэзия?), обернулось отравой. Лиля, сперва безоглядно доверившаяся Волошину, в ноябре 1909-го, увы, от него отшатнулась — и об этом, о разочаровании в учителе, о мучительной ломке, которую принесла с собой «смерть» Черубины, тоже проговорилась в стихах:
- Давно, как маска восковая,
- Мне на лицо легла печаль…
- Среди живых я не живая,
- И, мертвой, мира мне не жаль.
- И мне не снять железной цепи,
- В которой звенья изо лжи,
- Навек одна я в темном склепе,
- И свечи гаснут… О, скажи,
- Скажи, что мне солгал Учитель,
- Что на костре меня сожгли…
- Пусть я пойму, придя в обитель,
- Что воскресить меня могли
- Не кубок пламенной Изольды,
- Не кладбищ тонкая трава,
- А жизни легкие герольды —
- Твои певучие слова.
Облик Волошина здесь раздваивается — он и солгавший Учитель, он и создатель певучих, врачующих, воскрешающих слов, утешитель, которого Лиля, униженная и разбитая, просит о помощи. В ее мольбе сквозят недоумение и детская обида: как же так, ведь она ожидала обещанного освобождения, лирического разбега — а получила скандал и презрение тех, кто когда-то любил ее. Она ожидала победы — а получила сокрушительное поражение. Она ожидала водительства — а Волошин, сам растерянный и оболганный, просил помощи у нее, точно так же измученной и лишившейся сил…
Пожалуй, это внезапное превращение непоколебимого крымского бога в большого обиженного ребенка, так и не сумевшего понять, чем в реальности обернулась его захватывающая игра в Черубину (и что в этом было плохого? ведь все так потрясающе складывалось!), и отдалило ее от Волошина. Позже, когда страсти улягутся, Лиля попытается выразить эту сумятицу чувств и желаний в письме к Александре Петровой — надо сказать, не только не упрекая Волошина за Черубину, но и с готовностью принимая вину на себя:
Милая моя! Хорошая, Вы пишете о Максе: не обвиняйте. За что? Разве смогу? Ведь перед ним я бесконечно виновата, его я обманула, у меня, женщины, должно было быть чуткое сердце, должна была я понять, что ему нужна «поддержка», а я думала, что он «учитель». Стала ломать то чувство любви, которое было уже у меня к другому, обоих измучила и никому ничего не дала. Истеричка я! От Макса теперь стеной загорожена, его имя для меня — боль, и помочь ему, подойти я не смогу уже никогда. Помоги ему Бог без меня…[121]
Это написано в мае 1910 года, когда обращенные к Волошину роковые слова «Я не вернусь к тебе женой, я не люблю тебя» — уже были произнесены. А тот «другой», которого Лиля, как она пишет, любила, — Васильев? Или, может быть, Гумилев? Непонятно. Но очевидно, что Лиля, разочаровавшись в Волошине и оставшись без старшего, лихорадочно ищет того, за кем можно пойти. История ее расставания с Волошиным, данная в письмах, ясно показывает, в какой момент в их и без того усложненные отношения вмешивается третий — и какую роль этот третий играет в Лилиной переламывающейся судьбе.
Лиля решается на разлуку не сразу. Наоборот, поначалу, в первое время после дуэли, она полна решимости быть рядом с Максом и готова всё сделать, «лишь бы ему-то свет был». Однако уже через месяц ее настроение меняется, и она осторожно, но явственно отстраняет Волошина от себя. «Макс, дорогой, меня всё мучает, что ты вчера ушел, но мне так нужно было поговорить с Диксом», — читаем в письме от 23 декабря 1909-го… О чем они говорили с Диксом, доподлинно неизвестно, но между этим письмом и следующим исповедным посланием к Петровой проходит неделя, и за это время принято решение об отбытии Волошина в Крым.
С этого же числа в письмах Лили, до той поры безоговорочно утверждавшей: «Не думаю, чтоб для Вас было тайной, что я люблю Макса, очень люблю, насколько умею», — начинает проскальзывать нерешительное «люблю, но…»: «Я тебя люблю, милый, единственный, но не могу придти к тебе целиком»; «…я не хочу в половину, с сомнением, не хочу недостойной. Потому и не иду, что, если б пришла, обманула б еще глубже» (31 декабря 1909-го). Что происходит? Что значат эти слова? Почему она мечется, то приближаясь: «Мне, право, надо тебя видеть. Мне очень плохо», то отдаляясь — резко и даже грубо: «В пятницу я занята, завтра у Лиды тебе не надо обедать»? Мы не знаем, но ведь и Волошин не знает. Каково-то ему?
По мере душевных сил он пытается вести привычную, в том числе и творческую, литературную, жизнь. Бывает в редакции, внимательно прочитывает присланные подборки; старается заинтересовать Лилю происходящим и, вероятно втайне от себя самого, снова увлечь ее душу стихами. Присылает ей подборку Марии Моравской — нежные, трогательные стихи в духе ранней Елены Гуро, с которой у Лили вскоре завяжется нежная женская дружба. Лиля откликается с горечью и восторгом одновременно:
…у меня чувство, что я умерла, и Моравская пришла мне на смену, как раз около 15-го, когда Черубина должна была постричься.[122] Мне холодно и мертво от этого. А от М<орав>ской огромная радость! (18 января 1910-го).
В эти зимние дни она может думать только о Черубине, о ее взлете и гибели. Волошин, которого в первую очередь занимала поэзия Черубины и то, что с ее помощью он сумел-таки открыть тайный ключ Лилиного «жестокого дара», этого не понимает. Растерянный, изнывающий от невозможности Лилю отвлечь и утешить, он горячо начинает оправдываться — нет, ее места никто не займет! Лиля, удивленная его пылкостью и далекая от нее, отвечает негромко и недоуменно:
Ты меня не понял, Моравская, мне казалось, лишь в литературе заменит Черубину, а не в твоей жизни. Ведь я молчу в стихах (19 января 1910-го).
Ответные письма Волошина, к сожалению, не сохранились. Поэтому мы можем только догадываться, сколь настойчиво, нежно и бережно он ей писал. Судя по тому, как часто она отнекивается от бесед о поэзии («что я знаю!»), — спрашивал о стихах, не хотел, чтобы Лиля их оставляла. Судя по тому, как часто она отвечает отказом на просьбу увидеться, — постоянно настаивал на личной встрече и разговоре. Лиля отказывалась со странной, преувеличенной категоричностью: «А видеться не могу — п<отому> ч<то> не могу вынести этого» (18 января 1910-го).
Волошин в отчаянии отвечает стихами. Всегда неизменно доброжелательный, берущий на себя и ответственность, и вину, лишь в стихах он приоткрывает, как мучительно для него это долгое расставание:
- В неверный час тебя я встретил,
- И избежать тебя не мог —
- Нас рок одним клеймом отметил,
- Одной погибели обрек.
- И, не противясь древней силе,
- Что нас к одной тоске влекла,
- Покорно обнажив тела,
- Обряд любви мы совершили.
- Не верил в чудо смерти жрец.
- И жертва тайны не страшилась,
- И в кровь вино не претворилось
- Во тьме кощунственных сердец…
Явный ответ на «ты напоил меня огнем» Дмитриевой! И недвусмысленный — современным исследователям, подобно Д. Быкову полагающим, что Волошин, пренебрегая физической стороной любви, оставался холоден и «отечески добросердечен» к Лилиной юной женственности. Нет, ее близость его волновала, и волновала настолько, что, не выдержав Лилиной отстраненности и всё откладывающихся встреч, он соглашается на отъезд в Коктебель.
Когда это — без преувеличения, фатальное — решение только еще обсуждалось, Лиля с плохо скрываемым облегчением писала Петровой: «Макс в конце января едет в Феодосию, чтобы поселиться в ней безвыездно. У него здесь отвратительные отношения со всей „литературой“, работать не может. <…> Да и мы с ним за несколько месяцев разлуки лучше разберемся» (29 декабря 1909-го). Видимо, Лиля надеялась, что разлука расставит все по местам. Однако все получилось совсем не так гладко.
Стоило Максу уехать, обратив напоследок к Лиле отчаянные и бесконечно влюбленные строки, полные страстной нежности и глубокой тоски: «Твоя душа таит печали / Пурпурных снов и горьких лет. / Ты отошла в глухие дали, — / Мне не идти тебе вослед. <…> Мне не дано понять, измерить / Твоей тоски, но не предам — / И буду ждать, и буду верить / Тобой не сказанным словам»… Так вот, стоило Максу уехать, как Лилины письма к нему, столь досадливые и отстраненные в Петербурге, вдруг превратились практически в крики о помощи. «Пожалуйста, люби и пиши про всё. Слышишь, Макс?» (6 февраля 1910-го); «Я чиню зубы, и они болят. Когда они болели в Коктебеле, то всходило солнце и зажигало желтые мальвы…» (вечернее письмо от того же дня). Какие еще слова нужны, чтобы понять, что Лиля в Коктебель рвется? Рвется, но что-то не позволяет ей ехать…
А может быть, кто-то не позволяет?
Всю эту долгую зиму у Лили практически ежедневно бывал Борис Леман, поэт, оккультист, эзотерик и теософ, пишущий под псевдонимом «Б. Дикс». Невысокий и сухощавый, с многозначительным прищуром проницательных глаз, с белым цветком в петлице черного сюртука, с певучим мелодичным голосом, с первых же звуков оказывающим на собеседника гипнотическое воздействие, он был заметной фигурой даже в блестящем Серебряном веке. Более всего современников завораживала его двойственность, заставляющая подозревать в нем какую-то чуть ли не зловещую тайну — тайну, которую не смогли разгадать даже литературоведы в позднейших исследованиях. Ведь, в самом деле,
с одной стороны, он предстает обыкновенным литератором, символистом младшего поколения, младшего не только по возрасту, но и по степени талантливости, поэтической искушенности. С другой — властным голосом учителя он позволяет себе беседовать с М. Кузминым, М. Волошиным, Вяч. Ивановым как наставник, обладающий той силой, которая оказывается превыше всего в мире.[123]
Как такое возможно?
Скорее всего, магнетизм Лемана был основан на том, что он искренне ощущал себя проводником некоей силы, перед которой самая поэзия суть ничто. Он приходил к современникам и свидетельствовал: есть скрытый мир, есть таинственный мир духов, есть «кармические условия», которые определяют течение земной жизни, есть некий Путь, по которому человеку необходимо пройти. Темные силы, препятствующие идущему, следует укротить, а силы духовные, светлые, наоборот, призвать в помощь. Леман не сомневался в себе — он был твердо уверен, что владеет искусством господства над силами тайного мира; а раз так, то и завладеть беззащитной душой человека, тем более — женщины, ему было легко.
Несколько опережая события, скажем, что темное оккультное искусство Лемана неоднократно проверялось на практике, и многие признавали, что оно действует. Даже Волошин, несмотря ни на что сохранивший к Леману интерес и привязанность, рассказывал в одном из поздних писем, что «практические приложения оккультного опыта», преподанные ему Леманом, выручали его в революционные годы в тех ситуациях, когда многие жизни висели на волоске. Да и Цветаева вспоминает о феноменальных способностях Макса загипнотизировать, «заговорить» что и кого ему было угодно: хоть грозящий пожаром огонь, хоть крымского, вечно голодного, звероподобного овчара, хоть не менее звероподобного красноармейца, потрясающего наганом у коктебельских дверей: «Первым его делом, появившись на вызовы, было длительное молчание, а первым словом — „Я бы хотел поговорить с кем-нибудь одним“».[124] Как на этом «одном» применялись эзотерические знания и навыки, перенятые Максом у Лемана, одному Богу известно, но это работало.
Сработало это и с Лилей в 1910-м.
Поначалу Лиля отказывается от встреч с Волошиным. Потом в ее письмах все чаще и чаще мелькают отчаянные слова и признания: «Я все думаю, и слова большие, возмездье, искупленье, отреченье, только все это неверно. Я очень мучаюсь. Не знаю, чем; внутри нет точки… У меня душа черная, у меня всё болит… Точно умираю, или слепну. Макс, во мне нет радости. Я мучаю и тебя, и себя очень, я не понимаю, чем…» (6 февраля 1910-го).
Лиля действительно не понимает, Лиля ждет, чтобы ей объяснили. Не случайно эти слова: «возмездье», «искупленье», «отреченье», а также постоянно, как заклинание, повторяющееся «путь» (между прочим, как и пресловутая «радость» — кодовое слово антропософов: практически теми же фразами обращается к Вячеславу Иванову знаменитая Минцлова, да и несть им числа) звучат в ее письмах как очевидное чужое слово. Лиля то радостно им внимает, то открещивается от них, умоляя Волошина: «Только это все неверно… Макс, у меня не те слова, читай за ними, глубже. Пожалуйста». Однако Волошин, сам преклонявшийся перед истинными — «профессиональными» — оккультистами, сам глубоко убежденный, что человека нельзя лишать выбора, как бы ни складывалась ситуация, отступает и предоставляет любимой свободу. «Твои письма спокойные, немного чужие», — с некоторым огорчением констатирует Лиля; а много позже, незадолго до смерти, она даже и попеняет Волошину, с мягким, но горьким упреком напомнив: «Ведь когда мы с тобой расставались в 1910 году — ты, в сущности, оставил меня Борису и его влиянию. Оно было очень несвойственно мне».[125] Да, несвойственно, да, она не умела бороться; однако в извечном волошинском отстранении сквозили и уважение к Лилиной внутренней жизни, и готовность принять ее выбор, как бы трудно ни приходилось ему самому.
Нечто подобное уже было с Сабашниковой. Но ни Аморя, ни Лиля не знали, как им выбирать.
И, кажется, получилось вот что.
Лиля, вначале воспринимавшая Черубину как божественную игру, как сотворчество, после дуэли увидела ее темную, оборотную, сторону и ужаснулась своей одержимости. Леман, которому было свойственно чрезвычайно серьезное отношение к магии имени и судьбы, а также к контакту с нечистой силой (лучшие из его в целом довольно вторичных стихотворений написаны именно об играх с нежитью, о таинственном страшном мире, куда нет и не может быть ходу неподготовленному человеку[126]; а Лилин Габриах, несмотря на свое добродушие, все же был чортом), сурово указывал: да, виновата. Виновата, что впустила в человеческий мир злые чары, виновата, что, неподготовленная, прикоснулась к запретным материям, виновата, что, наделенная разумом, балансировала на грани безумия. Эту вину надлежит искупить. Искупление — в безмолвии. Прежняя Лиля должна замолчать, погрузиться в забвение, отречься от собственной плоти, от данного ей при литературном крещении ложного имени… И, разумеется, от случайной, обманной любви. Любовь Волошина для нее не спасение, а гибель, — как и для самого Волошина, по свидетельству неумолимого Лемана, в случае с Черубиной также оступившегося на Пути.
И вот 10 февраля Лилей пишется письмо-исповедь, письмо-покаяние, письмо-отречение:
Макс мой дорогой! Эти дни были полны тоской о тебе, полны были горечи и отчаянья.
Ах, Макс, боли глубокой и пронизывающей!
И гасла я. С каждым часом гасла. Была очень одинока, со злым, тупым отчаяньем. С завистью, ревностью. А теперь легче, проще и очень одиноко. Стихов не пишу; есть строчки. Но если даже умерли стихи навсегда, то и то есть покорность. А в глубине есть сознание правды и пути.
Есть уверенность.
И Макс, ближе и дальше я от тебя. Ближе к источнику души твоей, ближе к твоим глазам, и чувствую нашу неразрывность. И любовь к тебе глубже. Но словно постриглась я. Что-то отмерло мирское, плотское. Я рада, Макс! Я уже не потеряю тебя.
Будь спокоен, милый, я с тобой, я молюсь за тебя. М<ожет> б<ыть>, я стану явью.
Пиши часто. Без тебя сердце стонет. <…> Дорогой, мой горько любимый, тихо и нежно целую тебя.
Лиля отказывается от уроков, от встреч в Академии. Дружеские и литературные связи рвутся сами собой («За эту зиму… <…> столько людей стало бросать в меня грязью, столько людей даже близких не поняло и отошло…»[127]), зато в «Аполлоне» и в европейски центрированном издательстве «Пантеон» (1907–1912) она берет домой долгую вдумчивую работу — переводы с французского Ростана, Адана, Гиля, Мопассана. Работа «скучная, почти физическая», жалуется Лиля Волошину, но именно такая ей сейчас и нужна. Это своеобразное Лилино послушание, искупление творческого полета 1909 года, и выполняет она его истово, как и всё в своей жизни.
Приблизительно в феврале в Петербург возвращается Воля Васильев. Лиля проводит дни вместе с близкими — Лидой, Леманом и Васильевым, по-прежнему глубоко и растерянно преданным Лиле и искренне радующимся тому, что «Dix заботится о ней, очень», а сама она «внешне спокойна, сидит все больше дома» и «успокаивается мало-помалу». Вряд ли будет ошибкой предположить, что именно Леман с Васильевым вкладывают Лиле в уста те слова («ты не путь мой»), которые она — будто бы под диктовку — покорно записывает, обращая к Волошину:
…все ясней, что нет к тебе возврата. Но это без боли, Макс, и не нужно, чтоб у тебя была; п<отому> ч<то> я не дальше, я, м<ожет> б<ыть>, гораздо ближе подойду к тебе, но только ты не путь мой. А где путь мой — не знаю (1 марта 1910-го).
Лиля решает, что вопреки их недавнему уговору с Волошиным летом останется в Петербурге и в Крым не поедет. Прежде сама возможность такого решения приводила Макса в отчаяние. «Я боюсь, что может случиться так, что Лиле невозможно будет приехать это лето в Коктебель, — писал он Петровой. — И тогда я совсем не знаю, что будет, так как все мои творческие планы связаны уже с нею и с присутствием ее. Может быть, это малодушный страх снова остаться одному, может, это даже и нужно, но я не могу его перебороть в себе, не могу совладать с собою. И для нее ведь это тоже почти наверное отказ от творчества, потому что ее творчество неразрывно связано с моим и мною призвано к бытию…»[128] И все же зимой 1910-го, оказавшись в Коктебеле, он не только не отказывается от «творческих планов», но, напротив, работает много и напряженно. Его стихи, датированные январем — мартом этого года, адресованы одновременно Лиле и Черубине; и если с первой он горько прощается («Не преступлю и не нарушу, / Не разомкну условный круг. / К земным огням слепую душу / Не изведу для новых мук…»), жертвуя собственным счастьем ради Лилиного покоя, то вторую — по-прежнему воспевает и втайне надеется на ее возвращение:
- Ты живешь в молчаньи темных комнат
- Средь шелков и тусклой позолоты,
- Где твой взгляд несут в себе и помнят
- Зеркала, картины и киоты.
- Смотрят в душу строгие портреты…
- Речи книг звучат темно и разно…
- Любишь ты вериги и запреты,
- Грех молитв и таинства соблазна.
- И тебе мучительно знакомы
- Сладкий дым бензоя, запах нарда,
- Тонкость рук у юношей Содомы,
- Змийность уст у женщин Леонардо…
Стихи же, которые Лиля в ответ посылает Волошину, при ее жизни ни разу не публиковались и не переписывались. Они остались прощальным признанием в любви, предназначенным только одному человеку и скрытым от всех остальных. Думается, этих строк, по собственному Лилиному признанию вдохновленных волошинскими — им она не могла не откликнуться, — не читал даже Леман:
- Ко мне пришел ты в нимбе света,
- И этот нимб не отниму,
- Словами позднего ответа
- Приникну к сердцу твоему.
- * * *
- Они уже не будут строги,
- Мои последние слова,
- Они — на высохшей дороге —
- Больная, тонкая трава.
- * * *
- Они зовут тебя к разлуке,
- Как крылья белого платка,
- Но не забудь, что в каждом звуке
- Моя любовь, моя тоска.
- * * *
- Они как листья на осине
- Дрожат от боли и стыда,
- Но я хочу, чтобы отныне
- Ты их запомнил навсегда.
- * * *
- И ветви радостной, зеленой
- Уже никто не принесет.
- В моих словах есть вкус соленый,
- Кто часто плакал — тот поймет.
4 марта Лиля отправила Максу письмо со стихами, которые оказались любовным прощанием. А спустя десять дней — еще одно письмо, самое горькое для Волошина, ибо в нем Лиля со всей возможной решительностью ставит точку не только на их отношениях, но и на том, ради чего эти отношения, в сущности, и начинались, — на собственном творчестве:
Я хочу сказать тебе то, что я уже говорила последнее время, только ты не слушал, не верил, думал, что нервы, усталость.
Но я все тверже и тверже знаю это, я не хочу, чтобы ты этого не знал. Я всегда давала тебе лишь боль, но и ты не давал мне радости. Макс, слушай, и больше я не буду повторять этих слов: я никогда не вернусь к тебе женой, я не люблю тебя.
Макс, мой милый, видишь, так много, так много я ждала от моей любви к тебе, такого яркого, такого ведущего, но ты не дал. Я ждала раньше всего, что ты научишь меня любить, но ты не научил. Ты меня обманул. Это не упрек, ты сам не знал, я слишком многого хотела и слишком мало умела сама.
Виновата я, если бывают виновные. Я стою на большом распутьи. Я ушла от тебя. Я не буду больше писать стихи. Я не знаю, что я буду делать. Макс, ты выявил во мне на миг силу творчества, но отнял ее от меня навсегда потом. Пусть мои стихи будут символом моей любви к тебе.
Я сказала всё.
Это действительно было всё. Лиля могла казаться окружающим нервной, болезненной, не отличающей яви от вымысла, но твердых и выстраданных решений она не меняла. Более того: отказавшись от близости с Максом, Лиля практически сразу отказывается и от переписки! «Через несколько времени (я не знаю срока) мы подойдем друг к другу свободными и верными. А пока я не буду писать тебе, я не могу; весь хаос поднимается во мне, а я не хочу истерии. И ты не пиши пока, пожалуйста» (6 апреля 1910-го).
Обескураженный, да что там — фактически опрокинутый этим письмом, Макс кидается переспрашивать, выяснять, посылает стихи… Однако Лиля, вначале в смятении бросившаяся его утешать («Я с тобою. Ты мне нужен»), в итоге решительно — и тем решительнее, что по живому — обрывает любые контакты:
Макс, дорогой, да, не нужно писать мне, и я не буду больше. Я тоже уже не жду тебя в моей жизни. За радость, за свет благословляю. Я молюсь за тебя. Я храню тебя в глубине, как звезду. Если бы я была сильная и умела любить. Будь же радостен, одинокий мой! Будь же! Это мое последнее письмо, от тебя больше не надо ни слова. Мне больно от них еще. <…> Прощай, Макс, прощай. Привет Коктебелю. Прощай. Целую глаза твои, Макс! Макс… (начало апреля 1910-го).
Здесь, впрочем как и в предыдущих Лилиных курсивах, явственно чувствуется рука Лемана. Ведь это же Леман настаивал на молчании, на безмолвии, в котором все прежнее и ошибочное неизбежно перегорит! Тем интереснее, что, собственноручно пресекший общение Волошина с Лилей, переписку с Волошиным он в том же марте берет на себя.
И до чего же мудрой и прозорливо-сочувственной получается переписка! Вот, скажем, первое письмо Лемана, одновременное Лилиным сбивчивым монологом и адресованное Волошину явно затем, чтобы с позиции старшего и умудренного духовным опытом друга оценить отношения Макса и Лили, в которых сами они («Испуганные дети», — как напишет Лиля в более позднем и посвященном другому человеку стихотворении), увы, не смогли разобраться:
Тяжело Вам, бедному. Ел<изавета> Ив<ановна> написала мне, что она сказала Вам. Трудно ей сейчас. Все переоценивается в ней, все устанавливается по-новому.
Не бойтесь этого. То, что верное и настоящее, не может исчезнуть, как не может остаться то, что было ложным. А в Ваши отношения вошло много неверного, Вы это знаете, и поэтому они не могли остаться в той самой форме, как были, они должны перегореть, очиститься от всего ненужного, чтобы осталось лишь то, что может быть в ней теперь, когда она найдет себя. <…> Я очень верю, что Ваше отношение к Е<лизавете> И<вановне> настоящее, но как от многого ему надо очиститься, как много Вы должны найти и много уничтожить в себе раньше, чем выявится это.[129]
«Елизавета Ивановна написала мне, что она сказала Вам…» То есть Леман в эти тяжелые дни постоянно при Лиле и просит, а может быть, даже требует держать его в курсе событий. Контролируя каждый шаг, каждую строчку своей подопечной, он не просто руководит ее действиями в отношении Волошина, но и замахивается на «обращение» его самого:
Не делайте того, что делали до сих пор: считая это верным и истинным и в то же время боясь, что оно может исчезнуть от всякого пустяка. Ведь если оно истинно — оно в Вас самих, в Вашей сущности, и выявится неизбежно вместе с ней и не может уйти никуда, но может закрыться, заваленное ложным.
Не бойтесь же, ищите себя, и, найдя себя, найдете и это…
И спустя месяц, в письме от 10 мая:
…сейчас, мне кажется, еще нужно Вам молчание. Надо Вам научиться говорить свое, а не чужое через себя. А найти это можно лишь в глубокой тиши. Я рад и благодарен Вам, что подошли ко мне, но сейчас не могу много помочь Вам, надо еще подождать. Вы глубоко правы, что Вам «нет иных путей», но если этот путь, который Вы ищете, кажется Вам приобретением новых знаний, — это неверно. Нет. Для этого надо найти старое знание и главным знание себя, а для этого долго искать в себе молча и совсем откинуть все, что так мешало Вам внешне. [130]
Нетрудно заметить, что в отличие от Лилиных писем, живых и мятущихся, письма Лемана — мертвенные: это гипноз, это проповедь инквизитора, медленно и неуклонно расправляющегося с тем живым и «неверным», что соединяло Макса и Лилю. «Принципиальная безжизненность» — так Волошин определял его стиль. Многословные, мерные, глубокомысленные наставления, высокомерное снисхождение, с которым он обращается к Максу, еще недавно — недосягаемому поэтическому божеству…[131] Все это явно свидетельствует о том, что в истории разрыва Волошина с Лилей Леман отнюдь не был просто товарищем, помогающим Лиле выбраться из духовного кризиса, но не без собственного удовольствия играл роль наставника и судии. Перлюстрировал письма, давал указания, регламентировал встречи, — а на расспросы Волошина, обеспокоенного состоянием Лили, замкнувшейся в искупительном одиноком безмолвии, решительно отвечал:
Пусть Вас не беспокоит Ел<изавета> Ив<ановна>, ей хорошо теперь, но пока Вы не найдете, Вы все равно не можете подойти к ней. Она спрашивает меня о Вас, и я ей говорю, но, как Вы, она тоже сейчас не может подойти к Вам (курсив мой. — Е. П.), хотя и Вы, и она идете к Пути. Да поможет Вам Бог скорее найти его (21 мая 1910-го).
Не об этой ли непререкаемой жесткости Лемана, повлекшей за собой их с Волошиным расставание, Лиля трезво и грустно напишет спустя много лет: «Думаю, что в моей жизни он (Леман. — Е. П.) принес мне много зла, конечно, не желая этого»?[132] Разумеется, все, что Леман предпринимал, было окрашено искренностью фанатика, религиозного миссионера, не упускающего возможности обратить перспективного грешника. Однако нельзя не подумать, что многое делалось Леманом в интересах Васильева, который после дуэли Волошина и Гумилева склонялся к тому, чтобы выдернуть Лилю из литературной среды. С помощью Лемана это ему удалось: Лиля Дмитриева, обвенчавшись с дождавшимся ее Волей, «в стихах» промолчала два года и все это время истово занималась антропософией — с той же самоотдачей и рвением, что и поэзией в 1908–1909-м.
Кстати сказать, от Волошина Леман тоже настойчиво требовал погружения в молчание. «Нашли ли Вы молчание? Нашли ли в молчании еще более молчаливое, более глубокое, и в этом нашли ли безмолвную уверенность? Мне кажется, Вам еще нужно молчать…» — гипнотически заклинал он (и этот курсив, совпадающий с неожиданной закурсивленностью в письмах Лили, вполне выдает, как умело и полностью подчинил Леман ее сознание: до 1910 года Лиля в письмах к курсиву не прибегала). Однако Волошин, искренне преданный духу искусства и видевший настоящее преступление в отречении от творчества, не замолчал. Более того — манифестировал свой отказ от молчания обращением к новой поэтике и бесповоротным прощанием с прежней манерой и прежней любовью:
- Я, полуднем объятый,
- Точно терпким вином,
- Пахну солнцем и мятой,
- И звериным руном.
- Плоть моя осмуглела,
- Стан мой крепок и туг,
- По́том горького тела
- Влажны мускулы рук.
- В медно-красной пустыне
- Не тревожь мои сны —
- Мне враждебны рабыни
- Смертно-влажной Луны:
- Запах лилий и гнили,
- И стоячей воды,
- Дух вербены, ванили
- И глухой лебеды.
«Гнили — ванили» — и дальше?.. Красноречивые рифмы, не правда ли? Как Гумилев несколькими годами ранее, Волошин зашифровывает имя Лили ночной метафорикой и отрекается от губительной «лунной» поэтики в пользу дневного, открытого, ясного мира. С лунной поэтикой, как и с «лунными женщинами», в жизни Волошина вскоре будет покончено: не случайно стихи, посвященные Лиле, в первом волошинском сборнике «Стихотворения. 1900–1910» вошли в цикл «Годы странствий». Их любовь и разрыв завершили его многолетние странствия в поисках вечной женственности, и волошинский путь — путь хранителя, собеседника, путь не полуночный и колдовской, а полуденный и возрождающий — оказался определен.
Годы странствий Максимилиана Волошина завершились его возвращением в «торжественный Коктебель».
Годы странствий Лили Дмитриевой, в скором времени — Елизаветы Васильевой, только еще начинались.
Часть III
«ДУША УЖЕ НАДЕЛА СХИМУ»
Елизавета Васильева
БЕДНЫЙ ОБРЯД
Между Лилиным расставанием с Волошиным и ее замужеством прошел год.
Косвенно это свидетельствует о том, как тяжело далась Лиле разлука и как мучительно долго она отделяла себя от Волошина и Черубины.
Был ли с ней рядом Васильев — неясно. Еще весной 1910-го он писал Волошину, что живет тихо и занято, много работает в Институте путей сообщения, о будущем не тревожится и не думает; и еще просил, чтобы Волошин не посылал ему больше открыток — «слишком любопытные у нас люди в семье».[133] Не очень понятно, что имел в виду Воля Васильев: что родственники прочитают послание Волошина, а это было бы ему неприятно? Или что родственники контактируют с Лилей и могут ей что-либо передать?
Вопросов много, но, пожалуй, главный из них — что это вообще за семья, в которой родился Васильев и в которую в 1911-м войдет Лиля?
Потому что попытки представить Волю Васильева скромным ничем не примечательным юношей ни на чем не основаны. Он — сын известного петербургского профессора медицины, ведущего инфекциониста и главного врача Александровской инфекционной больницы, совершившего в свое время несколько блестящих научных открытий[134], старший из четырех детей и трех братьев; стоит упомянуть, что сестра Воли Мария Васильева до 1925 года была женой легендарного председателя ОГПУ Вячеслава Менжинского, а брат-погодок Петр Васильев, с которым Всеволод был особенно близок, — первым мужем Клавдии Алексеевой, впоследствии — Бугаевой, музы Андрея Белого, опоры последних лет его жизни.
О матери Васильевых ничего не известно — она жила тихо, растила детей, после революции, в 1920-е, перебралась на юг, в Екатеринодар, и там же тихо угасла. Куда больше мы знаем о ее муже, отце Всеволода Васильева. Николай Петрович Васильев, окончивший Медико-хирургическую академию и проведший несколько лет при лазаретах Русско-турецкой войны, до конца жизни оставался самозабвенным ученым и умело совмещал научные исследования с интенсивной практической деятельностью. Работал в холерных бараках, руководил дезинфекцией, открывал и устраивал лаборатории, много лет редактировал медицинскую периодику — «Еженедельную клиническую газету», «Труды Петербургского общества русских врачей»…
Профессор Васильев умер в неполных сорок лет, не успев вырастить сыновей, однако в доме царил культ его памяти. Сыновья продолжали отцовское дело научных исследований и естественных изысканий. Воля Васильев, видимо унаследовав от отца аккуратность, логический склад мышления и приверженность точным наукам, сделался инженером-гидрологом. Второй сын Николая Петровича, Петр, пошел по стопам отца и выбрал профессию медика. Кажется, именно медицина и стала для юных Васильевых проводником в заповедный мир штейнерианства: Штейнер неоднократно высказывался о необходимости соединения антропософского метода с традиционной медициной и к 1920 году объединил свои наблюдения в концепцию «антропософской медицины», в основе которой лежало понимание болезни как испытания на пути к совершенствованию личности пациента. Задача врача заключалась в том, чтобы привести физическое и духовное в пациенте к гармонии, наряду с традиционной лекарственной терапией используя гомеопатию, эвритмию и психологические консультации. Все это Штейнер успешно практиковал, и Петр Васильев, глубоко увлеченный антропософским учением, был верным слушателем всех его тематических лекций.
В сущности, на рубеже веков у молодого поколения, одержимого поисками Пути, было три возможности выбирать: революция, творчество и «духовные практики», заменявшие выхолощенную религию. Врачи, инженеры, солдаты, Васильевы не были втянуты в революцию, творчество им органически не давалось — оставались «духовные практики». Тем более что — по глуховатым свидетельствам современников — практически все Васильевы были людьми слабой воли, не просто соглашающимися с чьим-то внешним влиянием, но и испытывающими в нем потребность. Всеволод Николаевич много лет находился как в идеологической, так и в «мужской» тени Лемана-Дикса, и тройственный союз, сложившийся вскоре после их с Лилей брака, нимало не оскорблял его самолюбия. Петру Васильеву по странному стечению обстоятельств была уготована та же участь — его жена Клавдия Николаевна сошлась с Белым, и тот писал Р. Иванову-Разумнику об их тройственных отношениях: «Мы с К<лавдией> Н<иколаевной> вместе (и работаем, и морально мыслим, и вместе ищем, взявшись за руки) уже с 1918 года. <…> Петр Николаевич человек благородный, честнейший и силящийся сознанием стать на уровне проблемы Пути; увы, — у него слабая воля и страстное, ревнивое сердце; он мучается нашей близостью с К<лавдией> Н<иколаевной> тем сильнее, чем яснее видит, что сказать тут нечего. Он прекрасный человек, умный доктор, изумительно музыкально одаренный, но… — несмотря ни на что он с 1910 года (года женитьбы) до 1928 года все еще погибает от безнадежной[135] любви; и ведет порою себя, как капризный ребенок».
Что это было — некое генетическое расслабление воли, тоска по отцовской фигуре (когда умер профессор Васильев, старшему Всеволоду еще не исполнилось и девяти, а маленькому Сергею — двух лет) или молчаливое согласие с атмосферой рубежа веков, атмосферой кануна, заставляющей уступать свою женщину тому, кто, в отличие от мужа, чувствует себя в этой атмосфере как рыба в воде и способен указывать Путь? Впрочем, Всеволод Николаевич себя как капризный ребенок не вел. Его любовь к Лиле основывалась на благоговении, принятии и ожидании — недаром в конце концов это более чем пятилетнее ожидание оказалось вознаграждено.
Как пишет В. Купченко в статье «Тайны Елизаветы Ивановны Дмитриевой», Васильев состоял в женихах Дмитриевой с 1906 года, но обвенчались они только в 1911-м — за месяц до получения им диплома инженера путей сообщения. По Купченко, отсюда следует прагматическая предусмотрительность Дмитриевой, не желающей связывать свою жизнь с человеком, лишенным финансовой независимости: «Из всех своих возлюбленных поэтов — людей с неустойчивым, случайным достатком (не считая С. К. Маковского — но этот эстет сам отверг ее, едва увидел воочию) — она выбрала в мужья инженера В. Н. Васильева, человека заведомо обеспеченного»[136], — неодобрительно комментирует он.
В принципе, это звучит убедительно. Как любой человек, с раннего возраста знающий если не нужду, то во всяком случае — счет деньгам; как любой человек, зарабатывающий на жизнь непростым трудом («у меня нехорошие утра, когда хочется спать, болит голова и нужно давать уроки»[137]), финансовую независимость Лиля ценила. Однако только ли обеспеченность Воли Васильева стала причиной их брака?
Напомним: с Васильевым, студентом транспортного института, Лиля познакомилась в 1906-м. По сути своей это было время, когда Черубина уже предъявляла на Лилю права, когда живущая в ее сознании химера искала возможностей воплощения. А потом — жизнетворчество, рождение страстной красавицы католички, ее триумфы, Лилины страхи, мучительное признание, скандал и дуэль… До брака ли тут? Да и была ли у Лили уверенность, что Васильев теперь от нее не откажется?
Видимо, не было. И, видимо, чтобы соединить свою жизнь с Васильевым, Лиле нужно было сначала освободиться от Черубины, пройти очищение молчанием, затворничеством, одиночеством. Этого требовал Леман, и Лиля с ним соглашалась: в ее сознании возвращение к Васильеву было связано с возвращением к себе самой, ибо, в отличие от Волошина и Гумилева, Васильев любил в ней не жизнетворческий образ и не гипотетический идеал, а саму Лилю — хромую, пленительную, обаятельную, остроумную, жалкую, неуверенную в себе… С Гумилевым Лиля творила себя, пробуя свои женские силы; с Волошиным — гнулась и плавилась, позволяя учителю, гуру, лепить из нее Черубину; с Волей Васильевым она могла оставаться самой собой.
Они венчались в Духов день, 12 июня (по старому стилю — 30 мая) 1911-го. Почти за два года до этого, 30 октября 1909-го, Васильев обратился к Волошину с восторженным полуночным письмом:
Макс Александрович, мой хороший, Лиля зайдет к Вам утром после 10 часов. <…> Всё, что Вы пророчили, — свершилось, кажется. Я иду за ней, она берет меня. Она была тихой сегодня — очень усталой; не бранила за откровенность с Сережей (младшим братом Васильева. — Е.П.) — была ласковая, ласковая…
Письмо это вклинивается в «осень Черубины», которую Лиля прожила вместе с Волошиным, настолько очевидным диссонансом, что исследователи предпочитают относить его к 1910 году, когда отношения Лили и Макса уже были завершены. Но нет — осенью 1910-го Макс жил в Коктебеле, в Петербург не наведывался, на квартире у Лиды Брюлловой, которой Васильев передает поклон, не останавливался, и Лиля никак не могла заходить к нему утром. Письмо о том, что Лиля «берет его», Всеволода, в мужья, было написано в самом преддверии дуэли и свидетельствовало как раз таки о той самой борьбе между любовью и долгом, которая так огорчала Волошина. Возможно, не в последнюю очередь из-за нее, из-за этой борьбы, он тогда и отважился на дуэль…
Любила ли Лиля Васильева?
На этот счет есть показательное стихотворение 1906 года, где реальная жизненная ситуация обрастает метафорами, а Лилино полудетское самоощущение находит свое выражение в сказочных параллелях:
- Душа, как инфанты
- Поблекший портрет…
- В короне брильянты,
- А счастья всё нет!
- Склоненные гранды,
- Почтительный свет…
- Огни и гирлянды,
- А принца всё нет!
- Шлют сватов с Востока,
- И нужен ответ…
- А сердце далеко,
- А принца всё нет!..
- Душа, как инфанта
- Изысканных лет…
- Есть капля таланта,
- А счастья всё нет!..
Примечательно здесь сочетание практически зрелой трезвости («есть капля таланта…») и юношеского томления, стремления к счастью — и понимания, что счастье, скорее всего, так и останется недосягаемым. Тем не менее «сваты с Востока» получили согласие — скорее всего, при условии, что это согласие не ограничит ни Лилины экзистенциальные поиски, ни свободу Васильева. Однако — в пику окружающим Лилю поэтам и мистикам, одержимым собственными «демонами глухонемыми», исканиями и страданиями, — Васильев не стремился к свободе и вообще был на редкость последователен и прозрачен: сделав однажды свой выбор, будь то женщина или духовное руководство, он его не менял. Мятущуюся Лилю эта прямота и последовательность завораживали. Впору было и в самом деле подумать, что этот бесхитростный юноша знает нечто такое, что скрыто от многомудрых и ищущих!
Похоже, что «сваты с Востока» принесли Дмитриевой тот «ех oriente lux», который помогал ей держать курс в самые смутные, самые противоречивые годы. Ведь «по Васильеву» держать курс было довольно легко — он, по его же собственному признанию, «не умея описать все как следует и многого не понимая»[138], обладал способностью безоговорочно полагаться на волю судьбы, верить ей и доверять. Должно быть, эта самая вера и помогала ему тогда, когда Лиля болезненно разрывалась между ним и Волошиным, не кривя душой утверждать, что он совершенно спокоен и счастлив: «О будущем я не думаю, а только верю — и все хорошо».[139]
Волошин, чью досаду на антропософов легко понять, ликовал, в переписке с подругой, художницей Юлией Оболенской, определив внутренний облик типичного антропософа как «индивидуальность, заслоненную истиной». Если так, то в Васильеве антропософское учение нашло своего идеального последователя: его индивидуальность всегда была в тени догмы, всегда соответствовала постулатам учения — и, возможно, именно благодаря этому Дмитриева могла оставаться с ним рядом. При всех ее внутренних неровностях и метаниях ее тянуло к духовному равновесию, ей нужен был спутник, лишенный сомнений. Не случайно уже в 1922 году, пережив и разрыв с Волошиным, и увлечение Леманом, и творческий взлет сотрудничества с Маршаком, она адресует мужу негромкое посвящение:
- Всё тою же проходим мы дорогой,
- Но лист опал, но темны глуби вод.
- В осенней буре созревает плод.
- В ночь зимнюю рождает Дева Бога.
- Под снегом спит до времени трава,
- И дышит и творит во тьме душа земная.
- Благодарю тебя за все твои слова!
- Как много дал ты, сам того не зная!
Плохая поэзия — но какая смелая апология супружества, скажем мы.
В заглавии стихотворения значится — «Воле». Так получилось, что домашнее имя Васильева действительно стало для Лили синонимом тайной свободы, негласного — а может быть, гласного? — уговора: она могла искать, ошибаться и оступаться, творить сколько вздумается — Воля был рядом, всегда неизменный, как движение Земли вокруг Солнца, как календарь Рождества.
В другом стихотворении, к сожалению не сохранившемся, Лиля и вовсе прямо обращается к мужу с признанием — «Ты мой посох, посох радостный…». Действительно, Васильев прежде всего служил Лилиным спутником, посохом, помогающим ей — хромой! — держаться прямого пути, обеспечивающим точку опоры. «Я хочу повидаться с мужем, мы редко встречаемся, но иногда это бывает нужно»[140], — уже в 1920-е годы напишет она Евгению Архиппову, собираясь из Ленинграда в Ташкент, где Васильев в то время служил.
Должно быть, это особенно было нужно тогда, когда Лилина собственная дорога запутывалась или терялась.
В их семейной жизни было несколько таких эпизодов.
Во-первых, 1913 год, когда, по собственным словам Лили, ее затянувшееся поэтическое молчание, и без того дававшееся ей с трудом, вспыхнуло-таки страстью к Борису Леману (сперва Лилю сдерживал обет искупления, а Лемана — близость невесты, Ольги, умершей внезапно в 1912 году). Трудно сказать, как Васильев на это отреагировал: его письма оставались все такими же ровными и негромкими, работа — последовательной и методичной, а их фактически совместную жизнь с Леманом («И Борис, и Вс<еволод> Н<иколаевич> со мной», — сообщала Лиля Архиппову в 1923-м) он принял как нечто само собой разумеющееся. По-видимому, так же к этому относилась и Лиля.
Потом — долгие месяцы, проводимые ими в разлуке. Васильев, будучи инженером-путейщиком и гидрологом, много ездил по стране, в том числе и в отдаленные, глухие районы, преимущественно азиатские и восточные. Благодаря ему Лиля тоже немало попутешествовала — Ташкент, Самарканд, Амударья, Чарджуй; а по антропософским делам — Германия, Гельсингфорс, Дорнах, где читал лекции Рудольф Штейнер… В более поздние годы, однако, она уже предпочитала оставаться в Петербурге вместе с Леманом и семьей Лиды Брюлловой-Владимировой. Частые разлуки с мужем поначалу не отдаляли их друг от друга — наоборот, заставляли ожидать встреч, осененных всё той же холодноватой и чистой радостью, которой требовало от последователей антропософское мировоззрение. «Воля на полгода уехал в Хиву, на изыскания, он — моя самая большая радость»[141] — в этой фразе из Лилиного письма можно было бы заподозрить насмешку, если не помнить, что категория Радости — одна из основополагающих в антропософии, предписывающей неизменно радоваться происходящему, с радостным же смирением принимая свой Путь.
Наконец, последняя любовь Лили к молодому востоковеду Юлиану Щуцкому. Впрочем, об этой любви мы еще скажем дальше; именно она поддерживала ссыльную Лилю в Ташкенте, где Щуцкий, словно бы для того, чтобы подольше удержать подругу на этой земле, придумал для нее мистификацию с переводами из китайской поэзии и заставил написать цикл «Под грушевым деревом». Лиля держится и пишет весь 1927 год, однако в 1928-м умирает — фактически на руках мужа, успев уточнить у него со свойственной ей доверчивостью:
— Волюшка, это конец?
И получить в ответ:
— Да, Лиля, это конец.
После Лилиной смерти Васильев остается в Ташкенте. Отвечает на письма друзей и любимых жены, скрупулезно прописывая — по их просьбам — подробности ее смерти. Одно из таких писем отправляется к Лиде Брюлловой-Владимировой в Ленинград, другое — к Евгению Архиппову в Новороссийск, третье — к Максу Волошину в Коктебель. В этом последнем Васильев и признается Волошину, что, несмотря на все сложности, жизнь его была связана с жизнью покойной жены неразрывно:
Все, что было во мне хорошего — прямо или косвенно, — было от Лили, — и трудно теперь будет без нее. <…> Теперь надо доживать последние годы достойно Ее; эта смерть бесконечно обязывает — и стирает еще больше границы между этой жизнью и той.[142]
В 1930-е годы Васильев будет по-прежнему работать на ташкентской системе оросительных сооружений — вплоть до начала Большого террора. Далее последуют арест, заключение, приговор к исправительно-трудовым лагерям… Скорее всего, мы уже никогда не узнаем, удалось ли Васильеву как ценному специалисту (известно, что даже в местах не столь отдаленных высоко ценились инженеры-мелиораторы и гидрологи) избежать лагерного дна — или он, дворянин и «религиозник», сразу погрузился в нижние круги ада? Как бы там ни было, согласно лагерным спискам «естественной убыли» з/к Васильев умер через 15 лет после смерти жены — в 1944 году.
Между прочим, обвинение, предъявленное Васильеву, как и обвинение, по которому в 1927 году была арестована Лиля, а в 1941-м — Лида Брюллова-Владимирова, касалось контрреволюционной организованной деятельности (ст. 58–11 УК СССР). «Организацией» был антропософский кружок, чьей работой Васильевы руководили еще в Ленинграде, а контрреволюционной деятельностью и «агитацией» — толкование и обсуждение лекций Доктора Штейнера. Штейнерианство скрепляло брак Лили и Воли Васильева крепче совместного быта, крепче страсти, крепче общих детей. Не будь его, может быть, их союз и распался бы, но под сенью антропософии они прожили долгие годы — с 1911-го и до самой Лилиной смерти.
«АНТРОПОСОФИЯ, КАК И ВСЕ ВЕЛИЧАЙШЕЕ, ДОЛЖНА БЫТЬ СМЕШАНА С ГРЯЗЬЮ»
Свидетельств об антропософской деятельности Дмитриевой-Васильевой сохранилось немало. В первую очередь это письма; до начала войны Лиля активно переписывается с Александрой Петровой, новоиспеченным членом Антропософского общества, посылает ей переведенные лекции Штейнера. Постепенно в антропософскую орбиту оказываются втянуты и другие знакомые: в доме Лиды Брюлловой собираются начинающие антропософы, чья деятельность подпадает даже под наблюдения тайной полиции; Борис Леман числится членом нескольких оккультных кружков; Волошин отправляет к Лиле как к представительнице Антропософского общества в России Юлию Оболенскую, и благодаря ей мы многое знаем сегодня не только о деятельности петербургских антропософов, но и об отношении к этой деятельности самого Макса Волошина.
Дело в том, что, несмотря на болезненное расставание, Волошин никогда не упускал Лилю из виду. Да и она старалась по возможности держать с ним связь — причем, как это ни парадоксально, поначалу — через Васильева. Так, именно Воля Васильев 30 октября[143] 1911 года отправляет Волошину открытку с видами Самарканда с короткой припиской: «Милый Макс, три месяца провели мы с Лилей здесь, на Аму-Дарье. Вспоминали и вспоминаем Вас, шлем Вам привет». Открытка свидетельствует как о том, что с Лилей и Всеволодом все в порядке: они венчаны, счастливы, путешествуют, Лиля здорова… — так и о том, что молодая жена уже не боится общения с Волошиным и при случае готова восстановить отношения, если, конечно, сам Макс не имеет ничего против.
Макс был не против и рвался «дружить», так что летом 1912 года Лиля уже обращается к нему с просьбой — прислать некоторые книги из его коктебельской «оккультной библиотеки», а в ответ на дружелюбное волошинское письмо и присланный том Fabre d’Olive порывисто откликается:
Дорогой Макс,
спасибо за книгу, очень, больше ничего не надо мне, — спасибо. Fabre d’Olive мне очень нужен, отчаивалась найти.
Спасибо, милый.
И за все, что в письме, Макс, благодарю тебя. Мне не за что прощать тебе, нечего. Разве ты обманывал и разве не сгорела бы я уже, если б осталась. Сначала так тосковала по тебе, по твоему, но знала, встречусь, — и опять, как в бездну.
Те сокровища, что в душе лежали, не могли пробиться наружу и не пробились бы никогда, на том пути, твоем, любимом, но на который уже не было сил. Но ты, далекий, всегда в сердце моем.
Навсегда из жизни моей ушло искусство, как личное.
Внешне иной стала я, безуверной и угасшей, так было эти почти три года. И томилась все время, но вот с этого года обрела я мой путь и вижу, что мой он. Узкий-узкий, трудный-трудный, но весь в пламени.
И личного нет. И не будет…[144]
Мы уже знаем, что «путь» — слово-шифр, слово, прямо отсылающее к аскетическим проповедям Лемана, кроткому смирению Васильева, блистательным выступлениям Вячеслава Иванова, сомнамбулическим откровениям завсегдатая «Башни» А. Р. Минцловой, — иными словами, отсылающее к теософской доктрине, столь популярной в Европе на рубеже веков. Лиля уже увлекалась теософскими книгами — собственно, именно это и сблизило их с Волошиным; однако подлинной ее страстью сделалась уже не тео-, но антропософия, окончательно ответвившаяся от теософии в 1913-м, после исключения Доктора Штейнера из Теософского общества.
Штейнер полагал недостаточным теософское обоснование роли и значимости человека в космических процессах и настаивал на необходимости возродить древние представления о «космическом человеке». По Штейнеру, человек буквально пронизан энергиями — собственно человеческими, божественными и инфернальными, — и от способности регулировать эти энергии зависят особенности физического, психического, творческого и социального развития каждого человека. Научить нас взаимодействовать с космосом и космическими энергиями — вот в чем усматривали теоретическую задачу антропософии; в качестве же практических методов предлагалось использовать самые разные упражнения — от медитаций до аутотренинга, от эвритмической гимнастики до психоанализа, от толкования религиозно-философских трактатов до сеансов ясновидения и спиритизма. Конечным итогом антропософии виделось формирование совершенного человека, способного управлять своими страстями и пребывающего в единении со всем мирозданием.
Разумеется, для Лили, мучительно переживающей собственное несовершенство, теория Штейнера показалась спасительной. В ней не было «таинства соблазна», не было греха жизнетворчества, не было страшного выбора на разрыв; зато были вдумчивая систематизация и учение, заведомо верное, но воздающее каждому по способностям и труду. Лиля, измученная неверным искусством, которое то давалось ей, то ускользало бесследно (вспомним ее постоянные сомнения в себе и собственном даре, вспомним и скепсис окружающих, чье мнение она ценила, — прежде всего Маковского и Гумилева), рванулась к теории Штейнера как к живительному источнику. К тому же внутреннее устройство антропософии как системы полностью соответствовало ее ожиданиям: занятия антропософией подразумевали терпение, старание, титаническую работу, самоотверженность и, главное, — доверие к непоколебимой фигуре Учителя, сомневаться в котором нельзя.
Лиля и не сомневалась. «У меня… <…> нет ни капли сомнения ни в теософии, ни в Докторе, ни в Дорнахе и его целях»[145], — напишет она Александре Петровой в самом начале Первой мировой войны, когда многие русские антропософы попросту отшатнутся от Доктора как от «германца». Однако что это за Дорнах и каковы его цели? С чего вообще для Лили как для гаранта Антропософского общества все началось?
В марте 1912 года Лиля и Всеволод Николаевич, выйдя из церкви после ранней обедни, обратили внимание на афишную тумбу с листком объявления о том, что с 21 марта по 2 апреля в Гельсингфорсе будет прочтен цикл лекций Р. Штейнера на тему «Духовные существа в небесных светилах и царствах природы». Они тотчас выехали из Петербурга большой компанией — Леман, Лида Брюллова и Дмитрий Владимиров, а также младший брат Воли Петр Васильев и его жена Клавдия Николаевна, Клодя, втайне уже ожидающая встречи с Белым (тот тоже проводит весенние дни в Гельсингфорсе). В Германии их встречала Аморя — Сабашникова, в воспоминаниях которой гельсингфорсские две недели, символически выпавшие соответственно на Страстную и Светлую, предстают едва ли не репетицией Царства Божия на земле:
В наших душах горело пламя любви к Рудольфу Штейнеру, а также и друг к другу. <…> Мы с еще неизвестной нам конкретностью узнавали о духовных реальностях, действующих за внешней природой: в небесных телах, в красках, во временах года, в росте растений и т. д. Дуализм религии в естествознании преодолевался не расплывчатым пантеизмом, а точными исследованиями духовной науки. Давались не догматы или вероучения, но постоянно указывался путь познания, который каждый мог понять и испытать, и вместе с тем давалась школа морального углубления. <…> Для нас — я могу сказать так обо всем круге моих русских друзей — эти возвышенные и прекрасные истины вызывали чувство вновь обретенной родины, чувство своего собственного божественного происхождения. В каждом из нас жило это чувство вместе с глубоким благоговением и благодарностью. Каждый знал, что и другой на свой лад чувствует то же самое. <…> А что же есть любовь к другому, если не глубочайшее чувство этой общей основы?[146]
По свидетельству Сабашниковой, Штейнер часто беседовал с русскими слушателями наедине. Беседовал он и с Лилей. Увы, об их первой встрече не осталось воспоминаний, но очевидно, что после довольно краткой беседы Доктор отметил и выделил Лилю Васильеву среди прочих слушателей, мгновенно угадав в ней стремление к напряженной духовной жизни, беззаветную тягу к служению, способность отказаться от «личного» и предаться горению общего дела. В ту встречу, впрочем, Штейнер еще не приблизил ее к себе, давая новообращенной Елизавете время для изучения антропософской доктрины и вхождения в общий контекст, включающий, в частности, выполнение всевозможных медитаций (как мы знаем из воспоминаний А. Белого, Доктору свойственно было давать подробные указания и осуществлять последовательное руководство духовными практиками любимых учеников[147]). Но уже с 1913 года начинаются регулярные отъезды Лили на лекции Штейнера и регулярное же их общение. В мае 1913-го она отбывает на цикл «Оккультные основы Бхагават-гиты»; в августе того же года — на четыре спектакля, поставленных Штейнером в качестве иллюстрации к лекции «О мистериях»… Лето предвоенного года было особенно значимым и насыщенным — именно в это время, помимо постановки мистерий, Штейнер занимался формированием Всеобщего Антропософского общества, и 2 февраля 1914-го в Петербурге на торжественном официальном открытии русского отделения Общества его официальным представителем в России, а также руководителем «петербургской ложи» была назначена Елизавета Васильева.
Должно быть, к немалому удивлению присутствующих.
Но Лиля Васильева оправдала доверие.
Примечательно, кстати, что сперва поверенным Штейнера видел себя Борис Леман. Еще в начале 1912-го он говорил Сабашниковой: «Представь себе: встанет вопрос — кому теперь вести антропософскую работу в Петербурге. И я знаю, что я — единственный, кого можно иметь в виду, а я не мог бы взять это на себя!» Однако в Гельсингфорсе Штейнер нисколько Леманом не заинтересовался — напротив, говорил с ним подчеркнуто холодно и лишь уступая настойчивой просьбе Амори; а вот кандидатура Лили сразу вызвала его одобрение. Самоотверженность, аскетизм, уникальная работоспособность и страсть к послушанию — лучших качеств для исполнения рутинной ежедневной работы по продвижению и популяризации антропософии в России, а также объединению разрозненных поклонников штейнерианства в единую идеологическую «семью» было трудно найти.
Согласно своему Уставу, Русское антропософское общество имело целью «братское объединение людей на почве признания общих духовных основ жизни, совместную работу над исследованием духовной природы человека и изучение общего ядра в мировоззрениях различных времен и народов». Сейчас, правда, уже не очень понятно, чем именно занимались члены Антропософского общества, однако дни их были расписаны по минутам. Поездки на лекции, перепечатка трудов Доктора, их перевод, редактура некачественных переводов, рассылка лекций иногородним участникам, еженедельные встречи и обсуждения положений антропософии, занятия медитацией и эвритмией… Об этом последнем следует сказать особо, так как именно эвритмия, любимое изобретение Штейнера, представляющее собой методику духовного целительства, основанного на слиянии жеста, звука и ритма с душой человека, ненадолго вернула Лилю в поэзию: в 1915 году она написала несколько коротких стихов непосредственно для иллюстрации к тренировочным эвритмическим упражнениям. В их безупречной ритмической четкости и филигранной огранке проглядывает мастерство, сделавшее бы честь даже Бальмонту с его знаменитыми экспериментами в области звукописи! Вот, например, бег хорея, призванного уловить состояние душевной устойчивости и подвижности одновременно — будто ту самую Радость, к коей апеллировали штейнерианцы как к самому гармоничному и естественному состоянию души:
- Хрупкой прялки трепет,
- Как отрадно прясть!
- Робко-резвый лепет
- Кроет ритма власть.
- Рук незримых пряжа
- Размеряет путь;
- Разве радость та же,
- Разве ноет грудь?
- Разве двери рая
- Не раскрылись вновь?
- Разве не играя
- Разгорелась кровь?
- Розы крови, рея,
- Дали красный нимб…
- Ровный бег хорея
- Подарил Олимп.
«Упражнение» так и называется — «Хорей». Есть еще «Дактиль», певучий и медитативный, как будто бы сглаживающий извечное русское восприятие тягучего, плачущего, некрасовского размера. У Васильевой дактиль получается не некрасовским, а истинно штейнерианским:
- Верьте, что вестники чистые
- К воплям живущих не глухи;
- Сверху шлют вести лучистые
- Вечно-пресветлые Духи.
- Звезд перевитые линии —
- Вехи на тверди златой.
- Веры созвездия синие
- Светят над вашей душой.
Впрочем, эти эвритмические упражнения, хотя и выполненные на должном уровне мастерства, были совсем не то, чего ждали от Лили прежние поклонники ее дара. И пусть сама Лиля в первые годы существования Общества пребывала в абсолютной уверенности, что штейнерианское учение преображает душу, что в нем заключаются ее Путь и спасение, однако эту истовость, этот энтузиазм разделяли не все. Маргарита Сабашникова, например, разделяла («Я получила очень хорошее письмо от Черубины. Вот для кого Гельсингфорс открыл новую жизнь…»[148]), а вот Александра Петрова, напротив, не раз замечала, что на «людей творчества» штейнерианство оказывает если не разрушающее, то по крайней мере тормозящее их живое развитие влияние: «Ведь вот же ядовитая штука эта „Теософия“: дохнуть не дает! Что хотите, — говорите, а в ледяшки превращает. <…> У доктора есть колоссальные знания, сознание какой-то своей цели (может быть прекрасной и верной), но вдохновения у него нет».[149]
В 1913-м, уступив настойчивым Лилиным уговорам, Александра Михайловна все-таки вступит в Русское антропософское общество. Около года уйдет у нее на то, чтобы осознать, что антропософия ей чужеродна; несмотря на постоянное ненавязчивое кураторство Лили, несмотря на ее сочувственное внимание, лекциями Доктора она не прониклась — тем более что они, эти лекции, доходили к ней в Феодосию с опозданием, в дурных переводах (за что Лиля не уставала перед ней извиняться: «Я знаю, что плохо у нас работают, еще хуже — обижаются, и взять на себя редактированье переводов циклов нельзя»), да еще сразу после прочтения их необходимо было отсылать назад — списков во всё прирастающем новыми посвященными Обществе не хватало. Поэтому вскоре после начала войны, под предлогом предубеждения против Германии, Петрова заявляет о «бесповоротном» решении оставить антропософию — и Лиля, тщетно уговаривавшая Петрову не торопиться, после выхода подруги из Общества писем в Феодосию больше не посылает.
Зато посылает — в Коктебель. Посылает и получает ответы — притом что возобновление ее переписки с Волошиным начинается с некоторого казуса, а именно с отказа Лили дать Волошину рекомендацию для членства в Обществе, куда тот намеревался вступить сразу после открытия. Кстати, за этот отказ ее многие порицали — и тогда, и теперь: так, В. Купченко с негодованием замечает, что нежелание поручиться за Макса «выглядит неожиданным и диким — на фоне той радости, которую она испытывала по поводу вступления в общество Петровой, которую знала уж никак не лучше Волошина! И чего тогда стоят ее уверения в предыдущих письмах в своей любви и благодарности к нему „за все“?».[150] Кажется, Купченко, много лет занимавшийся архивом Волошина и наследием Черубины де Габриак, сначала попал под ее несомненное обаяние (см. безусловно комплиментарную «Исповедь», подготовленную в соавторстве с М. Ландой и И. Репиной в 1999-м), а после попытался вырваться из-под него и заклеймить «распущенность» поэтессы и ее тайную склонность к интригам в разоблачающей «Черубине де Габриак». Между тем в данном случае логичнее было бы предположить не лукавство, а простосердечие: Лиля, наконец-то оправившаяся после истории с дуэлью, попросту оберегает от Макса с таким трудом пойманное равновесие! Его желание стать членом Общества, да еще по ее персональной рекомендации, расценивается ею как вторжение в святая святых — отсюда и наивные попытки отсрочить это событие или, по крайней мере, не дать ему произойти по ее собственному согласию, отсюда и многословные оправдания, которые Лиля обращает к Волошину:
Милый Макс! Прости меня заранее, что не исполню просьбы твоей, не смогу поручиться. Ведь я не знаю тебя, Макс, теперь, и не смогу с полной чистой совестью сказать «да». — Я верю в тебя, как и раньше, но не вижу тебя теперь. Начинать с тобой переписку длинную, чтобы узнать, — это слишком долго для тебя ждать… А когда ты будешь в О<бщест>ве — всем, чем могу, — помогу.[151]
Прибавим к этому несгибаемость неофитки, ответственной за чистоту ордена, и естественное опасение, что склонный к экспериментам и розыгрышам Волошин и здесь не удержится от того, чтобы выкинуть какую-нибудь штуку, нарушая покой и согласие Антропософского общества… Однако Лилины опасения не оправдались. Волошин, несмотря на всё несогласие с догматичностью Штейнера, увлекается деятельностью Общества не на шутку, тем более что и в Дорнахе, и в России работа кипит. Доктор сумел вдохновить последователей и учеников идеей возведения космического Гётеанума — грандиозного здания для постановки мистерий, которое он намеревался построить в Дорнахе в память о Гёте — по Доктору, «универсального», то есть совершенного, человека — и с тем, чтобы сделать его одновременно символическим слепком Вселенной, а в перспективе — объединяющим мировым центром антропософии.
Возводиться Гётеанум должен был собственными силами антропософов на деньги антропософов. Грандиозное строительство требовало грандиозных же средств; богатые жертвовали баснословные суммы, а те, у кого денег не было, ехали на строительство, чтобы способствовать возведению великого храма культуры и современного духа своими руками. Андрей Белый, участвовавший в строительстве с самого начала, фиксирует в дневнике, сколь изматывающей и непривычной казалась работа; впрочем, участие Доктора превращало в священнодействие даже и этот труд по обработке и росписи капителей будущих «планетарных» (то есть посвященных планетам Солнечной системы и названных их именами) колонн:
3 дня работал д-р Штейнер сам, вооружившись стамескою, а мы толпой окружали его; он подавал нам советы, как работать; потом разобрали капители колонн и начали их обрабатывать; нам с Асей (тогдашняя жена Белого, Ася Тургенева. — Е. П.) досталась капитель сатурновой колонны… <…> мы водили маму на работу; и она даже взяла стамеску; стала пробовать работать на той капители, на которой работали мы… <…> ей очень хотелось увидеть д-ра; и желание ее осуществилось; во время работы пришел доктор, стал обходить работающих и подавать советы; подошел к нашей капители; Ася представила доктору маму; он очень внимательно на нее посмотрел и был очень ласков с ней; помнится, что он взял стамеску и стал работать на смежной капители…[152]
Не захочешь, а вспомнишь про Ленина на субботнике! Однако и Штейнер, и всё его окружение истово верили в святость общего дела. В Дорнах продолжали приезжать русские, вскоре к Белым-Бугаевым присоединилась Маргарита Сабашникова, ей доверили делать эскизы для храма, а после — расписывать малый купол. Осенью 1914-го прибыл Волошин, которому поручили работу по росписи занавеса, отделяющего зрительный зал от сцены, — 400 метров горного пейзажа в предутренних сумерках… «Над занавесью этой буду работать вместе с одной дамой (не художницей, но ясновидящей), — сообщает он Юлии Оболенской. — Что касается самого здания, то его принимаешь чем дальше, тем глубже и больше. Но его надо смотреть не снаружи, а изнутри. Снаружи только чехол, совсем условный».[153]
Юлия Оболенская, наблюдательная, остроумная, независимая, завоевала волошинскую симпатию еще в Коктебеле, где в 1913-м отдыхала в компании художника Константина Кандаурова, будущего ее мужа. Именно ей, на исходе октября отбывающей в Петербург, Волошин доверил свое сокровенное поручение — наведаться к Лиле, узнать о ее настроениях, о том, чем живет она в самом разгаре блистательной антропософской карьеры. У поручения находится и предлог: Оболенская интересуется антропософией. Волошин советует ей читать книги Штейнера и, предупреждая, что их может быть трудно достать в России, направляет по адресу Черубины. Направив же, начинает буквально забрасывать письмами с просьбами рассказать, как они с Лилей встретились и о чем говорили: «Страшно мне интересно, как вы встретились с Лилей» — 25 ноября 1913-го; «…мне все-таки страшно хотелось бы знать, о чем Вы с ней говорили» — 6 декабря 1913-го; «видаете ли Елисавету Ивановну?» — 9 декабря 1914-го; «пожалуйста, покажите Елисавете Ивановне все мои стихи» — 2 мая 1915-го…
Этот нетерпеливый рефрен сохраняется в письмах Волошина вплоть до его личной встречи с Лилей в 1916 году. А вот Оболенская отвечает уклончиво. Видимо, проникшись определенной симпатией к Лиле (это просвечивает в ее письмах), она избегает опрометчивых заключений; но даже при явной уклончивости о сомнениях насчет того действия, какое антропософия в больших дозах оказывает на организм, трезвая и приметливая Оболенская отнюдь не умалчивает:
Я очень волновалась, идя впервые к ней: из Ваших рассказов создался какой-то хрупкий и надломленный образ, которому страшно повредить. А мое впечатление — что она по натуре уравновешеннее меня. <…> Впрочем, глубоко я в ней не видела: когда индивидуальность заслонена истиной (Лицо Штейнера), труднее смотреть через нее.[154]
Как мы уже говорили, эта формула Оболенской — «индивидуальность, заслоненная истиной» — глубоко поразила Волошина. Было найдено слово, было обозначено то, что несколько лет назад отняло у него Лилю, то, что перекрывает доступ ее свободному творчеству, то, что и по сей день препятствует возрождению их дружбы! И все-таки с общим впечатлением корреспондентки и конфидентки Волошин не мог согласиться. Он слишком хорошо знал, чего стоила Лиле ее «уравновешенность» и сколь иллюзорно это кажущееся спокойствие, на деле обретаемое лишь под жестким духовным водительством, которое, собственно, Штейнер и обеспечивал своей пастве в комплекте с оккультными практиками, эвритмией, теоретическим катехизисом et cetera:
Нет, в ней есть и хрупкость и надломленность. Они всегда были скрыты — раньше особым жизненным (очень талантливым) юмором, который создавал иллюзию равновесия на краю безумия и полной потери себя в своей фантазии. Теперь… Вы очень хорошо определили: «Индивидуальность, заслоненная истиной». Я это так чувствую в ее письмах. <…> Видите, когда человек говорит вещи, абсолютно не согласуемые с научным познанием и по существу не доказуемые иначе, как личной проверкой, — я ему верю, потому что он ссылается на свой опыт. Но когда эти же вещи слышу я от другого, который не сам узнал, — а принял их, — я чувствую себя пойманным в клетку. Мне трудно с ними говорить…[155]
Из Лилиных писем мы знаем, что Оболенская посещала ее как на Васильевском острове, так и в новой квартире на Невском, что она была частым гостем на пятничных вечерах, когда петербургское отделение Общества собиралось для чтения лекций и эвритмических упражнений. К 1914-му Лиля уже начинает считать художницу убежденной антропософкой и пестует ее прямо-таки по-матерински («Я рада, что ты дружишь с Оболенской, она такая хрупкая», — роняет она в письме Максу, словно бы подтверждая слова Оболенской о том, что ее собеседница по натуре куда крепче и уравновешеннее, чем она). Но осторожная Юлия держит дистанцию, что и доказывают ее точные, временами безжалостные замечания в переписке с Волошиным: «…какое царство теней — умершая Черубина, умерший Борис Дикс… Вы не подумали, что, говоря о Черубине и Диксе, я говорю вообще о Васильевой и Лемане? Потому что я имею в виду только этих отделившихся призраков — а не людей, которых я недостаточно знаю». Под «призраками» она разумеет их творческую, поэтическую эманацию — ведь не случайно и Леман, и Лиля Васильева отделяют от себя эту творческую ипостась, принесенную в жертву антропософии, псевдонимом! И снова Волошин согласен: «Эти результаты мне слишком знакомы, но я никак не могу с ними примириться. Мне пришлось их видеть не на одном только их (Дикса и Черубины. — Е. П.) примере. Отчего это у русских каждый шаг к высшему духовному самосознанию сейчас же приводит в монастырь? Главное, для меня совершенно непонятно, как это может вытекать из философии Штейнера, такой освободительной, всеобъемлющей, учащей любить и преображать жизнь».[156]
А вот еще — в более позднем письме, написанном уже после отбытия из Дорнаха и водворения в любимом Париже:
Она (Лиля. — Е. П.), верно, огорчена, что я Дорнаху изменил ради Парижа? Теперь я могу себе дать отчет, как тяжело было там в сущности: на всем творческом лежали цепи. Все действительно свое — казалось ересью. Я не мог там написать ни одного стихотворения (до 1917-го, по сути, не пишет и Лиля. — Е. П.). <…> Я рад, что был там, я многое вынес. Но оставаться там мне не было смысла.[157]
Судя по всему, Волошин считал, что и Лиле оставаться при Штейнере (эмоционально, а не физически; в Дорнах на стройку она, разумеется, по слабости здоровья не могла ехать) более смысла нет. Переписываясь с Оболенской, он переписывается и с ней — сперва сдержанно, но по мере того как Россию охватывает лихорадка войны, а Антропософское общество — чувство вины и тревоги, — всё горячее и горячее. Они пишут друг другу о книгах, вскрывающих суть оккультизма, о новых стихотворениях Волошина, о Всеволоде Николаевиче, командированном в Турцию для налаживания путей сообщения, об антропософии и о Докторе… Чуткий Волошин, конечно, не обращается к Лиле со слишком уж резкими выпадами — для этого у него была Оболенская, — однако Лиля не может не чувствовать, что волошинский скептицизм в отношении устройства Антропософского общества продолжает усиливаться. А уж отбытие из строящегося Дорнаха в Париж и вовсе не приятно ее поразило… Одним словом, трудный для обоих обмен убеждениями был неизбежен.
По всей вероятности, Макс, не любивший недоговоренностей, в какой-то момент пишет Лиле письмо, раскрывая свое отношение к антропософии и вызывая Васильеву как официального представителя Общества на ответную откровенность. К счастью, в отличие от послания Волошина, ответ Лили, который она написала «не в качестве Garant’a», то есть не как официальное лицо, а «как Лиля», дошел до нас и предъявил ее выстраданную позицию во всей неожиданности и полноте:
Твою точку зрения на Общество для тебя я принимаю, как принимаю взгляд каждого; если тебя интересовала реорганизация теос<офского> общества в антропософическое, то ты знаешь, что сам Доктор борется против застывших форм. <…> Все же антропософия обращает нас в уголь, и уже наше дело стать бриллиантом, правда, Макс, и слова Доктора освобождают, но через смерть, иного пути для свободы нет, как и для рождения.
Имеется в виду смерть при обряде инициации — посвящения, смерть личности, готовой отказаться от индивидуального поиска в пользу соборности. А Лиля продолжает, уносясь в такие метафорические эмпиреи, что, пожалуй, только Волошин, сам великий метафизик, может ее понять:
У нас мало воскресают, а более остаются в летаргии, бриллиант довольствуется фольгой для блеска, люди не-вершин (читай: то есть не такие, как ты, Макс! — Е.П.) создают перины и пуховики секты. <…> Но для себя я принимаю антропософию как дар, как милость, и хочу передать ее тем, кто около, беру на себя Общество, как бремя, ибо только исходя из него, я могу раскрыть его в иное. И еще одно: Доктор (постановив ограничение циклов не для членов) сам желает, чтобы, воспринимая Его учение, проходили сквозь Общество; я уверена, Он ждет от нас его преображения. И, принимая учение Доктора, я принимаю и бремя Общества, как долг, Макс! <…> Ибо всё требует жертвы, Макс, не прими это за обвинение, я только говорю тебе, как я думаю, как я понимаю для себя антропософию — как страдаю ею. Но скажу еще: антропософия, как и всё величайшее, должна быть смешана с грязью.
Понимаешь ли ты меня, Макс?[158]
Макс понимал.
Больше они об этом не говорили.
Антропософия действительно была смешана с грязью в 1910-е годы и с кровью — в 1920-е. И пусть в глазах Макса, великого жизнелюба, нынешняя Елизавета Васильева с ее аскетизмом и «поиском бремени» выглядела только призраком прежней Лили — страстной, отчаянной, порывистой, — но как бы то ни было, новый облик Васильевой и ее новая миссия неудержимо притягивали к ней все новых и новых людей.
«ШЛЮ РАДОСТЬ!» (1913–1917)
С созданием Антропософского общества в жизни Лили Васильевой начались годы, которые безусловно можно определить как расцветные.[159] Если вдуматься, в 1910-е у нее было всё: семья, круг любимых друзей, деньги, позволяющие пусть не роскошествовать, но и не знать нужды, дело, которому она была предана и которое ей удавалось…
Не было только стихов, но от творчества Лиля сознательно отреклась. И хотя этот отказ ей давался мучительно, жизнь все же складывалась столь насыщенно и удачно, что, снявши Черубинину бронзовокудрую голову, плакать по волосам до поры до времени не приходилось.
Ей еще нет тридцати, она замужем. Муж, «тихий человек», инженер с рыжеватыми усиками, как вспоминали о нем современники, безгранично ей предан. Она похудела, похорошела — надо сказать, по причинам вполне прозаическим, ибо стала лучше питаться и меньше работать. Уроки оставила; все ее силы отдавались Антропософскому обществу, тем более что вскоре после начала войны непосредственные контакты со Штейнером и теми членами Общества, что остались в Германии, практически прекратились, и Лиле требовались значительные усилия, чтобы петербургские антропософы по-прежнему чувствовали себя сплоченными вокруг идей Доктора. Свою миссию она, хозяйка «петербургской ложи», видела в том, чтобы «сплотить Петербург в одну семью в А<нтропософическом> О<бществе>», и делала все, чтобы это случилось.
Всю предыдущую жизнь неизменно страдавшая от одиночества, она буквально окружена в эти годы людьми — семьей и друзьями, детьми и взрослыми, близкими и дальними. Двери ее просторной квартиры на Невском, 119, постоянно открыты. «Еще с февраля у нас квартира будет, Вы как приедете, прямо к нам — Вам у нас уютнее будет», — зазывает она Александру Петрову, а Волошину пишет в ответ на просьбу принять Оболенскую: «К нам можно приходить и направлять, не стесняясь. Мы ведь рады!» Впрочем, четырехкомнатная квартира в центре, недалеко от вокзала, и была выбрана Волей Васильевым именно с тем, чтобы в ней могли останавливаться иногородние члены «ложи»; в ней же проходят и еженедельные пятничные собрания, и занятия эвритмией. Деятельность «петербургской ложи» настолько активна, что привлекает внимание тайной полиции (и не случайно — несмотря на принципиальную аполитичность, антропософы открыто интересовались современной историей, трактовали политические события в свете мировой космогонии, отличались интеллектуальным вольнодумством и т. д. и т. п.). Известно, что в 1914 году Лилю и Всеволода вызывали в охранку с требованием дать объяснения по поводу регулярных собраний, известна и целая папка доносов на собиравшийся у Васильевых антропософский кружок, под которым, по мнению осведомителей, «скрывалось не что иное, как масонская организация, руководимая из-за границы».
Собственно о деятельности кружка в этих казенных бумагах нет ничего. Зато из них можно многое вычитать о повседневном устройстве жизни наших героев — к примеру, о том, что «некая Елизавета Ивановна», являющаяся официальным лицом означенной организации для Санкт-Петербурга, «живет при муже, инженере путей сообщения Всеволоде Николаевиче Васильеве, 30 лет, по Невскому пр., дом № 119, кв. 16, где, по ее заявлению полиции, имеет местопребывание также и совет отделения»:
Избрание Елизаветы Васильевой председательницей совета отделения состоялось 2 февраля с. г. на первом учредительном собрании членов отделения. На том же собрании в состав совета отделения избраны: секретарем — Борис Леман, казначеем — жена окончившего СПб. университет Лидия Павловна Шаскольская, урожденная Брюллова, 26 лет, живущая отдельно от мужа по 5-й линии Васильевского острова, в д. № 46, кв. 12, членами совета: жена штатного преподавателя Центрального училища рисования барона Штиглица, Агнесса Федоровна Форсманн, живущая отдельно от мужа, находящаяся ныне за границей, в Берлине (Berlin, Hospiz des Zentrums Hoizgartenste 9–10), и дочь генерал-лейтенанта Ольга Яковлевна фон Сиверс, 50 лет, живущая по Загородному пр., в д. № 54, в офицерском флигеле лейб-гвардии Семеновского полка, при брате капитане Федоре Яковлевиче фон Сиверсе, 34 лет, у которого в том же полку служит еще другой брат, полковник Яков Яковлевич фон Сиверс, 44 лет.
Инженер Всеволод Николаевич Васильев состоит на службе при Министерстве Путей Сообщения и прописан по бессрочной паспортной книжке, выданной из канцелярии названного министерства 7 января 1912 г. за № 2/164, а его жена — по бессрочной паспортной книжке, выданной той же канцелярией 12 февраля 1912 г. за № 6/1566. По отметкам в домовых книгах видно, что супруги Васильевы часто бывают за границей. <…> Елизавета Ивановна Васильева 2 мая 1912 г. была отмечена в Москву, а 28 мая прибыла из города Риги, затем три раза отмечалась за границу: первый раз — 21 августа 1912 г., возвратилась 27 октября вместе с мужем… <…> второй раз — 22 мая 1913 г., а возвратилась из города Риги 16 сентября того же года и третий раз — 20 декабря 1913 г. вместе с мужем и вернулась оттуда вместе с ним 15 января 1914 г.
Супруги Всеволод Николаевич и Елизавета Ивановна Васильевы занимают квартиру из четырех комнат, в которой живут одни, вместе с одной женской прислугой.
Название местной масонской ложи, прикрывающейся названием с. — петербургского отделения Русского Антропософического общества, состав ее членов и круг деятельности негласным путем пока не выяснены. Кроме вышеназванных членов совета, возможно, что в деятельности названной ложи принимают участие: двоюродные братья Бориса Лемана — вышеназванные Константин Анненков и Владимир Турчанинов, его двоюродная сестра София Домогацкая; братья Ольги Сиверс — лейб-гвардии Семеновского полка капитан Федор фон Сиверс и полковник Яков фон Сиверс, брат инженера Всеволода Васильева — младший врач 147-го пехотного Самарского полка Петр Николаевич Васильев, 29 лет, и его жена Клавдия Николаевна, 25 лет, живущие по 5-й линии Васильевского острова, в д. №9 66, и сожитель Лидии Шаскольской, урожденной Брюлловой, — подпоручик запаса армейской пехоты Дмитрий Петрович Владимиров, 24 лет, живущий от нее отдельно в д. №9 16, по Средней Подьяческой улице.[160]
Как видим, нравы в санкт-петербургском антропософском кружке достаточно вольные. Члены объединения решительно порывают с супругами и родней, чтобы примкнуть к кругу единомышленников; брачные узы ничего не значат, цену имеет исключительно духовная близость. Вот и красавица Лида уже разошлась с безнадежно ей преданным Павлом Шаскольским и сошлась с Дмитрием Владимировым, который вскорости сделается ее третьим мужем; молодая, резковатая шведка Агнесса Форсманн, как и Лиля, бегло читающая и говорящая на четырех языках, оставляет мужа, чтобы ехать в Дорнах на строительство Гётеанума; с Лидой, живущей свободно и одиноко, соседствует семья Петра Васильева, и Лиля, во время мужних командировок часто бывавшая в доме у деверя, ведет долгие разговоры с энтузиастической Клодей, многолетней поклонницей Доктора, особенно увлеченной его эвритмией… Видимо, к Лиле и Клоде часто присоединялась и Лида. Несмотря на все брачные перипетии, они действительно жили семьей, и Лиле было в этой семье хорошо.
Впору подумать, а не семейная ли теплота, свойственная Васильевым, более чем само чувство к мужу влекла к себе Лилю? Васильевы открывали дверь всем — и Волошину, и Брюлловым, и Белому, и Менжинским. Лиля могла искренне радоваться тому, что нашла среди них свое место, радоваться семейному теплу и благоговению, с которым к ней в этой семье относились. Жена старшего брата, любимая женщина первенца, она была неизменно окружена женской нежностью и заботой мужчин; жаль только, что отношение к ней клана Васильевых резко контрастировало с упреками матери, недовольной, что дочь занялась непонятной антропософией, да и поторапливающей насчет внуков. В 1910-е годы у Лили с Елизаветой Кузьминичной не было близости. Она пришла позже, уже по возвращении Лили из Краснодара, когда мать, истосковавшаяся и напуганная разлукой, переехала к дочери и, к великому облегчению последней (Лиля после потрясений 1920-х годов была очень больна), взяла на себя все бытовые заботы. Однако и этому тихому примиренному существованию было отмерено мало лет…
Что же до внуков, то хотя Лиля не сумела (или не захотела?) родить Всеволоду детей, фактически дети у нее и так были. В 1916 году Лида Брюллова, наконец сделавшаяся Владимировой, родила дочку Наташу — на радость мужу, родным и восьмилетнему старшему брату Юре, Лилиному любимому крестнику. Львиная доля внимания Лиды естественно оказалась отдана новорожденной, и Лиля с готовностью взяла на себя все заботы о мальчике. Не уставая, читала ему стихи и рассказы, занималась с ним языками… Рано заметила в нем талант стихотворца и осторожно старалась его развивать; скорее всего, именно Юра и был главным автором (при небольшом участии сестры и кузины) того самого озорного четверостишия: «Мама-прима, мама-бис…», которое мы приводили в одной из предыдущих глав.
В историю русской поэзии сын Лиды Брюлловой и Петра Пильского вошел под именем Юрия Владимирова — детского поэта, самого младшего члена ОБЭРИУ, в 22 года умершего от скоротечного туберкулеза. Знающих его быструю, яркую, столь трагически оборвавшуюся биографию может удивить то, что, несмотря на болезнь, в детских стихах Владимирова все полно мальчишеского звонкого счастья, задора и упоения жизнью — упоения, свидетельствующего о полном удовлетворении собственным детством. «Ниночкины покупки», «Евсей», «Барабан», «Оркестр»: все это на фоне безусловно прекрасной, но весьма драматичной детской поэзии 1920-х оставляет шлейф беспримесной радости, озорного азарта, громокипящей звуковой остроумной игры. А главное — крепкой взаимной привязанности детей и взрослых, ибо дети не только не боятся гнева или огорчения родителей, но и в любой ситуации рассчитывают на их полное понимание:
- Папа и мама ушли к дяде Косте.
- У Саши и Вали — гости.
- И придумали Саша с сестрою:
- «Давайте устроим
- Оркестр».
- И устроили:
- Валя — на рояли,
- Юля — на кастрюле,
- Лешка — на ложках,
- Саша — на трубе, —
- Представляете себе?
- Кошка — в окошко,
- Кот — под комод,
- Дог — со всех ног
- На порог
- И на улицу.
- И по всем по этажам —
- Страшный шум, страшный гам;
- Кричат во втором:
- «Рушится дом!
- Провалился этаж!»
- Схватили саквояж,
- Лампу, сервиз
- И — вниз.
- А в первом говорят:
- «Без сомнения —
- Наводнение».
- Захватили сундуки
- И — на чердаки…
- ………………………
- Папа и мама на улице Лассаля
- и то — услыхали,
- Что за шум, что за гром.
- Ах, несчастие дома.
- Побежали так, что папа
- Потерял платок и шляпу.
- Папа с мамой прибегают,
- Папе дети говорят:
- «Тише, — здесь оркестр играет!»
- Ну-ка, вместе, дружно в лад:
- Валя — на рояли,
- Юля — на кастрюле,
- Лешка — на ложках,
- Саша — на трубе, —
- Представляете себе?
Чем не иллюстрация к регулярным занятиям эвритмией на квартире у Лили? В детских стихах Владимирова вообще частенько перепеваются «взрослые» сюжеты и образы — таков, например, «Кошкин дом», одноименный тому, который в 1920-е сочинили Лиля и Маршак, но демонстрирующий, что в пожаре виновна не скаредность кошки, а безрассудство котят. К счастью, ни с жадностью, ни с бездушностью взрослых Юре сталкиваться не приходилось: взрослые в семьях Васильевых и Брюлловых хотя и были всецело увлечены своим делом, будь то антропософия или литература, но отличались бережным вниманием к детям и никогда ими не пренебрегали — напротив, старались порадовать их тем, чего сами в собственном, чересчур чопорном либо откровенно надломленном, детстве были лишены. Ставили искрометные сценки, рисовали дружеские шаржи, разыгрывали шарады, ездили в Крым отдыхать… Возможно, поэтому и в стихах Юрия Владимирова, и в его личности («немного Петя Ростов, немного Том Сойер»[161]) чувствуется та безоблачность, которая отмечает лишь очень любимых детей.
Атмосфера любви, в которой рос Юра, — любви и истинно штейнерианской «радости» («шлю радость!» — повторяют антропософы друг другу, точно пароль, в переписке) — окружает в 1910-е и саму Лилю. Круг ее новых «антропософских» знакомств чрезвычайно широк. В открытом доме Васильевых бывают молодые музыканты — соученики Бориса Лемана, который в ту пору учился в консерватории, молодые офицеры — друзья братьев Васильевых, молодые поэты — Всеволод Курдюмов, Тихон Чурилин, Дмитрий Усов… Хозяйка дома, столь органичная в своей роли «теософской Богородицы» (как желчно назвала ее Ахматова, намекая на пресловутых «хлыстовских богородиц» с их оргиастическими радениями и ритуальным промискуитетом), вызывает их неизменное и почтительное внимание; у тех же, кто увлекался поэзией и, соответственно, помнил ее Черубиной, это внимание перерастало порой в настоящую страсть. Ибо что, как не страсть, прорывается в стихах Дмитрия Усова — филолога и поэта, в начале 1910-х приехавшего из Германии и представленного в салоне Васильевых как начинающий антропософ?
По словам едва ли не единственной на сегодняшний день исследовательницы его творчества Т. Нешумовой, шум аполлоновской славы Дмитриевой дошел до Усова с опозданием. Семья Усовых, постоянно проживавших в Германии, вернулась в Россию в 1911-м — и, вероятно, «не раньше этого времени пятнадцатилетний поэт, следивший за всеми поэтическими новинками, прочитал аполлоновские подборки Черубины де Габриак. В его юношеском рукописном сборнике мы находим и стихи с посвящением „Черубине де Габриак“, и другие — с эпиграфом из ее стихов („Как и ты — я вне жизни живу“). <…> Среди русских стихотворений есть и немецкое — одно из самых откровенных и чувственных среди его стихов к Черубине»[162]:
- Как в комнате светло от гиацинтов синих!
- Натянуты лучи как солнечная сеть.
- Ты здесь была весной, с высоким лбом княгини
- Веласкеса, тяжелого как смерть.
- Жест этих рук, и набожных, и тонких,
- почти монахини, сжимающей свой крест, —
- кровавым отблеском рубинового солнца
- меня воспламенил и залил всё окрест.
- Глаза б твои обжечь губами — но объятья
- немыслимы: ведь ты вся замерла в мольбе.
- Я только разобрал «о мой святой Игнатий» —
- и в ночь вступила кровь — и тьма в моей судьбе.[163]
Усовское посвящение обыгрывает и послание Черубины «Св. Игнатию» из первой аполлоновской подборки (куда, впрочем, вкрадывается «инфант Веласкеса тяжелый шелк» из «Пророка»), и, вероятно, их личную встречу в той самой квартире на Невском, увековеченной в донесении царской охранке. Как, должно быть, он был взволнован, впервые встречаясь вживую с тем призраком, с той «бронзовокудрой колдуньей», которая улыбалась ему со страниц «Аполлона»! И, между прочим, реальная Черубина нисколько не разочаровала его: во всяком случае, в стихах юноши (Усову в 1914 году исполняется восемнадцать) нет ни следа сомнения в Лилиной женской прелести — даже и «непропорционально большая голова», фигурировавшая в воспоминаниях Гюнтера и Маковского, преображается в «высокий лоб княгини», а один-единственный жест руки обдает жаром и горько напоминает о невозможности близости.
Эта же невозможность сквозит в другом стихотворении Усова, не столь чувственном, но фактически представляющемся признанием в первой — идеальной, трагической, рыцарской, куртуазной — любви:
- Сложены руки над книгой твоей.
- Все старо.
- Не алеет сердце от острых мечей —
- Сердце мертво.
- Но я верю в чудо, когда, по ночам,
- Стою на мосту
- И смотрю в морозный дневной туман,
- Смотрю в пустоту
- И еще надеюсь и сквозь дым пламенею,
- Когда в ночь твою
- Вижу на смуглой девичьей шее
- Злую змею.
- И опять гроба, катафалки тьмы…
- Сердце мертво.
- Но по мглистым дням и неделям зимы
- Идет Рождество.
Усов показывал свои стихи Лиле. Та, равнодушно пролистывая любовную лирику и как будто бы не замечая его откровенных признаний, поощряла другое — не темное и «гробовое», а подвижное, светлое, если угодно — мажорное. «И в душе поет весенний / Радостный набат. / В синем небе словно звенья / Белых кавалькад…» — пишет Усов, и Лиля радуется, Лиля хвалит его, ибо ей это важно и дорого, ей очень хочется, чтобы все рядом с ней были радостными…
Позднее Усов обиженно признавался, что Черубина не оценила его ранних стихов и не ответила на его чувство. Однако могло ли быть по-другому? Восторженная влюбленность юноши и его очарование призраком Черубины Лиле уже представлялись нелепыми, к тому же все это время, с 1914-го по 1922-й, рядом с ней практически безотлучно находится Борис Леман. Да что там — рядом! Вся Лилина семейная жизнь в 1910-е исполнена в популярном в начале XX века формате тройственного союза, в разные годы практиковавшегося семьей Мережковских (треугольник Мережковский — Философов — Гиппиус), Брюсовых (Брюсов — Иоанна Матвеевна — Нина Петровская), Буниных (Бунин — Вера Муромцева — Галина Кузнецова), Бриков (Лиля и Осип Брики — Маяковский) и т. д. Сам Васильев этот формат отношений не только с покорностью принимал, но и всецело поддерживал: очевидно, ему, проводившему иногда по полгода в командировках (так, все в той же записке, подготовленной для тайной полиции, значится, что «Всеволод Васильев 29 апреля 1912 года был отмечен в городе Иркутске, а 27 октября прибыл из-за границы: 8 мая 1913 года выбыл за границу и 28 ноября того же года прибыл из города Самарканда: 20 декабря 1913 года снова выбыл за границу, откуда вернулся 15 января 1914 года»[164]), было спокойнее оставлять Лилю на Лемана. Он был уверен, что в случае ее физического недомогания или душевного кризиса тот сумеет о ней позаботиться.
И Леман заботился — как умел.
«Темноволосый, с необычно узкой головой, оливковым цветом лица и гортанным голосом. Что-то древнеегипетское сочеталось в нем с ультрасовременной наружностью. В нем было что-то таинственное, что, вероятно, можно было объяснить его врожденной способностью к двойному зрению»[165] — так вспоминала о Лемане Маргарита Сабашникова. Все современники отмечали нечто «фараоново» в его внешности, нечто суровое и повелительное. Женщин вроде Сабашниковой он очаровывал, мужчин вроде Воли Васильева — подчинял, детям — вроде шестилетнего Иммануэля Маршака, свидетеля их с Лилей жизни в Екатеринодаре, — несмотря на искреннее внимание к педагогике и на то, что Леману было действительно интересно подолгу заниматься с детьми, внушал страх. Впрочем, незаурядные педагогические способности проявились и в его отношениях с Лилей: внимательный, жесткий и требовательный, он быстро понял, что для достижения духовной устойчивости Лиле необходимо не что иное, как напряженная интеллектуальная деятельность, а для укрепления взаимного чувства — сотворчество или совместное восхождение к неким духовным вершинам.
И был прав. Как показывают эпизоды с Волошиным и Гумилевым, а позднее — с антропософом и востоковедом Юлианом Щуцким, для Лили любовь означала органическую потребность делать с возлюбленным одно дело, разделять его интеллектуальную и духовную жизнь. С Волошиным и Гумилевым этим делом была поэзия, с Щуцким — антропософия. Антропософия объединяла ее и с Васильевым, но Васильев по существу своему в этом браке всегда оставался ведомым (не случайно их отношения довольно скоро перешли из супружеских в дружественные и платонические); Лиля же, при ее остром уме и постоянном стремлении к развитию, рядом с Васильевым-«посохом» тосковала по мудрому и взыскательному учителю. Штейнер был далеко, да и паства могла ему только молиться и поклоняться, как богу; в Волошине как в учителе Лиля разочаровалась… Оставался Борис Леман, в отличие от прочих чувствовавший себя чрезвычайно естественно в роли наставника, гуру и поводыря.
Наставником он был еще в 1910-м, осторожно, но неотвратимо отводя Лилю от Макса. Вероятно, его уже тогда потянуло к талантливой ученице, но то, что он был давно обручен и намеревался жениться, препятствовало их сближению (может быть, регулярные лемановские отлучки, о которых Лиля упоминала еще в переписке с Волошиным, были связаны с тем, что он ездил к невесте?). Однако в 1912-м Ольга, невеста Лемана, скоропостижно скончалась. Леман был так потрясен ее смертью, что сам тяжело заболел. Врачи диагностировали у него рак желудка, и пациент, внутренне согласившийся с безнадежностью случая, приготовился к смерти, но тут за его спасение неожиданно принялась Маргарита Сабашникова. «Разве это правильно — так вот, без борьбы, уходить из жизни? — спрашивала она Лемана. — В конце концов, ведь земная жизнь имеет свою ценность: на земле мы свободны и можем продолжать свой путь развития. И разве момент смерти можно предугадать с такой абсолютной неизбежностью?» Леман отвечал, что он знает свой час и готов к нему, а раз так, для него попросту невозможно будет «остаться здесь». Маргарита, в любой непонятной ситуации привыкшая полагаться на Штейнера, а в Лемане еще со времен «Башни» видевшая мощный мистический потенциал, предложила другу встретиться с кумиром. Ведь кто, как не Штейнер, которого не зря именовали Доктором, утешителем всех болящих и страждущих, сможет вернуть его к жизни?
Леман, безоговорочно признающий Штейнера «величайшим Посвященным земли», согласился, Сабашникова организовала их встречу. Каково же было ее удивление, когда Штейнер, как будто бы не испытывая к Леману никакого сочувствия, сказал ему холодно: «Ну, так ждите спокойно своей смерти. Это тоже может быть определенной установкой», — после чего поклонился и, обратившись к Сабашниковой, уточнил: «Я говорил с вашим другом только потому, что вы хотели ему помочь»! Аморя расценила это как причуду великого человека, Леман — как умение слушать судьбу и повиноваться ей даже в том случае, если она предвещает самую смерть. Однако, по-видимому, потрясение от встречи с Доктором было столь велико, а молодой организм столь силен, что вскоре после возвращения из Гельсингфорса в Петербург больной выздоровел, а разговор в Гельсингфорсе навсегда обратил его в штейнерианство и сделал его проповедником новой «религии».
Общее преклонение перед Доктором, а также небывалая острота жизни, которую Леман вновь ощутил после отсроченного приговора, бросило их с Лилей в объятия друг друга.
Странною оказалась эта любовь. Связь Лили с Леманом не была платонической — в ней находилось место и страсти, и ревности (когда в 1926 году он женился, Лиля, признавшись, что для нее это стало «большим облегчением», тут же по-женски напускается на его жену — «длинную, длинную петербургскую немку, умную, властную, неинтересную вовсе, с уклонением в сторону „теософской тетки“»[166] — каково!). При этом щедрая, как все поэты, на стихотворные посвящения возлюбленным, адресовавшая Волошину «Звездную ветвь», а Щуцкому — сборник «Вереск», откликнувшаяся на смерть Гумилева стихами «Памяти Анатолия Гранта», она, кажется, не обратила к Леману ни единого чисто любовного стихотворения. Разве что «Грааль» (1915), написанный на мотив вагнеровского «Парсифаля»? Но и тут речь идет скорее о поклонении общей реликвии и исполнении общих обрядов, нежели о живом непосредственном чувстве:
- Все пути земные пыльны,
- все пути покрыты кровью,
- в мире майи мы бессильны…
- Но достигнем мы любовью
- Грааль.
- Круг небесный загражденья
- начертим движеньем смелым,
- из себя родим движенье.
- И сияет в блеске белом
- Грааль.
- Знак креста и путь смиренья,
- веры в Бога непритворной,
- легкий вздох благоговенья…
- И сияет чудотворный
- Грааль.
- Вверх поднимем взор покорный.
- Там последние ступени,
- розы, розы вместо терна…
- Тише, тише, на колени…
- Грааль.
В одном из исповедальных писем к Волошину она признается: «В январе 1913-го мне показалось, что молчание превратилось в огромную любовь, молчание стало пламенем (Борис Леман). Но не было дано и этого. Только на сердце легла тяжесть огромной любви и еще большего молчания…»[167] Не сам ли Леман припечатал Лилю этим обетом молчания, отрицая ее стихи как то, что в его сознании навсегда было связано с прежней, преступной инкарнацией Черубины? Если так, то их отношения были для Лили во многом продолжением той епитимьи, которую она наложила на себя, согрешившую грехом жизнетворчества, в браке с Васильевым. Леман с Васильевым словно бы дополняли друг друга, как Вронский с Карениным в знаменитом сне Анны: первый брал духовным «вождизмом», наставничеством (впрочем, Лиля довольно быстро переросла Лемана как наставника, и тот это принял — ср. в его письме к Александре Петровой от 23 декабря 1913-го: «Цикл „У Врат Тео<софии>“ вышлем приблизительно 15 января. Сейчас его проверяют, а послать не смею без Елизаветы Ивановны…»[168]) и твердостью, а также непререкаемой верой в учение Штейнера; последний — долготерпимостью, мягкостью и смиренным принятием.
В сущности, Лиля сама намечтала себе любовь к Леману — еще в стихотворении Черубины, пророчески посвященном Савонароле:
- Его египетские губы
- Замкнули древние мечты,
- И повелительны и грубы
- Лица жестокие черты.
- ……………………………..
- В нем правый гнев рокочет глухо,
- И жечь сердца ему дано:
- На нем клеймо Святого Духа —
- Тонзуры белое пятно.
- Мне сладко, силой силу меря,
- Заставить жить его уста…
По одной из своих профессий Леман был египтологом, а по жизненному амплуа — повелителем, доминантом. Ему и впрямь было дано «жечь сердца»[169] — повелевать, карать, миловать и вносить жесткую организованность в окружающий хаос. В конце концов, именно благодаря Леману в 1918-м Лиле удастся уехать из полуголодного Петрограда и обосноваться в Екатеринодаре. Там в ее жизнь вновь вернутся и любовь, и стихи.
Но все это будет позже, а пока они крепко держатся друг за друга в эти предгрозовые военные дни. Ввиду войны быт Антропософского общества, за который отвечали Лиля и Леман, требует все больше и больше усилий по своему сохранению. Между «дорнахскими» и «русскими» антропософами то и дело вспыхивают конфликты, которые надо улаживать; Всеволод Николаевич поглощен работой — инженеры путей сообщения востребованы, так что даже и летние месяцы отдыха Лиля проводит с друзьями и Леманом либо одна. В 1916-м она отдыхает под Москвой в имении Марии Николаевны Кларк, старой, еще коктебельской, знакомой («У нее было очень хорошо; дубы, липы и мокрые от непрерывных гроз поля»), а в 1917-м — в Тифлисе, в одной гостинице с Генрихом Нейгаузом. Петр и Сергей Васильевы, врач и армейский офицер, братья мужа, на фронте, на фронте и Валериан Дмитриев, и на Лилины плечи ложится еще и забота о матери, в свою очередь истомленной тревогой за Валериана… Естественно, что любовь ее к Леману остается не столько всепоглощающей страстью, сколько высоким содружеством, способом двигаться вместе к назначенной (Штейнером?) цели, тем более что «сомнения ни в Докторе, ни его целях» не было ни у Лемана, ни у нее.
И все же главной Радостью этого времени оказалось для Лили возвращение Волошина.
«БРАТЬЯ — КАМНИ, СЕСТРЫ — ТРАВЫ…»
В 1916 году, проездом из Франции в Коктебель, он побывал в Петербурге (переименованном в Петроград) и заехал к Васильевым. Ему было не так-то просто решиться на этот визит; уже в комнатах он спросил Лилю, очевидно тронутый ее растерянным видом: «Тебе не больно, что я пришел?» — «Ведь ты уйдешь», — ответила она невпопад. Тут уж Волошин не мог не воскликнуть, прибегнув к спасительной легкости любимого обоими французского: «Une rćponse bien frivole!»[170]
И они рассмеялись.
Дальше стало легче. Макс рассказывал о Коктебеле, о том, как изменился его дом и кто в нем гостил прошлым летом. Перебирали знакомых и незнакомых — Маковского, Гюнтера, Герцык, Петрову, Цветаеву… Впрочем, говорили недолго — Волошин явно боялся засиживаться, чтобы не утомить Лилю, а той казалось, что он торопится уйти. Поэтому спустя пару дней Лиля пишет ему вдогонку:
Макс, послушай! Мне очень тревожно; — пожалуйста, ответь мне: почему-то мне кажется, что ты ушел от меня точно в могилу. Что не такая я была в четверг, и ты ушел, чтоб не оглянуться.
Это так? Ответь, ответь, а потом я не буду мешать тебе…
Макс, Макс, мне больно, сердцу очень больно и грустно, как тогда — 6 лет тому назад; я все помню, не я, а во мне. И грустно. Не бойся — я перестану грустить.
Не сердись, что я пишу тебе, я больше не буду.
Кланяйся морю, Таиах, полыни, горам и рассвету. И маслина цветет? И мята пахнет? И я не увижу, а помню…[171]
Встреча с Волошиным страшно ее взволновала. Ей все казалось, что нужно что-то ему объяснить, оправдаться, загладить вину… Но Волошин, к этому времени переживший уже и разочарование в Гётеануме, и травлю в печати после скандала с изрезанным полотном Репина[172], и человеческое одиночество, Волошин, обретший устойчивость крымского исполина — устойчивость скалы, выстоявшей и в пореволюционную смуту, и в гражданскую бурю, — уже не нуждался ни в Лилиных оправданиях, ни даже в ее любви. А его возвращение… Лиле оно было нужно больше, чем Максу, так как ставило на место выпавший кусок пазла, сращивало оборванные концы ее жизни. В переписке с Волошиным Лиля сбрасывала с себя «важность» и чин теософской Мадонны и вновь становилась сама собой.
Уже после того, как их дружба возобновится, она, чувствуя, что некогда бережная и страстная любовь Макса уступила место ровному дружественному вниманию, ненароком посетует: «Ты слишком аккуратно мне отвечаешь, Макс, и та неудержимость, что дремлет во мне, она недовольна этой пасторской привычностью. <…> Ах, Макс, зачем, почему не изнутри как-то?» (из письма от 6 августа 1916 года). Но и такая ровная, сдержанная, чуть отстраняющая переписка была ей необходима, ведь, несмотря на постоянное присутствие людей вокруг, несмотря на молчаливое обожание Всеволода Николаевича и взыскательную привязанность Лемана, долгое время рядом с ней не было настоящего — равного — друга. «Иногда я очень, очень внутренно зябну, п<отому> ч<то> мне не с кем внутренно подружиться», — вырывается у нее; да и вообще, пока в жизни Лили не появился Архиппов, Волошин оставался единственным человеком, с которым она могла вспоминать Черубину.
Ибо Леман ипостась Черубины категорически отвергал, а Васильев и вовсе забыл о ней — будто бы не было ни стихов в «Аполлоне», ни дуэли, ни Черубининой поэтической славы. Лиля же помнила всё. Да и только ли помнила? Официальный представитель Доктора Штейнера в Петербурге, руководитель широчайшей антропософской общественной сети, чей авторитет для начинающих был безусловным, спустя шесть лет после своего сознательного отречения от творчества и от брака с Волошиным она уже подозревала, что выбор, сделанный ею тогда, был ошибочным, что истинный ее путь пролегает не по схоластическому руслу антропософии, но в полнозвучном потоке поэзии, и отрешение от этого поэтического потока не менее преступно, чем грех жизнетворчества.
Если когда-то и был совершен этот грех.
И вот в очередном письме к Волошину звучат признания, каких не мог бы услышать от Лили ни один из антропософов, уверенных в душевной неколебимости их гаранта:
Что я скажу тебе дальше, Макс? Где мое освобождение, где искупление и в чем душа? Что мне в ней, умершей для творчества?
Я только внешне стала твердой и старой. Я знаю, что мой путь я отбросила, встала на чужой и узурпировала его. Но я сделаю его своим или умру раньше, Макс…
Только тебе говорю я об этом. <…> Ты знаешь, какие нити вяжут меня с тобой, что я несу в себе всё, что было 6 <лет> назад, как зарытый талант, какая у меня душа и как я жалка, жалка своей ослепленной душой…[173]
Внимательный читатель заметит, что это признание Лили рифмуется с тем, что она обратила к Волошину шесть лет назад: «Но это без боли, Макс, и не нужно, чтоб у тебя была; п<отому> ч<то> я не дальше, я, м<ожет> б<ыть>, гораздо ближе подойду к тебе, но только ты не путь мой. А где путь мой — не знаю». Органическая внушаемость Лили, ее возбудимость, подверженность внешним влияниям сыграли с ней злую шутку. Чужая авторитарная воля всегда подавляла ее; она не могла ни всецело смириться с обезличивающей доктриной, предполагающей, как верно подметила некогда Оболенская, практически полный отказ от индивидуального творчества, ни прожить без нее — прежде всего потому, что отсутствие внешних опор в ее случае всерьез угрожало безумием.
Кажется, Лиля, обладавшая явным даром визионера — об этом она рассказывала в поздних письмах, да и Волошин настаивал: «Лиля всегда была духовидицей», — попросту не умела управлять собственным даром и от этого страшно боялась его. Галлюцинации, «звуки и видения», встречи на улицах с несуществующими людьми, которые тут же на ее глазах исчезали, не сходя с места [174], лишали ее мало-мальской устойчивости и заставляли в ужасе отшатываться от Волошина, который предлагал приоткрыть дверь в таинственный мир духов и с помощью Черубины научиться взаимодействовать с ним. Двадцатилетняя Лиля не была к этому готова. Понадобились долгие годы, усердные антропософские (читай — оккультные) занятия, понадобился крестный путь по России, охваченной междоусобицами, и опыт работы с чужими душевными травмами — в Детском городке для беспризорников в Екатеринодаре, в Антропософском обществе 1920-х годов, — чтобы справиться с собственным «духовидением» и обуздать его, чтобы примирить в себе робкую Лилю и властную (властвующую над духами) Черубину.
В конце концов Лиле это удастся. Придет время, когда двери в «духовный мир» будут открываться по ее человеческой воле, а не повинуясь случайному иномирному сквозняку. Когда окружающие, смотря на нее, станут гадать, притихая: «Святая она или колдунья?» Когда начнут замечать, что «в глазах ее иногда поблескивали желтые искры. Ведь изучала же она когда-то средневековую магию, каббалу, даже „чернокнижие“. Не боялась же. Конечно, все отринула, отказалась. Но видит она иногда что-то, что другим не дано!»[175]. Когда, наконец, ее поздний, последний возлюбленный, юный востоковед Юлиан Щуцкий, назовет ее ласково Личе, Личишей, не отделяя Лили от Черубины и зафиксировав их слияние и внутреннее примирение…
Ну а пока Лиля, неплохо себя изучившая и вообще отличавшаяся твердой трезвостью взгляда, честно пишет Волошину о боязни Безумия, которое, преломляясь в Любви и Искусстве, предельно и невыносимо усиливает их воздействие. По ее словам, именно этот вполне себе звездный ужас («не дай мне Бог сойти с ума!») и помешал ей последовать за Волошиным в 1910 году:
6 лет тому назад, когда ты ушел, я умерла для искусства, я, любящая его болью отвергнутой матери, я сама убила его в себе. Я это знала ясно и отчетливо. Но было и еще одно: боязнь Безумия, которое для меня тогда стояло рядом с Искусством и, преломлясь в Любви, делало ее безумной и невыносимой по жгучести. У меня странная душа, Макс, и никто, кроме тебя, не приоткрывая ее. Тебе это просто было дано, потому что ты имел ключи: искусство. «Черуби-на» для меня никогда не была игрой… «Черубина» поистине была моим рождением; увы! Мертворождением. <…> Но пойми, пойми, Макс, милый, как тяготит меня мертвое творчество, как изнасилована моя душа![176]
А тут еще шизофреническое расщепление на Лилю и Черубину, и страх оказаться виновной в убийстве поэта — Волошина или Гумилева, и чувство вины за Васильева, за нарушенный давний обет… Это могло надломить человека и более крепкого! Так что Лиля, вполне объяснимо страшась выпадения в безумие, отказывается от поэзии и принимает антропософскую «схиму». Штейнерианство по сути своей обещает ей постепенное овладение оккультными навыками — то есть не диалог с миром духов и демонов, но подчинение их собственной человеческой воле.
Ибо там, где поэт покоряется демону, оккультист заклинает и укрощает его.
Лиле удалось подавить в себе творческий импульс почти на семь лет.
Если принять популярную теорию о том, что каждые семь лет душа и самый организм человека переживают обновление и даже перерождение, понятным становится, почему в 1917-м Лиля вновь начинает писать стихи. Духовный цикл завершен, драма Черубины как Лилиного alter ego практически изжита. Правда, стихи, написанные в начале переломного 1917 года, являются скорее прощанием с прежним лирическим «я», нежели обретением нового, но тем не менее… Тем не менее Лиля медленно восстанавливается после долгих лет сумеречного молчания — и, обводя обновленным взглядом притихший мир, удивляется той живой жизни, которой она прежде так опрометчиво пренебрегала:
- Братья — камни, сестры — травы.
- Как найти для вас слова?
- Человеческой отравы
- я вкусила и мертва.
- Принесла я вам, покорным,
- бремя темного греха,
- я склонюсь пред камнем черным,
- перед веточкою мха.
- Вы и всё, что в мире живо,
- Что мертво для наших глаз, —
- вы создали терпеливо
- мир возможностей для нас.
- И в своем молчанье — правы.
- Святость жертвы вам дана.
- Братья — камни. Сестры — травы.
- Мать-земля у нас одна.
Трудно понять, что сыграло важнейшую роль в возвращении Лили к поэзии. Письма Волошина, при всей своей сдержанности продолжавшего верить в Лилин талант, отдых в Тифлисе, где под томительные звуки зурны и цимбал завершался Серебряный век, или исторический взрыв, на который она, с ее неизменной поэтической чуткостью, не могла не откликнуться?
Мартовский переворот Лиля встретила в Петрограде. Внешне ее жизнь никак не изменилась — все та же работа в Обществе, занятия с его резидентами, перевод лекций Штейнера, встреча с Сабашниковой, которая летом 1917-го гостит у Васильевых после возвращения из Дорнаха… Однако Антропософское общество зыблется и гудит. В первые пореволюционные годы в России ждут Доктора Штейнера: тот, много писавший и говоривший о роле славянства в космическом ходе событий, стремится в Россию, чтобы встретиться со своими последователями, а кроме того — очевидно, надеясь, «что его теория о трехчленной структуре общества, не нашедшая понимания и поддержки в Европе, может заинтересовать российское правительство, осуществлявшее, как многим поначалу казалось, не только беспримерное социальное преобразование, но и духовное возрождение России».[177] Борис Леман полон энтузиазма и делится им со всеми, кто готов его слушать, — так, А. Блок 18 мая 1920 года записывает в дневнике об «ожидании Штейнера среди петербургских оккультистов (О. А. Форш, Б. А. Леман)».[178] Однако гипотетическое духовное возрождение обернулось реальным террором, и Штейнер, конечно же, не приехал.
Интересно, верила ли в его приезд Лиля? Верила ли в «духовное возрождение»? Вряд ли — для всей России, но для себя, для своей «изнемогшей души»… В 1917-м она пишет «Омовение ног» — цикл из трех стихотворений, в который входит и процитированное выше смиренное — в духе святого Франциска Ассизского — послание к травам и камням, и «Благочестивым пилигримом…», фактически молитва о преодолении немоты, и, наконец, «Тебе омыл Спаситель ноги…» — программное для тридцатилетней Васильевой стихотворение, в котором вновь слышится двухголосие ее души. Потому что все эти вопросы, рассыпанные в первой строфе, многократно обдуманы и озвучены самой Лилей — в письмах ли, в разговорах ли с близкими, наедине ли с собой, — а теперь наконец им нашелся ответ. И так ли уж важно, кто здесь кому отвечает — Лиля Васильева Черубине де Габриак или наоборот?
- Тебе омыл Спаситель ноги,
- Тебе ль идти путями зла?
- Тебе ль остаться на пороге?
- Твоя ль душа изнемогла?
- Храни в себе Его примера
- Плодоносящие следы,
- И помни: всеми движет вера,
- От камня до святой звезды.
- Весь мир служил тебе дорогой,
- Чтоб ты к Христу подняться мог.
- Пади ж пред Ним душой убогой
- И помни омовенье ног.
Три части «Омовения ног», хотя никогда и не напечатанные в форме цикла, по сути представляют собой парафраз написанного семью годами ранее «Пророка». Там некто — черный посланник ада? — насмехался над самоуверенной грешницей, предвещая ей скорое «отпадение» от инфернального мира и, соответственно, от искусства, которым распоряжается этот мир («Смирив „святую“ плоть постом, / Вы — исступленная химера —/ Падете ниц перед Христом, — / Пред слабым братом Люцифера»). Здесь — грешница-героиня, лишившаяся демонической силы, получает напутствие от Того, о Ком дерзновенный пророк некогда говорил как о слабом брате Князя мира сего. Стоит Христу явить свою «плодоносящую» мощь, как пророк ранних Лилиных лет, ее ранней поэзии, оборачивается лжепророком, а пресловутая «схима», казалось бы перекрывшая ей поэтическое дыхание, — билетом в иные, горние, недоступные прежнему лирическому голосу сферы.
От «Пророка» до «Омовения ног» — сюжет, демонстрирующий, сколь долгий путь прошла Лиля за эти семь лет и как глубока была ее уязвленность демоническим, инфернальным началом искусства. В 1917-м, освободившись от этого морока, видя воочию, что представляет собою разгул демонических сил, она уже может и хочет писать по-иному, но обстоятельства складываются так, что ей снова не до стихов. Жить в Петрограде — без службы, без денег, без еженедельных собраний Антропософского общества, чьи резиденты рассеяны по мятежной стране, более невозможно. В городе начинается время военного коммунизма; голод и холод, расстрелы, наводящие ужас на горожан, принудительные уплотнения «буржуазных» квартир, грабежи и убийства на улицах… Васильев на юге, связь с ним потеряна. Елизавета Кузьминична, воодушевленная известием об окончании войны, ждет возвращения с фронта Валериана и готова мириться с любыми невзгодами. Что же касается Лемана, то он, единственный, на кого Лиля в это время могла опереться, не в пример большинству современников трезво оценивая сложившуюся обстановку, хлопочет о выезде из Петрограда и собирается увезти с собой Лилю.
Почему та уезжает — уезжает из города, который, по ее же собственным словам, любит так, как ни одного человека не любила в своей жизни? Потому что, по сути, в 1918-м у нее было два варианта — либо остаться в семье Лиды Брюлловой-Владимировой на правах приживалки, рискуя навлечь на них гнев новой власти (ибо, что ни говори, Лиля как официальный гарант Антропософского общества оставалась довольно заметной личностью в Петрограде, а отношение советского правительства к Штейнеру колебалось от сдержанного любопытства до полного неприятия), либо уехать с тем, чтобы воссоединиться на юге с Васильевым. Лиля, чувствуя, что в эти поворотные и опасные дни должна быть рядом с мужем («…мы редко видимся, но иногда это бывает нужно»), соглашается на второй вариант.
Однако город со всех сторон замкнут фронтом Гражданской войны. Как уедешь без пропуска? Леман ищет возможностей: пытается договориться о работе вне Петрограда, обращается к влиятельным знакомым. Осенью 1918-го датирована запись в дневнике А. Блока: «Телефон от Лемана (просит помочь ему уехать на Украину). Я отказался»[179] (после Октябрьского переворота их в целом приязненные отношения разладились, Блок его сторонился). Однако помощники все же нашлись, и в ноябре 1918 года Лиля и Леман уехали.
Их бегство на Юг подобно бегству многих и многих, подробно описанному в соответствующей литературе 1920-х. Через захваченный немцами Курск — в полуголодный и переполненный беженцами Харьков, оттуда — в Ростов-на-Дону… По дорогам тянулись толпы людей, их гнал голод, свирепствовали болезни. Из Ростова-на-Дону Лиля, отчаявшись хоть как-то устроиться и не имея известий от мужа, решается было вернуться к матери в Петроград, но пути назад нет — на южных землях бушует Гражданская война. Лиля и Леман на стороне белых, им ли прорываться в революционную императорскую столицу? К счастью, узнав, что при Ставке главнокомандующего Добровольческой армией генерала Деникина работает военным врачом Петр Николаевич Васильев, Лиля и Леман перебираются в Ставку.
Ставка тогда находилась в Екатеринодаре.
ЕКАТЕРИНОДАР: ДЕТСКИЙ ГОРОДОК
Екатеринодар в 1919-м представлял собой странное и по временам — страшное зрелище. Пыльный, шумный, многоголосый; несколько раз переходивший из рук красных войск в руки белых и обратно; наводненный ранеными и беженцами, которых в городе со стотысячным населением насчитывалось около десяти тысяч человек… — он был переполнен надеждами, слухами, ненавистью, отчаянием и — как ни странно — стремлением строить новую жизнь, невзирая на голод, болезни и длящуюся войну.
Из охваченных революционным террором столиц бежало множество литераторов, музыкантов, ученых — соответственно и культурно-интеллектуальная жизнь в городе била ключом. На улицах день и ночь слышалась музыка: студенты двух действующих консерваторий играли и пели, устраивались просветительские концерты и лекции, столичные литераторы, обосновавшиеся в Екатеринодаре в уповании на успех Белого дела, выпускали журналы, газеты… Лиля, вдоволь помыкавшаяся по дорогам Гражданской войны, въехала в этот город в надежде, что здесь пригодятся ее умения и что здесь же, в кругу семьи, можно будет переждать революционные вихри, гуляющие по России.
Поначалу они с Леманом надеялись встретиться с Волей Васильевым и зажить, как и прежде, привычной для них семьей. Но Васильева в городе не оказалось — до 1921 года его имя не фигурирует ни в одних воспоминаниях о пребывании Лили в Екатеринодаре, а их осталось немало (отец и сын Маршаки, А. Богданова, Н. Лозовой). Впрочем, возможно, Васильев как инженер и военнообязанный попросту был мобилизован белыми для какой-либо помощи фронту, а потом уже Лиля по понятным причинам не афишировала «белой» деятельности своего мужа? Как бы то ни было, с Васильевым или без, они поселились по соседству с Лилиной свекровью, Петром Николаевичем и Клодей. Мать молодых Васильевых вела хозяйство, Петр Николаевич принимал больных, Клавдия Николаевна помогала Лиле в организации местного антропософского объединения, благо приверженцев Доктора Штейнера среди новоявленных екатеринодарцев хватало. Жили они полунищенски, как и все остальные. В одном из писем Лили к Архиппову сохранилось описание ее маленькой съемной комнаты, затененной деревьями и обставленной только самым необходимым: письменный стол, старое зеленое кресло, кровать; в углу старый крест XV века (очевидно, антропософский артефакт, привезенный из Петрограда и сбереженный в пути), перед ним темно-красная лампадка. Над изголовьем — венок крошечных южных роз, по стенам портреты Р. Штейнера и Вл. Соловьева, ну и книги на этажерке: Штейнер, Библия, святая Тереза, «Подражание Христу»… «Больше ничего, я очень бедна»[180], — добавляла Лиля, как бы оправдываясь за свою бедность, но богачей в Екатеринодаре среди беженцев не было.
Целые семьи ютились в амбарах, подвалах, на чердаках и без того перенаселенных домов, ставили палатки в городских скверах. По городу прокатывались эпидемии тифа, холеры, дизентерии; у Петра Николаевича хватало работы, но перебивались все равно впроголодь — пищи для многотысячного екатеринодарского населения недоставало. Лиля и Леман, поддерживая друг друга и опасаясь быть в тягость друзьям, с извечным своим трудолюбием брались за любую работу — вплоть до работы агента-коммивояжера. Так, пока Леман служил в ведомстве управления торговлей при Кубанской раде, Лиля писала листовки для распространения по Екатеринодару, а пока он читал лекции по истории при Ведомстве просвещения (успевшем, между прочим, открыть в Екатеринодаре первое на Кубани высшее учебное заведение — политехнический институт) — составляла брошюры для курсов библиотекарей и учебные программы для местных учителей. В конце концов молодых образованных специалистов заметили, и Лиля с Леманом получили работу в ОСВАГе — Осведомительном агентстве Добровольческой армии.
Несмотря на громкое название, агентство занималось не столько осведомительной, сколько информационно-пропагандистской деятельностью: издавало газеты, ставило злободневные постановки в театрах, распространяло листовки и агитационные материалы, «работало с населением». Лиля и Леман числились по литературно-публицистической части ОСВАГа, в отличие от остальных частей, на которые так и сыпались упреки в недальновидности и ходульности пропаганды, работавшей на совесть и много сделавшей для культуры и журналистики «белого» Юга. Леман, прирожденный руководитель, занимал хорошую должность — был главой Информационного отдела, координировал работу газетчиков и журналистов. Лиля корпела над переводами иностранной корреспонденции, но приходилось ей сотрудничать и с местными газетами, прежде всего с «Казачьей думой», «Станичником» и «Утром Юга». Видимо, ее встреча с Самуилом Яковлевичем Маршаком, постоянно печатавшим в «Утре…» статьи под псевдонимом «Доктор Фрикен» (именно этот псевдоним спасет его впоследствии, ибо под именем незнакомого доктора, автора разгромных антибольшевистских фельетонов, никто не опознает великого советского детского поэта С. Маршака), произошла в 1919-м именно там.
Шапочно знакомые еще по Санкт-Петербургу, вращавшиеся в общих литературных кругах, отдавшие дань поэтическому символизму, они необыкновенно обрадовались новой встрече. Рабочие отношения быстро переросли в крепкую дружбу. Говорят, внимание Маршака к Лиле было столь очевидным и (не сравнить с требовательностью и непреклонностью Лемана) трепетным, что даже вызвало неудовольствие его молодой жены Софьи Михайловны, урожденной Мильвидской. Но, судя по всему, никакая эротика Самуила Яковлевича с Лилей не связывала — только искренняя симпатия, подкрепленная безусловным признанием таланта друг друга. Лиля посвящала Маршаку дружеские стихи, говорила с ним об антропософии; Маршак же и много лет спустя признавался, что именно встреча с Васильевой перевернула его представления о детской литературе и побудила писать для детей.
Однако если их взаимная привязанность, подсвеченная маршаковской творческой невесомой влюбленностью, более чем объяснима — тут и общий культурный бэкграунд, и разлученность с близкими, и тяготы екатеринодарского скудного быта, который легче было выносить в кругу друзей… — то куда менее объяснимо другое: как вообще Маршаку и Васильевой пришло в голову создать тот самый легендарный Театр для детей, с которого началась вся детская театральная история XX века?
Возможно, мысль об этом зародилась в прокуренной пыльной редакции «Утра Юга», где Лиля Васильева и Маршак, подолгу просиживая над чужими заметками, задумывались о том, что неплохо было бы писать о чем-либо вне политики, вне пропаганды. Но — до поэзии ли в эти годы, до «своего» ли, за которое не заплатят, да и не напечатают? Если только… Если только писать для детей?..
Лиля, как любая предтеча, удивительно чутко выхватывала из воздуха образы и желания эпохи.
В конце XIX столетия, одержимого поиском Бога и возвещающего о его смерти, она выстраивала вокруг себя безумную реальность Достоевского, педалируя историю «случайного семейства» и сюжет собственного — мученического — избранничества.
В начале XX, на волне всеобщего поклонения Вечной Женственности, сомнамбулически заговорила от лица Прекрасной Дамы, прежде безмолвствовавшей и лишь молчаливо благословлявшей своих псалмопевцев.
В 1910-е годы — почуяла роковую, неодолимую тягу к Учителю, мудрому поводырю, обнаруживающую и реализующую себя повсеместно: в царском дворце — в виде обожествления юродивого инфернального «старца», в рабочих кругах — в виде преданности вождям, в богемной среде — в поклонении Мессии (и, наконец, по прошествии пятнадцати лет обернувшуюся культом личности)… А в 1920-е — ощупью двинулась навстречу детской поэзии, детям-читателям, оказавшимся в роли связных между прошлым и будущим, в роли первопроходцев в том мире, куда многим старшим закрыли дорогу.
Дети 1920-х годов. Дети, вместе с семьями вырванные из привычного окружения, вывезенные из уютных домов, наблюдающие всю кровавую вакханалию революции и Гражданской войны. Дети-сироты, чьи родители были убиты, умерли в голоде или в тифу. Дети, помнящие, как угасали их матери, бабушки, братья и сестры. Дети, сбивавшиеся в беспризорные стаи, чтобы составить потом лютый контингент детколоний и первых советских «коммун». Дети, не знающие нормального жизненного уклада, приученные жить на ходуном ходящей почве, на проваливающейся земле…
Одна из актрис будущего театра, Анна Богданова, близкая подруга и соратница Маршака, вспоминала, как встретилась она с потенциальным зрителем маршаковских спектаклей возле дома, где вместе с Васильевой и Маршаком собиралась поужинать четырехсотграммовой пайкой «зарплатного» хлеба и кружкой пустого кипятка:
Кто-то тихо постучал в окно. Я подошла и увидела: по росту — ребенок, но лицо такое опухшее, что трудно определить возраст… <…> в руках длинная стариковская палка, серый деревенский рваный армячок, на голове рваная зимняя шапка. Он что-то говорил, но слов не было слышно. Я открыла окно и услышала надорванный, слабый, простуженный голос мальчика, который ему, видимо, не подчинился. Он протянул руку, а потом поднес ее ко рту, шепча: — Крошечку… — И докончил: — Только подержать во рту…
Я подошла к столу и отрезала четверть от своего куска — пайка хлеба. Трое сидящих за столом сделали то же самое.[181]
Этому мальчику, Ване, так и не удалось помочь — он умер в тот же день, как его пообещали принять в Городок. Да и что бы тогда помогло этим детям? Неужели театр? Неужели «Цветы для маленькой Иды»?..
В «великом и страшном» 1919-м этот рецепт не казался безумным — во всяком случае, Лиля, Маршак и Леман, принимавший в обустройстве Городка живейшее участие и имевший в этом свой интерес, были убеждены в его действенности.
Работа над созданием Детского городка, предназначенного для спасения и (пере)воспитания беспризорных и безнадзорных детей, была начата с разрешения ОСВАГа зимой 1919 года. 17 марта 1920-го Екатеринодар триумфально заняли большевики. Весь ОСВАГ к тому времени уже был за границей, однако и Лиля, и Леман остались — и, к чести красного руководства, ни у кого не возникло сомнений в том, что дело их следует продолжать.
Городок, располагавшийся в просторном здании бывшей Кубанской рады, был организован по принципу образцового центра дневного пребывания. Там квартировали детский сад с довольно приличным по тем временам (и горячим!) питанием, собранная всеобщими силами библиотека, несколько мастерских, где дети изучали не только ремесла, но и историю, гимнастику, пластику и актерское мастерство. Вот где пригодились Лиле Васильевой образование, педагогический опыт и пресловутая эвритмия! Она проводила в Городке целые дни, там же был и Маршак, и окрыленный энтузиазмом Леман: не отличаясь излишней сентиментальностью, он муштровал маленьких беспризорников, преподавая им основы театрального искусства, а также взял на себя роль организатора, «рулевого» всей деятельности Городка. Подбирал педагогов, составлял индивидуальные образовательные маршруты учеников… Одним словом, вел себя как эффективный руководитель классической «вальдорфской школы», в основе которой, как известно, лежало не что иное, как философия Доктора Штейнера.
Да, в Детском городке Леман, в 1921 году назначенный заведующим по внешкольному воспитанию, видел прежде всего возможность претворить в жизнь штейнерианскую мысль о создании совершенного человека.
Чего стоит только его убеждение в необходимости истинно символистского синтеза смежных искусств — живописи (декорации), музыки (сопровождение) и поэзии, должного обеспечить мистериальное преображение театрального действия! «К сожалению, условия времени не позволяют нам воспроизвести в настоящем издании сборника музыку»[182], — на полном серьезе сетовал он в предисловии к сборнику «Театр для детей», в котором в 1922 году были напечатаны самые популярные пьесы Васильевой, Маршака. Лиля, наверное, тоже не забывала о штейнерианских мистериях, но главным в новой работе было для нее всё же другое. Проводя много времени в окружении детей (которые вспоминали о ней как о «милой» и «мягкой», неизменно старающейся помочь), пораженная всем увиденным, она естественно возвращается к мыслям о собственном нерожденном ребенке: что, если бы здесь была ее дочь? Что, если бы все эти тяготы выпали на долю ее Вероники? Казалось бы, давно уже позабыты и Черубина, и близость с Волошиным, и мечта о ребенке… Но в 1920-м написано несколько стихотворений о Веронике, в которых судьба призрачной Лилиной дочери соединяется с судьбой реальных и страдающих детей Городка:
- Каждый год малютки милой
- мне приводит тень
- тихий ангел белокрылый
- под Иванов день.
- Если год Господний пышен
- для сирот детей,
- почему же смех не слышен
- дочери моей?
- Разве Ангелы ребенка
- не должны учить,
- чтобы он смеялся звонко?
- Или трудно жить
- в небесах грудным малюткам,
- если мать одна
- на земле в смятеньи жутком
- мукою полна?
- Голосок ее так звонок!
- Буду я молчать —
- Пусть смеется мой ребенок
- и забудет мать.
Последнее слово в последней строфе показательно. Лиля действительно видела себя матерью если не Веронике, то уж маленьким екатеринодарским подкидышам — наверняка. Ее миницикл о Веронике (кроме процитированного стихотворения в него входит написанное в том же ритме «На земле нас было двое — / Я и мой цветок…») оказался прощанием, эпитафией, обращенной не только к вымечтанной, но несбывшейся дочери, но и ко всем детям, ставшим жертвами века, — от мальчика Вани, умершего от голода под окном Маршака, до Ирины Эфрон, весть о смерти которой могла дойти до Васильевой летом 1920 года через знакомых Волошина.[183]
«Все они умерли, умерли, умерли», как писала всё та же М. Цветаева в самом своем театральном произведении — «Повесть о Сонечке», — посвященном студийцам Вахтангова. Но театр, сценическое жизнетворчество, может их воскресить — хоть на пару часов, хоть на время спектакля, им адресованного и разыгрываемого для них…
Детский театр, задуманный Маршаком как душа Городка, как приглашение воспитанников к творчеству и сотворчеству, открылся 1 мая 1920 года, о чем свидетельствует Лилина надпись на оборотной стороне эскиза декорации С. Семенцова к «Молодому королю», сыгранному по сказке О. Уайльда:
Дорогому Самуилу Яковлевичу на память о нашей общей долгой работе и о нашем Театре для детей — начало его отсюда, от «Молодого короля», 1 Мая 1920 г. в Екатеринодаре и от С. П. Семенцова.
Будем же с благодарностью помнить об этом времени.
Елис. Васильева, 1923 г., СПБ 5 марта.
По словам Иммануэля Маршака, этот эскиз и полвека спустя висел в кабинете его отца на стене; должно быть, поначалу он был подарен художником Лиле, а потом уже перешел к Маршаку.
Сын писателя много рассказывал о театре, в отличие от многих и многих не боясь упоминать в мемуарах ни Лилю, ни Лемана (арестованных, сосланных, вычеркнутых из истории литературы): «Помню очень добрую и веселую Елизавету Ивановну Васильеву, соавтора отца по многим краснодарским пьесам, и внушавшего мне страх высокого, худощавого, седоватого и внешне сурового Бориса Алексеевича Лемана, профессора-египтолога и искусствоведа и одновременно поэта…»[184] Чопорный Леман действительно мог внушать детям оторопь, но дело свое, в том числе и театральное, хорошо понимал. «Дать детям настоящий театр, — уверял он без тени сомнения, — значит дать им умение создавать настоящую жизнь».[185] А разве не эта задача создания настоящей — новой, счастливой — жизни стояла и перед русскими символистами, и перед последователями Штейнера, и перед правительством новорожденного Советского государства?
Летом 1920-го, после того как первая постановка театра была горячо одобрена руководством Екатеринодара[186], в Детском городке закипела работа. Маршак и Васильева поставили себе целью максимально преобразить детский театр, изгнать из него сентиментальное морализаторство, свойственное XIX веку, и взрослую пропаганду, прижившуюся, увы, позже, в веке XX; сделать из детей не профессиональных актеров, но сочувствующих зрителей, а в перспективе — соавторов, ибо все увиденное ими в театре в конечном итоге становится материалом для детской игры.
Наиболее точно философию создателей нового театра сформулировал Леман — мощный теоретик, не случайно названный Иммануэлем основоположником общих художественных принципов театра и всего Детского городка. Прочитав его статью «Школа жизни», можно лишь подивиться тому, как, бездетный ученый и оккультист, отвлеченный в быту от обыденной жизни, он выносил ей уверенные безошибочные диагнозы:
Было бы ошибочно говорить, как это пытаются делать иногда, о таком же значении «детского театра», где сами дети являлись бы и актерами-исполнителями. В таком случае мы совершаем большую ошибку, вводя ребенка в процесс буквального исполнения чужого и потому ему внутренне чуждого задания, ведем его не к созданию собственных построений, а к текстуальному повторению «чужой игры», то есть к механизации, к овладению формой, но не смыслом… Не «детский» театр нужен нам, а именно театр для детей. Детский театр в этом смысле так же не нужен ребенку, как не нужна ему «детская» школа, где сами дети по «заранее написанному тексту» имитировали бы школьные занятия. Пробудить творческую фантазию ребенка, дать ему ряд красивых сказочных образов, в которых воплотились бы перед ним вечные человеческие идеалы добра, справедливости и красоты. Дать то, что явилось бы для ребенка духовным содержанием, рядом этических норм, которые затем в своих играх он мог бы превратить в индивидуальное творчество, — вот задача репертуара такого театра.[187]
Подивиться — и понять Лилину долгую ему преданность и покорность.
Репертуар театра строился так, чтобы вводить ребенка в его зачарованный мир постепенно, учитывая изначальную фрагментарность детского представления о мире и (с) каждым новым спектаклем усиливая ощущение целостности, взаимосвязанности всех вещей и начал. Леман выработал трехступенчатый принцип формирования репертуара. Пьесы первой ступени напоминали подвижные игры и, подкрепляясь музыкой и сюжетным «интерактивом», предназначались детям-дошкольникам: дети поддерживали героев «Кошкина дома», «Петрушки», «Сказки про Бабу-Ягу, Девочку-Белочку, Собаку-Шавку, Кота-Воркота, Петушка-Золотого Гребешка и Курочку-Чернавку» и др., подсказывали отгадки, выбегали к артистам на сцену, отчаянно рвались участвовать в действии.
Вторая ступень была адресована младшим и средним школьникам и взывала не столько к непосредственному и действенному соучастию, сколько к сочувствию и пробуждению фантазии. Таковы были любимые пьесы Лили — «Зеленый Мяч», «Летающий Сундук», «Цветы маленькой Иды»…
Наконец, третья ступень была ориентирована на старшую школу. Здесь уже действовали законы подлинного — практически не адаптированного — поэтического символизма, а пьесы, поставленные на сцене, брали за основу классические фольклорные и литературные образцы, среди которых — уайльдовский «Молодой король», «Финист Ясный Сокол» и татарская легенда, литературно обработанная генералом Н. Марксом, другом Волошина, — «Таир и Зорэ».
Изданные в 1922-м, эти пьесы и по сей день производят впечатление небывалого прежде новаторства, свежести, смелости — несмотря на то, что посвящены они, в общем-то, вечным сюжетам. Впрочем, в чарующие сказочные притчи в духе Метерлинка о добре, любви, дружбе и волшебстве или в динамичный раешник в духе народного площадного театра то и дело вторгается точное, горькое и ироничное описание действительности — вне всякого сомнения, вызывающее у маленьких зрителей бурный восторг узнавания. Вот и Паяц в «Цветах маленькой Иды» отплясывает, напевая: «Как не быть веселому, / Как не танцевать, / Завтра ведь и голову / Могут оторвать!», а песенка Чистильщика в прологе к полюбившейся детям пьеске «Петрушка» и вовсе представляет собой краткий хронометраж окружающего Городок пореволюционного, сбившегося с оси мира:
- На углу стащил мальчишка
- Чей-то кошелек.
- Убежать хотел воришка,
- А за ним — свисток…
- Эй, стой, не беги,
- Дай почищу сапоги.
- Стоят дорого подметки,
- Кожу береги.
- …………………….
- Тетка тащит еле-еле
- С рынка два мешка,
- А за нею по панели
- Сыплется мука…
- Эй, стой, не беги,
- Дай почищу сапоги!
- Стоят дорого подметки,
- Кожу береги.
Каждая пьеса в сборнике предварялась прологом, который так же, как и основная история, разыгрывался на сцене. Прологи передавали маленьким зрителям содержание пьесы, знакомили их с героями, ненавязчиво учили правилам поведения во время спектакля. Писали эти прологи соавторы вместе: Маршак — динамично и занимательно растолковывая смысловой «месседж» спектакля, Лиля — вводя в инсценировки неожиданных персонажей и попутно перекидывая мостик от детской игровой поэзии к взрослой реальности — оттого-то и Чистильщик у нее оказывается хранителем взрослой истории, и куклы в замечательной «Кукольной интермедии» напоминают о том, какие социальные потрясения их (гипотетическим) прототипам пришлось пережить.
Эта простенькая сценка социального конфликта между фарфоровой коллекционной куклой и краснощекой тряпичной Матрешкой заслуживает того, чтобы быть напечатанной заново. Сначала на сцене появляется жеманная фарфоровая красавица с текстом:
- В самом лучшем магазине
- Беззаботно я жила.
- С трех сторон меня в витрине
- Отражали зеркала.
- Я была там, как образчик,
- До сегодняшнего дня,
- И показывал приказчик
- Лучшей публике меня…
- …………………………
- Но увы, с моей коробкой
- Я рассталась навсегда.
- Стала грязной и растрепкой
- И краснею со стыда.
- Здесь берут меня в охапку.
- Я от страха чуть жива…
- Смяли платье, сбили шляпку
- И помяли кружева!
Не правда ли, в этих жалобах куклы легко узнать сетования на судьбу красотки «из бывших», которую революция занесла к социальным низам — в классическое «дурное общество», где ей все кажется неестественным и зловещим? «Очутилась я в лачужке / Вместо прежнего дворца. / Что за странные игрушки, / Что за кукла без лица?»… Тут ей навстречу выходит Матрешка, призванная утвердить триумф настоящей народной души и культуры над хрупкой интерьерной игрушкой:
- Правда, сшита я из тряпок,
- Не румяна, не бела —
- Но без кружев и без шляпок
- Я хозяевам мила.
- Утром грязная Матрешка
- Молоко с хозяйкой пьет.
- Ложка — мне, хозяйке — ложка:
- Вот какой мне здесь почет!
- Много в детской кукол было,
- Все исчезли без следа,
- А меня не портит мыло,
- И не бьюсь я никогда!
Понятно, что для поколения Серебряного века подобные «детские» тексты были еще и способом адаптировать великую культуру модернизма к раннесоветскому настоящему, сделать ее понятной для первого «пролетарского поколения» 1920-х годов. О «смысле любви» Соловьева и Блока рожденные в новоиспеченной Стране Советов узнавали по «Буратино» Алексея Толстого; о «мировом пожаре» в «Двенадцати» — по сцене пожара из «Кошкина дома» (не говоря уже о том, что плачущая кошка-погорелица недвусмысленно отсылает к «барыне в каракуле», которая «к другой подвернулась»: «„Уж мы плакали, плакали…“ / Поскользнулась и — бац! — растянулась! / Ай, ай! / Тяни, подымай!»); о гумилевском «Заблудившемся трамвае» и фигуре человека, заблудившегося в распавшемся времени, — по знаменитому «Рассеянному с улицы Бассейной» Маршака…
Думается, Лиля со свойственной ей иронией немало была довольна этой возможностью сказать о сокровенном и запечатлеть уходящее время, не впадая при этом практически в неизбежный во взрослой поэзии (мело)драматизм.
Да и Маршак… Уже в 1940-е, перерабатывая и дополняя короткие сценки, принесшие им с Лилей первую славу, могли он не вспоминать о покойном соавторе? И пусть говорить о Елизавете Васильевой публично, в печати, в те годы было нельзя, но воскресить ее образ и стиль на полях детской пьесы — почему бы и нет? Теперь, перечитывая «Кошкин дом», поневоле задумаешься, уж не иронический ли привет прошлому перед нами, уж не торжественная ли поступь Черубининого признания («Одна брожу во всей Вселенной / С моим презреньем к жизни тленной, / С моею горькой красотой. / Царицей призрачного трона / Меня поставила судьба… / Венчает гордый выгиб лба / Червонных кос моих корона») слышится в этой граненой раешной скороговорке?
- По узорному ковру
- Сходит кошка поутру.
- У нее, у кошки,
- На ногах сапожки,
- На ногах сапожки,
- А в ушах сережки.
- На сапожках —
- Лак, лак.
- А сережки —
- Бряк-бряк.
- Платье новое на ней,
- Стоит тысячу рублей.
- Да полтысячи тесьма,
- Золотая бахрома.
- Выйдет кошка на прогулку
- Да пройдет по переулку —
- Смотрят люди не дыша:
- До чего же хороша!
- Да не так она сама,
- Как узорная тесьма,
- Как узорная тесьма,
- Золотая бахрома.
- Да не так ее тесьма,
- Как угодья и дома…
Об «угодьях и домах» после победы советской власти и Маршаку, и Васильевой предстояло забыть. Несмотря на успех их театрального предприятия, жили они по-прежнему скудно: за работу в театре платили пайком — фунтом хлеба в день и мешком «штыба» (угольной пыли) в месяц. Чтобы выжить, приходилось искать работу на стороне. Самуил Яковлевич, сам преподававший в Кубанском университете и Политехническом институте, устроил Лилю в переплетную мастерскую, где работали его сестры и Софья Михайловна. «Мать приносила мне оттуда в качестве игрушек узкие — в мизинец — бумажные обрезки, казавшиеся мне похожими на змей»[188], — вспоминал позже Иммануэль. Лиле Васильевой некому было приносить таких змей, да и ревнивое недоверие Софьи Михайловны ее тяготило, однако жизнь среди книг, которые она вскоре научилась ловко переплетать, действовала умиротворяюще. В 1920-м в Екатеринодар наконец-то вернулся Васильев; где он был до того — воевал ли, служил ли у белых — Лиля не говорила. Казалось, что мало-помалу их жизнь обретает устойчивость…
Вообще, Лилино ровное внутреннее воодушевление в этот период стало возможным во многом благодаря театру и собственно Маршаку. Действенный, увлеченный, оптимистичный, он, в отличие от суховатого теоретика Лемана и кроткого Воли Васильева, вносил в их общение вкус живой жизни и был поистине неистощим на выдумки. Лиля писала с ним пьесы, обходила улицы в поисках беспризорников, чтобы устроить их в Городок, и даже разыгрывала шарады — что было для нее абсолютно немыслимо как в более поздние скованные страхом 1920-е, так и в роковые, взвинченные 1910-е, отвергающие всё человеческое и простое во имя сверхчеловеческого. А здесь, в полуголодном Екатеринодаре, все получалось, и участники импровизированных театральных представлений под руководством Маршака весело вспоминали, как тот вовлекал в действие всех присутствующих, словно бы противопоставляя всеобщее карнавальное дружественное веселье страшным «ветрам зимы», веющим за окном.
В доме разыгрываются шарады по пушкинским текстам. Зрители в предвкушении, исполнители собираются… «Поднимается занавес» (раскрываются двери в смежную комнату) — и всех потрясает «дружный, долго не смолкавший хохот, сопровождавшийся яростными аплодисментами»:
«Как ныне сбирается вещий Олег…»
Самуил Яковлевич, расставив ноги, будто восседая на «верном коне», мерно вышагивал вперед с жестяным заслоном от русской печки в одной руке и скалкой для теста — в другой.
«Верный конь» — Люся Маршак — шагал под Самуилом Яковлевичем на четвереньках и то бил копытом передней ноги, «обутой» в чью-то рукавицу, то лягался задней.
Живописно выглядел и Кудесник — Елизавета Ивановна — в вывернутом наизнанку старом моховом полушубке, с ухватом рожками кверху в руке.[189]
И всё же детской поэзии Лиле становится мало. В 1920-е она вновь начинает писать стихи, и вновь, как и десять лет назад, ей хочется не только творчества, но и соответствующей литературной среды, профессионального, неактерского, круга.
Ей повезло. В самом конце 1920 года в доме известного петербургского адвоката Ф. Волькенштейна, также увлекавшегося поэзией, стал регулярно собираться поэтический кружок под названием «Птичник»: как пишет И. Маршак, все его члены выступали в нем под именем какой-нибудь птицы. Именно тогда, в 1920–1921-м, Лилин «неженский, нескромный, нешкольный» дар достиг зрелости, именно тогда она окончательно состоялась как настоящий поэт.
ЕКАТЕРИНОДАР: «ПТИЧНИК»
Интересно, кем была Лиля в «Птичнике»? Об этом не осталось воспоминаний. Выбрала ли она роль лебедя (вспомнив давнее гумилевское «Я нашел себе подругу из породы лебедей») или голубя («Сердце! Сердце! Голубь белый!» — читаем в одном из стихотворений 1921 года), мы можем только гадать. Достоверно одно: атмосфера «Птичника», разношерстного, молодого, жадного до поэзии и общения, обеспечивала ее тем живым воздухом, без которого, как в 1921 году доподлинно стало известно, умирают поэты.
Стихотворение, открывающее ее «екатеринодарский» период, столь показательно, что по праву может считаться визитной карточкой поздней поэзии Елизаветы Васильевой:
- В невыразимую пустыню,
- Где зноен день, где звездна ночь,
- Чтоб мукой гордость превозмочь,
- Послал Господь свою рабыню.
- И жжет песок ее ступни,
- И буря вихрем ранит плечи…
- Здесь, на земле, мы все одни
- И накануне вечной встречи.
- Раскрыв незрячие глаза
- На мир, где зло с любовью схоже,
- Как нам узнать: то Ангел Божий
- Иль только Божия гроза?
О чем это? О смерти, которая все эти годы была к ней столь близко? О поэзии, чье манящее, страшное и неотменимое возвращение Лиля предчувствует? Или, может быть, о себе самой?
В самом начале 1920-х Лиля пристально вглядывается в себя, словно бы спрашивает себя постоянно — а кто она? Гарант ли Антропософского общества, которое неизвестно, соберется ли вновь или нет (в новогоднюю ночь 1923 года Гётеанум сожгли, и по этому поводу была пущена злая шутка немецкого прозаика К. Тухольского: «Штейнереанум казался каменным, но обратился в пепел за ночь, ибо был сколочен из гипса и досок — как и само учение»)? «Мама-бис», тетя кошка, стареющая фея-крестная, опекающая малолетних сирот? Самозванка, утратившая свое истинное, но тайное имя и право на творчество? Или… Или настоящий поэт, прямо сейчас обретающий второе дыхание, приближающийся к поэтической и человеческой зрелости и уже не нуждающийся в призрачном alter ego, чтобы заговорить о происходящем вокруг?
Тем же 1920-м помечено и еще одно стихотворение — по сути, все тот же внутренний диалог между двумя лирическими героинями, замкнутыми в одном теле. Эпиграфом к нему взята строчка из якобы давнего (а на самом деле — несуществующего) стихотворения Черубины де Габриак «Елисавета — Божья клятва…», а в самом тексте слышится тихая благодарность за возвращение имени, за зрелое и обдуманное принятие его:
- Колосится спелой рожью
- Весь степной простор, —
- Это к Божьему подножью
- Золотой ковер.
- Не бреди печальной нищей,
- Не ропщи на зной,
- Кто вкусил небесной пищи,
- Да бежит земной.
- Если Бог надел вериги,
- Их снимать нельзя.
- В голубой небесной книге
- Есть твоя стезя.
- И на ней созреет жатва
- Стеблем золотым, —
- Пусть свершится Божья клятва
- Именем твоим.
Здесь важно всё. И эпиграф из вымышленного текста, нужный Лиле затем, чтобы яснее обозначить диалог с удаляющейся в досоветское прошлое Черубиной; и легкая хореическая поступь стихотворения, звучащая вперебивку с присущими Черубине торжественными ямбами 1909 года; и тихая уверенность в том, что ее собственная — не Черубины, а Елизаветы — стезя всё же прописана в книге судеб; и «золото в лазури», окрашивающее текст в небесные, райские, праздничные тона… Лиля и вправду готова принять свое имя, Лиля готова вернуться к поэзии. Но вот примет ли ее новая — молодая и строгая — литература? Ответа на этот вопрос она ищет в «Птичнике»; и, надо сказать, молодая литература в лице «птиц»-поэтов не только с готовностью принимает ее, но и наделяет новой для нее поэтической ролью — ролью мэтра.
«Птичник» был маленьким, по существу своему домашним кружком. Помимо Маршака и Васильевой, а также собственно Федора Волькенштейна, немолодого уже человека, страстно увлекавшегося как стихами, так и, разумеется, антропософией, в него входила поэтическая и литературная молодежь — Елена Бекштрем, Евгения Николаева, Ирина Карнаухова, поэт и художник Николай Лозовой, Лия и Илья Маршак (будущие Елена Ильина и М. Ильин) — брат и сестра Самуила Яковлевича. Лиля особенно любила юных и увлеченных Лёлю, Ирину и Женю. В каждой из них она различала самобытный талант — и, помня, с каким трудом отстаивала в юности право именоваться поэтом, как часто испытывала сомнения в собственном даре, стремилась всячески поддерживать девочек-«птиц». Чего стоят хотя бы ее слова, обращенные к Николаевой: «Вы раз и навсегда решите, что вы поэт, настоящий поэт. И больше об этом не думайте!» Наверное, дорого бы дала сама Лиля за то, чтобы услышать такие слова в двадцать лет…
Часто наведывался в кружок и постоянно живущий в Новороссийске двадцатилетний литературный критик Юрий Перцович; послушав несколько раз, как Лиля ведет встречи с молодыми поэтами, он попросил ее об индивидуальных занятиях. Лиля согласилась, и сам Леман потом с одобрением писал: «Перцович занимается с Ел<изаветой> Ив<ановной>, и я рад за него — ему надо это, в нем много настоящего… <…> из него может выйти хорошее».[190] Впрочем, скорее всего, для Перцовича — в отличие от прочего «Птичника» — Лиля Васильева не была Елизаветой Ивановной. Она была Черубиной. Дело в том, что в гимназические годы Перцович учился у Евгения Яковлевича Архиппова — словесника, библиофила, поклонника русского символизма. Имя Черубины, чьи стихи он переписывал из «Аполлона» в самодельную книжечку, было для него символом волшебства, поэтического откровения; естественно поэтому, что, встретившись с Елизаветой Ивановной — мастером «Птичника», Перцович тут же пишет учителю, что знаком с Черубиной.
Архиппов (уже переписывавшийся с Леманом и отправивший ему на отзыв свою книгу статей «Миртовый венец»[191]) в ответ присылает взволнованное письмо с целым рядом вопросов: кто она, чем занимается в Краснодаре, какое впечатление на юношу произвела, пишет ли новые стихи? Перцович показывает письмо Лиле. Та, окрыленная неожиданным интересом к ее символистскому прошлому, а особенно — к стихам (ибо в архиве Архиппова обнаружилось даже то, что она полагала утерянным; в частности, Лиля попросит Архиппова переслать ей «Хорей», необходимый для обучения юных «птиц» ритму и метру), пишет ему напрямую:
Был у меня сегодня Ю<рий> С<аввич> — и показал Ваше письмо — не знала, что Вы обо мне спрашиваете. <…> Думала, что пишете о стихах вообще. А теперь хочу сказать Вам, что прочла Ваши вопросы (и сама не сумела бы ответить на них), и спросить Вас: зачем это Вам нужно?
Я оттого спрашиваю, что мне, сейчас, очень важно знать — для чего, как поэт или как человек, я могу быть нужна другому. Если можно — напишите — и тогда, быть может, я сама смогу ответить Вам на многое…[192]
Он написал. Она снова ответила. Завязалась активная переписка — то дружественная, то страстная, то обманчиво-ускользающая, то болезненно-искренняя, то исповедная, то практически деловая. Так в марте 1921-го в Лилину жизнь вошел Евгений Архиппов, сперва наряду с Маршаком ставший ее близким другом, чуть позже — больше, чем другом, а потом — многолетним корреспондентом и преданнейшим биографом.
Архиппов был старше Лили на семь лет. Уроженец Москвы, в десять лет он вместе с семьей оставил столицу и перебрался на русский юг: переменой климата родные надеялись помочь матери, страдающей от тяжелой болезни, но средство не сработало — мать умерла. Отец через некоторое время женился вновь, сводные сестры Людмила и Клавдия стали предметом бережного внимания и трогательной заботы подростка Архиппова. В Феодосии он учится в гимназии, где в старших классах числится и Макс Волошин. В 1900-е поступает в Московский университет; творческая и интеллектуальная жизнь Москвы завораживает его, современные книги внушают благоговение. Стремясь держаться поближе к книгам («Стихи о Прекрасной Даме», «Серебряный голубь», альманахи «Весы» и «Золотое руно»…), которые Архиппов воспринимал как живые, одухотворенные существа, он сделался библиотекарем студенческого общежития, там к нему в руки попал «Аполлон»… Можно представить, как окрылен он был в 1920-е, обнаружив, что Черубина — не призрак и не креатура дерзких младосимволистов, бросивших вызов мэтрам-законодателям поэтических мод (такие слухи ходили), а живая и близкая женщина! Живая — и в то же самое время всем своим слогом и обликом подтверждающая, что дыхание поэтического символизма, его жизнетворческое начало, которому Архиппов поклонялся, перед которым благоговел, никуда не ушло.
«Если бы где-нибудь возник большой музей или храм Русского Символизма, я назначил бы Евгения Яковлевича его хранителем. И ключи свои — я уверен в этом, — он носил бы всегда благостно и благоговейно», — говорил Всеволод Рождественский, знавший Архиппова по волошинскому Коктебелю 1930-х. За весь русский символизм в данном случае отвечать трудно, но в истории Васильевой-Черубины роль Архиппова невозможно переоценить: в конечном итоге именно ему мы обязаны сохранением Лилиного архива и любовно записанной — с ее собственных слов — биографии от младенчества до подробностей екатеринодарского быта начала 1920-х годов.
Возможно, Лиля, столь безоглядно открывшаяся Архиппову, была привлечена не только его искренним вниманием к стихам Черубины, но и общностью биографического пути? По образованию и профессии Архиппов был учителем, преподавал в южной провинции — Владикавказ, Нальчик, Новороссийск; читал открытые лекции на темы «мистицизма, символизма и экспрессионизма» в новых школах поэзии; несколько раз балансировал между жизнью и смертью — «на Сухаревке в детстве был засыпан кирпичами с известкой, лишился слуха, долго болел; гимназистом 7 класса в поезде, ночью (между Владикавказом и Петровском) упал между вагонов; полуповисши на цепях и полукачаясь без сознания, ехал долгое время»[193], пока обход не услышал его стоны; во время революции 1905 года чуть было не был расстрелян на Пресне пьяными казаками; в пореволюционные годы, когда выписывать книги из столиц сделалось невозможно, освоил профессию переплетчика (и Лиля, зная об этом, с гордостью говорила ему, что и она теперь выучилась «хорошо переплетать книги и делать тетради»)… В 1920-е его рукописные сборники И. Анненского, В. Меркурьевой, Черубины де Габриак являли собой настоящее (практически постмодернистское) произведение искусства. Переплет из дешевого ситца или блеклой фланели; бумажные листы из уцелевших школьных тетрадей и гимназических классных журналов «с вклеенными по строгому замыслу хозяина заставками и иллюстрациями, добытыми из дореволюционных художественных изданий. И этот удивительный почерк, то совершенно прямой, то с легким наклоном вправо — синие, фиолетовые, зеленые, красные чернила…». [194] В самодельную книгу стихов Черубины, собранную им в 1928 году — накануне Лилиной смерти, — Архиппов включил и две собственные статьи о ее поэзии: «Корона и ветвь» (1921) и «Темный ангел Черубины» (1928), долгое время остававшиеся единственными примерами подробного и внимательного анализа ее творчества.
Легко догадаться, что в провинции, в окружении восторженных учеников и недовольных коллег, Архиппов, эстет и мистик, привлекал к себе пристальное — подчас не особенно доброжелательное — внимание. Сохранился недобрый шарж в некоей владикавказской газете, высмеивающий уже старомодную к тому времени тягу Архиппова к возвышенным образам, вычурным оборотам, изысканным чувствам: «Красиво ходит. Красиво сидит. Красиво кланяется. Красиво о красивых вещах говорит и думает. Красиво красивым почерком на красивые темы пишет. Любит красивые стихи. Красиво мечтает. И грустит красиво. Красивое в нем уважают и любят красивые душою люди. И, когда спит, вероятно, спит красиво и видит красивые сны».[195] Однако то, что в 1915 году выглядело старомодностью и провинциализмом, в 1920-е приобретает совсем иной оттенок — самоотверженного служения тому, что не вписывается в окружающую действительность, тому, что хранит в себе память о бурном гении русского символизма, о музыке сфер, выродившейся в «музыку революции»… Словом, всему тому, что из обыденной жизни Архиппова и его современников безвозвратно ушло.
Естественно, Лилю, также всей душой преданную прошлому, верящую в реинкарнации, власть поэтического слова, единение душ и т. д. и т. п., это служение идеалам красоты и поэзии не только отпугивало, но и откровенно манило. Получая от Архиппова несколько церемонные письма, в которые были вложены щедро переписанные стихи — самого Архиппова, Усова, ее старого знакомого еще по Антропософскому обществу, Веры Меркурьевой, чья поэзия Лилю очаровала… — так вот, получая все это, Лиля не могла не открыться ему навстречу, не могла не почувствовать их очевидного внутреннего родства. «У нас одна вселенная и один голубой воздух», — напишет она ему в 1922-м. В присутствии Архиппова, пусть и дистанционном, «закадровом», в лучах его трепетного внимания Лиля — спустя долгие годы после краха мистификации, после дуэли, после искупительного отречения от поэзии и ухода в антропософский затвор — снова почувствовала себя Черубиной.
Ей было 34 года.
«У меня есть большая седая прядь в волосах. И девочки поэтессы смотрят на меня как на мудрую, взрослую»[196], — с некоторым удивлением говорила она. Действительно, хотя Лиля и сама еще в это не до конца верит, но в ней появились и зрелость, и мудрость. Они сказывались во всем. В ее внешности — аскетической, строгой: смуглое лицо Лили осунулось, некогда тяжелые темные волосы были острижены, простая одежда не сковывала движений; несмотря на частые болезни и общую физическую болезненность, она много работала и много ходила («Встаю в 8 часов утра, к 10 иду в артель. <…> Так проходит время до ½ 4-го, потом я иду домой, обедаю; а к ½ 6-го всегда иду в Театр, там или спектакль, или репетиция, или заседание, потом долгий разговор обыкновенно с С. Я. Маршаком, потому что мы работаем вместе над пьесами. <…> В ½ 12-го мы пьем чай, а потом я одна, и это мои часы — до двух ночи»[197]). В спокойной готовности к любой, даже черной и трудной, работе. В отношениях с учениками, которые практически боготворили наставницу — ловили каждое ее слово во время занятий, помогали ей с трудным бытом, посвящали стихи. «Избранница любви Господней, / Его велению внемли. / Едва коснувшимся земли / Ты снова с ним — уже сегодня!» — восклицала подававшая большие поэтические надежды Евгения Николаева (кстати, в собственной любовной лирике — явная последовательница Черубины[198]), а Ирина Карнаухова, еще одна любимица Лили, и вовсе поражала ее своей преданностью:
Вся она горит, вся она неукротима. <…> Ее отношение ко мне меня пугает. Это какой-то культ, иногда смешной, иногда даже изуверский.
Она всё время мучается, то ревностью, то страхом за меня. Плачет от того, что я худею, от того, что у меня больное сердце, от того, что у меня печальные глаза…[199]
Лиля не преувеличивает. Уже в середине 1920-х годов Карнаухова пишет Волошину, общему другу и исповеднику, что любовь к Лиле мучительна для нее, а (воображаемое) отстранение кумира причиняет невыносимую боль: «Я иногда по-прежнему так тоскую по ней, так рвусь к ней, а когда пойду, увижу, ухожу с такой сердечной болью и горечью, что еще дальше стараюсь ее не видеть. <…> Вот так я и живу: иногда страшно тоскую, но иду только тогда, когда невмоготу становится. Изменить уже ничего нельзя. <…> Но мне без нее очень трудно, и снова как-то теряюсь в жизни, и мне снова как-то стало все „скучно“, как было раньше до прихода Д<митриевой>. Живу опять по инерции, вяло и безразлично. Только внешне».[200] Волошин, знавший, что причиной метаний Ирины была ее ревность к Лилиному новому другу (эта история еще впереди), напоминал Лиле, чтобы та была ласковее с Карнауховой. Увы, их прежняя дружба так и не вернулась: Карнаухова ревновала [201] и в этой ревности трудно справлялась с обидой и Лилиным отстранением («Ирину я не видела, она не пришла ко мне, но везде очень плохо говорит обо мне»[202], — сетовала Васильева), а Лиля, тяжело болевшая в эти годы, да еще и охваченная последней любовью, искала и не находила в себе нужной силы помочь ей. Притом юношей, ставшим Лилиным поздним возлюбленным, Карнаухова была также увлечена; разумеется, это не могло не сказаться на ее отношении к наставнице и в конце концов привело их к болезненному, но окончательному расхождению.
Однако все это случится уже в Петрограде. Пока что влияние Лили на молодых поэтесс «Птичника» еще чрезвычайно сильно, а их привязанность к ней неизменна. Что же касается ее собственной лирики, то все начало 1920-х годов проходит для Лили под знаком сомнений — поэт ли она или нет? Достойна ли она считаться поэтом, отрекшись от Черубининой чеканной строфики, от ее же сладостного нового стиля?
По привычке она обращается за поддержкой к Волошину. И, поскольку сюжет возвращения стихов — основной для их переписки 1920-х, сделав небольшое хронологическое отступление, попробуем реконструировать этот сюжет.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕРУБИНЫ
В июне 1919 года Волошин приезжал в Екатеринодар хлопотать за своего арестованного белыми друга — ученого и по совместительству генерала Н. Маркса. С Лилей они встречаются после трехлетней разлуки — и какой разлуки! За ее плечами — бегство из Петрограда, голод, безденежье, опустошенные города. За его — красный и белый террор, хлопоты за друзей, которым и красные, и белогвардейцы угрожали расправой, постоянный страх за судьбу матери и возлюбленной, живших с ним в эти годы. Естественно, что при встрече они рванулись друг к другу: Лиля — с облегчением почувствовав, что Волошин как ее главная духовная опора здесь, рядом, что он неизменен и неколебим («Макс, Макс!»), Волошин — с глубокой радостью, что она, Лиля, жива и цела. При встрече их был и Леман, благодаря своим связям в среде военных и гипнотическому влиянию на них обеспечивший Волошину комнату в военном общежитии посредством морского генерала Верховского; однако присутствие Лемана им не мешало. Они говорили не о личном, не о себе, не о прошлой любви, а о пульсирующей современности — о революции, о России. Макс читал стихи, написанные в последние годы. Позже он вспомнит, что собеседники были поражены ими — и не случайно: сколько в них было сдержанной силы и мощи, как легко ходили мускулы свободного стиха и какая свобода таилась в этих раскованных дольниках, накатывающихся один на другой, как морские валы! К середине лета 1919-го Волошиным уже были написаны «Трихины», «Красноармеец» («Слоняться буйной оравой. / Стать всем своим невтерпеж. / И умереть под канавой / Расстрелянным за грабеж»), «Dmetrius-Imperator», «Стенькин суд»… Их пророческий тон, интонационное напряжение и безошибочное чувство исторического момента оказались чрезвычайно созвучны Лилиному представлению о современной поэзии, медленно, но неуклонно дрейфующему от выспренних исповедей Черубины к разговору о современности и о человеке, погруженном в шальное течение истории. Переворот, совершившийся в поэзии Макса, — некогда так же, как и она, увлеченного «грехом молитв и таинствами соблазна» русского символизма, — Лилю потряс. Вот как надо теперь писать! Но… получится ли у нее, поэт ли она?..
По-видимому, именно с этим вопросом и связано то загадочное утверждение в ее письме Максу: «Я только сейчас переборола С<ергея> К<онстантиновича>. Стала свободной»[203], которое все без исключения исследователи трактуют как признание в том, что она наконец-то Маковского разлюбила. Но откуда тогда не менее загадочное продолжение: «Во многом из-за тебя»? Предположить, что между Лилей и Волошиным в это лето вновь вспыхнуло чувство, было бы странно. Рядом с Лилей был Леман, Волошин собирался жениться на биологе и поэтессе Татьяне Давидовне Цемах, сокращенно — Татиде, и тяжело переживал неприязнь, возникшую между матерью и возлюбленной; а что до его отношений с Лилей, то к тому времени они переросли в такую практически родственную любовь, в такое понимание друг друга с полуслова, что в них почти не было место романтике, тем более — избавлению Лили от очередного любовного морока. Нет, дело, как кажется, было в другом. Лиля, отчаянно надеясь вернуться к стихам, в то же самое время чувствовала себя по-прежнему виноватой перед Маковским, которого ранила Черубиной, а «скудная», по ее же собственным словам, переписка с ним и его территориальная близость (Маковский в 1919-м обретался в Ростове, откуда вскоре и уехал вместе с остатками белой армии; видимо, с этим соседством и было связано возобновление их переписки) вновь возвращали ее к событиям десятилетней давности. Может ли она снова начать писать, если Маковский отверг ее дар, если его равнодушие к творчеству Лили не смогли победить даже пряные Черубинины строки? Может быть, искупление еще не закончено и молчание — ее удел?
Если так, то понятна и резкость Волошина, бросившего подруге в ответном письме: «Как я рад, что ты избавилась от своих летних наваждений. Не могу назвать иначе…» (25 ноября 1919 года). Учитывая, что Волошин не имел привычки называть чью бы то ни было любовь наваждением и вообще с чрезвычайной серьезностью и уважением относился к любовным привязанностям друзей, логичнее предположить, что под наваждением он имел в виду прежде всего навязчивые сомнения Лили по поводу возвращения в поэзию.
Маковский не считал ее поэтом, это ясно. В отличие от Макса — отсюда и Лилино признательное «во многом из-за тебя», потому что Волошин-то не уставал убеждать ее в ее собственном поэтическом даре. Эти убеждения были ей необходимы: в том, что касалось стихов, Лиля привыкла полагаться на чужое авторитетное мнение, привыкла преломляться в чужих глазах в том лирическом образе, который «реципиенты» хотели увидеть. В одном из писем Архиппову она обмолвится будто бы вскользь: «…не забывайте: я — зеркало, я — Черубина», и к этим ее словам стоит прислушаться. Лиля, с ее-то оккультным прошлым и антропософскими изысканиями, не бросалась многозначительными символами — она действительно была зеркалом! Маковский хотел видеть в ней ревностную католичку, таинственную и страстную грешницу, блоковскую Незнакомку — она соглашалась и отражала ее (и погасла, как только он, баловень и эстет, отвернулся от подлинного ее облика). Юный Дмитрий Усов, которому вскоре вновь предстоит появиться на страницах нашей истории, угадывал в ней теософское божество — почему бы и нет? В глазах Лемана она была истовой миссионеркой, подвижницей и ревнительницей культа Штейнера, в глазах Маршака — доброй сказочницей, прирожденным детским поэтом… А когда Архиппов в самом начале 1920-х потребовал Черубины, то возродилась для него в этом образе, точно феникс из пепла.
(Надо ли говорить, что при этом у Лили хватало такта не играть с Маршаком в Черубину, а с Архипповым — в ироничную и острую на язычок Елизавету Ивановну? Вообще, после 1910 года она не заигрывалась уже никогда.)
По сути, единственным человеком, на которого Лилина магия зеркала не распространялась, оставался Волошин. Поэтому-то так безоглядны, просты и заботливы ее письма, летящие в Коктебель: «Милый Макс, шлю тебе огромный привет и очень тебя люблю» (от 12 апреля 1921 года); «Дорогой Макс, милый, узнала случайно, что ты болен.[204] Очень, очень тревожусь. Милый мой, еще много нужно на земле. И ты мне еще нужен. Если не можешь сам, пусть кто-нибудь напишет о твоем здоровье. <…> Иначе места не нахожу себе» (от 10 декабря 1921-го); «Макс, Макс! Любименький мой! Как всё время думаю о тебе и совсем, совсем в себе переживаю твою боль! И хотела бы быть около тебя. Милый! <…> Макс, как-нибудь отзовись, родной! Кто с тобой, как всё произошло, почему так плохо?» (от 27 февраля 1922-го). Волошин, зная настоящую Лилю, принимал и любил ее полностью, с ним она могла не зеркалить его ожиданий и оставаться собой. Неуверенной, страстной, гордой, остроумной, мятущейся, любящей…
Что же касается остальных, то просто диву даешься, насколько разная женщина появляется в разных воспоминаниях (возможно, и загадка ее внешности, столь по-разному оцениваемой мемуаристами, связана именно с этим?). Вот, скажем, мемуары Н. Лозового, художника, частого гостя «Птичника», ученика Маршака и Васильевой по семинару драмы, организованному для красноармейцев: «Бросалась в глаза ее исключительная внимательность, добросердечие и скромность. Ни малейшего фантазерства, высокопарности, фальши. Исключительная простота и отзывчивость. Такой я ее знал в следующие годы знакомства».[205] А вот — Черубина из писем к Архиппову, эпистолярное общение (если не сказать — роман) с которым к 1922 году достигает своего пика, и Лиля, все меньше и меньше привязанная к земному, прямо-таки упивается куртуазностью слога, изысканностью ситуации, утонченностью чувств:
Ваши письма приходят, лежат по несколько дней, и только тогда я отвечаю на них. П<отому> ч<то> боюсь отвечать сразу, боюсь сказать слишком много. И хочется. И страшно доверить бумаге душу.
А теперь становится страшно впутать в клубок Вашей жизни мою нить, она — не черная, она — темно-лиловая, фиалковая, моего всегда любимого цвета, такая же, как аметист на моем кольце, но все же она — горькая.
- Я, как миндаль, смертельна и горька,
- Нежней, чем смерть, обманчивей и горче…
Мне хочется ответить Вам на многое, дать Вам себя. <…> Самое дорогое давала Дама своему Рыцарю, а Вы — Вы знаете, Вы мне давно обещаны судьбой, потому что Вы — Евгений! Уже 15 лет я спрашивала, шутя, с другими, имена под Новый год. Не каждый год я спрашивала, но всегда, когда это бывало, только одно имя выпадало мне — «Евгений». <…> Вы хотите быть таким предназначенным мне Евгением моей переписки? Это слишком прямой вопрос, но иногда темное любопытство заставляет меня ставить вопросы, идущие по краю пропасти…[206]
Тут вам и высокопарность, и фантазерство, и выспренность — все налицо. Впрочем, Архиппову, нежному и старомодному, нужен был именно этот образ и слог. Лиля, понимая его влюбленность в мечту, в первых письмах еще колебалась, какой выбрать тон («Не закроет ли Елисавета Ивановна Черубины? А может быть, и нужно горькое разочарованье?»), но потом окончательно вошла в роль, поменяв даже подпись: с 1922-го «Елис. Васильева» исчезает из их переписки и появляется «Черубина». Так же Архиппов именует ее и в письмах Усову.
Давние знакомые по Москве 1910-х годов, вместе участвовавшие в издании московского альманаха «Жатва», поодиночке пережившие революцию и Гражданскую войну (Архиппов — в Новороссийске, Усов — в Петрограде и в Астрахани, куда так же, как и многие, уехал в попытке спастись от столичного голода), в 1920-е они возобновляют увлеченную переписку. Архиппову не терпится поделиться с другом эпистолярным знакомством с самой Черубиной де Габриак; Усов, вспомнивший юношескую любовь, жадно просит подробностей. Архиппов переписывает для него ее письма, пересылает стихи; Усов интересуется работой «Птичника» и жалеет, что не может присутствовать на занятиях (в какой-то момент, очевидно вспомнив практику Антропософского общества, он даже предложит «дистанционные» занятия — с пересылкой конспектов и текстов, но для «Птичника» это было бы чересчур трудоемко). Но еще больше, чем Лилина екатеринодарская повседневность, больше, чем «Птичник», даже больше новых стихов Усова занимает тайная жизнь Черубины. В переписке с Архипповым он говорит не о Лиле Васильевой (характерно, кстати, что «Е<лисавета> И<вановна>» появляется при обсуждении неких конкретных событий, причем в критическом ключе — «Неужели Е. И. не могла придать этому более серьезного и упорядоченного движения?»[207]), но о мираже, наваждении, фантоме, имя которому — Черубина де Габриак.
Т. Нешумова, впервые опубликовавшая переписку Архиппова — Усова, нашла для нее замечательно точное обозначение — «Невидимый трилистник». Читающаяся как подлинный эпистолярный роман, достигающая временами предельного напряжения (почти как «тройчатая» переписка Цветаевой, Пастернака и Рильке), по сути она представляет собой акт жизнетворчества, моделирования альтернативной вселенной — в пику полуголодному Краснодару, торжеству революции, нищете и бесправию и т. д. и т. п. Читая «Трилистник», поневоле поразишься стойкости и «неотмирности» его авторов, поразишься и Лилиному — лирическому или женскому? — магнетизму. Нищая, обездоленная, истощенная частыми переездами и болезнями, как, каким образом обвораживает она двух мужчин, находящихся далеко от нее и — как и все вокруг — погруженных в нелегкую личную, деловую, профессиональную жизнь? Усов в начале 1920-х годов преподает в Астраханском университете, Архиппов учительствует и директорствует в гимназии в Новороссийске, расходится с первой женой и венчается с Клавдией Новиной… Казалось бы, тут уж не до переписки с давно истаявшим миражом («не марево ли она, не болотный ли огонь?» — спрашивает иногда сама Лиля) и не до обсуждения Черубининых символистских стихов, но между Астраханью и Новороссийском, между Новороссийском и Краснодаром курсируют письма, и практически каждое из них обращено к Черубине или же ею вдохновлено.
«Резкая грань лежит между Черубиной 1909–1910 и ею же с 1915 <года> и дальше, — заранее предупреждала Лиля Архиппова. — Даже не знаю, одна она и та же или та уже умерла. Но не бросаю этого имени, п<отому> ч<то> чувствую еще в душе преемственность и, уже не приемля ни прежней, ни настоящей Черубины, взыскую грядущей. Я еще даже не знаю, поэт я или нет. <…> Но когда Черубину любят и бережны к ней, как Вы, я всегда боюсь, боюсь, не несу ли я обмана, и прошу, прошу, как могу, пристально смотреть в ее облик. <…> Лучше развеять совсем этот облик, чем принять его за настоящий, если он поддельный — а я не знаю. Это было причиной моего ухода под землю, причиной того, что я неохотно даю стихи и никогда не стану их печатать». [208]
Усов и Архиппов Черубину любили и были к ней бережны. Архиппов посвящал ей стихи, полные «подземного огня», Усов вписывал ее имя, как и имя Архиппова, в собственные заветные святцы: «„Вы — две иконы в храме души моей“. Вы — седой патриарх, в митре, в узорчатой, бесконечно переливающейся ризе, с раскрытой книгой в руке и строго благословляющим перстом; она — без ризы, смуглый Ангел в огненно-красном одеянии, на фоне темных гор с мечом. Евгений и Елисавета — Вас я поминаю в каждой молитве, и вписываю в каждое „за здравие“»[209]. Под их ревнивыми мужскими и пристрастными читательскими взглядами Лиля вспыхивала беззаконной — неверной! — кометой, оборачиваясь то символистским божеством, то носительницей тайн ушедшей поэтической эпохи [210], то почти что демоном-суккубом, заманивающим тех, кто осмелился к ней приблизиться, в западню жизнетворчества и питающимся их любовью, — так, что в самый разгар переписки Усов, испуганный чарами Черубины, патетически предупреждал Архиппова: «Милый мой! Я не хотел бы сделать Вам больно, но знаете что? Это всё — наваждение. Не поддавайтесь Вы этому мареву. Бойтесь Черубины. Она ведь и у меня взяла много живых соков, а что она дала, в конце концов? „Усталость снов“. И Вас она, я знаю, долго томила. Реже пишите ей, если можете! <…> Не отдавайте Вы призраку последнюю кровь Вашего устающего сердца! Сберегите ее, и дышите, и радуйтесь жизни, как всякий человек. Жизнь так трудна, что дай Бог нам свою-то долю пронести, как следует, не возроптать и вернуться…»[211]
Однако здесь Усов неправ. Черубина в 1920-е вовсе не была «картонной Мадонной», как припечатает он ее в том же письме. Одна только работа с беспризорниками в Детском городке опровергает это определение; а обожание молодых поэтов, которым так было дорого Лилино ненавязчивое наставничество, а постоянная занятость — то в театре, то в «Птичнике», то в переплетной мастерской? А стихи? Впрочем, Лилины стихи, созданные в Екатеринодаре, в свою очередь демонстрируют то же самое жизнетворческое упоение, которое так привлекало к ней Усова и Архиппова и так манило ее саму, заставляя забывать о неприглядной реальности, будто в прежние юные годы:
- Тихо свет ложится лунный
- в сумраке долин…
- За решеткою чугунной
- пленный сарацин…
- Острый меч лежит у входа
- и расколот щит…
- Он томится там два года
- и всегда молчит.
- Черный шелк — его ресницы,
- гордый взор поник…
- Я в окно его темницы
- брошу пять гвоздик…
- И за ставнею узорной
- вспыхнет в первый раз
- пламень жгучий, пламень черный
- непокорных глаз.
- Говорят, — во всем Толедо
- я прекрасней всех…
- А над мавром злым победа —
- разве это грех?
Кто имеется в виду под «пленным сарацином» — Усов или Архиппов? Или, может быть, Волькенштейн? Мемуаристы осторожно заявляют о возможности романа между ними — исходя из посвящения «Ф.А.В.», предпосланного нескольким лирическим стихотворениям 1921–1922 годов. Однако не только Волькенштейну Лиля в это время посвящает стихи. Среди ее адресатов — С. Маршак («То было раньше, было прежде…») и Б. Леман («Я не забуду голос строгий…»), «дети» — участники «Птичника», Воля Васильев, стихи о котором заслуживают особого разговора, ибо в них впервые, кажется, с момента заключения их брака прозвучало признание в разочаровании и сожалении: «Как горько понимать, что стали мы чужими…» И, разумеется, снова Архиппов, который в ее посвящениях предстает во всех куртуазных ролях — и в роли пленного «мавра», и в роли верного рыцаря («В глубоком озере под влагой голубою…»), и, наконец, в роли самого Данте, не побоявшегося последовать за возлюбленной в загробное царство, в Зазеркалье, в инобытие:
- Два крыла на медном шлеме,
- Двусторонний меч.
- А в груди — такое бремя
- Несвершенных встреч!
- Но земных свиданий сладость
- Потеряла власть, —
- Он избрал другую радость —
- Неземную страсть.
- И, закованный, железный,
- Твердо он прошел
- Над кипящей черной бездной
- Всех страстей и зол.
- Сам измерил все ступени,
- Не глядя назад,
- Он склонил свои колени
- Лишь у райских врат.
- И венец небесных лилий
- Возложила та,
- Чьих едва касалась крылий
- Строгая мечта.
- Но, склонясь, как пред Мадонной,
- Вспомнил он на миг
- В красной шапочке суконной
- Милый детский лик.
- То — она еще ребенком.
- Все сады в цвету.
- Как она смеялась звонко,
- Встретясь на мосту!
- Но в раю земных различий
- Стерты все черты…
- Беатриче, Беатриче,
- Как далеко ты!
Далекая Беатриче и неизменно верный ей Данте — такой Лиле виделась формула ее романтической дружбы с Архипповым.[212] Учитывая, что и он принимал подобный формат отношений с вдохновенной готовностью, уместны ли в данном случае упреки в его намеренном «завлекании» (и завлечении), в нарочитом стремлении околдовать, обольстить? По словам Т. Нешумовой, глубже всех проникшей в тайну их куртуазных взаимоотношений, сама эта форма эпистолярного диалога, не отягощенного «презренной прозой» жизни, устраивала обоих, ибо
в лице Архиппова судьба послала Черубине человека, который был готов к самому нетривиальному разговору с ней, человека, область интересов которого — от прочувствованного мистицизма до тончайших движений поэтических материй — совпадала с ее собственными поисками. <…> «Живая» любовь была и в жизни Архиппова (он к началу переписки с Черубиной уже второй раз женат), и в жизни Черубины, но Архиппов, как и когда-то гимназист Усов, повторял вслед за Черубиной: «Как и ты, я вне жизни живу». А она радовалась: «Так только в детстве бывало, во сне».[213]
Что ж, если так — честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Лиля с Архипповым сделали это в начале 1920-х годов друг для друга.
Сделали, несмотря на то, что бытовая, повседневная жизнь обоих разваливалась, будто карточный домик. Весной 1921 года Лилю с Всеволодом Васильевым арестовали. «Мы с мужем были арестованы, потому что мы — дворяне, — с возмущением рассказывала она. — Комната запечатана, много вещей взяли, взяли много книг (вероятно, по теософии. — Е. П.), меня выпустили скоро, мужа — через 10 дней. Но во время всего этого я заболела, простудилась. Теперь уже встала, но еще не выхожу, и очень пустая у меня сейчас душа, после болезни, — слов нет». Косвенно этот арест подтверждает факт участия Васильева в Белом движении, ведь до его возвращения ни Леман, ни Лиля не привлекали внимания ЧК. Хотя, возможно, в Краснодаре просто началось время плановых чисток? Лиля еще не успела оправиться от ареста, как последовал новый удар: вскоре до юга дошла весть о гибели Николая Гумилева, расстрелянного в ленинградских застенках.
Русский символизм завершился дуэлью на Черной речке, на которой хотя и не был убит ни один из поэтов, но химера, порожденная жизнетворческими энергиями символизма, развеялась в дым. В лице Черубины де Габриак символизм 1900-х уничтожил себя изнутри и вынужден был отступить, открывая дорогу приверженцам кристальной ясности и «дневного», классического мировоззрения.
Русский символизм завершился в 1909 году.
Серебряный век завершился в 1921-м — гибелью Гумилева и Блока.
Гумилев был расстрелян 25 августа за участие в контрреволюционном заговоре Таганцева, о котором до сих пор непонятно — существовал он вообще или нет. Чекисты, приведшие приговор в исполнение, были поражены его офицерским форсом и мужеством. «Знаете, шикарно умер, — передавал их слова поэт-футурист и по совместительству секретный сотрудник ЧК С. Бобров. — Я слышал из первых уст. Улыбался, докурил папиросу… Даже на ребят из особого отдела произвел впечатление… Мало кто так умирает…» И то сказать — Гумилеву уже довелось стоять под дулом пистолета, и к смерти как к исполнению жизнетворческих символистских пророчеств он оказался готов.
Судя по стихам Лили, датированным осенью 1921 года, она узнала о гибели Гумилева в первых числах сентября. 11 сентября помечены два показательных стихотворения, написанных явно вслед трагическому известию, однако обращенных пока что не к Гумилеву, но… к Всеволоду Васильеву.
Одно из них мы уже упоминали, с тем чтобы продемонстрировать, что в 1920-е годы меняется Лилино восприятие всех ее близких и многое в отношениях подвергается пересмотру, в том числе и в отношениях с мужем. Пожалуй, нигде прежде (и никогда больше) Лиля не заговаривает об этом столь прямо:
- Как горько понимать, что стали мы чужими,
- не перейдя мучительной черты.
- Зачем перед концом ты спрашиваешь имя
- того, кем не был ты?
- Он был совсем другой и звал меня иначе, —
- так ласково меня никто уж не зовет.
- Вот видишь, у тебя кривится рот,
- когда о нем я плачу.
- Ты знаешь все давно, мой несчастливый друг.
- Лишь повторенья мук ты ждешь в моем ответе.
- А имя милого — оно умерший звук:
- его уж нет на свете.
С редкой для Лилиных автобиографических текстов мучительной искренностью здесь зафиксировано то, о чем ни в письмах, ни в мемуарах речь не идет, — трещина во взаимоотношениях с мужем, их наметившийся разлад, вероятное расхождение. Очевидно, известие о гибели первого «милого» обострило в Лилиной душе всё, что ее втайне мучило: и то, что психологически они с Волей давно отдалились друг от друга, и то, что в самый разгар революции и Гражданской войны он оставил ее на Лемана, и то, как, возможно, отреагировал на арест (в следующем стихотворении за то же число речь заходит и о его «горькой» слабости)… То есть осенью 1921-го Лиля впервые задумывается со всей ясностью, что выбор, сделанный ею больше десяти лет назад, привел ее не туда, что брак, прежде мыслившийся как спасение и освобождение, теперь куда больше напоминает вериги. Об этом свидетельствует и еще одно стихотворение-признание — также столь откровенное, что позволяет едва ли не с документальной точностью восстановить разговор, произошедший между Лилей и Всеволодом Николаевичем 11 сентября.
Видимо, речь между ними зашла о разрыве. Видимо, Воля, ошеломленный и опрокинутый, умолял Лилю не оставлять его, упрекал ее в непримиримости и отказывался прерывать отношения. Видимо, несмотря на всю ее — вызванную, без сомнения, в том числе и известием о гумилевском расстреле — отчаянную «страсть к разрыву», идти ему было некуда, отсюда и Лилино беспощадное замечание, с которого начинается текст:
- И не уйдешь. И не пойдешь навстречу
- своей судьбе…
- Что я скажу, что я теперь отвечу
- такому горькому и слабому — тебе.
- Года прошли и сердце оскудело
- в своей тщете.
- О, не скорби. Я также не сумела
- подняться ввысь к последней высоте…
- Обоим нам испить от чаши страсти
- не дал Господь…
- В Его руках, в Его предвечной власти
- нетленный дух и жаждущая плоть.
- И я прошу — так близко час разлуки —
- прошу — не плачь.
- Не отводи протянутые руки.
- Не говори: «Я жертва, ты — палач».
- Кто прав из нас. О нет, мы не ответим.
- Ни ты, ни я…
- Хотел Господь. Испуганные дети,
- мы мучились. Он Сам за нас в ответе.
- Он — судия.
Эти стихи поэтически куда более убедительны, нежели послание «Воле» (1922), приведенное в соответствующей главе. Брак, построенный не на страсти, а на чувстве (ложно понятого?) долга, оказался (или показался?) ошибкой и не привел их ни к Богу, ни к счастью…
Впрочем, Всеволоду Николаевичу удается отговорить Лилю от окончательного разрыва. Они не расстанутся, просто из их отношений исчезнут и собственно плотская составляющая, и физическая любовь. Почти все 1920-е годы они проведут порознь — Лиля, вернувшись в Петроград, будет жить в тесном соседстве с Владимировыми и воспитывать вместе с Лидой детей, а Всеволод Николаевич — соглашаться на дальние долгие командировки и наведываться к жене только изредка. Возможно, такова была плата за право хотя бы формально остаться с ней в браке? Однако когда в 1927 году Лиле, вновь арестованной и осужденной на высылку из Ленинграда, Лиле, чье здоровье окажется окончательно подорвано в заключении, понадобятся поддержка и помощь, Всеволод Николаевич будет рядом и Лиля уйдет из жизни, тихо поблагодарив его за последние дни.
А пока, в 1921-м, она остро переживает смерть Гумилева. Посылает Архиппову стихи его памяти: не те, исповедные и укоризненные, обращенные к мужу, а помеченную 16 сентября балладу-реквием «Памяти Анатолия Гранта», скрыв имя расстрелянного поэта под полузабытым даже его товарищами псевдонимом и вкратце пересказав всю историю их короткого рокового романа. Анатолий Грант — так Гумилев подписывал стихи в журнале «Сириус» в пору его кратковременного существования, практически совпавшего с порой их с Лилей юной и нервной любви:
- Как-то странно во мне преломилась
- пустота неоплаканных дней.
- Пусть Господня последняя милость
- над могилой пребудет твоей!
- Все, что было холодного, злого, —
- это не было ликом твоим.
- Я держу тебе данное слово
- и тебя вспоминаю иным.
- Помню вечер в холодном Париже,
- Новый Мост, утонувший во мгле…
- Двое русских, мы сделались ближе,
- вспоминая о Царском Селе.
- В Петербург мы вернулись — на север.
- Снова встреча. Торжественный зал.
- Черепаховый бабушкин веер
- ты, читая стихи мне, сломал.
- После в «Башне» привычные встречи,
- разговоры всегда о стихах,
- неуступчивость вкрадчивой речи
- и змеиная цепкость в словах.
- Строгих метров мы чтили законы
- и смеялись над вольным стихом,
- Мы прилежно писали канцоны
- и сонеты писали вдвоем.
- Я ведь помню, как в первом сонете
- ты нашел разрешающий ключ…
- Расходились мы лишь на рассвете,
- солнце вяло вставало меж туч.
- Как любили мы город наш серый,
- как гордились мы русским стихом…
- Так не будем обычною мерой
- измерять необычный излом.
- Мне пустынная помнится дамба,
- сколько раз, проезжая по ней,
- восхищались мы гибкостью ямба
- или тем, как напевен хорей.
- ………………………
- Было сказано слово неверно…
- Помню ясно сияние звезд…
- Под копытами гулко и мерно
- простучал Николаевский мост.
- Разошлись… Не пришлось мне у гроба
- помолиться о вечном пути,
- но я верю — ни гордость, ни злоба
- не мешали тебе отойти.
- В землю темную брошены зерна,
- в белых розах они расцветут…
- Наклонившись над пропастью черной,
- ты отвел человеческий суд.
- И откроются очи для света!
- В небесах он совсем голубой.
- И звезда твоя — имя поэта
- неотступно и верно с тобой.
Даже по этому стихотворению видно, как тосковала Лиля в Екатеринодаре не только по Гумилеву, чья жизнь была отнята столь внезапно и страшно, но и по Петербургу — городу ее души, ее юности и любви. «Так туда хочется обратно! — пишет она Архиппову 1 января 1922-го, загадывая праздничное желание на будущий год. — Весной я непременно поеду в Петербург, хотя вести оттуда грозные: и голод, и холод. Но у меня очень устала душа от внешней жизни, и вся она начинает уже принимать последнюю чеканку, и я сама ищу своего последнего места…»
Увы, Петербург не станет для Лили «последним местом», но в новом, 1922 году она со щемящим чувством надежды и освобождения вернется туда.
Возвращение состоялось благодаря Маршаку и театру. Сам А. Луначарский назвал краснодарский детский театр «лучшим всероссийским событием»[214], грандиозным начинанием советской педагогики 1920-х годов и после беседы с Маршаком весной 1922-го вызвал создателей Городка из Краснодара в Петроград телеграммой. Телеграмма предписывала командировать С. Я. Маршака, Е. И. Васильеву и Б. А. Лемана в распоряжение Наркомпроса[215].
На прощание отыграли «Финиста Ясного Сокола». После спектакля авторы и актеры остались на сцене; дети выбегали к ним, обнимали, совали в руки артистам кто целлулоидную игрушку, кто скудную сладость. Женщины плакали. Вечером организовали застолье на деньги, перечисленные организаторам Детского городка Кубанским отделом народного образования (в просторечии «оботнаробом»): вместо цветов те преподнесли отъезжающим один пуд ржаной муки, 10 фунтов масла и 20 миллионов советских рублей. На этом застолье Маршак и прочитал свои легендарные куплеты, которые потом распевала на улицах молодежь Краснодара и в которых Самуил Яковлевич дружелюбно, но хлестко раздал всем сестрам (а особенно — Леману: видимо, прорвалась все же горечь так долго сдерживаемой ревности) по серьгам:
- Городок наш, Городок,
- Каменное зданье.
- Здесь дают в короткий срок
- Детям воспитанье.
- Заправляют Городком
- Лебедь, рак да щука, —
- Леман, Свирский с Маршаком, —
- Вот какая штука!
- Леман, старый саркофаг,
- В эфиопском стиле,
- У него обычный шаг —
- В час четыре мили.
- Пишет песни нам Маршак
- Вместе с Черубиной.
- В старину играли так
- Лишь на пианино.
- Нет резонов никаких
- Им писать совместно,
- Кто неграмотный из них —
- Это неизвестно.
- Ипокрены сладкий ток
- Нам милей, чем проза.
- Любит Свирский Городок
- Больше совнархоза.
- Год не знали мы забот.
- Свирскому спасибо:
- Он фунт хлеба нам дает
- Да три пуда штыба…
28 апреля состоялось это прощание, а спустя пару дней, согласно воспоминаниям Иммануэля, семья Маршаков и Васильева с Леманом тихо уехали. О Всеволоде Николаевиче не упоминалось — видимо, он отбыл раньше, может быть, еще до нового года и Рождества (во всяком случае, о своем одиноком сочельнике Лиля писала Архиппову: «В сочельник у меня будет маленькая, маленькая елочка. На ней наверху одна золотая звездочка и медовые свечки. И я покурю ладаном. И вспомню о Вас, чтобы быть в сочельник вместе»). С собой Лиля увозит письма Архиппова, любовь обитателей Детского городка и «Птичника», новую профессию — даже две: переплетчицы и театрального сценариста, новые (и какие!) стихи…
КРЕСТНЫЙ ПУТЬ
Вот, например, одно — посвященное Петербургу и написанное в декабре 1921-го, когда Лиля еще ничего не знает про будущее распоряжение наркома, но под своей «маленькой, маленькой» елочкой в лучших традициях праздничной магии загадывает возвращение на северную и жестокую родину:
- Там ветер сквозной и колючий,
- Там стынет в каналах вода,
- Там темные, сизые тучи
- На небе, как траур, всегда.
- Там лица и хмуры, и серы,
- Там скупы чужие слова.
- О, город жестокий без меры,
- С тобой и в тебе я жива.
- Я вижу соборов колонны,
- Я слышу дыханье реки,
- И ветер твой, ветер соленый
- Касается влажной щеки.
- Отходит обида глухая,
- Смолкает застывшая кровь,
- И плачет душа, отдыхая,
- И хочется, хочется вновь
- Туда, вместе с ветром осенним
- Прижаться, припасть головой
- К знакомым холодным ступеням,
- К ступеням над темной Невой.
Со слов Иммануэля Маршака, в мае 1922-го они ехали в теплушке из Екатеринодара много дней — отец, мать, тут же Леман с Васильевой. Ехали, впрочем, достаточно благополучно: телеграмма наркома просвещения, особо оговаривающего необходимость предоставления командированным «возможных удобств переезда», обеспечивала их минимальным комфортом. В Москве после личной встречи Самуила Яковлевича с Луначарским из теплушки они пересели в «классный вагон», а тут уже и до Петрограда рукой подать. На вокзале простились с семьей Маршака (через несколько дней им предстояло приступить к совместной работе в Петроградском недавно организованном ТЮЗе) и отправились на Почтамтскую улицу.
Город в начале 1920-х был в запустении и страшной грязи. Дворы представляли собой «сплошную клоаку», улицы были завалены кучами мусора, на городских кладбищах незахороненные покойники гнили неделями. Все это, а еще — трава, проросшая на развороченных каменных мостовых, выбитые окна, заброшенные дома, нечистоты, заливающие дворы и подвалы, крысы, шныряющие в подворотнях, — разумеется, не могло не поразить Лилю в самое сердце. Вид полуразрушенного, разоренного революцией Петрограда вызывает в ней острую боль и тоску, и все-таки… Все-таки это был ее город! Она возвращается с твердым намерением никогда больше не покидать его и по мере возможностей — насколько достанет энергии, силы, здоровья и веры — способствовать его будущему возрождению:
- Под травой уснула мостовая,
- Над Невой разрушенный гранит…
- Я вернулась, я пришла живая,
- Только поздно, — город мой убит.
- Надругались, очи ослепили,
- Чтоб не видел солнца и небес,
- И лежит, замученный, в могиле…
- Я молилась, чтобы он воскрес.
- Чтобы все убитые воскресли.
- Бог, Господь, Отец бесплотных сил,
- Ты караешь грешников, но если б
- Ты мой город мертвый воскресил.
- Он Тобою удостоен славы
- От убийц кончину воспринять,
- Но ужель его врагов лукавых
- Не осилит ангельская рать?
- И тогда на зареве заката
- Увидала я на краткий миг,
- Как на мост взошел с мечом поднятым
- Михаил Архистратиг.
Собор Святого Михаила Архистратига возвышается на Среднем проспекте Васильевского острова — там, где Лиля провела все свое детство, где училась, куда мечтала вернуться. Так и получится, но не сразу: в 1922-м с вокзала она едет прямо к Лиде Брюлловой-Владимировой, которая нанимает квартиру на Почтамтской. Лилю встречает плачущая от радости подруга, «почти сестра», и ее ясноглазые дети — жизнерадостный школьник Юра, Наташа, которую Лиля запомнила двухлетней крошкой, а теперь ей уже шесть, у нее фамильные брюлловские глаза и улыбка красавца Владимирова…
Как только Лиля увидела их, ей стало ясно — она хочет жить рядом с Лидой и больше не расставаться. Но в маленьких комнатах на Почтамтской нет места, к тому же в июле 1922-го к семье возвращается Дмитрий Владимиров, бывший деникинский офицер, арестованный за участие в Белом движении и больше года проведший в Москве в заключении. Вскоре после его возвращения подыскивается жилье. Выбор Владимировых и Васильевой падает на аккуратный двухэтажный особнячок на Английской набережной (после переименованной в набережную Красного флота) — в самом конце, на берегу Ново-Адмиралтейского канала: пусть этот дом далеко от мест службы, зато две небольшие квартиры расположены на одной лестничной клетке, из окон видны Васильевский остров и строгая церковь Успения Пресвятой Богородицы, а прямо перед крыльцом несет темные волны Нева.
Английская набережная, дом 74, квартира 7 — это последний адрес Лили Дмитриевой-Васильевой в Петербурге.
Туда же в 1925-м переберется и Елизавета Кузьминична, ввиду частых отъездов Васильева поселившаяся у дочери и взявшая ее полунищенский быт в свои руки. Пореволюционные годы пожилой акушерке дались тяжело: она голодала, потеряла здоровье (в официальных протоколах допросов Васильевой Елизавета Кузьминична значится как «инвалидка»), утратила связь со старшим сыном Валерианом и с Еленой Брюлловой-Зарудной, заменившей ей дочь; страшным ударом стала для нее весть о расстреле Елены большевиками якобы за связь с эсерами, а на деле — за то, что она, мать шестерых детей и учительница гимназии, на одну ночь приютила у себя раненого эсера… Иллюзий по поводу новой власти Елизавета Кузьминична не питала и стремилась сделать все возможное, чтобы обеспечить если не безопасность, то по крайней мере домашний уют и здоровье последней оставшейся рядом с ней дочери. Тем более что хотя Лиля, как это было ей свойственно, тут же с усердием принимается за работу (ее оформляют на должность заместителя заведующего литературной частью ТЮЗа, коим являлся Маршак, то есть отбор, подготовка и литературная обработка рукописей, присылаемых в ТЮЗ, полностью осуществляются ими), здоровье ее ухудшается с каждым годом. Резкая смена климата ей, бывшей туберкулезнице, была противопоказана, переезды с юга на север давали чрезмерное напряжение на сердце, и она тихо жаловалась в письмах Архиппову, что ей трудно писать, ведь практически каждый день она переносит сердечный припадок. «Боль я переношу легко, но потом силы так падают, что я не могу шевелить руками и мне бесконечно грустно»[216], — признавалась она, но работала несмотря ни на что.
Работа не переводилась, платили же мало. Владимировы нуждались — в Петрограде им пришлось едва ли не тяжелее, чем Лиле в Екатеринодаре. Дмитрий Владимиров воевал, сперва с красными, потом — с белыми, был арестован, отправлен в концлагерь, вернулся из лагеря с волчьим билетом, и брать на работу его не хотели. Он подрабатывал счетоводом в различных конторах. Лида тоже была арестована как жена белого офицера, ее продержали под стражей около месяца, осудили на год условно; она долго мыкалась по приработкам, устроилась секретарем в музыкальный отдел Наркомпроса, дрожала за место…
Так что, обжившись, Лиля сразу же принялась за помощь подруге: договорилась с Самуилом Яковлевичем и устроила Лиду в ТЮЗ заведующей делопроизводством. Денег в театре было немного, но выручал человеческий фактор — содружество близких по духу, самоотверженных, добрых и смелых людей. До поры до времени ТЮЗ не боялся опальных граждан и предоставлял им работу вплоть до середины 1930-х годов. До второго ареста в театре служил в бухгалтерии даже бывший белогвардеец Владимиров! Его и Лидино устройство на работу обнаруживает, какое участие принимала Лиля в своих друзьях, как ненавязчиво, но деятельно старалась помочь им. И у нее получалось: Владимировы останутся при театре даже тогда, когда Лилю задержат и вышлют, а в 1935 году сотрудники ТЮЗа, преодолев страх перед всемогущими органами, «трогательно и сердечно» проводят Лидию Павловну в ссылку в Караганду.
Сама же Лиля, увы, в ТЮЗе надолго не задержалась. То есть сначала все шло хорошо: пьесы Васильева и Маршака, встреченные актерами на ура, сформировали репертуар ТЮЗа на весь сезон 1922/23 года и были включены в афишу открытого в 1923-м Кукольного театра; Лиля писала для сформированной при театре детской художественной студии; пьесы, которые нужно было редактировать и готовить для постановки, в литературную часть театра поступали потоком… Однако в августе 1924-го, накануне нового сезона, Лиля вдруг подает заявление на обучение при Высших курсах библиотековедения и уходит из ТЮЗа.
Причин тому может быть несколько. Во-первых, ревность Софьи Михайловны Мильвидской-Маршак, очевидно надеявшейся, что по возвращении из Екатеринодара дружба мужа с Васильевой прекратится, и крайне недовольной тем, что их общение не прерывается. Во-вторых, ее екатеринодарская служба в Осваге: Лиля хорошо понимала, что большевиками сотрудничество с Деникиным вряд ли будет забыто, а в театре, как ни крути, она была на виду. Ей не хотелось ни раньше времени подставлять себя под удар, ни навлекать неприятности на сослуживцев (примечательно также, что, несмотря на личное распоряжение наркома о приезде Васильевой и явное Лилино влияние на руководство театра — ведь неспроста же Владимировых оформили на работу без проволочек, — ее фамилии в официальных документах театра не значится, числилась она там как внештатник). Скорее всего, обе эти причины заставили Лилю уйти: работать над пьесами без Маршака ей не хотелось, а Маршак в середине 1920-х годов, плотно занявшись советской детской литературой и находясь на пути к званию первого детского писателя нового времени, рвал екатеринодарские связи и избегал тех, кто помнил о его давнем сотрудничестве с белой прессой. Так его дружба с Лилей к 1924 году сошла на нет. Софья Михайловна, упирая на безопасность семьи, убедила его прекратить отношения — а Лиля, не жалея становиться причиной семейных раздоров, тихо отошла в сторону и оставила ТЮЗ.
Надо сказать, что молчаливое согласие на разрыв творческой и человеческой дружбы с Лилей мучило Маршака до конца его дней. Примирившийся с доводами Софьи Михайловны в 1924-м, в конце жизни, в 1960-е, он будет горько жалеть о своем малодушии и о том, что Елизавета Васильева как одна из родоначальниц поэтики современного ТЮЗа исчезла из литературы. Возможно, его возвращение в послевоенные годы к пьесам, ранние версии которых они создавали вместе в Екатеринодаре, было связано именно с попыткой воскресить если не ее имя, то хотя бы память о ней? Тем более что на склоне лет, уже похоронив Софью Михайловну, Самуил Яковлевич признавался ученикам, что любил «эту женщину» — Лилю…
Было ли то раскаяние, поздняя сентиментальность или действительно давняя — затаенная и переборотая — любовь, мы уже не узнаем.
Что же касается Лили, то в ее жизни на 1920-е годы пришелся еще один трудный разрыв. Леман, до тех пор по-прежнему живший подле Васильевых (показательна этакая родственная приписка в Лилином письме к Волошину — «тебя целует Воля и Борис»), вскоре после возвращения с юга женился на 25-летней антропософке Марии Газе.
По всей вероятности, их с Лилей охлаждение друг к другу началось сразу после приезда — во всяком случае, уже осенью 1924-го Дмитрий Усов, решившийся наконец-то вступить в прямую переписку с Васильевой, сообщает Архиппову в Новороссийск: «Очень хотел бы узнать о Б. А. Лемане, но создается такое впечатление, будто у них размолвка».[217] С чем была связана эта размолвка, не очень понятно. Может быть, Леман, вернувшись в Петроград, надеялся развернуть активную антропософскую деятельность, влиять на культурное окружение, а то и на власть предержащих? Если так, очевидно, что Лиля, после всех потрясений обретшая более-менее тихую гавань, отказывалась участвовать в этих рискованных начинаниях. Да и не по здоровью они ей были. «Мне очень трудно жить внешне, трудно работать на курсах, трудно видеть людей», — писала она Архиппову, ничего не утаивая. Сил ей хватало только на книги, стихи, самых близких друзей и семью. Леман же, видя их общую миссию в максимально широком распространении тайного знания, а также в «вербовке» и просвещении заинтересованных, негодовал на ее равнодушие. Преодолевший тяжелейшую болезнь в молодости, он не считал физическое нездоровье достаточным основанием для того, чтобы отказываться от «пути» и призвания, и в конце концов обрел в молодой Газе нового преданного соратника.
Последние годы откровенно тяготившаяся его властью, Лиля тем не менее восприняла разрыв с горечью. Впрочем, непонятно, что обусловило эту горечь — собственно ли разрыв или внутреннее понимание того, что все эти 15 лет она находилась под гипнотическим чуждым влиянием, постоянно обуздывая и смиряя себя? Мысль об этом причиняла глубокую боль, поделиться же ей было не с кем. Разве что Максу Волошину можно было обмолвиться в укоризненных письмах: «С Борисом я разошлась совсем. Это большой перелом в моей жизни и большое освобождение. Ведь когда мы с тобой расставались в 1910 г. — ты, в сущности, оставил меня Борису[218] и его влиянию; оно было очень несвойственно мне» (12 декабря 1926-го). И дальше, снова и снова возвращаясь к мучительному затянувшемуся эпизоду: «Я с Борисом совсем разошлась. <…> Думаю, что в моей жизни он принес мне много зла, сам не желая этого…» (2 января 1927-го). Да, то, что прежде Лиля отстаивала как безусловное благо, с высоты пережитого опыта видится ей явным злом. Дальше им с Леманом было не по пути.
Но где тогда ее путь, сумеет ли она отыскать его в новой грозной реальности? Лиля в 1920-е словно бы исподволь присматривается к Советскому государству, не то чтобы пытаясь обрести в нем свое «последнее место», но тем не менее задумываясь, где бы это место в принципе могло найтись. Да, она абсолютно аполитична, да, ее отношение к Советскому государству и к учиненному им мировому пожару лишено даже того метафорического «кровавого отсвета», который падает на становление советского мира в глазах символистов; но если и есть что-то, заставляющее Лилю приглядываться к Советам, разрушившим ее город, лишившим близких (Валериан в эмиграции, Воля Васильев в Ташкенте, Елена Брюллова расстреляна, Надежда Шаскольская в ссылке, «на Коктебель нет денег» и т. д. и т. п.), прервавшим течение прежней сомнамбулической жизни, так это общие просветительские установки и курс на преодоление невежества.
Можно сказать, что на четвертом десятке (для того времени — зрелые годы!) к Лиле вернулись чеховские идеалы родителей. Работа в детском театре, участие в воспитании малолетних сирот революции, занятия с молодыми поэтами в «Птичнике» — все ведет ее к мысли о том, что одно просвещение может спасти сейчас новое поколение. И Лиля готова содействовать этому по мере сил.
В 1924 году она поступает на курсы библиотековедения при недавно открытой на Васильевском острове Библиотеке Академии наук, где требовались грамотные сотрудники, владеющие иностранными языками. Лиля с ее свободным владением немецким, испанским, французским и старофранцузским была ценным кадром. Ее принимают на курсы, она начинает учиться библиотечному делу, то есть каталогизации, библиотечной и библиографической технике, чтению заявок и шифров. Еще до окончания курсов при академии поступает туда на работу, параллельно сотрудничая также с издательством «Всемирная литература» в качестве одного из крайне редких в советском Ленинграде специалистов по старофранцузскому языку (со старофранцузского Лиля перевела для издательства «Песнь о Роланде» и добродушную повесть-пародию «Мул без узды», до сих пор переиздающуюся в соответствующих хрестоматиях). 1925-м датируется и начало сотрудничества с Госиздатом: ей заказывают познавательную брошюру о географических открытиях Н. Миклухо-Маклая, составленную на основе его путевых дневников. Как будто бы это вовсе не Лилина тема, однако она с упоением погружается в новый для нее материал, не преминув сообщить Архиппову, что и работа, и сам дневник путешественника ей очень нравятся. (Скорее всего, любовность, с которой Лиля работала над «Человеком с Луны», была связана с адресацией книги — для младшего и среднего школьного возраста, то есть как раз для любимых Наташи и Юры Брюлловых-Владимировых.) А Госиздату нравится повесть, которая у нее получилась: «Человек с Луны» Е. Васильевой выдержал два издания, но, к сожалению, не перевыпускался после 1929 года, когда Лилино имя как осужденной по 58-й статье уже категорически не рекомендовалось упоминать.[219] Хотя, очевидно, у Госиздата были на Лилю определенные планы; сразу же после выхода «Человека с Луны» ей предлагают написать детскую биографию Леонардо да Винчи, и Лиля всерьез обдумывает эту задачу…
Обдумывает она и обещанную Архиппову статью о поэзии Веры Меркурьевой — или, как ее некоторые называли, Кассандры. С ее стихами Лиля, благодаря Архиппову, познакомилась еще в Краснодаре, и эти стихи ее заворожили — в том числе и потому, что Меркурьева, внутренне чрезвычайно родственная Васильевой, внешне была совершенно иной. Лиля, такая остроумная в жизни, в стихах никогда не шутила — Меркурьева скоморошничала, меняла обличья, не боясь показаться читателю ни в старушечьем облике, ни в шутовском колпаке. Лиля всегда недосказывала, шифровала происходящее осторожными символами, прикрывалась метафорами — Меркурьева рубила сплеча. Лиля предпочитала высокую лексику, выспренние обороты (лишь в более поздних ее стихах, видимо не без влияния Меркурьевой, вдруг прорвется отчаянная современность с некоторым даже гротескным нажимом: «В эту ночь я была с другими / в ресторане большом… / Под звуки джаз-банда танцевали шимми / женщины с малиновым ртом…») — Меркурьева не чуралась ни крепкого словца, ни модернового — вертящегося на кончиках всех языков — оборота. Все это страшно нравилось Лиле, так что, впервые читая стихи Меркурьевой, она восторженно благодарила Архиппова: «Я теперь получила все ваши письма и стихи Кассандры. <…> В ней есть то, чего так хотела я и чего у меня нет и не будет: подлинно русское, от Китежа, от раскольничьей Волги. <…> И как всегда — боль (не зависти, а горечи!!) — все поэты именем Бога, а я? Я — нет. Я — рассыпающая жемчуга…»[220] Сегодня мы уже знаем, что в числе циклов Меркурьевой, посланных Лиле, были также ее знаменитые «Души неживых вещей»; и можно только догадываться, как жутко и весело было Васильевой читать эти строки Кассандры — полифоническую перекличку в пространстве отдельно взятой, раздираемой противоречиями и мучимой собственным несовершенством души:
- Черным окошко занавесила,
- Белые две лампы зажгла.
- Боязно чего-то и весело,
- Не перед добром весела.
- За день-то за долгий намаешься,
- Ходишь по людям по чужим,
- К маленьким пойдешь ли — спокаешься[221],
- Вдвое спокаешься — к большим.
- Дай-ка, оденусь попригляднее,
- В гости пойду к себе самой.
- Будет чуднее и занятнее
- Речи вести с самой собой.
- — Милая, вы очень фривольная.
- — Милая, я на колесе.
- — Бедная, есть средства — безбольные…
- — Бедная, пробовала — все.
- — Нежная, где друг опечаленный?
- — Нежная, заброшен, забыт.
- — Певчая, где голос ваш хрустальный?
- — Певчая, хрустальный — разбит.
- — Порченая, знахаря надо бы.
- — Порченая, знахарь-то — я.
- — Гордая, есть пропасти адовы.
- — Гордая, и там я — своя.
- — Грешная, а Бог-то, а любящий?
- — Грешная, знаю. Не дано.
- — Нищая, на гноище, в рубище.
- — Нищая, верно — и смешно.
«Лида тоже нищая…» — откликалась Лиля в письме к Максу в 1924 году, пророчески вплетая линии жизни своих современниц в единый мерцающий текст. Увы, ни тогда, ни позже о Меркурьевой она так и не написала — не довелось. Но стихи ее очень любила, держала на книжной полке, читала знакомым, которых у нее было много — люди вокруг нее не переводились. Вообще, несмотря на болезни, лишения, переутомление и трудности «внешней жизни», внутренняя Лилина жизнь в Петрограде 1920-х, как и прежде, оставалась деятельна и насыщенна, а посильное участие в литературно-просветительской деятельности — попытка делать малые шаги в направлении детского просвещения, и делать их хорошо, — доставляло настоящую радость.
Возможно, эта убежденность в том, что теория грандиозных свершений ведет к катастрофе, а мир спасут малые дела, и послужила одной из причин расхождения с Леманом, явным сторонником философско-интеллектуального глобализма? Леман после удачного опыта екатеринодарского Городка загорелся соединить антропософию с педагогикой, изучал принципы и приемы воздействия на душу и разум ребенка, работал в педагогическом музее, внедряя в его экспозиции материалы по вальдорфским школам… Лиля к его бурной деятельности, столь мало уместной в раннесоветские годы, относилась с опаской, ибо ей-то уже было ясно, что над антропософами постепенно сгущаются тучи. Она осторожно предупреждала друзей, что в письмах не следует больше упоминать по имени Доктора Штейнера, а также слов «антропософия» или «Антропософское общество» («все это очень одиозно сейчас»[222]), — сама, впрочем, Обществом занимаясь, и занимаясь активно. Ведь именно на набережной Красного флота, в общем доме Владимировых-Васильевых, и собирается круг оставшихся в Петрограде антропософов.
П. Вальдгордт, М. Депп, В. Конради, А. Петровский, С. Пивоваров, шекспировед А. Смирнов, старая соратница А. Форсман — всего около тридцати-сорока человек. Как будто бы вовсе немного, однако и в этом кругу не осталось согласия. После того как в 1923 году Антропософскому обществу было отказано в перерегистрации и Штейнер, на личную встречу с которым выехали из России несколько верных последователей, предписал российскому отделению перейти на подпольное положение, Общество «разручеилось» на несколько самостоятельных направлений. Самым распространенным из них, ибо с точки зрения политической — наиболее безопасным, была эвритмия: в 1920-е в Петрограде образовался ряд эвритмических групп, в том числе детских и подростковых — одну из таких вела Лида Брюллова-Владимирова. Собственно же рискованная идеология штейнерианства была достоянием двух главных «лож», образовавшихся после практически официального расхождения Лемана и Васильевой. Первый возглавил ложу Бенедиктуса, уведя с собой убежденных последователей, рассматривавших антропософию как науку с непременным приложением практических, то есть оккультных, занятий; Лиля же стала во главе ложи Ильи Пророка.
Несмотря на громкое название (хотя и не такое громкое, как у Лемана, сразу поставившего себя вровень с европейским масонством), деятельность Лилиной ложи заключалась не столько в обрядовых практиках, сколько в передаче духовного и культурного знания, а также в том, чтобы в Ленинграде существовала некая касса взаимопомощи для действующих антропософов. И пусть несколько лет спустя это не спасет ее от ареста, но сама она знала: в ложе Ильи Пророка ей удалось создать ту спокойную дружественную атмосферу, которой не удавалось достичь даже в доме 119 на Невском. Члены ложи, не желавшие расставаться с этим ощущением тихого единения, были глубоко преданы Лиле, а ее душа в 1920-е трудные годы узнала не только истинную негромкую радость за себя и за них, но и новую — радостную любовь.
«ТЫ СКАЗАЛ, ЧТО НАША ЛЮБОВЬ — ВЕРЕСК…»
Первым это почувствовал, почти что из воздуха поймал Макс, получив от Лили летом 1922 года письмо с несколькими приложенными на его суд стихами. Что навело его на мысль о Лилиной новой любви — стихи ли, все охваченные ожиданием ответного чувства, или само письмо, из которого явствует, что душа Лили вновь пробудилась для счастья и творчества?
Макс, милый, ты очень всем нужен, приезжай в Москву, зачем тебе жить на юге. Приезжай в Москву и в Петербург. В Петербурге приезжай прямо ко мне — жить.
Я много хочу знать о тебе. И много скажу о себе.
«Святой» я не стала, даже совсем не стала, но я стала счастливой…[223]
За этой безоглядностью счастья проглядывает надежда на волошинскую поддержку. Как и прежде на всех своих перепутьях, Лиля обращается к Максу за словом одобрения — можно ли? Можно ли ей сейчас быть счастливой? Разве что интонация «маленькой, маленькой» девочки, соответствующая той роли, которую исполняла она в отношениях с Волошиным, уходит из ее писем, и наконец-то Лиля решается встать с Максом вровень, решается на принятие своего нового зрелого «я»:
…может быть, как раз теперь я совсем выросла, и мы с тобой могли бы говорить вместе уж совсем по-настоящему. Сейчас есть много такого, что заставляет меня с радостью думать о тебе и очень тебя любить (видимо, здесь сказались «освобождение» от Лемана и нахлынувшая благодарность к Максу за то, что в свое время он пробудил Черубину. — Е. П.). Но обо всем этом потом. Только одно скажу тебе, милый, одно, в чем мне нужна и твоя дружба, и твой совет. Я опять стала писать стихи, Макс! <…> Говорят, что надо издавать книгу. Если это будет, я останусь «Черубиной», потому что меня так все приемлют, и все же корни мои в «Черубине» глубже, чем я думала. Ты говорил, что надо бросить этот псевдоним (очевидно, когда в Екатеринодаре речь зашла о Маковском и о власти его неприятия над Лилей. — Е. П.). Я чувствую необходимость его оставить. Ты не думаешь, Макс, что мы не имеем права ни от чего отрекаться?[224]
В конверт Лиля вкладывает 15 новых стихотворений, настаивая, чтобы Волошин написал ей о них «совсем правду, главное в том, в чем они — плохи. Ты знаешь, я не боюсь твоей правды…». Волошин с готовностью откликается, но сначала не на стихи даже, а — с обычной своей прозорливостью — на то главное, о чем Лиля пока еще не написала, но что так и сквозит в стихах:
- Все то, что я так много лет любила,
- Все то, что мне осталось от земли:
- Мой город царственный, и призрачный, и милый,
- И под окном большие корабли…
- И под окном, в тумане ночи белой,
- Свинцовая и мертвая вода…
- Пускай горит минутной жаждой тело,
- Горит от радости и стонет от стыда…
- Все то, что на земле мучительно и тленно,
- Я ночью белою не в силах побороть,
- И хочется сказать: она благословенна,
- Измученная плоть…
- Пусть жажда бытия всегда неутолима,
- Я принимаю все, не плача, не скорбя,
- И город мой больной, и город мой любимый,
- И в этом городе пришедшего тебя.
Да, это вид из Лилиного окна — на Неву, на Адмиралтейские верфи, и это любовное свидание — свидание в ее комнате, оклеенной «аметистовыми» обоями (Лилин любимый цвет!), затененной лиловыми занавесками и осененной старинным распятием. Волошин угадывает, что в Лилину жизнь пришло новое чувство. В ответ он рассказывает ей о себе — о болезни и смерти матери, о браке с М. Заболоцкой — непритязательной медсестрой, верно ухаживавшей за Пра и за самим Максом во время его тяжелого полиартрита (если Лилю и кольнула ревность при этом известии, то она хорошо ее скрыла); высоко отзывается о стихах… Это послание Волошина Лиле не сохранилось, но из Лилиного ответа можно понять, как он все угадал:
Ты прав — в мою жизнь пришла любовь, может быть, здесь я впервые стала уметь давать. Он гораздо моложе меня, и мне хочется сберечь его жизнь. Он и антропософ, и китаевед. В его руках и музыка, и стихи, и живопись. У него совсем такие волосы, как у тебя. И лицом он часто похож. Зовут его Юлиан — тоже близко. <…> Ты и он — 1-ая и последняя точки моего круга.[225]
Юлиан — Юлиан Константинович Щуцкий, младше Лили на десять лет, познакомился с ней летом 1922-го во время возобновленных антропософских занятий. Стройный, русоволосый, подвижный и остроумный, он был известен прежде всего своими способностями к музыке (к неполным двадцати годам ему удалось освоить балалайку, гитару, кларнет, фисгармонию, лютню, естественно, фортепиано) и к языкам. Уж на что Лиля отличалась лингвистической одаренностью! Но до феноменальных способностей Щуцкого ей было далеко. Щуцкий владел в совершенстве английским, французским, голландским и польским, читал и писал по-латыни, а в годы учебы в Политехническом институте открыл для себя азиатские языки — китайский, японский, вьетнамский, сиамский, санскрит…
Судя по всему, на Английскую набережную к Лиле Щуцкого привела Ирина Карнаухова, вернувшаяся в город вслед за наставницей и учившаяся на курсах при Государственном институте истории искусств. Где они познакомились с Юлианом, в точности неизвестно (ну да интеллектуальная среда в Петрограде всегда была тесной), но достоверно, что двадцатилетняя Ирина в двадцатипятилетнего Юлиана была влюблена. Его увлечение Васильевой потрясло девушку до глубины души; ситуация осложнялась тем, что Ирина любила обоих — и каково-то ей было отступить в сторону, отдалившись одновременно и от Щуцкого, и от Лили? В уже приведенном письме к Волошину она жалуется ему — горько, по-детски: «Многое меня очень мучит. Я совсем не бываю у Е<лизаветы> И<вановны>. П<отому> ч<то> я оказалась слабее, чем я думала. Там, где мне нужно было ей отдать Ю<лиана>, я сумела спокойно стушеваться и думаю, что она даже не знает, что это стоило мне так дорого. Но когда нужно ее отдать, я не могу. Когда я приехала и увидала, что ее жизнь так полна им, я бросилась бежать от нее. И так и не смогла себя одолеть…» (2 февраля 1924 года). Лиля, впрочем, все понимала, чувствовала себя виноватой и обращалась к Ирине с покаянными стихами об их внезапной любви к одному и тому же:
- Еще в сердцах пылали грозы,
- И вечер был, как утро, тих,
- И вот одни и те же розы
- Тогда цвели для нас двоих.
- И те же губы. Те же руки
- Касались наших губ и рук,
- Когда в слезах, огне и муке
- Пред нами разомкнулся круг…
- Мой милый друг, мой друг любимый,
- Я все стерплю, я все приму —
- Пусть только крылья Серафима,
- Тебя хранящие незримо,
- Души твоей покроют тьму.
Из них двоих — двадцатилетней и тридцатипятилетней — Юлиан выбрал Лилю. Знакомство стремительно обернулось романом: Лилю ошеломили его одаренность, его страсть к наукам, его почти детская любознательность и доверчивость. Щуцкого ее близость тоже ошеломила, но по-другому. Он, угадав в Елизавете Васильевой, мастере штейнерианства, существо высшей духовной породы, потянулся к ней как к проводнику в те высокие сферы, которые были пока что ему непонятны. Настойчиво спрашивал, перечитывал лекции Штейнера, проводил параллели с религиозными философиями Востока и Запада, апеллировал к христианству; Лиля не уставала с ним заниматься и разъяснять ему тонкости антропософских сюжетов, приоткрывала тайные области оккультизма, рассказывала о Докторе. Так у Юлиана сложились на редкость ответственное понимание антропософии и убеждение в том, что антропософское постижение реальности человеку необходимо, — убеждение, от которого он не отрекся и в 1930-е годы, в преддверии ареста:
Весь познаваемый мною мир реален, но по существу является лишь откровением лежащего в его основе мира духовных существ. В своем самосознании, там, где человек говорит себе самому «Я», он примыкает к этому миру духа, но исторически необходимое мощное воздействие чувственного восприятия временно заслоняет от него весь духовный мир, кроме самопознания. Границы рождения и смерти в настоящее время также ограничивают свободный взгляд на мир духа. Однако все эти границы не абсолютны и при соответствующей серьезной работе и подготовке сознания, сводящейся к его оздоровлению и укреплению, небывалому в обычной жизни, эти границы преодолимы. Признавая себя в своем бессмертном существе, человек приходит к познанию повторности жизней и к повторности законов их причинной связи, того, что в несколько упрощенном и банальном виде известно в буддизме под названием «карма». <…> Признание этих данных накладывает на человека этические обязательства, несколько превышающие те, которые обычно признаются людьми.[226]
Здесь явно слышится голос Васильевой. Понимание вещного мира как отражение вечного, внешнего — как отражение духовного, было ей свойственно на протяжении всей жизни; да и вообще Щуцкий, юный, порывистый, страшно талантливый, будто бы повторял ее молодость — с той только разницей, что в нем не было внутренней трещины, исковеркавшей Лилину жизнь, не было яростного надлома. Думается, не в последнюю очередь именно это умение держать гармонический строй души при любых обстоятельствах (умение, к которому она шла так долго и трудно, а Юлиан им владел будто бы отродясь) Лилю и привлекло.
Юлиан называл ее ласково Личи, Личишей, дав ей понять, что не делает разницы между Лилей и Черубиной: обе они — и неприметная хромоножка с темными лучистыми глазами, и гордая католическая красавица — были им равно любимы. Юлиан, не боясь осуждения, ввел ее в свой — родительский — дом, познакомил с матерью и сестрой, чья первоначальная вполне понятная опаска вскоре обернулась едва ли не восхищением. «Чудесные, широко открытые, будто ждущие чего-то карие глаза, которые казались еще темнее на бледной прозрачности лица с едва уловимым румянцем, робкие движения, то тихие, то порывистые, чудесный голос, умение рассказывать и… „завораживать“»[227] — так вспоминала о Лиле Галина, сестра Юлиана, воспринимавшая «Личишу» не только как старшую подругу, но и как духовную наставницу: ведь ей довелось перевернуть Галины максималистские представления о жизни и обратить ее, стихийную «эллинку» и язычницу, в самоотверженное христианство. «Пожалуй, это самая удивительная женщина, которую довелось встретить в жизни», — вторила дочери Антонина Юлиановна, родовитая полька, чье уважение, а тем более восхищение, было не так-то легко заслужить.
Юлиан принес в Лилин дом рыжего кота Кешку, заставив ее, никогда прежде не державшую питомцев из-за частых отлучек, по-настоящему привязаться к живому и шумному существу. Юлиан сумел сделаться для Васильевой возлюбленным, учеником, старшим сыном («Благодаря тому, что он так молод, она отдала ему и то, что раньше было моим — те бесконечно-внимательные, нежные, материнские кусочки души, к<оторы>е раньше были моими!» — читаем в письме Карнауховой)… Сам звук имени Юлиана, рифмующегося с «Максимилианом», Лиле был дорог и радостен: некогда преданная ученица Волошина, теперь она пробовала себя в роли старшей — и трогательно заботилась о взрослеющем Щуцком («…сейчас он гораздо больше в живописи, чем в стихах. Думаю, что это его путь»[228]), стремилась познакомить его с Волошиным, посвящала ему стихи… Видимо, неспроста в этих поздних стихах, адресованных Юлиану, вдруг неожиданно возникает та самая звездная метафорика, что была свойственна их поэтическому диалогу с Волошиным:
- Туман непроглядный и серый,
- А в сердце — большая звезда,
- Ты звал ее раньше Венерой,
- Но ты без меня был тогда.
- Тогда над путями твоими
- Горели чужие огни, —
- Звезды лучезарное имя
- В тебе исказили они…
- Но пламя и снежные бури
- Не властны над нашей судьбой,
- Звезды нашей имя — Меркурий
- С тех пор, как мы вместе с тобой.
Те же звезды, на которые Лиля смотрела в Крыму с крыши дома Волошина, те же «рунные знаки» — только чувственную Венеру сменяет Меркурий, бог полиглотов и собеседников, бог платоновской дружбы, бог горних сфер. В 1920-е годы Лиля переплавляет и переосмысливает прежние элементы поэтики, в лучших традициях жизнетворчества завершая круг женской судьбы: от Максимилиана — к Юлиану, от ученичества — к наставничеству, от жадного ожидания чуда перевоплощения (помните — «Когда томилась я от жажды, / Ты воду претворил в вино…») — к «умению давать» и самой творить чудеса…
Волошин приветствует Лилино возвращение в поэзию с энтузиазмом. «Что ты поэт — в этом нет сомнения. У тебя сейчас не хватает мастерства, но у тебя все данные к мастерству, — наставляет ее. — Твои стихи сейчас — это талантливые черновики: теперь их надо закончить и в работе выявить все то, что недосказано. <…> Мне бы хотелось сделать это с присланными стихами, но, к сожалению, я почувствовал, что не смею без тебя работать в твоей глине, и, кроме того, не чувствую и не вижу тебя настолько, чтобы верно угадать все твои творческие намерения. Но если я попаду в Петербург, то сделаем это, потому что ты должна быть поэтом. Ни слепоты, ни немоты нет у тебя. Трудность сейчас для тебя только в том, что ты должна быть не ниже Черубины»[229]. Лиля и сама это понимала, поэтому писала нечасто, с оглядкой. Нетерпеливо ожидала приезда Волошина: «Милый Макс! Почему ты меня забыл? А я много, много думаю о тебе и хочу тебя видеть. <…> Отзовись!»
В Ленинград Макс приехал в апреле 1924-го, привез жену — невысокую, крепко сбитую, заботливую и деловую Марусю. Сложились ли у Лили отношения с Заболоцкой-Волошиной, неизвестно (скорее всего, да — до последнего дня она будет нежно писать о Марусе, передавать ей приветы и благодарить за заботу о Максе); зато с самим Максом наконец-то установилась столь бережная и нежная дружба, что лучшего и желать было нельзя. Сохранились воспоминания об их ленинградской встрече: «Нас было много в помещении. Он шел мимо всех, наскоро пожав руку 2-м — 3-м хорошо знакомым, глядя только на Лилю. <…> Сел рядом с нею и весь вечер не отходил от нее ни на шаг. Помню мое впечатление: он видит только ее»[230], сохранилась и фотография второй половины 1920-х годов — Макс в окружении поклонников, с седеющей — соль с перцем — гривой и бородой, и прильнувшая к нему, взявшая его за руку Лиля с открытой улыбкой. Волосы убраны и подстрижены, вдоль щеки вьется локон, одета в черное, на руках и на шее — неброские украшения… В эти годы она, то ли стремясь понравиться Юлиану, то ли в противовес раннесоветскому неприглядному быту припоминая о магии и красоте, увлекается бусами. Пишет Архиппову («только не смейтесь!»): «Я их люблю всякие: стеклянные, деревянные, драгоценные, простые, четки и всякие. Мне надо ощущать на себе эти шарики и овалы и перебирать их ладонями. Я мечтаю о длинной янтарной цепи, похожей на мед, а пока ношу черные граненые — как вериги» (письмо от 18 февраля 1925 года). Кажется, по возвращении в родной Петербург Лиля наконец-то избавилась от ранящего ощущения собственной некрасоты; восхищенный взгляд Юлиана — да и не только его — убеждал ее в том, что она таки довоплотилась. Теперь можно было и принарядиться, подобрав к платью и прическе подходящие украшения, и обустроить, украсив, свой дом. Лиля выбирает для маленькой комнаты в доме на набережной фиолетовые обои, вырезает из цветной бумаги закладки — «бабочек, журавлей, цветы и летучих мышей», — обкладывается старыми книгами, письмами, иногда приглашает друзей…
Тогда, в апреле 1924 года, в этой комнате встретились Лиля, Лида с Владимировым, Волошин с Марусей, Леман и Юлиан. Знакомились, вспоминали всё, что пришлось пережить; Волошин особенно беспокоился — будут ли его стихи о революционной России верно восприняты теми, кто не был свидетелем массовых казней, не голодал, не бежал по охваченной мировым пожаром стране? В одобрении Лили и Лемана он был уверен: «Ты и Борис это пережили, сколько я могу судить, в Екатеринодаре», — но что касается остальных… Он признается, что хотел бы «испытать эти стихи на оселке нескольких и различных петербургских психологий»[231], поэтому 20 апреля вся антропософская семья отправляется слушать чтение Волошина в Комитет современной литературы при Институте истории искусств. Лиля тоже идет, несмотря на то, что в 1920-е годы, по ее же собственному признанию, она практически никуда не ходила, разве что на службу в библиотеку, а время от времени — на концерты и в Эрмитаж. Да еще в маленькую церковь на противоположной стороне Ново-Адмиралтейского канала — в Спас-на-Водах, построенный в память о жертвах Цусимы. По выходным Лиля часто сопровождала туда Елизавету Кузьминичну, и обе они вспоминали Валериана…
Выступление Волошина в Институте истории искусств триумфально. Его «Путями Каина» — цикл беспощадный, натуралистически-обнаженный: груда мышц под ободранной кожей — вызывает восторг. «Как же тебе нужно выпустить книгу!!» — восклицает ошеломленная Лиля. Волошин советует то же самое ей — советует и с практичностью, приобретенной им за революционные годы, предупреждает, что «Черубину» имеет смысл издать отдельно, так как «она будет иметь успех материальный», а продолжать работать в современной поэзии стоит под своим именем.
Конечно, Елизавете Васильевой — при неоднократных переизданиях ее детских пьес и просветительско-популярных историй — нечего и надеяться на издательские предложения. Однако в 1925 году в Ленинград неожиданно приезжает командированный Госакадемией художественных наук Дмитрий Усов, а вместе с ним появляется и надежда, что найдется издательство, готовое рискнуть и поставить сборник Васильевой в свой издательский план.
С Усовым, с легкой руки Архиппова вступившим в переписку с «Черубиной» в 1920-е (предлогом стало предложение Усова перевести кое-что из Рильке для антологии, которую он готовил к изданию), встретились дружески. Тот ехал в город с тайным волнением, видимо намереваясь не только снова «развиртуализироваться» с Черубиной, но и разузнать некоторые подробности ее биографии, о которых жадно выспрашивает Архиппов (в частности, Усов обещает Архиппову написать, кто такой «Ю.К.Щ.» — адресат ее новых стихов). За долгие годы разлуки и несколько взвинченной, экзальтированной переписки с Архипповым Усов успел утомиться. Сколько можно довольствоваться «усталостью снов»? Возможно, встреча с реальной Елизаветой Ивановной сможет расколдовать его и избавить от давнего морока — очарованности Черубиной?
Однако все вышло иначе. Лиля не только его не разочаровала, но и, наоборот, заставила по-иному взглянуть на себя, убедив, что как личность она давно уже переросла Черубину, что та — несмотря на все свое трагическое великолепие — всего лишь одна из граней души Елизаветы Васильевой: духовидицы, антропософа, ученого, визионера, поэта.
Вообще в 1920-е годы Лилины отношения с теневым alter ego, с Черубиной де Габриак, наконец транспонируются в гармонический лад.
Двадцать лет назад, в 1900-е, она мучилась, одержимая бесами, и спасти ее можно было только призвав к жизни более сильного демона: таким поначалу казался чорт Габриак, защищавший от прочих чертей «по знакомству», а потом — посланница «черного Херувима» («Где Херувим, свое мне давший имя, / Мой знак прошедших дней?»), сама порожденная демоническими стихиями, с князем мира сего на короткой ноге. В 1910-е, ужаснувшись той дьявольской власти, которая Черубина приобрела над ней, — отшатнулась, ушла в антропософскую аскезу, отказалась от творчества, предполагая убить в себе демона. Но теперь — после бегства по революционной России, после заботы о детях Екатеринодара, которые умирали прямо на улицах, после расставания с Леманом, после встречи с последней любовью… Одним словом, теперь, когда Лиля перестала бояться своего alter ego, ибо за ее плечами осталось многое куда более страшное, они с Черубиной наконец примирились и научились вполне себе безмятежно сосуществовать. Отныне если Лиля и вспоминает о ней (ведь «корни мои в Черубине глубоки…»), то вспоминает с миром и благодарностью:
- Был синий вечер в небе,
- Был смуглый профиль строг,
- И в рыжих косах гребень
- Придерживал цветок.
- И сердце все до края
- Открылось в этот час,
- Горел, не отгорая,
- Лиловый пламень глаз.
- Я помню непокорный
- Ресниц крылатый взмах,
- И шали шелк узорный
- На матовых плечах,
- И легкий след сандалий
- На розовом песке…
- Как пальцы задрожали,
- Прильнув к твоей руке…
- Но ты сказала слово,
- И это слово «нет».
- От глаз твоих лиловых
- Остался в сердце след.
- Так, в вечер темно-синий,
- Я начала союз
- С мучительной богиней
- Из хора светлых Муз.
С мучительной, да, но — из светлого хора.
А розовый песок, на котором остается запечатленный след, — разумеется, коктебельский.
Надо сказать, что хотя Лиля и продолжала подписывать письма Архиппову именем Черубины, те дни, когда она стремилась предстать перед кем-либо в образе «завороженной колдуньи», давно миновали. Усов это почувствовал после первой же встречи — а после второй, в 1926-м, окончательно укрепился в своем впечатлении и, предостерегая Архиппова против чрезмерной экзальтации в письмах к Васильевой, обращался к нему:
Наша беседа приняла, между прочим, такой оборот. Она усумнилась, что людям может быть от нее нужно. В частности, — мне. Я сказал ей, что в моем отношении к ней нет и тени какого бы то ни было «коллекционерства», что я всегда видел и вижу в ней высокое, целостное, духовное начало, которое для меня питающее, плодотворящее и дает опору. <…> С нею, вообще, очень трудно стало разговаривать. Трудно подойти к существенному, а, подойдя к нему, очень трудно убедить ее в чем бы то ни было. Она в каком-то смысле смотрит мимо всего. Вот еще Вам мой совет относительно Нее (основанный исключительно на моем диагнозе ее общего настроения): пишите ей больше о себе, говорите с ней на языке людей, а не на том, на котором обращаются к божеству. Она, все-таки, живая женщина, и не надо уводить ее «в небеса отвлеченных конструкций». М<ожет> б<ыть>, она и сама этого не хочет.[232]
Заметим, однако, что, говоря о Лиле, Усов по-прежнему называет ее Черубиной и то и дело сбивается на высокое — обожествляющее — «Она». Лиля же, намереваясь «официально» вернуться в литературу, хочет вернуться под именем Елизаветы Васильевой.
Именно как Васильева она собирается выпустить книгу, которую в 1926 году просит у нее московское кооперативное поэтическое издательство «Узел», организованное и существующее на чистом энтузиазме ряда московских поэтов — П. Антокольского, П. Зайцева, В. Звягинцевой, В. Луговского, С. Парнок и др. Усов, подвизавшийся в «Узле» как внештатный редактор, обещает содействие. Вместе они начинают составлять сборник, с которым Елизавета Васильева сможет вернуться в поэзию…
Сборник получается тоненький, всего 27 стихов. Название выбрано незатейливое — «Вереск». Поверье гласит, что вересковым дымом окуривали жилище, выгоняя из дома злых духов. Эта символика, косвенно отсылающая к добродушному Габриаху, конечно, важна, но важнее другое: то, что букеты из вереска на Английскую набережную приносил Юлиан — и, соответственно, в Лилиных стихотворениях 1920-х упоминание о вереске часто сопровождает ее размышления об этой внезапной и трудно дающейся поздней любви:
- Ты сказал, что наша любовь — вереск,
- мой любимый цветок, —
- но крепко заперты двери,
- темен Восток.
- И мы позабыть не можем
- красоты раздробленный лик, —
- тебя манит смуглая кожа,
- меня — рот цвета гвоздик…
- И слаще, чем сок виноградин,
- для меня этот алый рот,
- а твой взор по-иному жаден,
- тебя смуглая кожа жжет.
- И, значит, нет чуда
- единой любви…
- Каждое сердце — Иуда,
- каждое сердце — в крови…
- Не носи мне лиловый вереск,
- неувядающий цвет…
- Мы — только жалкие звери,
- а любви — нет.
Вероятнее всего, именно этот накал плотской страсти, эта пусть минутная, но победа звериного над духовным и заставляли того же Дмитрия Усова неодобрительно отзываться о подобных стихах: «Это — не Черубина и, вообще, никто и ничто. Пустота».[233] Однако, как кажется, его реакция была вызвана не столько недостатками самих стихов, сколько плохо сдерживаемой мужской ревностью и читательским ошеломлением: от Черубины, чарующей пряной чувственностью, никто не мог ожидать столь безоглядной и даже бесстыдной в своей откровенности страсти, а Лилю после встречи с Щуцким она накрывает.[234] Да как накрывает! «Чудотворным молилась иконам, / Призывала на помощь любовь, / А на сердце малиновым звоном / Запевала цыганская кровь…» — пишет Лиля, сама поражаясь силе и интенсивности охватившего ее чувства и кстати припоминая о примеси цыганской крови со стороны матери: как же еще объяснить это чувственное упоение, это стремление вырваться на свободу вместе с любимым?
- Эх, надеть бы мне четки, как бусы,
- вместо черного пестрый платок,
- да вот ты такой нежный и русый,
- а глаза — василек…
- Ты своею душой голубиной
- навсегда затворился в скиту —
- я же выросла дикой рябиной,
- вся по осени в алом цвету…
- Да уж, видно, судьба с тобой рядом
- свечи теплить, акафисты петь,
- класть поклоны с опущенным взглядом
- да цыганскою кровью гореть…
«Алая в алом, от алых волос» — так когда-то писала юная Черубина, еще не знавшая «любовной порчи», но готовая ей открыться. Десятилетия спустя Лиля возвращается к этому алому пламени страсти — страсти, по-видимому изначально охватившей обоих, и женщину, и мужчину. Лилю манили юная стать Юлиана, наивность, невинность и пылкость, Юлиана притягивали ее искушенность, опыт перенесенных страстей. Однако физическое состояние Лили, здоровье ее, было слишком слабо — и, вероятно, чрезмерное эротическое напряжение вкупе с эмоциональными переживаниями совершенно ее обессиливало. Пожалуй, ее, с ее давней сердечной болезнью («Мое сердце непрестанно болит. Болит от всего — от обид и от радости» — из письма Архиппову от 16 октября 1925 года), с «припадками печени», длившимися по несколько часов и оставлявшими ее в страшном изнеможении, этот яростный Эрос мог просто убить.
Юлиан это понял и отступил.
Их отношения остались высоким духовным родством, практически бесплотным, но только усиливающимся с годами. Когда Щуцкий был болен и перенес операцию, Лиля ухаживала за ним; когда он поправился, предполагала поехать вместе с ним в Коктебель и пожить там у Макса, восстанавливаясь и отдыхая душой… Прежняя страстная близость между Лилей и Юлианом постепенно должна была уступить место нежности, бережности, тихой ласке. Они не говорили о любви и не строили планы на будущее: они «лишь боялись надолго расставаться и все держались за руки, дорожа оставшимся им сроком».[235]
Оба визионеры и духовидцы, да и просто — люди, наделенные ясным чутьем исторической логики, Лиля и Юлиан понимали, что срок им отпущен недолгий.
Впрочем, судьба подарила Васильевой еще пару благополучных лет. Юлиан, озаботившийся ее здоровьем, в июле 1926-го отправляет ее отдыхать под Москву — в Нижнее Мальцево, в дом к инженеру-химику Алексею Дмитриевичу Лебедеву (между прочим, родному дяде его будущей жены Ирины — но в 1926 году Щуцкий пока что не знает об этом). Вся семья Лебедевых бережно опекает ее и даже вывозит в Дивеево на коротенькое паломничество к Серафиму Саровскому. «Здесь солнце и деревья. Я отдыхаю», — отвечает Лиля Архиппову на вопрос о здоровье; ей, горожанке, эти несколько летних недель в окружении друзей и деревьев кажутся настоящим санаторием. Кроме того, удается побывать и в Москве: Лиля видится с Дмитрием Усовым и знакомится с его юной женой, заезжает в издательство «Узел», чтобы лично отдать туда рукопись «Вереска»; Софья Парнок уверяет, что книгу опубликуют, и хвалит ее стихи…
Это было ее последнее счастливое лето.
«ДУША УЖЕ НАДЕЛА СХИМУ…»
Письма Лили 1926 года, несмотря на недомогание, одолевающее ее все сильнее и чаще, веют умиротворением. Лиля рада редким встречам с друзьями, рада поездкам и чтению, рада «строгим линиям Петербурга, и нашей синей Неве, как сапфир на груди Богородицы. Рада своим тихим комнаткам и рыжему коту Кеше»[236]…
Так она пишет Архиппову, однако ее радость тиха и подсвечена невеселым предчувствием. Примерно с этого же времени в ее письмах начинают звучать мотивы затвора и схимы («Я мало могу сказать вам о литературном Петербурге, я — схимница, и моя келья закрыта для всех»): то ли вследствие болезней, часто не позволяющих ей выходить из дома, то ли потому, что над разрозненным Антропософским обществом собирается буря?
Кажется, впервые Лиля со всей ясностью ощутила этот сумеречный исторический холодок после поездки к мужу в Ташкент. Она уезжала летом 1925 года, бодрая и веселая, не предполагая, что там ее ожидают, по ее же собственному уклончивому признанию, «всякие огорчения». Судя по тому, как нарочито вскользь Лиля пишет об этом (и это Архиппову, с кем привыкла делиться и радостью, и огорчениями!), а также по пророческой оговорке, оброненной по возвращении: «…если судьба меня когда-нибудь забросит в Нарымский край, то всё же помните меня»[237], — дело заключалось в аресте Всеволода Николаевича.
Служивший у белых (несмотря на отсутствие документальных свидетельств, в этом все же можно не сомневаться), не сумевший найти в Петрограде работу и опасавшийся новых преследований, он уехал в Ташкент строить водную станцию — зарабатывать и скрываться от чересчур пристальных взглядов. Но и в Азии скрыться не удалось. Васильев попал на прицел, его взяли, чуть позже выпустили; исходя из логики более-менее вегетарианских 1920-х годов, ему грозило если не заключение, то ссылка в Сибирь — отсюда и Лилина обмолвка о «Нарымском крае», куда она, вероятно, планировала поехать за мужем. Однако история распорядилась иначе, и Лиля попала под удар первой.
Вернувшись из Туркестана, она уже отдавала себе отчет, что относительное спокойствие закончилось и что преследования инакомыслящих — дело лишь времени, и довольно недолгого. Взялась приводить в порядок земные дела: окончила курсы, собрала книгу, ввела в маршаковский круг, где ее принимали по старой памяти, Юру Владимирова, вскоре сделавшегося самым молодым членом группы ОБЭРИУ, подготовила Юлиана как антропософа к самостоятельному пути… Галина Константиновна Щуцкая вспоминала, что в эти годы Лиля особенное значение придавала совместным сосредоточенным медитациям, помогая ученику и возлюбленному научиться особым энергетическим техникам — своего рода чтению космических знаков и символов. По словам Щуцкой, порой эти символы были ужасны; тогда Лиля, «читавшая» их, словно бы успокаивая Юлиана, «своим теплым голосом говорила»:
— Друг мой, я уйду раньше тебя и уж, конечно, буду ждать тебя не менее десяти лет… ведь таков срок, ведь душа моя пришла в мир именно на столько лет раньше…
И утешением пусть будет то, что увидишь своими глазами здесь на земле события, которых все ждут… а они суждены уже после 35 года… И будут они по значимости приближаться к событиям Голгофы. Будет ли то рождение в пламени нового духа? Будет ли приход Высшей Великой Души? Или что-то совсем иное… Но годы эти отмечены издревле.
Как ни страшны будут дни — а узрят их люди, отмеченные Господом, как были отмечены те, кто жил во времена Иисуса Христа, особенно кто пострадал вместе с Ним. Но даже и те, кто мучил, кто терзал Его, по-своему избраны: ведь неразумные эти души, может, лишь таким путем могли сломить свою черствость и грубость и подойти к осознанию пути человеческого. Ибо должны же люди как-то понять, что все они братья, все родные…[238]
Точность ее толкований ошеломляет. Действительно, Юлиан переживет Лилю ровно на десять лет: 18 февраля 1938-го его расстреляют по подозрению в шпионаже в пользу Японии (он туда часто ездил в командировки, в том числе и мимо города Лилиной ссылки). Действительно, после 1935 года начнутся годы Голгофы, обещанные в предсказаниях. Действительно, многие, лишь пережив эти годы, придут к осознанию, что путь человеческий состоит в любви и защите, а не в беспощадном уничтожении друг друга…
В общем, можно с уверенностью сказать, что незадолго до собственной смерти Лиля наконец разрешила себе видеть.
Прежде ее до потери сознания пугал этот дар, прежде она запрещала себе духовидение, опасаясь грозящей безумием встречи с неведомым. Но теперь… Теперь она использует любую возможность, чтобы предупредить дорогих ей людей о сужденной и приближающейся Голгофе. Так, в письме Усова от 22 июня 1926-го читаем: «Ч<ерубина> де Г<абриак> подарила мне Псалтирь с надписью: „1926. СПб. Троица. ХС, 11, от Елис. В.“. Соответ<ствующий> стих псалма гласит: „Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе, сохранят тебя на всех путях твоих“ (что это, если не бережное предупреждение? — Е. П.). Подчеркнуто (Ея рукою) красными чернилами. Я был у Нея в Троицын день. Мы много говорили о времени…»
Время, к которому они приближались, в которое неотвратимо вступали, виделось Лиле (как и многим из ее сверстников — выходцев из символизма) временем искупления. Лиля, судя по всему, знала, через что именно — и за что — ей придется пройти. Возможно, ее памятные слова: «Мне очень трудно жить внешне, трудно работать на курсах, трудно видеть людей. Душа уже надела схиму»[239] — обусловлены тем, что, готовясь к собственному пути на Голгофу, она последовательно отрешалась от земных связей и отношений? В любом случае эта готовность к схиме и искуплению всецело определяет ее жизнь второй половины 1920-х годов. Не случайно Архиппов в 1927-м, уже зная о том, что произошло с Лилей и что ей еще уготовано, завершит биографию Черубины, собранную им из выдержек из ее писем, цитат и стихов, именно этим признанием:
Одно верно — нечто от Сивиллы есть во мне — только это горечь уже: в наше время нести эту нить из прошлого, Сивиллину муку настоящего, потому что теперь ей не дано ясного прозрения, но даны минуты ясного сознания, что не в ее силах удержать истоки уходящего под землю ключа.
Так в Средние века сжигали на кострах измученную плоть для вящей славы духа.
Теперь от мира я иду в неведомую тишину и не знаю, приду ли. И странно, когда меня называют по имени… И я знаю, что я уже давно умерла, — все вы любите умершую Черубину, которая хотела все воплотить в лике… и умерла. А теперь другая Черубина, еще не воскресшая, еще немая…
Не убьет ли эта теперешняя, кот<ор>ая знает, что колдунья, чтобы не погибнуть на костре, должна стать святой, — не убьет ли она облик девушки из Атлантиды, которая все могла и ничего не сумела? Не убьет ли?
Сейчас мне больно от людей, от их чувств и, главное, от громкого голоса.
Душа уже надела схиму.[240]
Вскоре из всех стихов Елизаветы Дмитриевой-Васильевой уцелеет лишь то, что было собрано и переписано им. Остальное осядет в архивах НКВД и уйдет в небытие.
Час искупления, которого Лиля ждала, приближался.
В самом начале 1927 года она тяжело заболела (перенесла припадок болезни печени, длившийся 13 часов) и все Рождество пролежала в постели. После оправилась, строила планы на лето, намереваясь его провести в Коктебеле; 31 марта Макс с женой прибыл в Ленинград на открытие волошинской выставки акварелей, Лиля еще успела с ним повидаться и побывать на открытии… Это была их последняя встреча. Через несколько дней после отъезда Волошиных за Лилей пришли.
Об этом Волошину написала Лида Брюллова — со свойственной ей откровенностью и практически не заботясь о собственном сохранении:
Дорогой Макс,
у нас нехорошо. Очень скоро после твоего отъезда арестовали Лилю и Бориса. По тому, что у них взяли все книги, — надо думать, что нашли подозрительным их образ мысли. Но теперь им предъявлена статья 58 § 11 — это — «активная борьба с рабочим классом при царском правительстве и при белых». Как видишь, это хуже. Думаю, что удастся выяснить правду — что они ни сном ни духом не виновны.
Дорогой Макс, не пишу много, п<отому> ч<то> сам понимаешь — не легко. Целую тебя.[241]
Лилю и Лемана взяли в ночь с 21 на 22 апреля.
Сохранился пронзительный в своей неприглядности протокол обыска в доме на Английской набережной — протокол, демонстрирующий почти гротескную бесплотность Лилиного бытия, не имеющего с хваткой «века-волкодава» ровным счетом ничего общего:
Согласно данным задержана ВАСИЛЬЕВА Елизавета Ивановна.
Взято.
Медальон на цепочке с волосами (Господи, чьими? Уж не Юлиана ли? — Е. П.), минеральные камни и деревянный крестик.
Антропософические знаки, книги антропософического свойства, переписка, фотографии, письма.
100 (сто) рублей, обнаруженные в конверте с адресом Агнессе Федоровне Форсман.[242]
Последняя строка убеждает, что к 1927-му ложа Ильи Пророка функционировала прежде всего в качестве кассы взаимопомощи (об этом читаем и в протоколе: «…общество имело кассу, куда стекались денежные пожертвования членов общества для ведения организационной работы. Касса служила также для взаимопомощи нуждающимся антропософам…»). Впрочем, тех, кто осуществлял обыск, это не убеждает. Антропософские артефакты (особенно «минеральные камни») были изъяты со всеми предосторожностями, Елизавету Ивановну поместили в Дом предварительного заключения (известный в народе как «Домой Пойти Забудь») на Шпалерной улице. Начались дни и ночи допросов, изматывающих объяснений: чем занималась на службе в Осваге деникинской армии (именно служба в Осваге была основным обвинением, предъявленным Лиле и Леману)? Какую контрразведывательную работу вела? В какое мистическое общество вовлекала гражданское население Екатеринодара? И еще — когда начала заниматься антропософией? Кто входил в общество? С какой целью организовывались собрания? Чем занимались при встречах?..
Протоколы допросов Васильевой изобличают ее простодушие и полную неспособность сопротивляться следовательскому натиску. Да и был ли он, этот натиск? Скорее всего, на допросах Лиля безропотно отвечала всю правду, не задумываясь о том, что разумнее было бы не упоминать имен близких и не показывать столь откровенно на себя как на руководителя нелегального общества. Однако о старых тюремных заветах, предписывающих называть на допросах как можно меньше фамилий, она по понятным причинам не знала, и ее протокол представляет собой образец откровенности:
Будучи подтверждена за дачу ложных показаний, по существу показываю.
Антропософией начала заниматься 20 лет тому назад, сначала читала книжки (данные Максимилианом Александровичем Волошиным и Маргаритой Васильевной Сабашниковой). С 1912 года состою членом Антропософского общества. <…> Вернулась в Ленинград весной 1922 — здесь нашла антропософические кружки и лиц, интересующихся антропософией. Эти лица и по сию пору продолжают встречаться, читают совместно книги и лекции, изучая их.
Таковых кружков в данное время в Ленинграде — четыре. Один группируется около Б.А. Л<емана>, его жены и их близких друзей. Другой кружок связан с Б. Е. Рапгофом и его женой, третий с Лидией Павловной Владимировой — этот кружок занимается исключительно эвритмией (антропософическое искусство танца) и четвертый кружок — мой.
Во время наших встреч мы читали лекции или книги доктора Р. Штейнера, объясняя их с антропософической точки зрения. Ничем иным мы не занимались…[243]
О sancta simplicitas! Ведь называет же имена, ничего не скрывая, — вплоть до имени только что уехавшего Волошина, вплоть до имени Лиды! Лиду, между прочим, тоже вскоре возьмут, — правда, лишь на неделю; а вот имени Юлиана во время допроса так и не прозвучит. То ли в его случае у Лили сработала интуиция, то ли ей просто невыносимым казался звук его имени в этих стенах?
Ну да по протоколам допросов понятно, что хотя Леману и Васильевой и вменяют антропософию как нелегальщину, но основная причина ареста — Осваг. На обвинение в антисоветской деятельности в годы Гражданской войны нанизываются, как на стержень, обвинения и в создании контрреволюционных (точнее — антиреволюционных) организаций, и в хранении недозволенной литературы, и в руководстве тайными группами. Все это вместе приводит к ожидаемому приговору:
Лемана Бориса Васильевича заключить в концлагерь сроком на три года. <…> Имущество конфисковать. Васильеву Елизавету Ивановну выслать через ПП ОГПУ на Урал сроком на три года.
Во время вынесения приговора Лиля была на свободе — условно: 31 мая ее освободили из Дома предварительного заключения под подписку о невыезде из Ленинграда (Леман, вероятно как более опасный, вплоть до отправки в концлагерь сидел в ДПЗ). Июнь 1927-го она провела дома. Получила свидетельство об окончании Высших курсов библиотековедения при Государственной публичной библиотеке, закончила работу над адаптацией пьесы «Репка» для ленинградского ТЮЗа, дописала несколько статей в сборник «Театр Петрушки» (выйдет он уже после ее высылки…). Отправила письма в Крым и в Новороссийск: Волошину сообщила, что 1 июня «вернулась» («Последнюю неделю вместе со мной была и Лида. Теперь мы вернулись обе, — но Борис остался»[244]), Архиппову тихо пожаловалась на усталость (впрочем, припомнив, что Гумилеву, о котором они переписывались в последнее время, пришлось куда хуже) и на то, что лишилась архива — по-видимому, навсегда:
Я была в отсутствии 6 недель, со Страстного четверга до Вознесения, — это короткий срок — Николай Степанович провел там времени много больше. Физически я разбита и душевно тоже. <…> Пропали все мои книги, все стихи, все карточки. Вы, Евгений, единственный человек в мире, имеющий мои стихи. Судьба жестока ко мне. На этот раз Черубина умерла навеки, и Вам пишет письмо ее бледная тень…[245]
Через три дня, 29 июня 1927 года, Лилю снова возьмут. В графе протокола об обыске, требующего предоставить опись отобранных у обвиняемого вещей, будет значиться прочерк: за месяц, проведенный на воле, обвиняемая ничем не успела обзавестись.
1 июля ее отправили по этапу в Свердловск. Летний этап — в «Столыпине», вагонзаке, с забитыми окнами, в переполненном зарешеченном купе-камере — был не столь смертелен, как зимний, когда многие, битком набитые в нетопленую теплушку, попросту не доезжали до места, — но для Лили, с ее сердечной болезнью, оказался непереносим. Она никогда не рассказывала подробно ни об этапе, ни о пересыльной тюрьме в Свердловске — но мы-то можем догадываться: страшная духота, недостаток воды, вонь, жара, скученность, первая встреча с блатными… В вагоне у нее, беспомощной, украли вещи, а потом ей же, глумясь, предлагали их выкупить. В Свердловске на пересылке втолкнули в общую камеру: уголовники сидели вперемешку с «бытовиками» и политическими, процветало воровство, блатное самоуправство. Лилю мучили боли, сердечные приступы; не умея отвоевать себе места на нарах, она задыхалась внизу…
«Месяц физической пытки. Голод, — кратко и явно не желая вспоминать, напишет она Архиппову в августе того же года — уже из Ташкента. — Но друзья хлопотали». О каких друзьях идет речь, непонятно (тут уже Лиля не называет имен, опасаясь им повредить; да и Архиппову пишет с тем, чтобы предупредить его о возможной опасности их переписки). Скорее всего, постарался Волошин — в одном из писем Лиля благодарит его за хлопоты и за любовь, — а может быть, и Маршак. Оба они понимали, что ни в заключении, ни в северной ссылке Лиле не выжить. Возможно вмешательство и куда более влиятельного Лилиного знакомого, почти родственника — мужа свояченицы: Мария Васильева, младшая сестра Воли, вышла замуж за Вячеслава Менжинского, с 1926 года — председателя ОГПУ, в прошлом — антропософа. После революции оставивший Общество, Менжинский тем не менее явно сочувствовал бывшим собратьям: при его председательстве сроки за антропософию были детскими — три-пять лет, причем отбывали их преимущественно не в заключении, но в ссылке (а вот в 1930-е годы последовали лагеря и расстрелы). Что ему стоило пересмотреть дело родственницы и смягчить наказание?
Так или иначе, хлопоты неизвестного друга возымели действие. 1 августа Лиле предъявили смягченную версию приговора — высылка минус шесть городов (Москва, Ленинград, Харьков, Киев, Одесса, Ростов-на-Дону), с правом самостоятельно выбрать город для проживания.
Лиля выбирает Ташкент.
Существовали ли другие варианты? Возможно, Волошин предлагал Феодосию, а московские друзья — ближние города «за сто первым километром» — Рязань, Александров, Владимир? Теплые южные гавани также для нее не запретны: думала ли она о том, чтобы поехать в Новороссийск к Архиппову, который уж конечно нашел бы для нее место, или в Екатеринодар, где еще помнили «Птичник» и детский театр?
Наверняка подобные предложения звучали. Но Лиля, осознавая, что после изматывающего заключения она уже не оправится, попросту не желает отягощать кого-либо обязанностью ухода за ней. Да и друзья ее: Усов, Архиппов, шекспировед Смирнов, не открещивающийся от знакомства со ссыльнопоселенкой и даже предлагающий ей работу… Понимают ли они, чем это может грозить? Не обернется ли их доброта неприятностями для них же? Нет, уж лучше ехать к «меченому» Воле, которому нечего терять, ибо, недавно освобожденный, он тоже под подозрением. К тому же в Ташкенте у Воли — постоянный адрес, устроенный быт: в доме 9 по Крючковскому переулку, нанятом Всеволодом Николаевичем у вдовы Власовой, Лиля останавливалась и прежде — ей нравились шум арыков, шелест чинар во дворе, нравился небольшой флигель с террасой, в которую вросла старая груша…
Туда она и отправляется в августе 1927-го — с тем, чтобы, встретившись с мужем и поселившись в максимально комфортных, насколько это было возможно в ссылке, условиях, спустя две недели, 26 августа, отправить Архиппову отчаянное письмо со словами: «Здесь я умираю».
ДОМИК ПОД ГРУШЕВЫМ ДЕРЕВОМ
Почему так? Почему в хлебном, солнечном и, казалось бы, благополучном Ташкенте Лилю одолевает такая тоска?
Ее быт налажен — Всеволод Николаевич постарался как мог. Освободил флигель, где Лиля могла бы жить в тихом уединении, выкрасил маленькую светлую комнату, напоминавшую келью, в Лилин любимый фиолетовый цвет — чтобы было как в Петербурге, раздобыл фотографию того самого изображения Иисуса Христа, которое, по словам Штейнера, больше всего походило на Его прижизненный облик. Волошин, получив от нее сообщение, что утрачены все картины и фотографии, прислал несколько акварелей — посещавшие Лилю в Ташкенте друзья вспоминают, что вся стена ее комнаты была ими украшена, а на столе в керамической чашке поблескивали коктебельские камушки. Их Лиля любила перебирать, отрываясь по временам от привычной работы — чтения и переводов: уже упоминавшийся Александр Смирнов попытался привлечь ее к новому коллективному переводу «Дон Кихота». Но, увы, сил ее не хватает даже на обожаемого Сервантеса, а то, что сделано, напечатать не получается, и оно оседает в архивах.
Не получается и поверить, что здесь, в Крючковском переулке, теперь ее дом. Несмотря на искренние старания мужа, восстановить привычную обстановку, в последние годы бывшую для Лили истинной «заменой счастия», уже невозможно. Жара, противопоказанная ей, притерпевшейся к влажному петербургскому климату; отсутствие полюбившейся работы со старыми книгами, в которых она находила спокойствие и умиротворение; расставание с друзьями; жизнь вместе с Волей Васильевым — к нему Лиля, конечно, испытывала благодарность, но необходимость совместного быта ее тяготила, — все это медленно и неуклонно подтачивало ее силы, лишало устойчивости. Только-только обосновавшись в Крючковском и не успев даже как следует отдохнуть от мучительного заключения, Лиля уже начинает рваться обратно — на север. Показательно ее письмо к Максу, написанное по истечении нескольких месяцев ссылки:
Дорогой Макс! <…> Я ведь очень верю в тебя, и от тебя мне не трудно просить помощи. Милый, если еще можешь помочь мне — помоги (через В.), чтоб мне скорее вернуться домой. Мне тяжело здесь думать о 3-х годах.
Мне очень надо быть дома, я так устала, что сил у меня уже не хватает больше. Я думаю, что это — последние годы моей жизни. Мне хочется быть «дома», с любимыми. Ты поймешь меня, Макс. Здесь мне очень холодно и одиноко.
Мне не трудно просить тебя, Макс.[246]
Да, Макс, даже в страшные революционные годы отовсюду стремившийся в Киммерию, понимал Лилю в ее исступленном желании вернуться домой. Только что он мог сделать? Обратиться к таинственному «В.» — как предполагают, Волькенштейну, Лилиному знакомому по «Птичнику», сделавшему неплохую карьеру советского адвоката, специализировавшегося на «процессах» собратьев-писателей?[247] И что означают эти слова — «дома…» (ну, это-то ясно), «с любимыми»: значит, Воля — не в счет, нелюбимый?
По-видимому, внутренней близости между ними давно уже нет. Воля старается, но стремление Лили к интенсивному духовному контакту, к той высоте и насыщенности общения, которое было у нее с Юлианом, Владимировыми и Волошиным, — не для него. Он нередко уезжает в командировки, в том числе и далекие; Лиля остается одна и тоскует по упорядоченной прежней жизни — по матери, по ласковой и спокойной Лиде Брюлловой, по ее шумным детям, конечно, по Юлиану…
Впрочем, с Юлианом она очень скоро увидится. Тот, выяснив, что Лиля отбывает наказание в Ташкенте, просит руководство Азиатского музея Академии наук отправить его в Японию как перспективного молодого сотрудника — в целях ознакомления с научно-исследовательской деятельностью японских синологов. По дороге в Японию заезжает в Ташкент. Облик Лили, испуганной, истощенной, измученной болями, вызывает в нем жгучее сострадание. Поддержать бы ее, вдохнуть в нее жизнь — только как? Всё, что давало ей силы и мужество, отнято: заниматься антропософией запретили (она и сама написала расписку в ленинградском ГПУ, подтверждая, что впредь не считает для себя возможным вести работу в антропософских собраниях, носящих хоть какой-либо организованный характер), книги изъяли, работы в Ташкенте для нее нет… Стихи? Однако известие о том, что собранный с таким старанием «Вереск» рассыпали («„Вереск“ завял, засох навсегда…»), наводит на Лилю глубокую грусть. Она не хочет больше писать стихов и говорить о них. Но, может быть, пусть это будут… Пусть это будут, как некогда в Киммерии, чужие стихи?..
В 1909 году ресурсной фигурой для маленькой неуверенной в себе Лили была Черубина — царственная, независимая и гордая. В 1927-м такой фигурой мог бы стать некто смиренный, с достоинством несущий собственное изгнание и одиночество. Монах, отшельник, философ — и при этом поэт…
История поэта в изгнании — классическая история, вечный, бродячий сюжет. Был Овидий, был Данте… Но это всё не то, это всё не подходит. Здесь — Восток, «ангел этой страны — с плоским желтым лицом, одетый в полосатые, шелковые ткани», как говорит сама Лиля. Почему бы ей в таком случае не обернуться восточным — китайским! — философом из домика под грушевым деревом, распоровшим террасу? Или, по крайней мере, — почему бы не перевести на русский цикл стихов этого самого изгнанного Ли Сян Цзы?
Так из полушутливого предложения Юлиана (собственную фамилию также стилизовавшего под китайский и подписывавшегося как Ю-Ли-ян Шу-дзы) родилась последняя мистификация Елизаветы Дмитриевой-Васильевой — цикл миниатюр «Домик под грушевым деревом».
Рассказывая Архиппову историю своего последнего псевдонима, Лиля писала: «Грушевое дерево существует, оно вросло в террасу флигелька, где я живу. Это дало повод Ю<лиану> называть меня по китайскому обычаю Ли Сян Цзы — философ из домика под грушевым деревом — и предложить мне, как делали китайские поэты в изгнании, написать сборник…» (1 мая 1928 года). То ли она не знала подлинного значения выбранного для нее псевдонима, то ли не сочла нужным раскрыть его? Между тем имя, которым нарек ее Юлиан, — говорящее и многозначное, ибо соединяет в себе как отсылку к философу Хань Сян-цзы, одному из Восьми бессмертных даосского пантеона, так и ключевое понятие китайской философии Ли, воплощающее идеальное метафизическое и этическое начало и управляющее космическими энергиями — в противоположность материальному Ци. Много позже Юлиан говорил, что Васильева даже через годы после ее смерти продолжает быть центром его сознания «как морально творческий идеал человека»; должно быть, отсюда и летучее «Ли», средоточие и центр духовных энергий. Да и еще ее собственное имя — Елизавета, Лиля, Личиша…
Щуцкий сам придумал название для цикла, сам расписал его логику, сам сочинил предисловие, лишь слегка припорошив пеплом иносказания реальное положение вещей:
В 1927 году от Рождества Христова, когда Юпитер стоял высоко на небе, Ли Сян Цзы за веру в бессмертие человеческого духа (sic! — Е. П.) был выслан с Севера в эту восточную страну, в город Камня. Здесь, вдали от родных и близких друзей, он жил в полном уединении, в маленьком домике под старой грушей. Он слышал только речь чужого народа и дикие напевы желтых кочевников. Поэт сказал: «Всякая вещь, исторгнутая из состояния покоя, поет». И голос Ли Сян Цзы тоже зазвучал. Вода течет сама собой, и человек сам творит свою судьбу: горечь изгнания обратилась в радость песни.
Не сказать, чтобы Лиля была так уж сильно увлечена этой мистификацией (в отличие от Щуцкого, мало того что обожавшего всяческую «chinoiseri», так еще и примерявшего на себя роль мифотворца Волошина, коим восхищался; недаром Лиля так часто их сравнивала![248]): все-таки Ли Сян Цзы для нее не стал Черубиной. Но некоторые стихи — главным образом те, что были обращены к Юлиану и выдавали ее тоску по их общему, почти семейному ленинградскому быту, — удавались особенно хорошо:
- Мхом ступени мои поросли,
- И тоскливо кричит обезьяна;
- Тот, кто был из моей земли, —
- Он покинул меня слишком рано.
- След горячий его каравана
- Заметен золотым песком.
- Он уехал туда, где мой дом.
- («Разлука с другом»)
И — написанное уже после отъезда Юлиана и как бы вдогонку:
- Нет больше журавля!
- Он улетел за другом,
- Сомкнулось Небо кругом,
- Под ним такая плоская Земля!
- О, почему вернуться мне нельзя
- Туда, домой, куда ушел ты,
- А следом за тобой журавль желтый.
- («Журавль»)
Юлиан уезжает. Лиля вновь остается одна. Пишет китайские миниатюры, читает, болеет; живет как затворница, к людям идти не решается, чтобы не принести им несчастья. «Я никого не вижу здесь, — пишет Волошину (курсив Лили. — Е. П.). — Так я нахожу нужным, потому что так лучше для других» (30 октября 1927 года). И Архиппову — с осторожностью и оглядкой: «Не думайте, что я хочу втянуть Вас в переписку, которая Вам, должно быть, уже не нужна. Если я вообще всегда была для Вас — Тенью, то сегодня я только уже Призрак этой Тени. <…> Мне очень дороги Ваши строки, но я понимаю, что нельзя писать писем в Аид» (22 декабря 1927 года).
Лилина забота о близких понятна: обжегшись еще в Ленинграде о Лидин арест и боясь за друзей, она избегает как прежних, так и новых контактов. Архиппов, однако, переписку не обрывает — напротив, всячески напоминает Лиле (вернее, Черубине), что она и ее поэтическая история по-прежнему ему дороги. Более того: стоит ему узнать, что сборник Васильевой «Вереск» не выйдет, как он немедленно принимается за создание собственной книги! Перепечатывает на машинке ее стихи и стихи, обращенные к ней (включая посвящения Л. Брюлловой и Д. Усова), прилагает собственные статьи о поэзии Черубины, приветствуя «глухой, жуткий подводный и китежный звон Черубины де Габриак. Звон, преследующий наяву»[249]. Лиля, получив от него не то копию книги, не то переписанные цитаты, с удивлением и благодарностью откликается: «Книга — вернее то, что сделали, — правда чудесно — я как умершими глазами смотрю на нее…»[250]
Но еще больше, нежели переписка с Архипповым, поддерживает ее постоянная, хотя, увы, и эпистолярная, близость и забота Волошина.
Не имея возможности самому навестить Лилю, Волошин организует своего рода паломничество в Ташкент, отправляя вместе с друзьями, решившимися ехать туда, всевозможные маленькие сюрпризы. «В конце лета я послал ей коктебельских камушков, веток, полыни и акварелей, — отчитывается он Архиппову, все сильнее переживающему за Лилино самочувствие — как душевное, так и физическое. — Наша приятельница, заезжавшая к ней в Ташкент по нашему поручению, застала ее очень грустной, только что вышедшей из больницы»[251]. Настойчиво зовет ее в Коктебель, обещая — несмотря на собственную болезнь, не дававшую ему отдыха, — окружить ее заботой и избавить от азиатского одиночества. Дает ее ташкентский адрес знакомым, наказывая зайти и поговорить с ней: так — по отдаленной «наводке» Макса — Лиля знакомится не только с его приятельницей Гуной (Ксенией Павловной Девлет-Матвеевой, упоминавшейся в письме Макса Архиппову), но и с вдовой редактора газеты «Русский Туркестан» Ольгой Георгиевной Гейер, которая, семидесятилетняя, приезжает к ней из ташкентского пригорода[252], и с певицей Тамарой Садрадзе, интересовавшейся Штейнером и подтолкнувшей уже тяжело болевшую Лилю к возобновлению занятий с молодыми антропософами…
В Ташкенте 1920-х их оказалось немало — в основном ссыльных. Осторожно, с оглядкой, собирались они на террасе под грушевым деревом. Лиля рассказывала о трудах Штейнера, читала вводные ознакомительные лекции, поясняла, как выполнять те или иные духовные упражнения. После слушатели (те из них, кому удалось уцелеть в подступающем черном смерче 1930-х) говорили, что Васильева производила на них чрезвычайно глубокое впечатление. «Большие ее глубокие черные глаза всматривались в каждого и, казалось, проникали в самое сердце, — вспоминала одна из ее учениц. — Глаза эти потрясли меня… Васильева говорила образно, ярко, с огромным подъемом, который я с нею вместе переживала. Она умела создать в беседе такую уютную теплоту, такой накал и контакт, что вся моя душа с трепетом и благоговением раскрывалась перед ней».[253]
Часто на эти собрания забегала и Надежда Шаскольская — двоюродная сестра Лиды Брюлловой, сосланная в Ташкент годом раньше: вот уж кого Лиля всегда была рада видеть и кто возвращал ее — хоть ненадолго, хоть мысленно — в Петербург ее юности, в давнее и счастливое время! Шаскольская, в свою очередь, чувствуя себя старшей — более здоровой и физически стойкой, — ревностно опекала подругу кузины («почти сестру»). Так получилось, что прощальное Лилино стихотворение, написанное напоследок без китайской маски, от собственного лица, обращено именно к ней:
- От детства в нас горело пламя
- И вел неумолимый рок.
- Но только разными путями
- Пришли с тобой мы на Восток.
- И здесь, в стране воспоминаний,
- В песках, таящих кровь земли,
- Быть может, у последней грани,
- В осеннем меркнущем тумане
- С тобой друг друга мы нашли.
Конечно, Шаскольская скрашивала Лилины дни. Живая, остроумная, энергичная, она и будучи осужденной умудрилась устроиться на работу на кафедру иностранных языков в Среднеазиатском финансово-экономическом институте, занималась научными изысканиями. У нее был большой круг знакомств, который с радостью принял и Лилю — им, ссыльным, как казалось тогда, больше нечего было бояться. Впрочем, Лиля регулярно ходила отмечаться в комендатуру, ее вызывали на допросы к следователю… Юная Тамара Садрадзе, влюбившаяся в Васильеву едва ли не столь же сильно, как некогда Карнаухова, сопровождала ее туда и запомнила, как Лиля трезво и четко ее наставляла: «На всякий случай помните: отвечать нужно только на вопросы. Распространяться ни о чем не надо».
Да, теперь перед нами уже не та Лиля, которая на допросах в Ленинграде бесхитростно (возможно надеясь, что «там разберутся») перечисляла имена антропософов и членов кружков. Жизнь ее многому научила. Однако эти «отметки» в ОГПУ, эти разговоры со следователем, эти обыски (осенью 1928-го она пишет Максу: «…те немногие книги, которые еще у меня были, опять отняты», — очевидно, до органов дошли смутные слухи о начинающих антропософах в Ташкенте) подтачивают и без того слабые силы. Летом ее накрывает волна острой боли: врачи ставят острое воспаление печени, месяц проходит в жару и бреду. «Долгие ночи безумной боли, сильная жара, а потом забытье от морфия», — сделав над собой усилие, будто бы «с берегов Стикса» напишет она Архиппову, обеспокоенному ее долгим молчанием, а Волошину скажет, стараясь не волновать: «Я заболела острым воспалением желчного пузыря; — это не опасно, но только очень больно».
Может быть, это и было бы не опасно, но… Зрела и обессиливала зародившаяся после всех потрясений и травм онкология. Возможно, последней каплей стал очередной обыск, отнявший те немногие книги, которые Лиле еще удалось сохранить или снова собрать? В июле она слегла и практически не вставала. Шаскольская заходила проведать подругу, помочь, чем возможно, но у нее были служба, работа, собственная семья… Убедившись в тяжелом Лилином состоянии, она сделала то, что могла, — написала о болезни Васильевой Лиде Брюлловой-Владимировой.
Получив письмо от кузины, Лида немедленно выехала в Ташкент.
Вдвоем они с Лилей прожили месяц. Лида ухаживала за подругой, читала ей привезенные книги, рассказывала о Петербурге, о матери — Елизавете Кузьминичне, которую тем же летом успел навестить побывавший проездом Архиппов; о Юриных успехах в поэзии, о Наташином увлечении театром и о семье Щуцких, где подрастает двухлетняя Марина, племянница Юлиана и Лилина крестница, оставившая об их любви замечательные (жаль только — по сию пору неопубликованные) воспоминания… Тихая забота Брюлловой как будто бы поставила Лилю на ноги. Ей стало лучше, и лучше настолько, что подруги всерьез задумались о возможности скоротать Лилину ссылку у Макса, тем более что Васильевой по амнистии сбавили несколько месяцев. Что если выехать в Коктебель и прожить там как будто в гостях, а на деле — стремясь дотянуть до конца наказания не в знойном Ташкенте, где Лиля постоянно чувствует себя нездоровой, а в доме Волошина? Летом 1928-го Лиля все еще верит, что это возможно…
Лида Брюллова уехала в сентябре. Васильевой сразу же вновь стало хуже, как будто бы отъезд подруги погасил ту искру жизни, которая еще тлела в ее душе. Из последнего письма Лили к Максу известно, что она почти постоянно лежала, без посторонней помощи ей было трудно даже сойти с веранды. Но когда в конце сентября по возвращении из Японии в Ташкент заехал воодушевленный, восторженный Щуцкий, Лиля, не желая омрачать ему дни «последних свиданий», нашла в себе силы подняться.
Заметил ли Юлиан, как она была больна? Очевидно, не мог не заметить (все замечали), но так же очевидно, что излишними медицинскими подробностями она его не утомляла. Старалась вести себя так, чтобы упоминаний о болезни и физической немощи в их встречах было как можно меньше, а радости общения и рассказов Щуцкого о японских впечатлениях, в том числе о его жизни прямо при буддистском храме, — как можно больше. О том, насколько хорошо это ей удавалось, можно судить по удивительным воспоминаниям Тамары Садрадзе, незадолго до приезда Юлиана вместе с Лидой ухаживавшей за Васильевой:
Осенью 1928 года, возвращаясь из научной командировки в Японию, Елизавету Ивановну навестил Юлиан Константинович Щуцкий. И как я была поражена, зная, что она лежит в таком тяжелом состоянии, когда она пришла с ним ко мне. Она выглядела очень бледной, держалась очень прямо. Глаза ее, широко раскрытые, сияли. Они провели у нас с мужем 2–3 часа. Это было 29 сентября, в Михайлов день. Мы прочли вместе брошюру Доктора «Отче наш». Потом слушали музыку. Муж мой играл. Оживленно беседовали. Щуцкий о своих впечатлениях от поездки, об обычаях в Японии. Разошелся, развеселился и показывал с вдохновением, как молятся японские монахи. <…> Потом и сам играл Скрябина.
Елизавета Ивановна была в этот день очень нарядная, в белом платье, с белым шарфом. Она нашла в себе силы, уже незадолго до смерти, прийти ко мне пешком и сидеть с нами спокойно и радостно, после того как я видела ее мучения от непереносимой боли.
Я поразилась ее мужеству и выдержке. Мы условились с Елизаветой Ивановной, что я приду к ней через несколько дней. Но когда я пришла, ей уже было настолько плохо, что принять она меня не смогла.[254]
Писать она тоже уже не могла — ни писем, ни стихов. Последнее ее письмо, датированное 8 октября 1928 года, было обращено к Максу, духовная связь с которым в эти предсмертные дни оказалась особенно обострена (недаром она признавалась Архиппову: «Больше всех в жизни, больше всех в мире я люблю трех людей, и один из них — М<аксимилиан> А<лександрович>. Без сознания, что он есть на земле, мир был бы мне темен».[255] Можно только гадать, кто оставшиеся — Лида и Юлиан? Или, может быть, все-таки Воля Васильев?):
Ты всегда помни, Макс, что я тебя люблю. Мне сейчас тихо и радостно внутри. Болезнь многое изменила. <…> Крепко целую Марусю.
— И тебя, дорогой Макс!
Та же интонация примирения и благодарности слышится и в (несохранившемся) завещании, завершающемся наказом Васильеву: «И всем скажи, что я всех, всех люблю…»
Ну а жизнь уходила. Врачи не могли понять, что происходит. Осматривали больную, меняли диагнозы, отыскивали у нее то воспаление печени, то болезнь желчного пузыря… Воля Васильев, последние месяцы находившийся рядом с женой безотлучно, утешал Лилю: эти диагнозы не опасны, главное — пережить осень и зиму, а там впереди Коктебель. Лиля слушала, улыбалась и тихо готовилась к смерти. Впрочем, умереть-то она готова была еще летом — не случайны эти повторяющиеся в ряде писем слова о возвращении с берегов Стикса, — но как будто бы «отложила» смерть до свидания с Щуцким. Теперь, когда он уехал, с берегов реки мертвых ее уже некому было вернуть:
- Все летают черные птицы
- И днем, и поутру,
- А по ночам мне снится,
- Что я скоро умру.
- Даже прислали недавно —
- Сны под пятницу — верные сны, —
- Гонца из блаженной страны —
- Темноглазого легкого фавна.
- Он подошел к постели
- И улыбнулся: «Ну, что ж,
- У нас зацвели асфодели,
- А ты все еще здесь живешь?
- Когда ж соберешься в гости
- Надолго к нам?..»
- И флейту свою из кости
- К моим приложил губам.
- Губы мои побледнели
- С этого самого дня.
- Только бы там асфодели
- Не отцвели без меня!
В конце ноября приступы стали настолько тяжелыми, что пришлось лечь в больницу. 26 ноября выяснилось, что у Васильевой рак. Неинкурабельный, как ни настаивал на лечении до последнего сомневающийся в диагнозе Воля. Единственное, что удалось, — подобрать обезболивающее. Лиля угасала очень тихо: быстро слабела, не могла поднять головы, повернуться на другой бок без посторонней помощи, — но оставалась в ясном сознании и твердом уме. Настолько твердом, что, умирая, сказала Васильеву: «Если бы я осталась жить, я бы жила совсем по-другому».
Остается только гадать — как.
Лилю похоронили на городском кладбище — как писали свидетели и очевидцы, над городом. Оттуда открывался чудесный вид на горы — на целую цепь синих гор. В ясные солнечные дни горы видны были как на ладони.
Туда же, на это же кладбище, через 15 лет после Лилиной смерти ляжет и Вера Меркурьева, ссохшейся и усталой старухой эвакуировавшаяся в Ташкент. Они были похоронены совсем рядом. Но ни могила Меркурьевой, ни могила Черубины де Габриак не сохранились до наших дней.
POST MORTEM
Лиля умерла «незаметно и тихо» — просто остановилось дыхание. Всеволод Николаевич, похоронив ее, сразу же принялся рассылать телеграммы: видимо, говоря о покойной жене с теми, кого она любила и кто любил ее, он как будто удерживал ее образ «здесь, на земле».
К середине месяца о Лилиной смерти уже знают все. Васильев и Лида, Архиппов и Усов, Волошин и Ольга Анненкова (Лёля), антропософка, кузина и верный друг Лемана, обмениваются письмами, где всё про Лилю, всё — в память о ней. Удивительно, но помимо естественной скорби во всех этих письмах есть странное ощущение, будто она… не ушла.
Сначала Архиппов, получив лаконичное сообщение Усова («Е<лизавета> И<вановна> скончалась 5.XII. от рака желудка»), записывает в дневнике: «Я не могу говорить ни о каких предчувствиях. Но вспоминаю сейчас 1-ую неделю декабря, и 2-ую ½ нед<ели> — я помню сон, резкое повторение „звона“ и, наконец, навязчиво и досадно стучавшие в висках строки:
- О не спеши туда, где жизнь светлей
- и тише
Несколько раз хотел отвлечься, спрашивая себя: зачем это? <…> В те же дни обдумывал среди повседневной тяжести ex libris: колонна с ангелом. Смыт дворец, около колонны пласты песка, черные клубящиеся тучи. Стрелы молний. …А в душе строчки Ч<еруби>ны об ангеле с крылом. Смотрю на воображаемый чертеж и думаю: „Вероятно, я не увижу дворца. Или это не я, а кто-то другой? Кто?“»[256]. Потом Лида, после смерти подруги потянувшись к Волошину, ее поэтическому покровителю и практически Пигмалиону, пишет ему совершенно по-антропософски: «Мне хорошо. Очень со времени смерти Лили хорошо мне с нею (курсив мой. — Е. П.). И внутри все время растет радость. Вокруг много очень горького, конечно. Но все это где-то претворяется и навсегда благословенно…»[257] Что уж говорить о Щуцких-Соловьевых, уверенных, «что в видениях нет ничего особенного, потому что образы прошлого не уходят совсем, что-то всегда сохраняется»! Сестра Юлиана Галина не раз говорила, что слышит из коридора прихрамывающую походку Личиши: «Стук-стук, — несется из коридора неровный ритм ее шагов. Ну и что? Уступчатый этот звук стал уже принадлежностью квартиры. Как в старых английских замках…»[258]
Лилина история, ее поэзия, ее образ действительно стали принадлежностью жизней ее друзей. Долгие годы память о ней продолжала объединять людей если не в семейный, то в дружеский круг, помогая им выстоять в самые страшные годы. Вот и Марина Соловьева, племянница Щуцкого, с благодарностью будет писать о Лиде Брюлловой-Владимировой, крестной дочери Юлиана, которая после Лилиной смерти как будто бы заменила ее в доме Щуцких, «став связующей ниточкой со временем Личиши — ведь она была ее лучшей подругой»; и Архиппов вступит в постоянную переписку с Волошиным («Теперь Вы один у меня после ухода Иннокентия Федоровича, Гумилева и Черубины!») и приедет к нему в Коктебель; и Леля Анненкова пожалуется Волошину от лица всего антропософского общества, пусть и загнанного к 1929 году в подполье, пусть и рассеянного по стране:
Смерть Лили — такое неожиданное для меня — для всех нас — большое горе.
Для меня Лиля была одной из тех, к которым у меня было горячее личное отношение. Ее большая одаренность, верность всему прекрасному, нежность и живой юмор всегда пленяли меня.
Для наших друзей в Петербурге потеря Лили незаменима, ибо никто не умел так объединять людей, как она, делать интересной каждую беседу. <…> Да будет земля ей легка![259]
Записные книжки и письма Волошина 1929 года полнятся упоминаниями о Лиле. В его сознании этот уход горестно срифмовался с другим — со смертью Р. М. Гольдовской, близкой парижской и коктебельской знакомой Волошиных, родственницей Эфронов. Обе утраты обжигают Волошина неожиданностью и остротой подступившего одиночества:
В тот самый день, когда удар вывел Р<ашель> М<ироновну> из числа живых, ушла из жизни в ссылке в Ташкенте, в больнице Ел<изавета> Иван<овна> Васильева, оставившая в русск<ой> поэзии блестящий след как поэтесса Черубина де Габриак, мне очень близкая как человек. <…> И эти вести почему-то всегда приходят зимой, когда в Коктебеле начинается наша полярная зимовка и наш дом, такой переполненный летом, пустеет совершенно месяцев на 6, если не считать случайных приездов на Рожд<ество> и на Пасху на несколько дней![260]
Стремясь сохранить подлинную, первозданную память о Лиле 1909 года — о маленькой серьезной девочке, страшащейся собственного дара и надеющейся его обуздать, — он несколько раз принимается за воспоминания, но одолевают болезни, хозяйственные заботы, дрязги с советской администрацией Коктебеля… Да и образ Васильевой 1920-х годов, зрелой и мудрой, справившейся со своей одержимостью, заслонял для него образ испуганной двадцатилетней девушки, целовавшей ему ноги и посвящавшей стихи. К той девушке Волошин обращался мыслями куда реже, нежели собственно к Лиле Васильевой: Макс любил, чтобы человек представал перед ним переросшим себя самого. [261]
Наброски, сохранившиеся в его архиве, были опубликованы только несколько лет назад. [262] До тех пор история Черубины фигурировала в передаче Т. Шанько, записавшей эту историю под диктовку Волошина в Коктебеле летом 1930 года.
Со слов Щуцкого записала историю Личиши и его племянница М. Соловьева. Эти блестящие записи, опубликованные на электронных ресурсах, все еще ждут своего издателя и комментатора. Юлиан же хотя и не успел оставить подробных воспоминаний, но даже десятилетие спустя признавался, что «вещества» его дружбы с Васильевой не нарушила самая смерть.
Вообще, если вдуматься, то окажется, что о Лиле, собравшей столько уничижительных отзывов после смерти: ее упрекали в кликушестве, лживости, ненасытности; в том, что она манипулировала мужчинами, в том, что умышленно сталкивала их лбами… Так вот, об этой Лиле никто из близко знавших ее никогда плохо не говорил. Все упреки обращены к ней от тех, кто ее знал лишь мельком: от М. Кузмина, от С. Маковского, от И. фон Гюнтера… Ко всему прочему, знали они только Лилю Дмитриеву 1909 года — юную, пробующую свои женские и поэтические силы, находящуюся на грани измененного состояния сознания, — а вовсе не Елизавету Васильеву 1910–1920-х годов с ее творческой силой и внутренним магнетизмом.
Эту Елизавету Васильеву все любили. Максимилиан Волошин, Самуил Маршак, Юлиан Щуцкий, Лида Брюллова-Владимирова, для которой их дружба была самой яркой страницей всей жизни; друзья, поклонники, корреспонденты, ученики… Уходя из жизни (Волошин умер после тяжелой болезни в 1932 году; Лида и Юлиан, оба пострадавшие за антропософию, погибли под колесом репрессивной машины, — Юлиан был расстрелян в 1938-м, Лида умерла в ссылке в начале 1950-х…), они вспоминали о Лиле с теплом и признательностью, а ее дружба как будто бы переводила их через смерть.
Если вернуться к Лилиному уходу, то едва ли не больше всех был потрясен им Евгений Архиппов. «Я больше не пишу о Черубине, я не могу притронуться к Ея вещам, к книгам, подаренным Ею. После Ее смерти — я избегаю смотреть на Ея вещи», — с отчаянием говорил он Волошину в 1929-м. Однако судьба уготовила Лилиному биографу долгую, хотя и не безоблачную, разумеется, жизнь. В конечном итоге именно его архив сохранил для нас и Черубину, и Лилю, и Елизавету.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ЧЕРУБИНЫ ДЕ ГАБРИАК
1887, 31 марта — в семье Ивана Васильевича и Елизаветы Кузьминичны Дмитриевых рождается третий ребенок — дочь Елизавета (по-домашнему — Лиля). Отец — преподаватель чистописания в гимназии, мать — акушерка. Старшие брат и сестра — Валериан (1880–1965) и Антонина (1884–1908). Семья живет на Малом проспекте Васильевского острова, дом 15.
1894 — болезнь (костный туберкулез). Проводит лето на даче в Иванове, где завязывается дружба с Лидой Брюлловой (1886-й — первая половина 1950-х).
1896, осень — поступление в Василеостровскую женскую гимназию (9-я линия, дом 6).
1900 — «А мне было тринадцать лет…»: предполагаемое насилие со стороны знакомого матери.
Начинает писать стихи.
1901, 21 июля — от застарелого туберкулеза умирает отец.
Лето — переезд в дом 62 на 7-й линии Васильевского острова; четвертый этаж, мрачные крутые лестницы, одиночество в семье, где каждый переживает горе по-своему, не делясь им с другими.
Осень — знакомство и начало дружбы с Марией (Майей) Звягиной (1886–1942).
1903 — оправляется от болезни, начинает вести более активную жизнь.
1904, май — окончание Василеостровской женской гимназии («С медалью, конечно»).
Осень — поступление в Императорский женский педагогический институт (Малая Посадская, дом 6). Слушает лекции по французской литературе и французскому языку; в числе преподавателей — А. Васильев, Э. Гримм, Н. Лосский, Э. Радлов. Много читает, в том числе и современную литературу (В. Брюсова, В. Иванова, В. Соловьева, Ф. Сологуба и т. д.). Начало дружбы с Маргаритой Гринвальд («Девочкой»; 1891–1968). Маргарита зовет ее «Нэлли».
1905 — дружба с преподавателем философии и сотрудником Публичной библиотеки Э. Л. Радловым. С его подачи знакомится с современной философией, в том числе и философией творчества. Посещает религиозно-философские собрания; увлекается теософией.
1906, июль — первый «жизнетворческий» розыгрыш: начало переписки с юношей из Тюбингена Удо Штенгеле (с целью отбить его у Брюлловой — участницы розыгрыша — и заставить влюбиться в себя).
Осень — в качестве вольнослушательницы посещает лекции по испанистике (профессор Д. К. Петров) и по старофранцузскому языку (профессор В. Ф. Шишмарев) на романском отделении Петербургского университета. Начинает изучать старофранцузский язык.
У Лиды Брюлловой завязывается роман с Петром Пильским, известным литературным критиком. Пильский лично знакомит вчерашних гимназисток с современной литературой, рассказывает, кто есть кто в современной поэзии; Лиля осторожно показывает свои стихи.
«Ждут сватов с Востока, / И нужен ответ…»: знакомство (предположительно на одном из теософских собраний) со студентом Института путей сообщения В. Н. Васильевым (1884–1942), обещание выйти за него замуж. Об этом в течение года написаны стихотворения «Душа, как инфанты…», «Схоронили сказку у прибрежья моря…».
1907, 18 февраля — получение права преподавать русский язык и историю во всех классах женских средних учебных заведений и в четырех классах мужских средних учебных заведений, а также французский язык как в женских, так и в мужских школах «ввиду отличного знания этого языка».
Март — начало частной практики в качестве репетитора. Получает место домашней учительницы у пасынка Вячеслава Иванова — Константина Шварсалона. Занимается с ним историей и языками.
Присутствует на собраниях в ивановской «Башне», где впервые слышит чтение А. Блоком его «Незнакомки».
8 мая — пишет шуточное стихотворение «Май» («Здесь по камням стучат извозчики…») — пародию на «Незнакомку» А. Блока.
Май — конец переписки с У. Штенгеле. Пишет ему: «Лиля умерла».
Июнь — получает стипендию и уезжает в Париж по программе общества «Alliance Francaise», организованного при французском посольстве с целью содействовать изучению вне Франции французского языка, а также знакомить иностранцев с французским искусством. Слушает лекции в Сорбонне (преподаватель — Рене Думик). Увлекается биографией святой Терезы Авильской.
Июль — знакомство с художником С. А. Гуревичем. Соглашается позировать ему для портрета; в студии Гуревича встречает Н. С. Гумилева. Втроем они идут в ночное кафе, Лиля — первый раз в ее жизни: «Маленькая цветочница продавала большие букеты пушистых гвоздик. Н<иколай> С<тепанович> купил для меня такой букет, а уже поздно ночью мы все втроем ходили вокруг Люксембургского сада, и Н<иколай> С<тепанович> говорил о Пресвятой Деве. Вот и все. Больше я его не видела. Но запомнила, запомнил и он». В Париже написаны стихотворения «„Когда выпадет снег“, — ты сказал и коснулся тревожно…», «Мое сердце — словно чаша…», «Чуть сумрак ляжет — Божья Матерь…».
Осень — возвращение в Петербург.
Посещает собрания на «Башне», читает литературные журналы, интересуется оккультизмом, общается с Л. Брюлловой, М. Звягиной-Лихтенштадт, М. Гринвальд; пишет пародии на современных поэтов — М. Кузмина, А. Блока, Ф. Сологуба.
1908, 5 января — умирает от заражения крови старшая сестра Антонина; самоубийство ее мужа.
22 марта — знакомство с М. А. Волошиным.
26 марта — начало их переписки (обмениваются теософскими книгами).
Май — окончание Императорского педагогического института с отличием по двум специальностям: история Средних веков и французская средневековая литература.
После окончания института уезжает лечиться от туберкулеза в санаторий Халила (Финляндия). Пишет Волошину: «Здесь, где я живу, — страшный дом… Здесь только чахоточные, все они видят и знают близко смерть» (30 мая 1908 года).
Лето — в санатории. Читает книги по оккультизму и теософии («Свет на пути», труды А. Безант, «Теософия» Р. Штейнера). Переводит с французского и испанского.
14 августа — возвращается в Петербург.
Устраивается на работу в Петровскую женскую гимназию (улица Плуталова, 24) преподавателем русской истории.
Осень — учительствует, посещает собрания на «Башне»; читает труды Марии д’Агреда, переводит с испанского рассказ А. Беккера. Пишет стихи, в том числе и посвященное Майе Звягиной стихотворение «Дом № 47» (явное подражание Блоку: «Вы не знали, не знали, что может случиться, / Чистоты вы не ждали потери…») и первое обращенное к Волошину любовное признание «Ты помнишь высокое небо из звезд?».
Ноябрь — знакомство с Еленой Оттобальдовной Кириенко-Волошиной (Пра): по просьбе Волошина Пра приглашает Лилю в гости.
1909, 29 января — возвращение в Петербург из Парижа М. Волошина (селится у А. Н. Толстого на Глазовской улице, дом 15, квартира 18). Возобновление на «Башне» ивановских «сред» и начало занятий в «Поэтической Академии» по программе, разработанной Вячеславом Ивановым для занятий с молодыми поэтами.
Февраль — знакомство с Алексеем Толстым — «Алиханом». Весной, по всей видимости, происходит рождение Юрия — сына Лиды Брюлловой и Пильского. Ребенка принимает Елизавета Кузьминична. Лиля — крестная мать.
Март — вместе с Волошиным присутствует на лекции в Академии художеств. Встреча с Н. Гумилевым; завязывается роман: «…мы оба с беспощадной ясностью поняли, что это „встреча“, и не нам ей противиться».
Первое выступление в печати: перевод «Октав» святой Терезы в «Вестнике теософии» № 3 (под псевдонимом Е. Ли; спустя без малого 20 лет этот псевдоним обернется китайской тайнописью «Ли Сян Цзы»).
Середина апреля — М. Волошин уезжает в Коктебель, приглашает к себе Лилю Дмитриеву, А. Толстого, Н. Гумилева. Дружит с Верой Шварсалон, падчерицей Вяч. Иванова, активно участвует в занятиях «Поэтической Академии» на «Башне». Среди участников — С. А. Ауслендер, Ю. Н. Верховский, Н. С. Гумилев, И. фон Гюнтер, А.К. и Е. К. Герцык, В. В. Гофман, В. Н. Ивойлов, О. Э. Мандельштам, П. П. Потемкин, В. А. Пяст, А. М. Ремизов, К. А. Сюнненберг, А. Н. Толстой. Следом за Гумилевым по заданию Вяч. Иванова пишет сонет на предложенные им рифмы «Закрыли путь к некошеным лугам…». Предлагает Волошину поучаствовать в поэтическом соревновании; Волошин откликается из Коктебеля сонетом «Сехмет».
16 мая — последнее, восьмое собрание «Поэтической Академии».
25 мая — отъезд с Гумилевым и Маргаритой Гринвальд из Петербурга через Москву в Коктебель. Незадолго до этого «Девочка»-Гринвальд писала Волошину: «Я еду 26-го или 27-го с Нэлли и, вероятно, с изысканным жирафом…», намекая на предстоящее соперничество двух поэтов за Лилину благосклонность.
26 мая — встреча с В. Я. Брюсовым в редакции ежемесячного журнала «Весы» на углу Ильинки и Юшкова переулка.
30 мая — приезд в Коктебель.
Июнь — жизнь в Коктебеле, общение с А. Н. Толстым и С. И. Дымшиц, М. Н. Кларк, Е. О. Кириенко-Волошиной; сближение с М. Волошиным, разрыв с Гумилевым. В конце июня Гумилев дописывает «Капитанов» и уезжает из Коктебеля.
Июль — пишет стихи, в том числе и те, которые позже будут напечатаны от имени Черубины де Габриак («Лишь раз один, как папоротник, я…», «Золотая ветвь» и др.). Переводит рассказ М. Барреса «Коллекционер душ». Рассказ был отдан в «Аполлон», но не принят: по убеждению Лили, на Маковского тогда повлиял Гумилев, затаивший против Лили естественную неприязнь и убедивший редактора в несовершенствах ее перевода.
Август — посещает с Волошиным Феодосию, знакомится с А. М. Петровой, К.Ф. и Ж. Г. Богаевскими, В. И. Ребиковым.
7 августа — гадание у «доктора арабских наук» Гассан-Байрам-Али с целью вызнать их с Волошиным будущее: «И Вы женат, только одно имя, что женат… У тебя такой судьба, что она не судьба. Ничего дурного тебе от нее нет, но ничего и хорошего нет. У нее один день так, а другой совсем не так, и Вам лучше меньше об ней думать. Чем меньше думаешь, тем лучше» («История моей души» М. Волошина).
Волошин и Дмитриева придумывают Черубину.
1 сентября — отъезд вместе с Волошиным из Феодосии в Петербург.
Сентябрь — начало переписки с редактором журнала «Аполлон» С. К. Маковским от имени поэтессы Черубины. Маковский в восторге от присланной подборки стихов. Волошин пишет критическую статью «Гороскоп Черубины де Габриак» (NB! Ср. — «Гороскоп твой давно готов…» в «Поэме без героя» А. Ахматовой).
Лидия Павловна Брюллова назначена секретарем редакции «Аполлона». Дмитриева бывает в редакции и общается с авторами; показывает свои стихи, но они не вызывают энтузиазма, хотя некоторые пародии пользуются популярностью. Впрочем, ее включают в число сотрудников «Аполлона» как редактора и переводчика.
Октябрь — посещает собрания в «Башне», тесно общается с семьей Вяч. Иванова, М. А. Кузминым, Б. С. Мосоловым (с которым часто вместе работает над корректурами «Аполлона»), В. В. Гофманом, В. М. Волькенштейном, И. фон Гюнтером. Другое постоянное место собраний — на квартире у Л. П. Брюлловой.
15 октября — выход первого номера «Аполлона». На обложке в числе сотрудников (авторов) указаны Е. И. Дмитриева и Черубина де Габриак.
Ноябрь — знакомится с Маргаритой Сабашниковой (Аморей), первой женой Волошина, та одобряет их предполагаемый брак: «Я познакомилась с Лилей Димитриевой, и мне с первой минуты показалось, что я знала ее всегда. <…> А Макс. <…> Ему и ей я желаю жизни и благословляю обоих» (из письма к А. М. Петровой 1909 года).
Слухи о Черубине распространяются из редакции «Аполлона» по Петербургу. В. Гофман пишет приятелю: «Последняя литературная новость — появилась новая поэтесса Черубина де Габриак. <…> Дело однако в том, что все это несколько похоже на мистификацию» (из письма от 8 ноября 1909 года).
3 ноября — в «Башне» начинаются репетиции пьесы Кальдерона «Поклонение кресту». Лиля играет одну из ролей.
9 ноября — Кузмин записывает в дневнике: «В „Аполлоне“ перемена кабинета. Кажется, хотят Макса, Гумми и меня…» Это последний день, когда «Макс» и «Гумми» смогут общаться друг с другом без ненависти. В тот же день (или чуть раньше?) Лиля говорит И. фон Гюнтеру: «Я — Черубина де Габриак».
11 ноября — И. фон Гюнтер выдает Кузмину, что «de Габриак — не более как Дмитриева, и еще разные разоблачения…».
14 ноября — запись М. Кузмина в дневнике: «Я уверен теперь, что это Ел<изавета> Ив<ановна>».
15 ноября — выходит из печати второй номер журнала «Аполлон» со стихами Черубины де Габриак и статьей И. Анненского «О современном лиризме. Оне» с характеристикой ее творчества. Стараниями Гюнтера секрет Черубины становится секретом Полишинеля.
16 ноября — Гумилев негодует и плохо отзывается о Дмитриевой, что фиксируется в дневнике Кузмина: «Как удивительно, что Дмитриева — Черубина, представлял все в неприглядном свете. Действительно, история грязная. <…> Гумми остался ночевать, ругался с Гюнтером, выпили все вино и отсылали меня спать. <…> Что-то будет из всей этой истории?»
19 ноября — собрание «аполлоновцев» в мастерской художника А. Я. Головина в Мариинском театре для обсуждения их совместного портрета. Среди присутствующих — Б. Анреп, А. Блок, И. Анненский, М. Волошин, Н. Гумилев, И. фон Гюнтер, М. Кузмин, С. Маковский, А. Толстой. Волошин дает Гумилеву пощечину («…у меня внезапно вырвался вопрос: „Вы поняли?“ (То есть: поняли ли — за что?) Он ответил: „Понял“») — и получает вызов на дуэль.
21 ноября — Лиля пишет Вяч. Иванову: «Мне очень жаль, Вячеслав Иванович, что после всего произошедшего я не могу бывать в Вашем доме. Но думаю, что Вы не будете жалеть об этом…»
22 ноября — дуэль на Черной речке между Волошиным и Гумилевым. Разрыв отношений с «Башней» и с «аполлоновским» кругом.
24 ноября — фельетон А. Колосова «Галоша» в газете «Биржевые ведомости», где и сама дуэль, и ее участники — поэты-модернисты — подвергнуты откровенному осмеянию.
30 ноября — скоропостижная смерть И. Анненского, в которой глухо обвиняют Маковского и Черубину.
Декабрь — сближение с Борисом Леманом (Диксом), занятия оккультизмом. Напряженная переписка с Волошиным («Я тебя люблю, милый, единственный, но не могу придти к тебе целиком…») при избегании личных встреч. Намечающееся расхождение между влюбленными.
29 декабря — пишет А. М. Петровой: «Макс в конце января едет в Феодосию, чтобы поселиться в ней безвыездно. У него здесь отвратительные отношения со всей „литературой“, работать не может. <…> Да и мы с ним за несколько месяцев разлуки лучше разберемся».
В течение года написаны стихи «Ищу защиты в преддверье храма…», «Когда томилась я от жажды…», «Давно, как маска восковая…» и т. д.
1910,19 января — пишет Волошину: «Мне очень больно уходить от тебя. <…> А нужно». Продолжает общаться с Диксом, отказывается от поэзии в пользу оккультных занятий и теософского будущего.
Волошин посвящает Лиле стихи: «В неверный час тебя я встретил…», «Пурпурный лист на дне бассейна…» и пр., представляющие собой отчаянные объяснения в любви.
Февраль — возвращение в Петербург Всеволода Васильева. Лиля много работает — делает переводы для «Аполлона» (из Поля Адана, Рене Гиля, Шанфлери) и для издательства «Пантеон» (из Ги де Мопассана); по словам Васильева, внешне она спокойна, «сидит больше дома и успокаивается мало-помалу».
6 февраля — отъезд Волошина в Крым.
12 февраля — Всеволод Васильев пишет Волошину: «Dix заботится о ней (Лиле. — Е. П.), очень…» Лиля по-прежнему в переписке с Волошиным.
15 марта — письмо Лили Волошину: «Я не вернусь к тебе женой, я не люблю тебя…».
6 апреля — последнее письмо Волошину — с настоятельной просьбой прекратить переписку. Эпистолярную эстафету перенимает Борис Леман.
10 мая — Леман пишет Волошину: «Пусть Вас не беспокоит Ел<изавета> Ив<ановна>, ей хорошо теперь, но пока Вы не найдете, Вы все равно не можете подойти к ней. Она спрашивает меня о Вас, и я ей говорю, но, как Вы, она тоже сейчас не может подойти к Вам…»
Лето — Лиля отказывается от поездки в Коктебель, как, впрочем, и от поездки куда-то с Васильевым. Остается в Петербурге, дает уроки и переводит.
15 сентября — выходит десятый номер «Аполлона» с подборкой стихов Черубины де Габриак в графическом обрамлении Е. Лансере и стихотворением «Встреча» за подписью Е. Дмитриевой.
27 сентября — отзыв Книжника (С. Г. Кара-Мурза) о стихах Черубины де Габриак в «Московской газете»: «Если бы нужно было одним словом охарактеризовать основной мотив в творчестве поэтессы, я бы назвал его — „самовлюбленность“… <…> можно ли идти дальше в упоении собою, своей царственной (!) мечтой, своей красотой. Фотографии поэтессы мы еще не видали, и поэтому не можем судить о том, в какой мере соответствует самовосхваление Черубины истинному положению вещей. Быть может, оно так же, как и в Башкирцевой, не оправдывается подлинными физическими данными» («Московская газета», 1910, № 41, с. 4).
8 октября — памфлет А. Буренина (под псевдонимом Алексис Жасминов) «Драма и реклама» в газете «Новое время», с упоминанием Акулины де Писаньяк.
2 ноября — пишет стихотворение «Моей одной», посвященное Л. П. Брюлловой, неизменно поддерживавшей ее в этот мучительный год.
Декабрь — получает восторженное письмо и стихи от Марины Цветаевой. Пишет Волошину с просьбой переслать юной Цветаевой, чьего адреса она не знает, Черубинин ответ.
11 декабря — в газете «Утро России» выходит статья М. Волошина «Женская поэзия» — с высокой оценкой стихов Черубины де Габриак и Марины Цветаевой.
1911, 30 мая (Духов день) — венчание с В. Н. Васильевым.
29 июля — отъезд с мужем в свадебное путешествие в Туркестан, на Амударью.
30 октября — возобновление переписки с Волошиным — поначалу через Васильева.
Ноябрь — возвращение в Петербург. В Петербурге написано стихотворение «Ты мой посох, посох радостный…» (к сожалению, несохранившееся), обращенное к В. Васильеву.
1912, январь — февраль — глубоко увлекается теософией.
Март — поездка в Гельсингфорс в компании деверя Петра Николаевича Васильева и его жены Клавдии Николаевны на цикл лекций Р. Штейнера «Духовные существа в небесных светилах и в царствах природы», прочитанный им с 21 марта по 2 апреля. Стремительное погружение в учение Штейнера.
Май — поездка в Москву. М. В. Сабашникова пишет А. С. Петровскому: «Я получила очень хорошее письмо от Черубины. Вот для кого Гельсингфорс открыл новую жизнь…» (8 мая 1912 года).
8 июня — нанимает квартиру по адресу: Васильевский остров, 5-я линия, дом 66, комната 34. В. Н. Васильев на полгода уезжает «на разыскания» в Хиву.
20 июля — вместе с Маргаритой Сабашниковой Лиля отправляется в Мюнхен на лекции Штейнера. Слушает лекции, смотрит мистерии.
Август — посещает представления по драмам Штейнера «Врата посвящения» (5 августа) и «Страж порога» (7 августа).
Конец августа — начало сентября — основание Всеобщего Антропософского общества во главе с Р. Штейнером.
Сентябрь — слушает в Базеле курс лекций Штейнера «Евангелие от Марка», прочитанный им 2–11 сентября.
Октябрь — возвращение в Петербург. Знакомство и дружба с Е. Г. Гуро.
1913, январь — стремительное сближение с Борисом Леманом: «…молчание превратилось в огромную любовь, молчание стало пламенем (Борис Леман).» (из письма Волошину от 26 мая 1916 года).
1 мая — стихотворение «О, если бы аккорды урагана…», обращенное, по всей видимости, к Леману.
Конец мая — проводит в Гельсингфорсе на очередном лекционном цикле Доктора Штейнера: цикл из девяти лекций Бхагават-гита был прочитан 15–25 мая рекордному количеству слушателей, среди которых — А. Белый и А. А. Тургенева, Н. А. Бердяев, Л. П. Брюллова с новым поклонником — Д. Владимировым, В.Н., К.Н. и П. Н. Васильевы, Б. А. Леман, А. С. Петровский, М. В. Сабашникова и др. Звучат разговоры о необходимости открытия русского отделения Антропософского общества. Штейнер задумывает Гётеанум — «архитектурный образ Вселенной», в перспективе — мировой центр антропософии.
Лето — уезжает вместе с Васильевым в Самарканд.
11–18 августа — в Мюнхене на цикле из восьми лекций Р. Штейнера «О мистериях». Назначена гарантом (официальным представителем) Антропософского общества в России.
Осень — Лиля истово принимается за «должностные обязанности» гаранта Антропософского общества. Собирает и редактирует лекции, отвечает за переводы, ведет переписку. Одной из первых приглашенных ею в Общество новых членов становится А. М. Петрова (членский билет Александре Михайловне был выписан в Берлине 23 октября).
10 ноября — Волошин пишет о Лиле Ю. Л. Оболенской: «Она живет теперь всецело Штейнером».
Конец ноября — знакомство с Ю. Л. Оболенской, пришедшей по протекции Волошина: «Я очень волновалась, идя впервые к ней: из Ваших рассказов создался какой-то хрупкий и надломленный образ, которому страшно повредить. А мое впечатление — что она по натуре уравновешеннее меня…» (из письма Оболенской Волошину от 25 ноября 1913 года).
11 декабря — уезжает в Германию вместе с Васильевым на очередной цикл лекций.
15–20 декабря — в Лейпциге; слушает курс из шести лекций Штейнера «Христос и духовные миры».
22 декабря — переезд в Мюнхен. Встречи с Л. Л. Квятковским.
1914, 2 января — переезд в Берлин следом за Штейнером, который встречался в Берлине с антропософами с 1 по 11 января.
13 января — возвращение с В. Н. Васильевым в Петербург.
23 января — переезд на новую квартиру (Невский проспект, 119, квартира 6) для большей свободы собраний Антропософского общества (очевидно, этот переезд обсуждался в Берлине).
2 февраля — официальное открытие русского отделения Всеобщего антропософского общества.
Весна — время встреч членов Общества и занятий антропософией. Знакомство с поэтами Д. С. Усовым и Т. В. Чурилиным; оба посвящают Лиле стихи.
15 мая — начало летних каникул Антропософского общества.
Середина июля — отъезд на дачу К. П. Христофоровой, одной из слушательниц лекций Доктора и знакомой по Антропософскому обществу, в Бутово Тульской губернии.
1 августа — Германия объявила России войну.
1 сентября — возвращение в Петроград.
Осень — строительство Гётеанума в Дорнахе. А. Белый, М. Волошин, М. Сабашникова — на строительстве.
А. М. Петрова выходит из Антропософского общества.
1915, март — поездка в Грузию.
22 марта — в Анануре; пишет стихотворение «Христос сошел в твои долины…».
Апрель — в Петрограде. Активные занятия эвритмией на квартире Васильевых на Невском, 119. Лиля пишет для эвритмических упражнений стихотворения «Хорей», «Дактиль» («Верьте, что вестники чистые…»), «Есть горькая сладость полета…» и др. Эвритмией особенно увлекается Лида Брюллова, во втором (венчанном) браке — Владимирова.
15 июня — Тихон Чурилин надписывает Васильевой свою книгу стихов «Весна после смерти» (включающую посвященное ей стихотворение «Сестра»).
1916, 5 апреля — приезд в Петроград из Парижа М. Волошина.
14 апреля — его визит к Васильевым по новому адресу: Старорусская, 5, квартира 58. Лиля пишет ему: «Макс, послушай! Мне очень тревожно; — пожалуйста, ответь мне: почему-то мне кажется, что ты ушел от меня точно в могилу. Что не такая я была в четверг, и ты ушел, чтоб не оглянуться…»
17 апреля — Волошин уезжает в Коктебель через Москву. Возобновляется их регулярная переписка.
26 мая — пишет Волошину: «6 лет тому назад, когда ты ушел, я умерла для искусства, я, любящая его болью отвергнутой матери, я сама убила его в себе. <…> Но пойми, пойми, Макс, милый, как тяготит меня мертвое творчество, как изнасилована моя душа!»
Июнь — трехнедельный отдых в подмосковном имении М. Н. Кларк «Спасское».
Конец июля — очередной отъезд в Гельсингфорс.
20 августа — возвращение в Петроград. В. Васильев — в Турции.
Ноябрь — в 49-м номере «Журнала журналов» помещена заметка Б. Г<усмана> «Черубина де Габриак» (с сожалением о забвении ее) и публикация трех стихотворений.
Лиля осторожно начинает вновь возвращаться к творчеству — пишет стихотворения «Опять весна. Опять апреля…» и «Благочестивым пилигримом…».
1917, 1 марта — падение самодержавия.
Июнь — у Васильевой четыре дня гостит М. Сабашникова, только что вернувшаяся в Россию из Дорнаха. Передает Лиле последние сведения о смуте в рядах антропософов и о их ожиданиях от революционной России.
Июль — проводит в Тифлисе, живет в меблированных комнатах по соседству с Г. Нейгаузом, с 1916 года преподававшим там в музыкальном училище.
Снова интенсивно начинает писать стихи. В течение года написаны стихотворения: «Братья — камни, сестры — травы…», «Весь мир одной любовью дышит…», «Едва я вышла из собора…», «Есть у ангелов белые крылья…», «Последний дар небес не отвергай сурово…», «Тебе омыл Спаситель ноги…».
1918, 26 октября — запись в дневнике А. Блока: «Телефон от Лемана (просит помочь ему уехать на Украину)».
Ноябрь — Лиля вместе с Леманом уезжает из Петрограда в Екатеринодар, где, по слухам, служит Всеволод Николаевич.
Декабрь — обосновывается в Екатеринодаре по соседству с семьей (свекровью Марией Васильевой и ее сыном Петром Николаевичем с женой Клодей).
1919, январь — получает работу в местных газетах — «Казачья дума», «Станичник» и «Утро Юга». Предположительно в редакции знакомится с сотрудником «Утра Юга» С. Я. Маршаком, приехавшим в Екатеринодар к семье (жене Софье Михайловне и сыну).
12 февраля — пишет Волошину: «Что думаешь о России? Не знаешь ли что про Доктора?» Их переписка прерывиста (корреспонденция перлюстрируется и пропадает), но друг друга из виду они не теряют.
Адрес Лили в Екатеринодаре — улица Пластуновская, 65, квартира Стаховских.
Переписывается с С. К. Маковским.
17 июня — в Екатеринодар приезжает Волошин — похлопотать за своего арестованного белыми друга — ученого и по совместительству генерала Н. Маркса. Встреча с Лилей и Леманом.
Осень — служба в Осведомительном агентстве Добровольческой армии (улица Красная, 70).
Вместе с Маршаком пытается помогать детям-беспризорникам в городе. Маршак и Леман обдумывают проект театра для детей.
1920, зима — начало работы над созданием Детского городка, предназначенного для спасения и (пере)воспитания беспризорных детей. Духовный центр Городка — собственно детский театр.
17 марта — Екатеринодар занят красными.
Правительство большевиков в Екатеринодаре одобряет работу Детского городка.
31 марта — создание Областного отдела народного образования (оботнароба).
2 апреля — назначение С. Я. Маршака заведующим секцией детских приютов и колоний. Временно исполняющей должность заведующего подсекцией охраны памятников старины была назначена Е. И. Васильева.
1 мая — первый спектакль для детей работы Маршака и Васильевой — «Молодой король» по сказке О. Уайльда.
9 июня — после трех лет молчания пишет стихотворение «В невыразимую пустыню…».
Лето — работает в детском театре, совместно с С. Маршаком ведет занятия в драматической студии клуба Красной армии. Среди слушателей — Н. Г. Лозовой.
24 июня — пишет стихотворение, посвященное дочери Веронике: «На земле нас было двое…».
18 июля — официальное открытие Театра для детей; играют спектакль «Летающий сундук», написанный по мотивам сказки Х. К. Андерсена Е. Васильевой и С. Маршаком.
24 июля — еще одно стихотворение о Веронике: «Каждый год малютки милой…».
Осень — дружба с новоизбранным ректором Кубанского университета Н. А. Марксом (давним знакомым Волошина, освобожденным Волошиным из-под стражи).
14 октября — харьковская переводчица и филолог Н. И. Сырокомская (летом гостившая в Коктебеле) сообщает Волошину о желании написать «трагедию Лили — Черубины».
2 ноября — С. Я. Маршак избран лектором английского языка факультета общественных наук Кубанского университета; договаривается о назначении Лили на должность сотрудника и, возможно, преподавателя.
7 декабря — Екатеринодар переименован в Краснодар.
12 декабря — С. Маршак делает доклад о Театре для детей в Кубанском институте народного образования. Его и Васильевой опыт работы воспринимается на ура.
Декабрь — Васильева служит в Кубанском университете. С 1920 года она — член Союза работников искусств (Рабис).
1921, 3 января — Н. Маркс пишет Волошину: «Леман… <…> занимает кафедру по древнему Востоку. Васильева служит». Театр для детей готовит к постановке легенду Н. Маркса «Таир и Зорэ».
7 января — создание кружка поэтов «Птичник», собиравшегося на квартире Ф. А. Волькенштейна. Руководители — Васильева и Маршак, среди участников — молодые поэты Елена Бекштрем, Елена Ильина, Ирина Карнаухова, Илья Маршак, Евгения Николаева и др.
Февраль — Лиля знакомится с критиком Ю. С. Перцовичем, приехавшим из Новороссийска. Дает ему уроки. Перцович пишет о ней Е. Я. Архиппову в Новороссийск.
Март — начало переписки с педагогом и библиографом из Новороссийска Е. Я. Архипповым.
20 марта — арест Е. Васильевой и ее мужа — за дворянское происхождение. Васильевы будут освобождены через неделю, но лишатся антропософской литературы и некоторых других книг.
Апрель — переезжает на новое место жительства: улица Посполитакинская, 58, квартира Гливенко. Вместе с Маршаком работает в Театре для детей (пишет пьесы и готовит их к инсценировкам) и в Кубанском университете.
29 апреля — смерть Н. А. Маркса.
20 июля — стихотворение «Два крыла на медном шлеме…», обращенное к Е. Я. Архиппову. Июлем 1921-го помечены и другие стихи к нему.
25 августа — в Петрограде расстрелян Н. С. Гумилев. Спустя несколько дней весть об этом доходит до Лили.
11 сентября — переживая гибель Гумилева, обращается к мужу с разочарованными стихотворениями «Как горько понимать, что стали мы чужими…» и «И не уйдешь. И не пойдешь навстречу…», намекающими на возможность разрыва.
16 сентября — пишет стихотворение «Памяти Анатолия Гранта», посвященное Гумилеву.
26 октября — заметка в краснодарской газете «Красное знамя»: «25 октября 1921 г. в Краснодаре открыл свои двери гос. театр для детей. Зимний сезон открылся премьерой „Петрушка“ — новой пьесой неутомимых инициаторов театра для детей Е. И. Васильевой (Черубина де Габриак) и С. Я. Маршака (Д-р Фрикен). Спектакль очень тепло был принят ребятами в возрасте от 5 до 12 лет. В зале все время был смех. Пьеса заразительная, с прекрасным русским языком. Актеры играли ярко и весело».
10 декабря — пишет Волошину: тревожится, узнав о его болезни (полиартрите и неподвижности правой руки).
21 декабря — стихотворение-воспоминание о Петербурге «Там ветер сквозной и колючий…».
25 декабря — рождественское стихотворение «К годовщине Птичника» («Они горят и пахнут медом — свечи…»).
1922, январь — март. Работает в переплетной артели. Вечерами — в Театре для детей. Пишет рецензию на поэму А. Ахматовой «У самого моря» (поэма вышла в Петрограде в конце 1921 года) и на сборник А. Радловой «Корабли» (там же, 1920). Мечтает о возвращении на родину — в Петроград.
8 марта — стихотворение «Разорвать ненавистной неволи…» («Разорвать ненавистной неволи / Эту крепкую, цепкую нить —/ Оскорбить, до конца оскорбить, / Так, чтоб губы белели от боли…»), по всей видимости обращенное к Леману и указывающее на явный кризис в их отношениях.
Апрель — встреча С. Я. Маршака с А. В. Луначарским, который одобряет деятельность театра. «Городок, наш Городок, / Ты хоть краснодарский, / Но тебя, наш Городок, / Знает Луначарский», — радуется в своих шуточных куплетах Маршак.
Лиля переносит сердечный приступ.
23 апреля — с восторгом читает стихи В. А. Меркурьевой — Кассандры (присланные Архипповым). Пишет Архиппову: «…все поэты именем Бога, а я? Я — нет. Я — рассыпающая жемчуга…»
29 апреля — телеграмма Луначарского в Краснодар — оботнароб, копия облисполкому: «Прошу откомандировать Москву распоряжение Наркомпроса Елизавету Ивановну Васильеву, Бориса Алексеевича Лемана, Самуила Яковлевича Маршака тчк Прошу предоставить им срок выезда возможные удобства переезда тчк Маршаку с семьей. Наркомпрос А. В. Луначарский».
Начало мая — из печати выходит сборник пьес «Театр для детей», написанных совместно с Маршаком, с предисловием Б. Лемана.
28 мая — отъезд Лили Васильевой в Петроград вместе с Леманом и семьей Маршаков. По пути — остановка в Москве. Встреча с М. В. Сабашниковой.
Июнь — возвращение в Петроград. Встреча с Лидой Брюлловой-Владимировой и ее детьми — Юрием и Наташей. Пишет стихотворение «Петербургу» («Под травой уснула мостовая…»).
Нанимает квартиру по адресу — Английская набережная, 74, квартира 7.
Лето — первая встреча с Ю. К. Щуцким, другом Лилиной ученицы Ирины Карнауховой.
15 августа — пишет стихотворение «Земля в плену и мы — скитальцы…», обращенное к Щуцкому.
17 августа — из Петрограда за границу уезжает Маргарита Сабашникова. Васильева и Леман провожают ее на пристани. Стихотворение «Нельзя уехать без благословенья / Того, кто так привык / Делить с тобой и темные сомненья / И радости неповторимый миг…» — о Волошине и Сабашниковой.
Сентябрь — начинает работать в петроградском Театре юного зрителя помощником заведующего литературно-репертуарной частью (у режиссера А. Л. Брянцева).
Осень — пишет виноватые стихи, обращенные к Карнауховой («Разговор с Ириной», «Ирине»), и любовные посвящения Щуцкому: «Парус разорван, разломаны весла…», «Ах, не плыть, ах, не плыть кораблю…», «И всё нежней и всё любовней…», «Пусть всё тебе!» и др.
1 октября — цикл стихов «То не ветер в полях над ракитою…», написанных под явным влиянием Меркурьевой — о страсти к Щуцкому; об этих стихах Усов пишет Архиппову: «Это — не Черубина и, вообще, никто и ничто. Пустота».
1923, 1 января — в Дорнахе сожжено здание первого Гётеанума.
3 февраля — пишет Волошину: «В мою жизнь пришла любовь».
22 марта — рассказывает Волошину в письме о Р. Штейнере, А. Белом, М. Сабашниковой, посылает ему «Театр для детей» и «Антологию китайской лирики VII–IX вв.» в переводах Ю. Щуцкого (1923).
Лето — много работает; начинает сотрудничать с издательством «Всемирная литература», переводит для него «Песнь о Роланде». Знакомится и приятельствует с переводчиком А. Смирновым, сотрудником издательства.
Осень — вступает в Союз драматических писателей. Переводит старофранцузскую повесть в стихах «Мул без узды» (опубликована в издательстве «Academia» в 1934 году). Много болеет, усердно занимается антропософией, в том числе и с Ю. К. Щуцким.
1924, 6 апреля — в Ленинград приезжают М. А. Волошин и М. С. Заболоцкая.
9 апреля — встреча с Васильевыми и Леманом на набережной Красного флота (бывшей Английской), 74, квартира 7.
20 апреля — Лиля присутствует на чтении Волошиным стихов в Комитете современной литературы при Институте истории искусств.
11 мая — Васильевы провожают Волошина с Заболоцкой в Москву.
13 августа — стихотворение «Ты сказал, что наша любовь — вереск…», обращенное к Ю. Щуцкому. Летом написаны и другие стихи к нему.
16 августа — увольняется из Театра юного зрителя и пишет заявление о приеме на Высшие курсы библиотековедения. Прилагает к нему художественную биографию — «Curricutum vitae».
Разрыв дружбы с С. Я. Маршаком.
23 сентября — разрушительное наводнение в Ленинграде, Лиля наблюдает за ним с балкона (окна ее квартиры выходят на Адмиралтейские верфи и Ново-Адмиралтейский канал). «Может быть, это и стыдно, но я перенесла наводнение в состоянии огромного восторга. <…> Мы были вокруг залиты водою, а Спас-на-Водах против нас был похож на встающий Китеж…» — пишет она Архиппову.
Осень — начало занятий на Высших курсах библиотековедения при Публичной библиотеке.
Ноябрь — в 11-м номере журнала для детей «Новый Робинзон» опубликован рассказ Е. Васильевой «Фабзайцы» (о наводнении в Этнографическом музее и Кунсткамере).
21 ноября — пишет Волошину: «Я живу тихо и очень в себе. Много с книгами».
1925, январь — февраль — увлеченно пишет просветительскую детскую книгу о Н. Н. Миклухо-Маклае «Человек с Луны».
2 марта — договор с Госиздатом на повесть «Человек с Луны» заключен. Ей предлагают написать детскую биографию Леонардо да Винчи.
30 марта — в Германии умирает Рудольф (Доктор) Штейнер.
Апрель — сдает экзамены на курсах библиотековедения — по «Алфавитному каталогу» и «Классификации наук».
Май — июль — проводит собрания антропософов на Английской набережной.
13 августа — едет к мужу в Ташкент, где узнает о недавнем аресте Васильева.
Середина сентября — отъезд из Ташкента. По пути в Ленинград заезжает в Москву, посещает спектакль «Гамлет» с М. А. Чеховым в главной роли. Видится с друзьями — Е. Николаевой из «Птичника», С. Парнок.
Осень — возобновляет занятия на курсах библиотековедения. На Английскую набережную переезжает Елизавета Кузьминична, которая берет на себя все бытовые заботы.
16 октября — пишет Архиппову: «Я все время больна. <…> Теперь от мира я иду в неведомую тишину и не знаю, приду ли. И странно, когда меня называют по имени. <…> Мне трудно работать на курсах, трудно видеть людей. Душа уже надела схиму».
3–5 ноября — пишет стихи, посвященные памяти Гумилева: «Ты не уйдешь от прожитой любви…» (с воспоминанием о «породе лебедей»: «А здесь, в воде холодного пруда / на смерть подстреленный, крылами / плещет лебедь…»), «Да, целовала и знала…» и др.
8 ноября — стихотворение «Где Херувим, свое мне давший имя…». Приближается пятнадцатилетие дуэли. Весь ноябрь Лиля лихорадочно пишет стихи.
14 декабря — получает из Госиздата авторские экземпляры повести «Человек с Луны».
1926, 3 января — в Москве создается кооперативное издательство поэтов «Узел» с участием М. А. Зенкевича, Б. К. Лившица, Е. К. Николаевой, П. Г. Антокольского, С. Я. Парнок, С. З. Федорченко, В. К. Звягинцевой. Д. С. Усов, давний знакомый Лили, — внештатный редактор.
Январь — Б. Леман женится на М. Ф. Газе.
Май — сдана часть экзаменов по библиотековедению.
Начало июня — Лиля видится в Ленинграде с приехавшим Д. Усовым. Идут разговоры об издании ее книги стихов в «Узле».
13 июня — посылает Архиппову вышедшие весной из печати книжки поэтов «Узла», надеется на издание сборника.
3 июля — отъезд в Нижнее Мальцево — живет на даче инженера-химика А. Д. Лебедева, родственника будущей жены Щуцкого.
Июль — «паломничество» в Саров, знакомство с женой Усова — Алисой Гуговной.
Начало августа — несколько дней Лиля проводит в Москве. Видится с Софьей Парнок. Сдает в издательство «Узел» рукопись сборника из 27 стихотворений под названием «Вереск» (издание планировалось на 1927 год).
14 августа — возвращение в Ленинград, где меняется с Лидой квартирами. «Вернувшись, была рада строгим линиям Петербурга и нашей синей Неве, как сапфир на груди Богородицы».
Осень — окончание Высших курсов библиотековедения.
По просьбе Е. Архиппова пишет «Исповедь» (об отношениях с Н. Гумилевым).
Начинает работать в библиотеке Академии наук. Сходится с сотрудниками БАН С. С. Враской-Стаховой, А. А. Гизетти, К. М. Милорадович, С. А. Рышковой. Много читает, вместе с новыми знакомыми и Лидой Брюлловой-Владимировой ходит на концерты и в Эрмитаж. После раскола Антропософского общества возглавляет ложу Ильи Пророка, организует кассу взаимопомощи антропософов.
25 ноября — стихотворение «Всё летают черные птицы…».
12 декабря — письмо Волошину: «С Борисом <Леманом> я разошлась совсем. Это большое освобождение».
25 декабря — приступ болезни печени, длившийся 13 часов.
1927, 2 января — пишет Волошину: «Я часто болею. Сердце, печень». Учащаются сердечные приступы.
Февраль — общается с профессором-историком антропософом И. М. Гревсом.
27 февраля — переводит стихотворение X. Моргенштерна «Вестник».
31 марта — в Ленинград приезжает Волошин с женой (остановились у Л. А. Аренс на Невском, 84, квартира 26).
14 апреля — вечер в честь открытия выставки акварелей Волошина в Литературно-художественном обществе. Фотографируется вместе с Волошиным, Э. Ф. Голлербахом, Е. И. Замятиным, Е. С. Кругликовой, А. П. Остроумовой-Лебедевой, В. А. Рождественским, А. И. Шварцем.
18 апреля — отъезд Волошина в Москву. Лиля его провожает; это ее последняя встреча с Волошиным.
22 апреля — арест Е. И. Васильевой и Б. А. Лемана. Изъятие всех книг, рукописей, фотографий, картин. Обвинение по статье 58 § 11: «активная борьба с рабочим классом при царском правительстве и при белых». Несколько недель Лиля проводит под стражей.
23 апреля — Е. Архиппов начинает составление «Автобиографии» Черубины де Габриак (по Лилиным письмам к нему).
1 июня — освобождение (вместе с Л. П. Владимировой).
16 июня — выдано свидетельство об окончании Высших курсов библиотековедения при ГПБ с пометой о достаточном знании французского, немецкого, английского и латинского языков.
27 июня — закончена сказка для детей в трех действиях «Репка», подготовленная для театрального сборника «Театр Петрушки».
29 июня — новый арест (за принадлежность к Антропософскому обществу). Высылка этапом в Екатеринбург.
Пишет стихотворение «Весь лед души обстал вокруг…» («А там совпал полярный круг / С кругами Ада…»).
1 августа — получив приговор о высылке из Ленинграда («минус 6 городов») на три года, выезжает к мужу в Ташкент.
26 августа — пишет Е. Архиппову: «Здесь я умираю».
Август — в Ташкенте Лилю навещает Ю. Щуцкий.
9 сентября — начат цикл стихотворений «Домик под грушевым деревом» по мистификации, задуманной Юлианом.
11 октября — закончена пьеса для детей «Лутонюшка».
15 октября — закончен «китайский» цикл стихов.
Октябрь — Лиля переводит фрагменты из романа Сервантеса «Дон Кихот» для издательства «Всемирная литература» по предложению А. Смирнова (перевод не завершен и утрачен). Становится известно, что гранки «Вереска» рассыпаны после Лилиного ареста.
31 октября — Лилю навещает О. Г. Гейер, знакомая Волошина по 1900 году.
22 декабря — пишет Е. Архиппову: «Самое ужасное, что отняли мой город…»
1928, 22 марта — стихотворение «Вот облака закрыли журавли…» (перевод из X. Моргенштерна).
Весна — редкие собрания ташкентских антропософов на квартире у Лили. Общается с К. П. Девлет-Матвеевой, Т. Д. Садрадзе, Н. В. Шаскольской. Переживает очередной обыск.
1 мая — пишет Архиппову: «Переводы мои из „Дон Кихота“ пропали».
Архиппов собирает книгу Черубины де Габриак. Пишет Волошину: «Собрал все стихи Черубины, получился том в 351 лист».
Лето — Лиля тяжело заболевает. Ей ставят первоначальный диагноз — воспаление желчного пузыря, позже подозревают острое воспаление печени.
Август — в Ташкент приезжает Лида Брюллова-Владимирова, чтобы ухаживать за подругой.
25 августа — Лиля пишет Архиппову: «Я только что встала после тяжелой и долгой болезни (острое воспаление печени). <…> Трудно возвращаться с берегов Стикса».
Конец августа — отъезд Л. П. Брюлловой-Владимировой в Ленинград.
Сентябрь — в конце месяца в Ташкент приезжает из Японии Щуцкий.
29 сентября — вечер с Щуцким у певицы Тамары Садрадзе.
8 октября — последнее письмо Волошину: «Ты всегда помни, Макс, что я тебя люблю…»
26 ноября — Лилю госпитализируют в ташкентскую больницу им. Полторацкого. Диагноз — рак печени.
В ночь на 5 декабря — Лиля скончалась от рака печени в больнице им. Полторацкого. Некролог (за подписью Г. Т.) появился в первом номере журнала «Рабочий и театр» (Ленинград).
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Агеева Л. И. Неразгаданная Черубина. Документальное повествование. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2006.
Васильева Е., Маршак С. Театр для детей. Сборник пьес. Краснодар: Изд. Кубано-черноморского отдела народного образования, 1922.
Волошин М. А. Путник по Вселенным / Сост., вступ. ст., коммент. В. П. Купченко, З. Д. Давыдова. М.: Советская Россия, 1990.
Волошин М. А. Собрание сочинений. В 13 т./ Под общ. ред. В. П. Купченко, А. В. Лаврова. М.: Эллис Лак, 2003–2015.
Воспоминания о Максимилиане Волошине / Сост. и коммент. В. П. Купченко, З. Д. Давыдова. М.: Советский писатель, 1990.
Габриак Черубина де. Автобиография. Избранные произведения / Сост. Е. Я. Архипповым в 1927 г. М.: Молодая гвардия, 1989.
Габриак Черубина де. Исповедь / Сост. В. П. Купченко, М. С. Ланда, И. А. Репина. М.: Аграф, 1999.
Глоцер В. «Две вещи в мире для меня всегда были самыми святыми: стихи и любовь…» // Новый мир. 1988. № 12.
Гюнтер Иоганнес фон. Жизнь на восточном ветру. Между Петербургом и Мюнхеном. М.: Молодая гвардия, 2010.
Жизнь и творчество Самуила Яковлевича Маршака. Сборник / Сост. Б. Галанов, И. Маршак, М. Петровский. М.: Детская литература, 1975.
Зарудная-Фриман М. Мчались годы за годами: История семьи Брюлловых-Зарудных. СПб.: Геликон-Плюс, 2012.
Кузмин М. Дневник 1908–1915 / Предисл., подг. текста и коммент. Н. А. Богомолова, С. В. Шумихина. СПб.: Изд. Ивана Лимбаха, 2005.
Маковский С. К. Портреты современников. М.: Согласие — XXI век, 2000.
Нешумова Т. Ф. Невидимый трилистник: Черубина де Габриак, Д. С. Усов, Е. А. Архиппов // Toronto Slavic Quarterly. 20 Spring 2007.
Сабашникова M. B. Зеленая змея. История одной жизни. М.: Андреев и сыновья, 1993.
Соловьева М. Н. Страницы книги жизни Юлиана Щуцкого. Документальная повесть о семье Щуцких-Соловьевых // http:// bdn-steiner.ru/modules.php?name=Books&go=page& pid=20601.
Толстой А. Н. Гумилев // Последние новости. Париж, 1921. № 467.
Усов Д. С. «Мы сведены почти на нет…» Письма / Сост., вступ. ст., подг. текста, коммент. Т. Ф. Нешумовой. М.: Эллис Лак, 2011.
Цветаева М. И. Живое о живом // Цветаева М. И. Собрание сочинений. В 7 т. Т. 4. Кн. 1. М.: ТЕРРА — TERRA, 1997.
Черубина де Габриак. «Из мира уйти неразгаданной…» Жизнеописание. Письма 1908–1928 годов. Письма Б. Лемана к М. Волошину / Сост., подг. текстов, прим. В. Купченко, Р. Хрулевой. М.; Феодосия: ИД «Коктебель», 2009.
Шубинский В. Зодчий. Жизнь Николая Гумилева. М.: ACT, 2014.
«Sub rosa»: Аделаида Герцык, София Парнок, Поликсена Соловьева, Черубина де Габриак / Вступ. ст. Е. А. Калло; сост., коммент. Т. Н. Жуковской, Е. А. Калло. М.: Эллис Лак, 1999.