Одинокий странник. Тристесса. Сатори в Париже бесплатное чтение
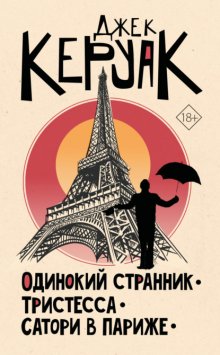
Jack Kerouac
LONESOME TRAVELLER
TRISTESSA
SATORI IN PARIS
© Jack Kerouac, 1960, 1966
© Estate of Jack Kerouac, 1960
© Перевод. М. Немцов, 2014, 2021
© Издание на русском языке AST Publishers, 2022
Одинокий странник
От автора
ИМЯ: Джек Керуак
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ: франкоамериканец
МЕСТО РОЖДЕНИЯ: Лоуэлл, штат Массачусетс
ДАТА РОЖДЕНИЯ: 12 марта 1922 г.
ОБРАЗОВАНИЕ: (школы, особые образовательные курсы, степени и годы)
Средняя школа Лоуэлла (Масс.); Мужская школа Хорэса Мэнна; Коламбия-колледж (1940–1942); Новая школа социологии (1948–1949). Гуманитарные науки, без степеней (1936–1949). Получил пятерку у Марка Ван Дорена по английскому в Коламбии (курс по Шекспиру). – Провалился по химии там же. – Набрал средний балл 92 в школе Хорэса Мэнна (1939–1940). В универах играл в футбол. Кроме того, легкая атлетика, бейсбол, команды по шахматам.
ЖЕНАТ: нет
ДЕТИ: нет
РЕЗЮМЕ ОСНОВНЫХ ЗАНЯТИЙ И/ИЛИ РАБОТ.
Всё. Давайте проясним: судомой на судах, служитель на автозаправках, палубный матрос на судах, газетный спортивный обозреватель («Лоуэлл сан»), железнодорожный тормозной кондуктор, сценарный рецензент в «XX век – Фокс» в Нью-Йорке, газировщик, железнодорожный писарь на сортировке, также железнодорожный носильщик багажа, сборщик хлопка, помощник перевозчика мебели, подмастерье по листовому металлу на строительстве Пентагона в 1942 г., наблюдатель лесной пожарной службы в 1956 г., строительный разнорабочий (1941).
ИНТЕРЕСЫ:
УВЛЕЧЕНИЯ. Я изобрел собственный бейсбол, на карточках, крайне сложный, и ныне в процессе целого 154-игрового сезона между восемью клубами, со всеми делами, средними показателями, средними числами законных пробежек и т. д.
СПОРТ. Играл во всё, кроме тенниса и лякросса, и гонок парных шлюпок.
ОСОБО. Девушки.
ПРИВЕДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КРАТКИЙ ОЧЕРК СВОЕЙ ЖИЗНИ.
Провел прекрасное детство, отец мой был печатником в Лоуэлле, штат Массачусетс, днями и ночами бродил по полям и речным берегам, сочинял маленькие романы у себя в комнате, первый роман написал в 11 лет, кроме того, вел обширные дневники и «газеты», в которых сообщал о собственно-изобретенных мирах бегов и бейсбола, и футбола (как это записано в романе «Доктор Сакс»). Получил хорошее начальное образование у иезуитских братьев в приходской школе Святого Иосифа в Лоуэлле, отчего потом перескочил через шестой класс в бесплатной средней школе; ребенком ездил в Монреаль, Квебек, с родителями; в 11 лет – мэр Лоренса (Масс.) Билли Уайт подарил лошадь, катал всю ребятню по соседству; лошадь убежала. Ходил в долгие прогулки под старыми деревьями Новой Англии по ночам с мамой и тетей. Внимательно слушал, как они судачат. Решил в 17 лет стать писателем под воздействием Себастьяна Сампаса, местного молодого поэта, который потом погиб на береговом плацдарме в Анцио; прочитал жизнеописание Джека Лондона в 18 лет и решил также стать искателем приключений, одиноким странником; первые литературные влияния – Сароян и Хемингуэй; позже Вулф (после того как я сломал ногу на Первокурсном футболе в Коламбии, прочитал Тома Вулфа и бродил по его Нью-Йорку на костылях. Повлиял мой старший брат – Жерар Керуак, который умер в 9 лет в 1926-м, когда мне было 4, был великий художник и рисовальщик в детстве (точно был). Кроме того, монахини говорили, был святой (записано в грядущем романе «Видения Жерара»). Мой отец был совершенно честный человек, исполненный веселости; скис в последние годы из-за Рузвельта и Второй мировой войны и умер от рака селезенки. Мать по-прежнему жива; я живу с ней чем-то вроде монашеской жизни, что позволяет мне писать столько, сколько писал. Но также писал на дороге как рабочий бродяга, железнодорожник, мексиканский изгой, европейский путешественник (как показано в «Одиноком страннике»). Одна сестра, Кэролин, теперь замужем за Полом Э. Блейком-мл. из Хендерсона, СК, правительственным противоракетным техником. У нее один сын, Пол-мл., мой племянник, который зовет меня дядей Джеком и любит меня. Мою мать зовут Габриэлль; научился всему про то, как естественно рассказывать истории, по ее долгим рассказам о Монреале и Нью-Гэмпшире. Родня моя уходит корнями в Бретонскую Францию, первому североамериканскому предку барону Александру Луи Лебри де Керуаку из Корнуолла, Бретань, 1750 г. или около того, была дарована земля вдоль Rivière du Loup после победы Вулфа над Монкальмом; его потомки женились на индианках (мохоках и конавага) и стали сажать картофель. Первый потомок в Соединенных Штатах – мой дед Жан-Батист Керуак, столяр, Нэшуа, штат Нью-Гэмпшир. Мать моего отца из Бернье, родня исследователя Бернье – с отцовской стороны все бретонцы. У матери моей имя нормандское, Левеск.
Официально первый роман «Городок и город» написал в традиции долгой работы и редактирования, с 1946 по 1948 г., три года, опубликован «Харкорт-Брейсом» в 1950-м. Затем обнаружил «спонтанную» прозу и написал, скажем, «Подземных» за 3 ночи. «На дороге» написал за 3 недели.
Читал и учился сам всю жизнь. Побил рекорд в Коламбия-колледже по прогулу занятий, чтобы сидеть в комнате общежития и писать ежедневную пьесу, и читать, скажем, Луи-Фердинанда Селина, а не «классиков» по программе.
Думал своим умом. Известен как «безумец, бродяга и ангел» с «голой бесконечной головой» «прозы». Кроме того, стихотворный поэт, «Блюз Мехико» («Гроув», 1959). Всегда считал писательство своим долгом на земле. Также проповедование вселенской доброты, которую истеричным критикам не удалось заметить под неистовой деятельностью в моих правдивых романах о «битом» поколении. Вообще-то, сам не «бит», а странный одиночный чокнутый католический мистик…
Предельные планы: отшельничество в лесах, спокойное писание о старости, зрелые надежды на Рай (который все равно всем является)…
Любимая жалоба на современный мир: веселенькость «почтенных» людей… кто, не принимая ничего всерьез, уничтожают старые человеческие чувства старше журнала «Время»… Дэйв Гэрроуэй смеется над белыми голубками…
ПРИВЕДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КНИГИ, ЕЕ ОХВАТА И ЦЕЛИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД.
«Одинокий странник» есть сборник опубликованных и неопубликованных работ, связанных между собой, потому что у них общая тема: странствование.
Странствия охватывают Соединенные Штаты с юга на Восточное побережье, на Западное побережье, на крайний Северо-Запад, охватывают Мексику, Марокко, Африку, Париж, Лондон, как Атлантический, так и Тихий океаны на судах, и разных интересных людей и города, в оные включенные.
Работа на железной дороге, на море, мистика, работа в горах, распутство, солипсизм, потворство своим желаниям, бои быков, наркотики, церкви, художественные музеи, улицы городов, мешанина жизни, проживаемой независимым образованным повесой без гроша в кармане, прущимся куда угодно.
Ее размах и цель – простая поэзия либо же естественное описание.
Причалы бездомной ночи
- ЗДЕСЬ, НА ТЕМНОЙ ЗЕМЛЕ,
- пока все мы не отправились на Небеса,
- ВИДЕНЬЯ АМЕРИКИ.
- Все эти автостопы,
- Все эти желдороги,
- Всё это возвращенье
- к Америке
- Через мексиканскую и канадскую границы…
Ну-тка начну-ка с вида меня с воротником, съеженным поближе к шее и обвязанным носовым платком, чтоб потуже и поуютнее, а я трюхаю по унылым, темным складским пустырям вечно любящего портового района Сан-Педро. Нефтеперегонки сырой туманноватой ночью Рождества 1951 г. воняют горелой резиной и вытошненными таинствами Морской Карги Пасифики, где прямо слева от меня, пока я трюхаю, видна масляная дегтярница старых вод бухты, шагающих обнять пенящие столбы, а дальше над утюжными водами огни, рыдающие в движущемся приливе, а также фонари судов и бродячих лодок, что сами движутся и смыкаются, и покидают эту последнюю кромку американской земли. На том темном океане, том темном море, где червь незримо скачет к нам верхом, как карга, летучая и словно бы небрежно разложенная на печальном диване, но волосы ее развеваются, и она спешит найти кармазинную радость влюбленных и пожрать ее, смертью звать, корабль рока и смерти пароход «Скиталец», выкрашенный черным, с оранжевыми выстрелами, уже приближался, как призрак и без единого звука, лишь его обширно содрогающаяся машина, подтянуться-и-привзвыться к причалу Сан-Педро, свеженький после рейса из Нью-Йорка через Панамский канал, а на борту мой старый корешок, Дени Блё назовем его, который вынудил меня проехать 3000 миль по суше на автобусах, обещанием, что возьмет меня на борт, и я проплыву остаток вояжа вокруг света. И раз уж я здрав и снова бичую, а делать мне больше неча, только скитаться с вытянутой мордой по реальной Америке со своей нереальной душой, вот он я, горяч и готов быть большим ломоносым поваренком или судомоем на старой жрачной шаланде, лишь бы затарить себе следующую причудливую рубашенцию в гонконгской галантерее, или помахать полотком в каком-нибудь старом сингапурском баре, или поиграть на лошадках в австралийском; все это мне едино, лишь бы распаляло и ходило вокруг света.
Уже не первую неделю я странствую по дороге, на запад от Нью-Йорка, и жду во Фриско дома у друга, меж тем зарабатывая лишние 50 дубов работой в рождественскую суету, ворочая багаж на старой запьянцовской железной дороге. Вот только что приехал за 500 миль от Фриско почетным тайным гостем теплушки первоклассного грузового поезда «Молния» благодаря своим связям на железной дороге и теперь думаю стать видным моряком, сяду на «Скитальца» прямо тут, в Сан-Педро, так я с нежностью думаю, в общем, если б не это пароходство, я б наверняка точно хотел быть железнодорожником, научился бы тормозному кондукторству, и мне бы платили за то, что езжу на этой старой вжик-«Молнии». Но я болел, внезапная удушающая ужасная простуда типа вируса Х по-калифорнийски, и почти ничего не видел в пыльное окно теплушки, пока она мелькала мимо снежного разбивающегося наката волн в Сёрфе и Тангэре, и Гавиоте на меже, что бежит по этому лунистому рельсу между Сан-Луис-Обиспо и Санта-Барбарой. Я как мог старался ценить добрый прогон, но был способен лишь лежать пластом на сиденье теплушки, уткнув лицо в свою куртку комом, и всем до единого кондукторам от Сан-Хосе до Лос-Анджелеса приходилось меня будить, чтоб выяснить мою квалификацию, я был братом тормозного кондуктора, и сам – он же, на Техасской дистанции, поэтому стоило мне перевести взгляд наверх, думая, «Старина Джек, вот ты и впрямь едешь в теплушке и следуешь линии прибоя по призрачнейшей железной дороге из всех, по каким в дичайших своих грезах мечтал проехаться, как у ребенка мечта, так чего ж ты и головы приподнять не можешь, и выглянуть наружу, и заценить пернатый брег Калифорнии, последнюю землю, что оперяется тонкой пудряной дегтярницей придверных лежней или привратной воды, что вьется сюда со всякого Ориента и савана бухтового выстрела, отсюда до Каттераса Хлоптераса Вольдивийного и Хрусттераса, ух», но подымаю голову, и там нечего смотреть, окромя моей кровеналитой души, да смутных намеков нереальной луны, сияющей на нереальное море, да мимомелькие проблески гальки на дорожной насыпи, рельсы в звездном свете. Прибываем в ЛА поутру, и я спотыкаюсь с полным огромным обнимешком на плече от сортировок аж до самой Мэйн-стрит в центре, где залег в гостиничном номере на 24 часа, пия бурбон, лимонный сок и анацин и видя, лежа на спине, виденья Америки, у которой не было конца – что было только началом, – но думая, «Сяду на “Скитальца” в Сан-Педро и отвалю в Японию, и кыш сказать не успеешь». Глядь в окно, когда мне чуть получшело, и врубаюсь в жаркие солнечные улицы Рождества ЛА, наконец отправимшись по бильярдным и полировочным сволочного ряда и выхаривая там и сям, пока ждал, когда «Скиталец» подтянется к причальной стенке, где я должен встретиться с Дени прям на трапе с пушкой, которую он послал заранее.
Больше одной причины встречаться в Педро – пушку он отправил заранее в книжке, которую тщательно вырезал и выдолбил, и сделал из нее аккуратный тугой сверток, покрытый бурой бумагой и перевязанный бечевкой, адресованный одной девушке в Голливуде, Хелен как-то, с адресом, который он мне дал. «Так, Керуак, когда доберешься до Голливуда, немедленно иди к Хелен и спроси у нее про сверток, что я ей прислал, потом аккуратно его вскроешь у себя в номере, и там пистолет, он заряжен, поэтому осторожнее, не отстрели себе палец; потом положишь в карман, ты меня слышишь, Керуак, тебе добило это до твоего суевыйного заполошного воображения, но теперь у тебя есть порученьице выполнить мне, мальчику твоему Дени Блё, помнишь, мы вместе в школу ходили, придумывали, как вместе выжить, чтоб пенни себе урвать, мы даже легавыми вместе были, мы и женились-то на одной тетке» (кхых). «То есть мы оба хотели одну и ту же тетку, Керуак, теперь все от тебя зависит, поможешь ли ты защитить меня от зла Мэттью Питерса, ты этот пистик с собой приноси, тыча в меня и подчеркивая каждое слово, и тыча меня с каждым словом «и тащи на себе, и смотри не попадись и не опоздай на судно, во что бы то ни стало». План до того нелепый и уж такой для этого маньяка типичный, что я, конечно, пришел без пистолета, даже Хелен искать не стал, а лишь в одной своей избитой куртке, спеша, почти опаздывая, я уже видел его мачты близко у причала, ночь, прожекторы везде, вдоль этой унылой долгой плазы перегонок и складских резервуаров для нефтепродуктов, о мои бедные стертоптанные башмаки, что теперь вот уже начали настоящее путешествие, в Нью-Йорке пустились вдогон дурацкого судна, но того гляди мне станет ясно в ближайшие 24 часа, ни на какое судно я не попаду – тогда этого не знал, но обречен был остаться в Америке, навсегда, дорожный рельс ли, гребвинт ли, это всегда будет Америка (суда курсом на Ориент пыхтели по Миссисипи, как будет показано впоследствии). Без пистолета, съежившись супротив ужасной зимней сырости Сан-Педро и Лонг-Бича, в ночи, минуя фабрику Кота-в-Сапогах на углу с лужаечкой спереди и американскими флагштоками, и здоровенной рекламой тунца, внутри того же здания делают рыбу и для человеков, и для котов – мимо причала «Мэтсона», «Лурлина» еще не пришла. Глазами шарю Мэттью Питерса, негодяя, для коего потребен пистолет.
Корнями уходит, неистово, к дальнейшим предшествовавшим событиям в этом зубовноскрежетном громадном кино земли, лишь часть коего здесь мною предложена, хотя и долгая, каким диким может стать мир, пока наконец не осознаешь: «Ох, что ж, это по-любому повторное». Но Дени намеренно разгромил машину этого Мэттью Питерса. Судя по всему, они жили вместе с кучкой девушек в Голливуде. Были моряки. Видал я фотки их, сидящих вокруг солнечных бассейнов в купальниках и с блондинками, и в будь здоров обнимательных позах. Дени высокий, толстоватый, темноволосый, улыбчивые белые зубы улыбкой лицемера; Мэттью Питерс крайне симпатичный блондин с самоуверенной мрачной или (болезненной) физиономией греха и безмолвия, герой – той группы, того времени, поэтому слышишь, как это всегда говорится из-под руки, конфиденциальные истории, что тебе любая пьянь расскажет и не-пьянь в любом баре и не-баре отсюда до другой стороны всех миров Татхагаты в 10 сторонах вселенной, это как призраки всех комаров, что некогда жили, плотность байки мира этого всего такова, что довольно будет утопить Пасифику столько раз, сколько сможешь вынуть песчинку из ее песчаного ложа. Мощная байка же была, мощная жалоба, которую я слышал нараспев, от Дени, старого жалобщика и певуна, и одного из самых бранчливых жалобщиков: «Пока я шарил по мусорным бакам и бочкам Голливуда, прикинь, бродя по задам тех вот очень шикарных жилых домов и по ночам, поздно, очень тихо шнырял по округе, бутылки добывал по 5 центов залога и складывал их себе в сумочку, чтоб лишняя денюшка на карман, когда мы себе не могли грузчицкой работы в порту срастить, а судна ни за деньги, ни за красивые глаза нам не было. Мэттью, с его легкомысленными прихватами, закатывал вечеринки и тратил всякий цент, что мог добыть у меня из заскорузлой лапы, и ни разу, Н Н Ни Разу, не слыхал я ни единого слова благодарности. Можешь вообразить, каково мне было, когда он наконец забрал мою любимую девчонку и свинтил с нею на ночь. Я пролез к нему в гараж, где он свою тачку держал, я тихо-тихо вывел ее задним ходом, не заводя мотор, дал ей скатиться по улице, и затем, чувак, тут же двинул во Фриско, дуя пиво из банок. Я б тебе рассказал историю», и давай дальше свою историю, сказанную его собственным неподражаемым манером, как он разбил машину в Кукамонге, штат Калифорния, лобовым столкновением с каким-то деревом; как его чуть при этом не убило, как были легавые, и крючкотворы, и бумаги, и волокита, и как он наконец добрался до Фриско, и сел на другое судно, и как Мэттью Питерс, который знал, что он на «Скитальце», будет ждать на пирсе этой же липкой холодной ночью в Сан-Педро с пушкой, блудкой, прихвостнями, дружками. Дени собирался сойти с борта, глядя во все стороны, готовый распластаться на земле, а я должен был там его ждать у схода с трапа и вручить ему ствол стремглав, все это в туманной, туманной ночи.
«Ладно, валяй с историей».
«Тише ты».
«Ну, ты же сам все это начал».
«Тише, тише», – говорит Дени, как он обычно причудливо выговаривает «ТЧИ» очень громко, ртом па́стя, как радиодиктор, чтоб диктовать всякий звук, а затем «ШЕ» просто говорится по-англичански; этот трюк мы оба переняли на некоем шалопайском подготе, где все ходили и разговаривали, как очень удолбанные чмохкающие чмумники, … теперь шмакствует, Шмууумники, необъяснимы глупые трюки школяров во время оно, потеряно, что Дени теперь в нелепой ночи Сан-Педро по-прежнему подкалывал туманы, как будто и разницы никакой нет. «ТИ ше», – говорит Дени, крепко беря меня за плечо и держа меня крепко, и глядя на меня в полном серьезе, росту в нем около шести-трех, и смотрит он сверху вниз на мелкого пять-с-девятью меня, и глаза его темны, посверкивают, видно, что он злится, видно, что понятие у него о жизни такое, какого никто другой никогда не имел и никогда не будет, хоть ровно так же на полном серьезе он может разгуливать, веря и задвигая свою теорию обо мне, к примеру, «Керуак жертва, ЖЕР твва свово собственово ва о бра ЖХЕ НИ Йя». Или его любимая шуточка про меня, которая вроде как должна быть просто умора, а есть грустнейшая история, что он когда-либо рассказывал или кто угодно рассказывал. «Как-то вечером Керуак не хотел брать ножку жареной курицы, и когда я у него спросил почему, он взял и сказал: “Я думаю о несчастных голодающих народах Европы”… Хьяя УА У У У». И давай фантастически ржать, как он может, а это такой невообразимый хуохуот в небеса, созданные специально для него, и я все время их над ним вижу, когда о нем думаю, черной ночью, кругосветной ночью, той ночью, когда он стоял на причале в Гонолулу в контрабандных японских кимоно на себе, четырех штуках, а таможенники заставили его раздеться до них. И вот он стоит такой ночью на платформе в японских кимоно, большой здоровенный Дени Блё, в воду опущенный-и-очень, очень несчастный. «Я б тебе рассказал историю такую длинную, что не дорассказал ее, если бы ты в кругосветку ушел, Керуак ты, но ты не хочешь, ты никогда не слушаешь. Керуак, что ты скажешь бедным людям, голодающим в Европе, об этой тут фабрике Кота-в-Сапогах с тунцом в заду, Х МХммч Йя а Йяауу Йяууу, они делают одну еду для кошек и людей, Йёорр йрУУУУУУУУУУУ!». И когда он так вот смеялся, ты понимал, что ему чертовски отлично и одиноко таковски же, потому что я никогдатски не видел, чтоб это его подводило; трудилы на судах и всех судах, где б он ни плавал, никак не понимали, чего тут смешного, чего со всеми также его розыгрышами, их я еще покажу. «Я разбил машину Мэттью Питерса, понимаешь? Позволь теперь мне сказать, конечно, я не спецом это сделал. Мэттью Питерсу хотелось бы так думать, куче злонамеренных черепушек бы так хотелось считать, Полу Лаймену так считать нравится, чтоб ему удобнее считать было, будто я увел у него жену, чего, я тебя уверяю, Керуак, я нидьелал, то друган мой Гарри Маккинли увел жену Пола Лаймена. Я поехал на машине Мэттью во Фриско, собирался ее там бросить на улице и уйти в рейс, он бы этот драндулет себе вернул, но, к сожалению, Керуак, у жизни не всегда такие развязки, как нам нравится вязать, но название городка я нипочем и никогда не смогу – эй, бодрее, э, Керуак, ты не слушаешь», хвать меня за руку. «Тише уже, ты слушаешь, что я тебе ГОВОРЮ!»
«Конечно, слушаю».
«Тогда почему ты такой мы, м, хым, что там наверху, там птички сверху, ты услышал птичку сверху, охххох», отворачиваясь с меленьким шхлюпочным одиноким смешочком, вот тут-то я и вижу подлинного Дени, вот, когда он отворачивается, это не великая шутка, никак было не сделать шутку великой, он со мною разговаривал, а потом попытался превратить в шутку мое не-слушание. И было не смешно, потому что я слушал, фактически я по серьезу слушал, как всегда все его жалобы и песни, а он, однако, отвернулся и попытался, и в заброшенном взглядце в свое собственное, можно подумать, прошлое, видишь двойной подбородок или подбородную ямочку какой-то природы большого младенца, что свертывается, да с раскаянием, с душераздирающим, французским отказом, смирением, даже кротостью; он прошел через весь строй от абсолютно злобных ков и замыслов и грубых розыгрышей, к большой ангельской Ананда-младенческой скорби в ночи, я его видел, я знаю. «Кукамонга, Практамонга, Каламонгоната, никогда не упомню названия этого городка, но я врезался на машине прямиком в дерево, Джек, и всего делов, и на меня накинулись все что ни есть побирушки, легавые, крючкотворы, судьи, врачи, индейские вожди, торговцы страховками, жулики, кто не в… – говорю тебе, мне повезло удрать оттуда живым, пришлось домой телеграмму отбивать за всевозможными деньгами; как ты знаешь, у мамы моей в Вермонте все мои сбережения, и когда я в реальной дыре, я всегда домой телеграфирую, это мои деньги».
«Да, Дени». Но поверх всего еще имелся дружок Мэттью Питерса, Пол Лаймен, у которого имелась жена, которая сбежала с Гарри Маккинли или неким манером, которого я никогда не мог понять. Они забрали кучу денег и сели на пассажирское судно курсом на Ориент, и теперь жили с майором-алкоголиком на вилле в Сингапуре, и знатно проводили время в белых парусиновых штанах и теннисных туфлях, но муж Лаймен, также моряк и фактически сослуживец Мэттью Питерса, и (хотя Дени этого в то время не знал, оба они на борту «Лурлины») (придержить-ка) бац, он убежден, что и за этим стоит Дени, и потому оба поклялись пришить Дени или сцапать Дени и, по словам Дени, собирались быть на причале, когда этой ночью придет судно, с пистолетами и друзьями, и я тоже там должен быть, наготове, когда Дени сойдет с трапа стремительно и весь разодемшись двигать в Голливуд, посмотреть на своих звезд и девушек и все большое, о чем он мне писал, я должен быстро к нему шагнуть и отдать ствол, заряженный и взведенный, и Дени, старательно озираясь, чтоб никакие тени не вспрыгнули, готовый кинуться пластом наземь, берет у меня пушку, и вместе мы рассекаем тьму портового района и несемся в город – ради дальнейших событий, развитий.
И вот «Скиталец» подходил, его подравнивали вдоль бетонного причала; я стоял и спокойно разговаривал с одним из кормовых швартовщиков, что с тросами сражался: «Где плотник?»
«Кто, Блё? Он – я его счас увижу». Еще несколько просьб, и появляется Дени, в аккурат когда судно привязывают и закрепляют, и матрос второго класса выставляет швартовные щиты против крыс, и капитан дунул в свою маленькую дудку, и эта непостижимая медленная громадная замедленнодейственная вечностная подвижка судна завершена, слышно бурленье, вода за кормой бурлит, ссут шпигаты – большой привиденческий рейс всё, судно на приколе – те же человечьи лица на палубе, – и вот выходит Дени в своих дангери и невероятно в туманной ночи видит своего мальчугана, который стоит прямо тут на набережной, как и планировалось, руки-в-карманах, чуть потянись и достанешь.
«Вот ты где, Керуак, я и не думал, что ты тут будешь».
«Ты же мне сам сказал, нет».
«Погоди, еще полчасика все закончить, и почиститься, и одеться, и я к тебе выйду – кто-нибудь есть?»
«Не знаю». Я огляделся. Я озирался уже полчаса на машины на стоянке, темные углы, дыры складов, дыры дверей, ниши, крипты Египта, норы портовых крыс, похмельные дверьдыры и лохмы пивных банок, мачтовые выстрелы и рыбных орлов – тьфу, нигде, героев нигде не видать.
Два печальнейших на виданном свете пса (ха-ха-ха) сходят с этого причала, в темноте, мимо нескольких таможенников, которые оделили Дени привычным взглядцем и все равно б не нашли пистолет у него в кармане, но он столько мучений положил отправить его почтой в выдолбленном томе, и теперь, когда мы с ним вместе вглядывались, он прошептал: «Ну, принес?»
«Ага, ага, у меня в кармане».
«Держи пока, дашь мне снаружи на улице».
«Не волнуйся».
«Их тут, наверно, нет, но нипочем не скажешь».
«Я везде посмотрел».
«Мы отсюда свалим и сделаем ноги. Я все распланировал, Керуак, что мы делаем сегодня ночью, завтра и все выходные; я со всеми коками переговорил, у нас все спланировано, тебе записку отнести Джиму Джексону в бичхолл, и ночевать будешь в курсантском кубрике на борту. Подумай только, Керуак, весь кубрик тебе одному, и мистер Смит согласился пойти с нами и отпраздновать, хм а мхья». Мистер Смит был толстый бледный пузатый кудесник донных дегтярниц машинного отделения, обтирщик, или смазчик, или водолей общего назначения, он был старина потешней некуда, только с такими видаться и хочется; и Дени уже смеялся, и ему было хорошо, и забывал своих воображаемых врагов – снаружи на причальной улице уже стало очевидно, что мы оторвались. На Дени был дорогой синий саржевый костюм из Гонконга, с распорками в подкладных плечах и фасонного кроя, прекрасный костюм, в котором теперь, рядом со мной в моем дорожном тряпье, он топотал, как французский фермер, швыряя свои громаднейшие башмаки по рядам de bledeine, как бостонский хулиган шаркает по Общественному в субботу вечером, повидаться с парнями в бильярдной, но по-своему, с херувимческой улыбкой Дени, которая сегодня усугубляется туманом, от коего лицо его жовиально кругло и красно, хотя и не старое, но чего со всем солнышком, сиявшим в рейсе по каналу, он похож на персонажа Диккенса, шагающего к своей почтовой карете и пыльным дорогам, да только что за гнетущая картина раскинулась пред нами, пока мы шли. С Дени всегда ходьба пешком, долгие-долгие прогулки, он ни доллара не желал тратить на такси, потому что ему нравится ходить, а кроме того, бывали такие дни, когда он ходил с моей первой женой и, случалось, вталкивал ее в турникеты подземки, не успевала она сообразить, что произошло, со спины, естественно – чарующий такой трюк, – сэкономить никель – развлечение, в котором старине Дену нет равных, как это можно доказать. Мы пришли к путям «Тихоокеанского Красного Вагона» после быстрого похода минут на 20, вдоль тех унылых нефтеперегонок и вододегтярничных вкепошных перестоев, под невозможными небесами, отягощенными небось звездами, но виден лишь их грязный мазок в Рождестве Южной Калифорнии. «Керуак, вот мы и на путях “Тихоокеанского Красного Вагона”; у тебя есть хотя бы малейшее представление о том, что это за штука, можешь ли ты сказать то, что, по-твоему, можешь сказать, но, Керуак, ты всегда меня поражал как забавнейший человек из всех моих знакомых…»
«Нет, Дени, ты забавнейший человек из всех моих знакомых».
«Не перебивай, не пускай слюни», – вот как он ответил и всегда разговаривал, и он ведет меня через пути «Красного Вагона», в гостиницу, в центре долгого Сан-Педро, где кто-то должен нас встретить с блондинками, и потому по пути он прихватил пару мелких портативных упаковок пива, чтоб их портачить с собой, и когда мы до гостиницы добираемся, где политые пальмы в кадках и побитые витрины в барах, и машины на парковке, и все мертво и безветренно с этим мертвым калифорнийским печальным безветренным дымсмогом, и мимо сквозят пачуки в пришпоренной тачке, и Дени говорит: «Видишь компашку мексиканцев в той вон машине, в синих джинсах? Они сцапали одного нашего моряка тут на прошлое Рождество, где-то ровно год назад сегодня; он не вынакивался, ничего, занимался своим делом, а они выскочили прям из этой своей машины и его избили адски просто – деньги у него забрали, – денег не было, это просто от мерзости, они ж пачуки, им нравится людей бить за-ради просто так».
«Когда я был в Мехико, мне вовсе не показалось, что мексиканцы там такие».
«Мексиканцы в США – совсем другое дело, Керуак, объезди ты весь свет, как я, видел бы, как я вижу, несколько грубых фактов жизни, что, очевидно, с тобой и бедными голодающими в Европе вы никогда НИКОГДА непойМЁЁЁЁТТТЕ…» – снова схватив меня за плечо, на ходу размеренно, как в наши школьные деньки, когда мы, бывало, взбирались на солнечную утреннюю горку, в Хорэс Мэнн, на двести сорок шестой на Манхэттене, на скальные утесы возле парка Ван-Кортлендта, по маленькой дороге, проходя мимо английских брусовых коттеджей и жилых домов, к оплющенной школе на вершине, вся компашка размеренно вверх по склону к школе, но никто никогда не ходил быстрее Дени, ибо он никогда не останавливался перевести дух, подъем был очень крут, большинству приходилось пыхтеть, и потеть, и поскуливать, и стонать по дороге, а Дени себе мерно шагал со своим большим радостным гоготом. В те дни он, бывало, продавал кенжики богатеньким маленьким четвероклассникам, за туалетами. Сегодня же вечером за душой был не единственный трюк. «Керуак, я сёдни тя точно познакомлю с двумя кукамонгами в Голливуде, если вовремя туда доберемся, завтра-то наверняка… Две кукамонги живут в доме, многоквартирном, все явно выстроено вокруг плавбассейна, ты понимаешь, что я сказал, Керуак? Плавательный бассейн, в котором плаваешь».
«Я знаю, знаю, видел на том снимке вас с Мэттью Питерсом и всеми теми блондинками, здорово… Что будем делать, обрабатывать их?»
«Погодь, минутку, я счас тебе всю историю объясню, давай пистолет».
«Нет у меня пистолета, дурень, я это сказал тебе, только чтоб ты с судна слез… Я был готов тебе помочь, если что-то случится».
«У ТЕБЯ ЕГО НЕТ?» Его осенило, он же перед всей командой хвастался: «Мой мальчик там на причале с пушкой, я что вам говорил». А еще до того, когда судно уходило из Нью-Йорка, он вывесил здоровенный, нелепый, типично для Дени смехотворный плакат печатными буквами красной тушью на куске бумаги: «ВНИМАНИЕ, НА ЗАПАДНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ИМЕЮТСЯ РЕБЯТКИ ПО ИМЕНИ МЭТТЬЮ ПИТЕРС И ПОЛ ЛАЙМЕН, ИМ БЫ НИЧЕГО ТАК НЕ ХОТЕЛОСЬ, КАК ЗАМОЧИТЬ ПЛОТНИКА «СКИТАЛЬЦА» ДЕНИ Э. БЛЁ, ИМ ТОЛЬКО ДАЙ, НО ЕСЛИ КАКИЕ-ТО ТОВАРИЩИ ОЗНАЧЕННОГО БЛЁ ХОТЯТ ПОМОЧЬ, СМОТРИТЕ В ОБА, НЕТ ЛИ ГДЕ ЭТИХ ДВУХ ЗЛОБНЫХ НИЩЕБРОДОВ, КОГДА СУДНО ЗАЙДЕТ В ПЕДРО, И ЭТО БУДЕТ ОЦЕНЕНО ПО ДОСТОИНСТВУ, ПОДПИСЬ ПЛТНК. БЕСПЛАТНАЯ ВЫПИВКА СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ У ПЛТНК». И затем изустно в столовой экипажа он громко хвастался своим мальчонкой.
«Я знал, что ты всем расскажешь, что у меня пушка, потому и сказал, что он у меня. Тебе разве не приятнее было с судна сходить?»
«Где он?»
«Я даже не ходил».
«Значит, по-прежнему там. Надо будет сегодня ночью его забрать». Он ушел в мысли с концами – все было нормалек.
У Дени наличествовали большие планы на то, что должно произойти в гостинице, коя была «El Carrido Per» из Мотпаотта-калифорнийских начислительских отелей, как я сказал, с пальметто в кадках и моряками внутри, а также с пришпоренным чемпионским отродьем самолетчиков-вычислителей Лонг-Бича; вся эта общая и на самом деле тягостная калифорнийская культура тут явно тусует, где видать тусклые интерьеры, где видать гавайски-орубашеченных и принаручночасовленных, загорелых крепких молодых людей, кренящих долгие тонкие пива ко ртам своим, и они подаются и жеманничают с девками в прихотливых ожерельях и с маленькими беленькими штучками из слоновой кости в загорелых ушах, и пустой синевищей в глазах, которую видно, а также со зверской жестокостью, там таящейся, и пивным, и дымным, и ловким духом прохладного внутреннего плисового коктейль-салона и всей этой американскостью, от которой в юности своей я дичал, в ней будучи, и хотел удрать из дому и отправиться большим героем в американской соблазни-меня-джазово ночи. От этого и Дени голову терял, в какой-то раз был печальным разъяренным французским мальчиком, которого привезли на судне ходить в американские частные школы, в кое время кости и темные глаза его тлели от ненависти, и хотелось ему разнести весь мир – но чуток образования Мудротой и Мудростью от Учителей Высокого Запада, и ему уже хотелось свои ненависть и разнос творить в коктейль-салонах, чему научился он из киношек Франшо Тоуна и Бог знает где и от чего еще. Мы подходим к этой штуке на безотрадном бульваре, фантомной улице с ее очень яркими уличными фонарями и очень яркими, однако хмурыми пальмами, выпирающими из тротуара, сплошь ананасно-ребристыми и подымающимися к неопределимому калифорнийскому ночному небу, и без ветра. Внутри Дени никто не встречал, как водится, его не опознают и в упор не видят (ему на руку, но он этого не знает), поэтому мы принимаем пару пива, ощутимо ждем, Дени мне очерчивает больше фактов и персональных софистик, никто не приходит, никаких друзей да и никаких врагов, Дени совершенный Даос, с ним ничего не происходит, неурядицы стекают с его плеч как с гуся вода, будто свиным салом они намазаны; он даже не знает, как ему повезло, а тут у него мальчонка под боком, старина Ти-Жан, который куда угодно пойдет за кем угодно, лишь бы приключения. Вдруг посреди третьего или где-то там пива он ухает и понимает, что мы пропустили ежечасный поезд «Красного Вагона», и это нас задержит еще на час в унылом Сан-Педро, нам хочется к блесткам Лос-Анджелеса, если можно, или Голливуда, пока все бары не позакрывались, я мысленным взором вижу все чудесные штуки, что Дени нам там запланировал, и вижу, непостижимо, невспоминаемо, что́ это были за образы, что я изобретал, пока мы не тронулись с места и не прибыли к какой надо сцене, не на экран, а на тягостную четырехмерную сцену саму. Бам, Дени хочет взять такси и гнаться за «Красным Вагоном»; также с нашими пивбанками в ручных картонках мы пускаемся рысью по улице к стоянке такси и одно берем гнаться за «Красным Вагоном», что этот мужик молча и делает, ведая про эгоцентричность моряков как О какой безотрадный таксист в О каком безотрадном городке, куда только с борта перед самым отходом спрыгивать. Мы рвем с места. Я подозреваю, что едет он вообще-то не так быстро, чтоб догнать «Красный Вагон», который мчит беспрепятственно по этой самой линии, к Комптону и окрестностям Лос-Анджелеса, на 60 в час. Подозрение мое в том, что он не хочет талон предупреждения и в то же время едет достаточно быстро, чтоб удовлетворить прихоть моряков на заднем сиденье. Мое подозрение, он желает выхарить у старины Дена 5-долларовую купюру. Дена же хлебом не корми, дай поразбрасываться своими 5-долларовыми купюрами, он от этого процветает, живет ради этого, он весь ходит в кругосветки, пашет в трюмах среди электрического оборудования, но, хуже того, терпит помыканья комсостава и членов экипажа (в четыре утра спит на своей шконке. «Эй, плотник, ты плотник или ты пробка бутылочная, или гальюнный смотритель, на этом чертовом носовом гике опять фонарь погас, уж и не знаю, кто тут из рогаток пуляется, но я хочу, чтоб сигнальный огонь этот починили. Мы через 2 часа в Пенанг заходим, и если, черт бы тя драл, еще будет темень, и у меня, и у нас не будет света, тебя за жопу возьмут, не меня, пойдешь к чифу на ковер». Поэтому Дени приходится вставать, и я так и вижу, как он это делает, вытирает невинный сон с глаз и просыпается навстречу холодному воющему миру, и жалеет, что у него нет кортика – отрезать чуваку башку, но в то же время ему вовсе не улыбается и просидеть остаток жизни на губе, или себе башку отчасти потерять и остаток жизни провести парализованным с подковной скобой в шее, чтоб люди ему подносили параши. Поэтому он сползает со шконки и бежит на побегушках у любой твари, которой найдется какой ор в него метнуть по какому угодно поводу из тысячи и одного электрического аппаратуса на этой проклятущей вонючей стальной гауптвахте, кою, насколько меня это интересует и насколько она умеет держаться на воде, есть то, что зовется у них судном. Что такое 5 долларов для мученика? «Жми на газ, мы должны догнать этот вагон».
«Я и так быстро еду, догоните». Он проезжает прямиком сквозь Кукамонгу. «Ровно в 11:38 в 1947 г. или 1948 г., одно из двух, не помню, когда точно, но помню, я так устроил другому моряку пару лет назад, и он прям проездом проехал». И он не умолкает, сбавляя ход, чтоб не ехать через оскорбительную часть едва-едва бьющегося красного света, а я откидываюсь на спинку заднего сиденья и говорю:
«Могли б проскочить этот светофор, теперь точно не нагоним».
«Слушай, Джек, ты ж догнать хочешь, нет, а не чтоб штраф тебе какой-нибудь жезлоносец впаял».
«Где?» – говорю я, выглядывая в окно и по всему горизонту тех болот ночи, нет ли где признака легавого на мотоцикле или патрульном крейсере, а видны лишь болота и громадные черные дали ночи, да вдали, на горках, общинки с рождественскими огоньками в окнах туманятся красным, туманятся зеленым, туманятся синим. Меня вдруг от них пробивает му́кой, и я думаю: «Ах, Америка, такая большая, такая печальная, такая черная, ты как листва засушливого лета, что морщит, еще август не отыщет свой конец, ты безнадежна, на кого б ни посмотрела ты, ничего, лишь сухая безотрадная безнадежность, знание о неотвратимой смерти, страдание нынешней жизни, огоньки Рождества не спасут ни тебя, никого, как не украсить рождественскими фонариками мертвый куст в августе, среди ночи, и чтоб стал на что-нибудь похож; что это за Рождество такое ты исповедуешь, в сей пустоте?.. в сей туче облачной?»
«Все в полнейшем порядке», – говорит Дени. «Давай дальше, успеем». Следующий светофор он пролетает, чтоб смотрелось хорошо, но перед дальнейшим сбавляет ход, и вдоль по рельсам, и назад ни малейшего признака ни зада, ни переда, никакого «Красного Вагона», мля. Он доезжает до своего места, где пару лет назад высадил того моряка, никакого «Красного Вагона», его отсутствие чувствуется, он приехал и уехал, пустой запах – можно определить по электрической бездвижности на углу, что нечто здесь только что было, и уже нет.
«Ну я, наверно, его упустил, черт возьми», – говорит таксист, сдвигая кепку на затылок, – извиниться и выглядя при этом лицемерно, поэтому Дени ему дает пять долларов, и мы вылезаем, и Дени говорит:
«Керуак, это значит, нам тут ждать час у холодных путей, в холодной туманной ночи, следующего поезда на ЛА».
«Это ничего, – говорю я, – у нас же есть пиво, правда, открывай давай одну», и Дени шарит выудить старую медную открывашку, и на свет являются две банки пива, опрыскивая собою печальную ночь. Мы опрокидываем банку и давай хлюпать – по две банки на брата, и начинаем швыряться камнями в дорожные знаки, приплясывая, чтоб согреться, присаживаясь на корточки, рассказывая анекдоты, вспоминая прошлое. Дени валяет «Хьра ррыук Хоо», и снова я слышу этот его великий хохот, звенящий в американской ночи, и пытаюсь сказать ему: «Дени, я вот почему за судном поперся всю дорогу 3200 миль от Стейтен-Айленда до чертова Педро, не только потому, что мне хочется и дальше, чтоб видели, как я по миру езжу и балеху себе закатываю в Порт-Светтенхэм, и перехватываю ганджу в Бомбее, и отыскиваю спящих и флейтистов в грязном Карачи, и разжигаю собственные революции в каирской Касбе, и выбираюсь из Марселя на другую сторону, а из-за тебя, потому что все, что мы раньше с тобой делали, и где бы, мне чертовски отлично с тобой было, Ден, никаких тут экивоков насчет… У меня никогда не бывает денег, это я признаю, я уже тебе должен шестьдесят за автобусный билет, но, согласись, я стараюсь… Прости, что у меня никаких денег нет вообще, но ты же знаешь, я с тобой пытался, в тот раз… Ну, черт же побери, уа ахуу, блядь, я сегодня хочу напиться». А Дени говорит: «Незачем нам валандаться вот так вот на холоде, Джек, смотри, вот бар, вон там» (придорожная таверна тлеет красным в дымке ночи). «Может, это бар мексиканских пачуко, и там из нас чертову матерь всю повыбьют, но давай туда зайдем и подождем полчасика, что у нас есть, с несколькими пивами… и поглядим заодно, нет ли там каких кукамонг». И вот мы выруливаем туда, через пустырь. Дени тем временем очень деловито рассказывает, как я пустил свою жизнь коту под хвост, но это я слышал от кого угодно от одного побережья до другого, и в общем смысле мне наплевать, и сегодня ночью наплевать; я это все так делаю и говорю все так.
Пару дней спустя пароход «Скиталец» отчаливает без меня, потому что мне в профсоюзе не разрешили, у меня не было старшинства, оставалось мне только, как они сказали, посидеть пару месяцев на биче и поработать в порту или где-нибудь, и подождать каботажа на Сиэтл, и я подумал: «Так если я вдоль берега телепаться буду, пойду хотя бы вдоль берега, коего я жажду». В общем, я вижу, как «Скиталец» выскальзывает из бухты Педро, опять ночью, красный огонь по левому борту и зеленый по правому украдкой ползут по воде с сопровождающими призрачными топовыми огнями, вуп! (гудок буксирчика) – затем неизменно, как гандхарвы, как иллюзии с Майами, тусклогоньки иллюминаторов, где некоторые члены экипажа читают на своих шконках, другие закусывают в столовой команды, а другие, вроде Дени, рьяно пишут письма большой красночернильной авторучкой, заверяя меня, что в следующий оборот вокруг света я уж точно попаду на «Скиталец». «Но мне все равно, я в Мексику поеду», – грю я и схожу с «Тихоокеанского Красного Вагона», маша рукой судну Дени, исчезающему где-то там…
Среди шалопайских розыгрышей, что мы затеяли после той первой ночи, о которой я вам рассказал, мы втащили огромное перекати-поле по трапу в 3 часа ночи в канун Рождества и пропихнули в носовой кубрик машинного отделения (где все они храпели), и там и оставили. Когда поутру они проснулись, то подумали, что они где-то не там, в джунглях или где-то, и все уснули опять. Поэтому, когда Дед орет: «Кто на хрен втащил это дерево на борт!» (оно было десять футов на десять футов, здоровенный шар сухих веточек), вдали и вглуби судового железного сердца слышно, как Дени воет: «Хуу хуу хуу! Кто на хрен втащил это дерево на борт! Ох, этот Дед, такой потеш-н-и-и-к!»
Мексиканские феллахи
Когда переходишь границу в Ногалесе, штат Аризона, очень суровые на вид американские пограничники, кое-кто одутлолицый в зловещих стальюоправленных очках, побираются по всему твоему битому багажу в поисках скорпиона правонарушений. Ты просто терпеливо ждешь, как это бывает всегда в Америке среди всех этих явно нескончаемых полицейских и их нескончаемых законов «против» (законов «за» нету). Но в тот миг, когда заступаешь за проволочную калитку и ты в Мексике, у тебя такое чувство, точно ускользнул из школы, а учителке сказал, что заболел, и она тебе разрешила пойти домой, 2 часа дня. Такое чувство, будто только вернулся домой из воскресной утренней церкви и снимаешь костюм, и влатываешься в свой мягкий ношеный клевый комбез, играть – озираешься и видишь счастливые улыбки на лицах, либо сосредоточенные темные лица встревоженных возлюбленных и отцов, и полицейских, слышишь музыку из кантины из-за скверика с шариками и фруктовыми мороженками. Посреди сквера эстрада для концертов, настоящих концертов для людей, бесплатно – поколения маримбистов, может, или джаз-банд Ороско играет мексиканский государственный гимн. Жаждая, проходишь в качкие двери салуна и получаешь барного пива, и поворачиваешься, а там ребята в пул режутся, готовят тако, носят сомбреро, некоторые носят пистолеты на своих ранчерских бедрах, и банды поющих дельцов швыряют песо стоячим музыкантам, которые бродят взад-вперед по залу. Это великолепное ощущение вступления в Чистую Землю, особенно потому, что она так близко от сухолицей Аризоны и Техаса, и по всему юго-западу, но ты его можешь найти, чувство это, это феллахское ощущение жизни, эту вневременную веселость людей, не занятых великими проблемами культуры и цивилизации. Ты его можешь найти почти где угодно еще, в Марокко, в Латинской Америке целиком, в Дакаре, в земле курдов.
В Мексике нет «насилия», это все херь, сочиненная голливудскими писаками, либо писаками, которые ездили в Мексику «насильствовать». Я знаю про одного американца, который поехал в Мексику подраться в барах, потому что там за нарушения общественного порядка обычно не арестовывают, боже мой; я видел, как мужики игриво борются посреди дороги, не давая проехать транспорту, визжат от хохота, а люди идут мимо и улыбаются. Мексика обычно нежна и мягка, даже если ездишь по ней с опасными субъектами, как я, опасными в том смысле, какой мы имеем в виду в Америке – фактически, чем дальше отъезжаешь от границы и глубже на юг, тем прекраснее там, как будто воздействие цивилизаций тучей нависало над границей.
Земля – штука индейская, я присаживался на нее на корточках, крутил толстые палки марихуаны на грязевых полах палочных хижин неподалеку от Масатлана, возле опийного центра мира, и мы кропили опием свои гигантские кропали – у нас были черные пятки. Мы говорили о революции. Хозяин придерживался мнения, что первоначально Северной Америкой владели индейцы, равно как и Южной, примерно пора выступить и сказать: «La tierra esta la notre»[1], что он и сделал, прищелкнув языком, и хипово ощерившись, поддернув свои безумные плечи, чтоб мы видели его сомнение и недоверие ни к кому, понимая, о чем он, но я был там и вполне неплохо все понял. В углу индейская женщина, 18, сидела, отчасти за столом, лицо ее в тенях свечного огонька. Она за нами наблюдала, либо улетев по «О», либо сама собой жена человека, который утром вышел на двор с копьем и лениво поколол палки на земле, вяло кидая их оземь-наземь, полуобернувшись жестом показать и сказать что-то своему напарнику. Дремотный гуд феллахской деревни в полдень – неподалеку от нас было море, теплое, тропик Рака. Позвоночно-ребристые горы всю дорогу от Калексико и Шасты, и Модока, и глядящие из Пэскоу на реку Коламбия, торчали мятые за равниной, по которой раскинулось это побережье. Тысячемильная грунтовка вела туда – спокойные автобусы 1931 г., тонкие, высокие, стиля нелепого со старомодными рычагами сцепления, уводящими к дырам в полу, старые боковые скамьи вместо сидений, обернутые вокруг, сплошь дерево, подскакивают в нескончаемой пыли мимо Навахов, Маргарит и вообще песье-пустынных сухих лачуг Доктора Перчика и чушью собачьей на тортийях полусгоревших – замордованная дорога – вела вот к этому, к столице мирового царства опия. Ах, Иисусе – глянул я на своего хозяина. На глинобитном полу, в углу, храпел солдат мексиканской армии, то была революция. Индеец бузил. «La tierra esta la notre».
Энрике, мой гид и друган, который не выговаривал «х», и приходилось ему говорить «к», поскольку рождество его не погребено в испанском имени Веракрус, родного его городка, а вместо этого в миштекском наречии. В автобусах, трясущихся в вечности, он мне орал все время: «Ду-КО-та? Ду-КО-та? Значит caliente. Поал?»
«Ага, ага».
«Тут ду-ко-та… очень ду-ко-та… это значит caliente – не продок-нуть… муть…»
«Продох-нуть!»
«Там какая буква – в альфабате?»
«Х».
«Так… хк…?»
«Нет… х…»
«Мне кудо так произносить. Я не могу».
Когда он говорил «к», вся его челюсть выскакивала наружу, я видел в его лице индейца. Теперь он сидел на корточках на земляном полу, пылко объясняя хозяину, который, как я понимал по его внушительному виду, есть Царь какой-то королевской банды, расставленной по пустыне, по его полнейшей презрительной речи касаемо любого затронутого предмета, словно б по крови царь по праву, стараясь убедить, или оберечь, или что-то попросить. Я сидел, помалкивал, наблюдал, как Герардо в углу. Герардо слушал с видом потрясенным, как его старший брат толкает безумную речугу перед Царем и в обстоятельствах странного Американо Гринго с его морским вещмешком. Он кивал и склабился, как старый торговец, хозяин, слушая, и поворачивался к своей жене и показывал язык, и облизывал нижние зубы, а после того увлажнял верхние о губу, дабы кратко оскалиться в неведомую мексиканскую тьму над головой хижины в свечном свете под Тропически-Раковыми звездами Тихоокеанского побережья, как в бойцовом имени Акапулько. Луна омывала скалы от Эль-Капитана и дальше вниз – болота Панамы поздней и уже довольно вскоре.
Показывая огромной ручищей, пальцем, хозяин: «В ребре гор большого нагорья! злата войны погребены глубоко! пещеры кровоточат! мы выманим змея из лесов! оборвем крылья великой птице! станем жить в железных домах, перевернутых в полях тряпья!»
«Si!» – произнес наш тихий друг с края нар, Эстрандо. Козлиная бородка, хиповые глаза, поникшие, карегрустные и наркотические, опий, руки роняются, странный знахарь, сиделец рядом с этим Царем время от времени вбрасывал замечания, которые заставляли остальных слушать, но стоило ему только попытаться продолжить, невпротык, он что-то переигрывал, он их притуплял, они отказывались слушать его уточнения и художественные штрихи в заварухе. Первобытная плотская жертва – вот чего им хотелось. Ни одному антропологу не следует забывать людоедов, либо избегать Ауку. Добудьте мне лук и стрелу, и я двину; теперь я готов; плату за полет, пжалста; на плато плату; празден список; рыцари наглеют старея; юные рыцари грезят.
Мягко. Наш индейский Царь не желал иметь ничего общего с предположительными идеями; он внимал нешуточным мольбам Энрике, отмечал галлюцинированные высказывания Эстрандо, гортанные замечания, специями вброшенные веско, как безумье внутрь, и из коего Царь научился всему, что знал о том, что реальность о нем подумает, – он озирал меня с честным подозрением.
Я услышал, как он спрашивает по-испански, не какой-то легавый ли этот гринго, следящий за ним из ЛА, какой-нибудь ФБРовец. Я услышал и ответил «нет». Энрике пытался ему сказать, что я interessa, показывая на собственную голову, означая, что меня всякое интересует – я пытался выучить испанский, я голова, cabeza, также chucharro – (планакеша). – Чучарро Царя не интересовало. В ЛА он пришел пешком из мексиканской тьмы босыми ногами, раскрыв ладони, черное лицо огням – кто-то сорвал цепочку с распятием с его шеи, какой-то легавый или хулиган; он рыкнул, вспоминая это, возмездие его было либо безмолвным, либо кто-то остался мертвым, а я из ФБР – зловещий преследователь мексиканских подозреваемых с задком в виде оставшихся отпечатков ног на тротуарах железного ЛА и цепей в каталажках, и потенциальных героев революции с предвечерними усами в красноватом мягком свете.
Он показал мне катышек О. Я поименовал его. Частично удовлетворился. Энрике и дальше молил в мою защиту. Знахарь улыбался про себя, не было у него времени дурака валять, или выплясывать придворно, или петь о пойле в блядовых переулках, ища шмаровозов – он был Гёте при дворе Фредерико Ваймара. Флюиды телевизионной телепатии окружали комнату так же молча, как Царь решил меня принять. Когда он принял, я услышал, как скипетр пал во всех их мыслях.
О, святое море Масатлана и великая красная равнина вечернего кануна с burros и aznos, и рыжими и бурыми лошадьми, и зеленым кактусом пульке.
Три muchachas[2] в двух милях оттуда компашкой беседуют в точно концентрическом центре круга красной вселенной, мягкость их речи нипочем нас не достигнет, да и волны эти Масатлана не уничтожат своим лаем – мягкие морские ветра облагораживают мураву – три острова на милю вдали – скалы – сумерки грязевых крыш града Феллахского позади…
Поясняю, я упустил судно в Сан-Педро, а этот порт был на полпути в путешествии от мексиканской границы в Ногалесе, штат Аризона, которое я предпринял на дешевых автобусах второго класса всю дорогу вниз по Западному побережью в Мехико. С Энрике и его мелким братцем Герардо я познакомился, пока пассажиры разминали ноги у пустынных хижин в пустыне Сонора, где большие толстые индейские дамы подавали горячие тортийи и мясо с каменных кухонных плит, и пока стоял там, дожидаясь своего сандвича, маленькие свинки с любовью паслись у твоих ног. Энрике был клевский милый пацан с черными волосами и черными глазами, который пустился в это эпическое путешествие аж в Веракрус, в двух тысячах миль от Мексиканского залива, со своим младшим братишкой по некой причине, кою я так никогда и не выяснил. Он мне только дал понять, что внутри у его самодельного деревянного радиоприемника спрятано около полуфунта крепкой темно-зеленой марихуаны, еще со мхом внутри и длинными черными волосинами, признак доброй конопли. Мы незамедлительно принялись пыхать средь кактусов на задворках пустынных полустанков, сидя там на корточках под жарким солнышком, хохоча, а Герардо на нас смотрел (ему было всего 18 и не дозволено курить его старшим братом). «Это почему? потому что марихуана плёко для глаз и плёко для la ley» (плохо для зрения и плохо по закону). «Но жы!», показывая на меня (мексиканцы так говорят «ты»), «и я!», показывая на себя, «мы годится». Он взялся служить моим проводником в великой поездке по континентальным пространствам Мексики – немного говорил по-английски и пытался мне объяснить эпическое величие этой земли, и я определенно с ним соглашался. «Видишь?» – говорил он, показывая на далекие горные хребты. «Mehico!»
Автобус был старой высокой худой приблудой с деревянными скамьями, как я уже сказал, и пассажиры в платках и соломенных шляпах садились в него со своими козами, или свиньями, или курами, а детвора ехала на крыше или висела, распевая и вопя, на заднем борту. Мы подскакивали и подскакивали по той тысячемильной грунтовке, и, когда подъезжали к рекам, водитель просто пахал мелководье, смывая пыль, и трясся дальше. Странные городки, вроде Навахоа, где я сам по себе предпринял прогулку и увидел, на фиготени вроде уличного рынка, мясника, стоящего перед кучей паршивой говядины на продажу, над ней сплошь роились мухи, а шелудивые костлявые феллахские собаки попрошайничали под столом, и городки вроде Лос-Мочис (Мухи), где мы сидели пили «Оранж-Жим», как гранды, за липкими столиками, где заголовок дня в местной лос-мочисской газете повествовал о пистолетной дуэли между начальником полиции и мэром – весь город только об этом и гудел, хоть какое-то возбуждение в белых переулках – оба с револьверами на бедрах, бам, бац, прямо на грязной улице у кантины. Теперь мы были в городке дальше к югу в Синалоа и слезли со старого автобуса в полночь, чтоб пройти гуськом по трущобам и мимо баров («Нии корошо ты и я и Герардо закодить в кантину, плёко для la ley», – сказал Энрике), и тогда, Герардо, неся мой морской мешок на горбу, как настоящий друг и брат, мы пересекли огромную пустую плазу грязи и подошли к кучке палочных хижин, из которых складывалась деревенька невдалеке от мягкого звездносветного прибоя, и там постучались в дверь этого усатого дикого мужика с опием, и нас впустили в его кухню при свечах, где он и его знахарь с бородкой Эстрандо кропили красными щепотями чистого опия огромные косяки марихуаны размерами с сигару.
Хозяин разрешил нам переночевать в маленькой травяной хижине поблизости – этот скит был Эстрандов, тот очень любезно дал нам там спать – проводил внутрь при свече, убрал единственные свои пожитки, состоявшие из заначки опия под тюфяком на утоптанной земле, где он и спал, а сам уполз ночевать куда-то еще. Нам досталось лишь одно одеяло, и мы подкинули монетку, кому спать посередине – выпало пацану Герардо, который жаловаться не стал. Поутру я поднялся и выглянул сквозь палки: то была сонная милая деревенька из травяных хижин с прелестными смуглыми девами, что таскали на плечах кувшины воды из главного колодца. Дым от тортий подымался среди деревьев, тявкали собаки, играли дети, и, как я уже говорил, хозяин наш встал и колол ветки копьем, кидая его оземь и почти расщепляя ветки (или тонкие сучья) ровно напополам. Поразительное зрелище. И когда мне захотелось в сортир, меня направили к древнему каменному сиденью, что господствовало над всей деревней, будто трон какого-то короля, и мне пришлось сидеть на виду у всех, он был открыт всему на свете. Мамаши, проходившие мимо, вежливо улыбались, дети таращились, засунув пальцы в рот, девчушки мычали себе под нос за работой.
Мы начали собираться, чтоб вернуться к автобусу и ехать дальше в Мехико, но сперва я купил четверть фунта марихуаны, но как только сделка в хижине свершилась, с грустными глазами вошел строй мексиканских солдат и несколько затрапезных полицейских. Я сказал Энрике: «Эй, нас что, арестуют?» Он ответил: нет, им самим просто нужно марихуаны для себя, бесплатно, и они отпустят нас с миром. Поэтому Энрике отсыпал им примерно половину того, что у нас было, и они расселись на корточках вокруг хижины и свернули себе косяков прямо на земле. Мне было так скверно с опийного бодуна, что я лежал там, на всех пялясь и чувствуя, будто меня сейчас насадят на вертел, отрежут мне руки, подвесят вверх тормашками на кресте и сожгут на колу на этом возвышенном каменном отхожем месте. Мальчишки принесли мне супу с острым перцем, и все улыбались, пока я его хлебал, лежа на боку – он жег мне глотку, я от него ахал, кашлял и чихал, и мне тут же получшело.
Мы встали, и Герардо снова взвалил мой вещмешок себе на спину, Энрике спрятал марихуану в деревянное радио, мы торжественно пожали руки нашему хозяину и знахарю, серьезно и торжественно пожали руки каждому из десятка полицейских и легавых солдат и снова отчалили гуськом под жарким солнцем к автобусной станции в городе. «Теперь, – сказал Энрике, похлопывая самодельное радио, – видишь, mir, у нас все есть улететь».
Солнце жарило, и мы потели, подошли к крупной красивой церкви в старом стиле испанских миссий, и Энрике сказал: «Теперь зайдем внутрь». Меня поразило воспоминание, что мы тут все католики. Мы зашли, и Герардо встал на колени первым, потом мы с Энрике опустились среди рядов и перекрестились, и он прошептал мне на ухо: «Видишь? В царкви прокладно. Корошо с солнца уйти на minuto».
В Масатлане в сумерках мы ненадолго остановились выкупаться в исподнем в этом великолепном прибое, и вот там-то, на пляже, с большим кропалем, дымящимся в руке, Энрике повернулся и показал в глубину суши на зеленые поля Мексики и сказал: «Видишь три девушки посреди поля вдалеке?» И я смотрел и смотрел, и лишь едва-едва видел три точки посреди дальнего пастбища. «Три muchachas, – сказал Энрике. – Это значит: Mehico!»
Он хотел, чтоб я поехал с ним в Веракрус. «Я по профессии сапожник. Ты будешь дома сидеть с детчонками, пока работаю, mir? Будешь писать свои interessa книжки, и нам будет много детчонок».
После Мехико я его больше не видел, потому что у меня не было никаких совершенно денег, и мне пришлось жить на тахте у Уильяма Сьюэрда Берроуза. А Берроузу никакого Энрике рядом не хотелось: «Не стоит тебе тусоваться с этими мексиканцами, все они банда жулья».
Я по-прежнему храню кроличью лапку, которую мне подарил Энрике, когда уезжал.
Несколько недель спустя я отправляюсь смотреть свой первый в жизни бой быков, который, должен признать, есть novillera, бой новичков, а не всамделишный, который показывают зимой, и предполагается, что он очень художественный. Внутри это идеально круглая миска с аккуратным кру́гом бурой земли, которую боронят и граблят опытные заботливые грабельщики, вроде того человека, что граблями разравнивает вторую базу на «Стадионе Янки», только это у нас «Стадион Пыль-Глотай». Когда я сел, бык только вошел, и оркестр снова усаживался. Прекрасные вышитые одежды туго облегали мальчиков за загородкой. Торжественные такие, когда большой красивый блестящий черный бык вылетел стремглав, барабардая, пока я не смотрел, где он, очевидно, мычал о помощи, черные ноздри и большие белые глаза, и растопыренные рога, сплошь грудь, никакого брюха, тонкие ноги печного глянца стремятся втоптать землю всем этим паровозным весом – некоторые люди захихикали, – бык галопировал и сверкал, видны были изрешеченные дыры мышц в его совершенной призовой шкуре. Матадор выступил вперед и пригласил, и бык кинулся в атаку, и врезался, матадор осклабился накидкой, рогам дал пройти у своих чресл в футе-другом, плащом заставил быка развернуться, и пошел прочь, как Гранд, – и встал спиной к тупому идеальному быку, который не кинулся нападать, как в «Крови и песке», и закидывать сеньора Гранда на верхний ярус. Затем дело пошло. Появляется старая пиратская лошадь с повязкой на один глаз, на борту пикадорский РЫЦАРЬ с копьем, выйти и метнуть пару щепок стали в лопатку быку, который реагирует тем, что пытается поднять лошадь, но та в кольчуге (слава богу) – историческая и чокнутая сцена, вот только вдруг осознаешь, что пикадор завел быка на нескончаемое кровотечение. Ослепление бедного быка в бессмысленном головокружении продолжается кривоногим маленьким бандерильеро, который несет два дротика с лентами; вот он выходит лоб в лоб на быка, бык лоб в лоб на него, бам, никакого лобового столкновения, ибо бандерильеро ужалил дротиком и драпанул прочь, не успеешь «фу» сказать (а я сказал «фу»), потому что от быка трудно увернуться? Вполне себе, но от бандерилий бык теперь весь исполосован кровью, как Христос Марлоу в небесах. Выходит старый матадор и испытывает быка несколькими оборотами накидки, затем еще комплект дротиков, боевой флаг теперь сияет по дышащему страдающему боку быка, и все рады. И ныне напор быка лишь спотыкуч, и вот теперь серьезный герой матадор выходит на убийство, а оркестр издает один бум-шварк по басовому барабану. Становится тихо, как тучка солнце застит, проходя, слышно, как в миле оттуда у пьянчуги бьется бутылка среди жестокой испанской зеленой ароматной местности, дети медлят над tortas, бык стоит на солнце склоненноглавый, хватает ртом воздух жизни, его бока на самом деле трепещут о ребра, плечи его в колючках, как у святого Себастьяна. Тщательно упершись ногами, матадорский юноша, довольно храбрый сам по себе, приближается и чертыхается, а бык переворачивается и идет, припадая на шатких ногах, на красный плащ, заныривает, мажа кровь лентами где ни есть, и мальчишка попросту помогает ему ныркнуть в воображаемый обруч и описывает круги, и зависает на цыпочках, коленками вовнутрь. И, Господи, я не хотел видеть, как его гладкий тугой живот опроповедовало каким-нибудь рогом. Он снова всплеснул своим плащом быку, который просто стоял и думал: «О, почему ж не могу я пойти домой?», а матадор подступил ближе, и вот животное собрало в кучу свои усталые ноги бежать, но одна нога поскользнулась, взбросив тучу пыли. Но он нырнул и отметнулся прочь, передохнуть. Матадор набросил драпировку на шпагу и призвал смиренного быка с остекленевшими глазами. Бык навострил уши и не шевельнулся. Все тело матадора ожесточилось, как доска, что трясется от топота множества ног, в чулке его проявилась мышца. Бык ринулся на жалкие три фута и развернулся в пыли, а матадор выгнул спину перед ним, как тот, кто гнется перед горячей плитой достать что-то с другой стороны, и вбросил шпагу на ярд вглубь между лопатками быка. Матадор пошел в одну сторону, бык – в другую, со шпагой по самую рукоять, и зашатался, побежал было, посмотрел с человечьим удивлением на небо с солнцем и после этого забулькал – О, сходите на это посмотрите, толпа! – Его вырвало десятью галлонами крови в воздух, и та расплескалась повсюду. Он рухнул на колени, давясь собственной кровью, и стошнил, и шею изогнул назад, и вдруг весь стал куклой-болтанкой, и голова его плоско брякнулась. Он все еще не был мертв, выбежал дополнительный идиот и пырнул его воробьиным кинжалом в шейный нерв, и все равно бык вкапывался краями своего бедного рта в песок и жевал старую кровь. Глаза его! О, его глаза! Идиоты хихикали, потому что такое сделал кинжал, словно б мог и не сделать. Скорее выгнали упряжку истерических лошадей, оцепить и утащить быка прочь, они галопом ускакали, но цепь порвалась, и бык заскользил в пыли, как дохлая муха, бессознательно пнутая ногой. Долой его, долой! – Он пропал, белые глаза уставлены на последнее, что видишь. – Следующий бык! – Сперва старички залопатили кровь в тачку и унеслись с нею прочь. Возвращается спокойный грабельщик со своими граблями – «Ole!», девушки швыряют цветы на убийцу животных в шикарных панталонах. – А я видел, как все умирают, и никому не будет дела, я чувствовал, как ужасно жить лишь ради того, чтоб умереть, как бык, загнанный в вопящее человечье кольцо.
Хай-Алай, Мексика, Хай-Алай!
В последний день в Мексике я в церквушке около Ла-Редондас в Мехико, четыре часа серого дня, я прошел пешком по всему городу, доставляя посылки в почтамты, и жевал конфету со сливочной помадкой на завтрак, и теперь, с двумя пивами подо мной, отдыхаю в церкви, созерцая пустоту.
Прямо надо мной громадная мучимая статуя Христа на кресте, когда я впервые ее увидел, мгновенно сел под ней, недолго постояв, стиснув руки, на нее глядя – («Жанна!» называют меня во дворе, и это зовут какую-то другую даму, я подбегаю к двери и выглядываю). «Mon Jésus», – говорю я и подымаю взгляд, и вот Он, Ему присобачили симпатичное лицо, как у молодого Роберта Митчема, и закрыли Ему глаза в смерти, хотя один слегка приоткрыт, тебе кажется, и тоже похоже на молодого Роберта Митчема или Энрике, улетевшего по чаю, что смотрит на тебя сквозь дым и говорит: «Hombre, чувак, это конец». Колени Его все исцарапаны, так жестко ободраны до язв, что все сношены, в дюйм глубиной дыра, где Его коленные чашечки стесали молотящими паденьями на них с большим цеповым крестом в сотню миль длиной на спине Его, и когда Он там клонится с крестом на камнях, Его подстрекивают соскользнуть на колени, и Он их сносил к тому времени, как Его прибили к кресту. – Я там был. Показана большая прореха в Его ребрах, где острия копейщиков в Него втыкались. Меня там не было, будь я там, я б заорал: «Прекратите», и меня б тоже распяли. Тут Святая Испания прислала кровосердно-жертвенным ацтекам Мексики картинку нежности и жалости, глася: «Вот это вы готовы сделать с Человеком? Аз Сын Человеческий, рожден Человеком и есмь Человек, и вот что вы б сделали со Мной, Кто есмь Человек и Бог – Аз есмь Бог, а вы б пронзили ноги Мои, связанные вместе, длинными гвоздями с большими крепко сидящими концами, слегка притупленными мощью млатобойца – вот что вы б со Мной сделали, а я Любовь проповедовал?»
Он проповедовал любовь, а вы б его привязали к дереву и приколотили к нему гвоздями, дурачье вы, вас следует простить.
Показана кровь, сбегающая с рук Его в подмышки и вдоль боков Его. Мексиканцы повесили изящный полог из красного бархата вкруг Его чресл, это слишком высокая статуя, чтоб тут были пришпиливатели медалек на Ту Святую Победную Тряпицу. – Что за Победа, Победа Христа! Победа над безумием, человечьей пагубой. «Убей его!» – по-прежнему ревут они в боях, петушиных, бычьих, призовых, уличных, полевых, воздушных, словесных – «Убей его!» – Убей Лиса, Хряка и Сифак.
Христос в Муках Своих, помолись за меня!
Показано, как тело Его отваливается от креста на руке Его гвоздей, совершенный спад, встроенный художником, набожным скульптором, который над сим трудился всею своею душой, состраданьем и стойкостью Христа – милый, быть может, индейский испанский католик XV века среди руин самана и глины и вонючедымов индейских, средь тысячелетия в Северной Америке, измыслил эту statuo del Cristo и пришпандорил ее в новой церкви, которая теперь, в 1950-е гг., четыре сотни лет спустя или пять, растеряла части потолка, на которые какой-то испанский Микеланджело загнал херувимов и ангелочков в назидание зевакам вверх по воскресным утрам, когда добрый Падре рассуждает о подробностях закона религиозного.
Я молюсь на коленях так долго, глядя вверх искоса на моего Христа, что вдруг просыпаюсь в трансе в церкви с ноющими коленями и внезапным осознанием, что уже сколько-то слушаю глубокий звон в ушах, пронзающий всю церковь и мои уши и голову насквозь, и всю вселенную, внутренне присущее ей безмолвие Чистоты (коя Божественна). Я сижу на лавке спокойно, потирая колени, безмолвие ревет.
Впереди алтарь, Дева Мария бела в поле сине-бело-золотых раскладов – слишком далеко, не разглядеть сообразно; я даю себе слово добраться до алтаря, как только народу убавится. Люди все женщины, молодые и старые, как вдруг два ребенка в тряпье и одеялах и босиком идут медленно, в проходе по правую руку, с большим мальчиком, который встревоженно возложил руку, придерживая что-то на голове младшего братика, интересно, зачем оба они босиком, но я слышу щелканье пяток, интересно почему. Они идут вперед к алтарю, обходят сбоку стеклянный гроб святой статуи, все время идя медленно, встревоженно, касаясь всего, глядя наверх, малейше ползя по всей церкви и впитывая всю ее полностью. У гроба мальчуган поменьше (три годика) трогает стекло, и я думаю: «Они понимают смерть, стоят вон в церкви под небесами, у которых безначальное прошлое, и они уходят в нескончаемое будущее, сами ждут смерти, у ног мертвого, в святом храме». Мне является видение меня и двух мальчуганов, зависших в великой бескрайней вселенной с ничем над головой и ничем под низом, кроме Бесконечного Ничто, его Громадности, мертвые без числа по всем направлениям существования, внутрь ли, в атом-миры твоего же тела, или наружу, во вселенную, которая может быть лишь единственным атомом в бесконечности атом-миров, и каждый атомный мир лишь фигура речи – внутрь, наружу, вверх и вниз, ничто, кроме пустоты и божественного величия, и безмолвия для двух мальчуганов и меня. С тревогой я наблюдаю, как они уходят, к своему изумлению, вижу крохотную девчушку в один фут или я-с-половиной ростом, два годика или полтора, ковыляет крохотно низехонько под ними, кроткая овечка на полу церкви. Встревоженность старшего брата была в том, чтоб держать платок у нее над головой; он хотел, чтобы младший братик держал свой конец, между ними и под пологом шагала Принцесса Любимочка, изучая церковь большими карими глазами, это ее пяточки щелкали.
Как только они снаружи, начинают играть с другими детьми. Многие дети играют в огороженном входном садике, кое-кто из них стоит и смотрит пристально на верхний фасад церкви, на образы ангелов в потускневшем от дождя камне.
Я всему этому кланяюсь, преклоняю колена в своем входе в ряд скамей и выхожу, бросая один последний взгляд на St Antoine de Padue (св. Антония) Santo Antonio de Padua. Всё на улице снова безупречно, мир все время проникнут розами счастья, но никто из нас этого не знает. Счастье состоит в осознании, что всё это великая странная греза.
Железнодорожная земля
В Сан-Франциско был проулок на задах Южно-Тихоокеанского вокзала на перекрестке Третьей и Таунсенд в краснокирпичье сонных ленивых предвечерий, когда все на работе в конторах, в воздухе чувствуется неотвратимый натиск их пассажиропоточной лихорадки, как только они массой ринутся из зданий на Маркет-стрит и Сэнсом-стрит пешком и на автобусах, и все разодетые через рабочеклассовый Фриско Без Лифта?? водители грузовиков и даже бедная сажей размеченная Третья улица заблудших бомжей, даже негры, такие безнадежные и давно покинувшие Восток и смыслы ответственности и попробуй-ка сам-ка ну-ка; они только стоят там, поплевывая в битое стекло, иногда полсотни в один день у одной стены на Третьей и Хауарде, и вот все эти аккуратногалстучные производители из Миллбрея и Сан-Карлоса и регулярные пассажиры Америки и цивилизации Стали несутся мимо с сан-францисской «Кроникл» и зелеными «Колл-Буллетинами», времени не хватит даже на высокомерие, им надо успеть на 130, 132, 134, 136 вплоть до 146, до срока вечернего ужина в домах железнодорожной земли, когда высоко в небе волшебные звезды едут в вышине на следующих сорви-товарняках. Все это в Калифорнии, все это море; я выплываю днями солножаркой медитации в джинсах, с головой на носовом платке, на фонаре тормозного кондуктора либо (если не работаю) на книжках, я смотрю в синее небо совершенной потерянной чистоты и чувствую покоробленное дерево старой Америки под собой, и веду полоумные беседы с неграми в окнах седьмого этажа сверху, и все вливается, движения товарных вагонов на стрелках в этом проулочке, который так похож на переулки Лоуэлла, и я слышу вдали в смысле наступающей ночи тот паровоз, зовущий наши горы.
Но видеть всегда я мог тот прекрасный покрой облаков над маленьким проулком, клубы, плывущие мимо от Окленда или Врат Марина к северу или южнее Сан-Хосе; ясность Калы, от которой сердце у тебя вдребезги. То была фантастическая дрема и гром-бум трубно трудного дня, делать неча, старина Фриско с грустью края тверди, люди – проулок, набитый грузовиками и транспортом предприятий в окру́ге, и никто не знал либо и близко не парился, ктó я всю мою жизнь, три тысячи пять сотен миль от рождени-Я в Великой Америке раскрылись и наконец принадлежали мне.
Теперь вот ночь на Третьей улице, рьяные неончики, а также желтые лампочные огоньки ни-за-что-не-возможных ночлежек с темными раздрайными тенями, движущимися позади драных желтых штор, как выродившийся Китай без денег – коты в проулке Энни, надвигается ночлежка, стонет, перекатывается, улица заряжена тьмой. Синее небо над головой со звездами, нависающими в вышине над крышами старых гостиниц и гостиничными вентиляторами, выстанывающими старые прахи нутра, копоть внутри слова во ртах, вываливающихся зуб за зубом, читальные залы, тик-так час-от-часу со скрикреслом и пюпитрами, и старые лица, поглядывающие поверх очков без оправ, купленных в каком-нибудь ломбарде Западной Виргинии, или Флориды, или Ливерпуля; Англия, задолго до того, как я родился, и через все дожди прибыли они к краеземельной горести конца всемирной радости, всем вам, Сан-Францискам, придется со временем пасть и гореть заново. Но я иду, и однажды ночью бродяга падает в яму стройплощадки, где днем рушат канализацию, и рослые вьюноши «Пасифик и электрик» в рваных джинсах, которые там работают; часто я думаю подойти к каким-нибудь из них вроде, скажем, блондинов с волосьями торчком и драными рубашками и сказать: «Вам бы на железную дорогу податься, там работа гораздо легче, не стои́шь посреди улицы весь день, а платят больше». Но этот бродяга упал в яму, ты видел, как его нога торчит, британский «МГ», тоже ведомый каким-то чудиком, как-то раз сдал задом в яму, и когда я возвращался домой после долгого субботнего дня местным до Холлистера из Сан-Хосе за много миль оттуда за свежезелеными полями слив и сочной радости, оба-на, этот британский «МГ» сдал назад – и ноги вверх, колеса вверх в яме, а бродяги и легавые стоят вокруг прям возле кофейни – он мешал, поэтому его огородили, но ему так и недостало храбрости взять и сделать ввиду того факта, что у него не было денег и некуда податься, и О, его отец умер, и О, мать его умерла, и О, его сестра умерла, и О, его местонахождение умерло намертво. Но и потом, в тот раз, так же я лежал у себя в комнате долгими субботними днями, слушая Прыгучего Джорджа с пятериком токая без чая и под одними простынями, хохотал, слыша чокнутую музыку «Мама, он твою дочь гнобит», Мама, Папа, и не приходи сюда, не то я тебя кончу и т. д., оттопыривался сам по себе в комнатных сумраках и весь изумительный, зная про негра, неотъемлемого американца, который там снаружи вечно находит себе утешение, свой смысл на феллахской улочке, а не в умозрительной нравственности, и даже когда у него есть церковь, видишь пастора снаружи у входа, кланяется доступным дамам, слышишь, как его великий голос вибрирует на солнечном воскресноденном тротуаре, полном половых вибрато, говорит: «Ну да, мэм, но Евангелие и впрямь утверждает, что человек родился из чрева женщины» и нет, и так к тому времени, как я выползаю из своего тепломешка и выметаюсь на улицу, когда вижу, что железная дорога не вызовет меня до 5 утра в воскресенье на заре, вероятно, ради местного из Бэйшора, фактически всегда ради местного из Бэйшора, и я иду к войбару всех дикобаров на свете, одному-единственному на Третьей-и-Хауарде, и туда вхожу я, и пью с безумцами, и если напьюсь, так свалю.
Блядь, которая подошла там ко мне в ту ночь, когда я там был с Элом Баклом, и сказала мне: «Хочешь сегодня со мной поиграть, Джим?» И я не думал, что мне хватит денег, а потом сказал это Чарни Лоу, и он расхохотался и ответил: «Откуда ты знаешь, что ей денег было надо? Всегда рискуй, вдруг она просто за любовь, либо вышла за любовью, понимаешь, о чем я, чувак, не будь обсосом». Куколкой она была привлекательной и сказала: «Как ты смотришь на уляку со мной, чел?» А я там стоял как придурок и фактически взял выпить, получил выпить, напился в ту ночь и в «Клубе-299» был бит владельцем, оркестр разнял драку, не успел мне выпасть шанс решить дать ему сдачи, чего я не сделал, и снаружи на улице попробовал рвануть обратно внутрь, но дверь заперли и смотрели на меня сквозь запретное стеклышко в двери лицами, как под водой. Надо было сыграть с ней ещщёбы-ырырырырырырыркдиай.
Хотя я и был тормозной кондуктор, зарабатывая 600 в месяц, не переставал ходить в Общественную столовую на Хауард-стрит, которая была три яйца за 26 центов, два яйца за 21, это с тостом (едва ли без масла), кофе (едва ли без кофе и сахар пайковый), овсянка с набрызгом молока и сахара; вонь прокисших старых рубах витает поверх паров от котлов, словно они там готовят рагу дровосекам со сволочного ряда из сан-францисских древних китайских заплесневелых прачечных с покерами на задах среди бочек и крыс землетрясенных дней, но на самом деле еда где-то на уровне стародавнего повара железнодорожной бригады ремонтников года 1890-го или 1910-го, из лесоповальных лагерей далеко на Севере со старорежимным китайцем в косичках, который ее варит да материт тех, кому не понравилось. Цены были невероятны, но однажды я взял говяжье рагу, и то было абсолютно хуже некуда говяжье рагу, что я в жизни едал, неописуемо, вам говорю. Поскольку они так часто со мной поступали, с сильнейшим сожалением я попытался донести до болвана за стойкой, чего я хочу, но он крутой сукин сын попался, эх, тц-тц, я решил, что приказчик какой-то педрила, особенно грубо он обходился с безнадежной слюнепьянью. «Ты это чего тут думаешь, сюда можно и рассекать, тут бога ради веди себя как мужик уж, да жри, а не то вали отсюд-д-д-д-». Мне всегда по правде было интересно, чего это такой парень работает в таком месте ради, но с чего бы какое-то сочувствие в его ороговелом сердце для расфигаченных развалин, по всей улице туда и сюда были столовые как общественное обслуживание исключительно бомжей черноты, алкашни без денег, кто находит 21 оставшийся цент после попрошайства на вино, и посему ввалился третий или четвертый раз в неделю еды коснуться, ибо иногда не ели они вообще, и ты видал поэтому, как блюют в углу белой жидкостью, которая была парой кварт прогорклого сотернового пойла либо сладкого белого хереса, а в желудке у них ничего. У большинства по одной ноге или ходили на костылях, и у всех ступни забинтованы от никотинового и алкогольного отравления вместе, и один раз наконец на моем вверх по Третьей, возле Маркет-стрит, через дорогу от «Бринза», когда в начале 1952 г. я жил на Русском холме и не вполне врубался в полный кошмар и юмор железнодорожной Третьей улицы, бич с тощим болезненным задком, вроде Энтони Абрахама, лежал ниц на мостовой, с костылем в сторону, и наружу торчал какой-то старый остаток газеты, и мне показалось, что он умер. Я присмотрелся ближе, убедиться, что он дышит, а он не дышал; другой человек со мной смотрел вниз, и мы оба пришли к выводу, что он умер, а вскоре подвалил легавый и взял и согласился, и вызвал фургон. Бедолага этот маленький весил фунтов 50, если на хрен посчитать, и был скумбрия каменная, сопленосая остывшая дохлятина, дохлее на хрен не бывает – ах, говорю вам, – и кто бы заметил, как не другие полудохлые богодулы бом бом бом дохлые дохлые разы Х разов Х разов все сдохлодулы навсегда сдохлые без ничего, и все кончено и нах – там. И такова была клиентура в столовой Публичной Волосни, где я едал по множеству утр трехъяйцевый завтрак с почти что сухим тостом и овсянки маленькое блюдце, и худосочный тошнотный посудомойный кофе, чтоб сберечь 14 центов, чтоб в книжке у себя гордо мог сделать заметку и о дне и доказать, что я могу с удобством проживать в Америке, работая семь дней в неделю и зарабатывая 600 в месяц. Я мог жить на меньше чем 17 в неделю, что с моей квартплатой в 4.20 было ништяк, ибо мне еще приходилось иногда тратить деньги на поесть и поспать на другом конце прогона моей Уотсонвиллской каторжной сцепки, но предпочитал по большей части спать бесплатно и неуютно в теплушках убогих нар – мой 26-центовый завтрак, гордость моя. И тот невероятный полупедовый приказчик, что отслюнивал еду, швырял в тебя ею, шваркал ею, у него было безжизненное откровенное лицо прямо тебе под нос, как у героини обеденных тележек из 1930-х у Стейнбека, а у самого мармита невозмутимо трудился торчкового вида китаец с натуральным чулком в волосах, как будто его только что зашанхаили сюда с подножья Коммерсиал-стрит, перед тем как воздвиглось здание паромной переправы, но забыл, что сейчас 1952 г., пригрезилось, что это Фриско златолихорадки 1860-х – и по дождливым дням такое чувство, что у них в подсобках корабли.
Я, бывало, ходил и гулял вверх по Харрисон-стрит, и бумхряст потока грузовиков к достославным балочным фермам моста Оклендской бухты, который видно было после того, как взбирался на Харрисон-Хилл, немножко похоже на радарную машину вечности в небе, огромную, в сини, чистыми облаками пересекаема, чайки, автомобили-идиоты юркают к пунктам назначения на своем русальном выносе через шмохводы, согнанные в отару ветрами и вестями о бурях Сан-Рафаэла и шасть-лодками. – Туда я всегда приходил и гулял, и за один день справлялся с целыми Фрисками от надзирающих холмов высокого Филлмора, где суда курсом на Ориент видны дремотными воскресными утрами бильярдных дурачеств, вроде как после всей ночи игры на барабанах в джем-сейшене и утренней зари в зале киев, я прошел мимо богатых домов старых дам, которых содержат дочери либо секретарши с громаднейшими уродливыми горгульями на миллионных фасадах Фриско иных дней, и далеко внизу – синий проход Ворот, шальная скала Алькатраса, устья Тамалпаиса, бухты Сан-Пабло, Сосалито сонно подрубает скалу и кусты вон там, и славные белые суда чисто торят тропу к Сасебо. За Харрисон-Хилл и вниз по Эмбаркадеро, и вокруг Телеграфного холма и вверх по спине Русского холма, и вниз к игровым улицам Китай-города, и вниз по Кирни обратно на Маркет-стрит до Третьей улицы и моей диконощей неономерцающей судьбы там, ах, и затем, наконец, на заре воскресенья, и они меня и впрямь позвали, громадные балочные фермы Оклендской бухты по-прежнему преследуют меня, и всю эту вечность не проглотить, такая она огромная, и не зная, кто я вообще, но как большой пухлый длинноволосый младенец, что просыпается в темноте, пытаясь угадать, кто я. Дверь стучит, и там конторщик-хранитель ночлежной гостиницы с серебряными ободьями оправы и седыми волосами, и в чистой одежде, и с нездоровым пузом сказал, что он со Скалистой горы, и похоже было, что да, он там был конторкин служка в отеле «Ассоциации Нэш-Банкам» 50 последовательных жар-волновых лет без солнца и только пальмочки в вестибюле с сигарными костылями в альбомах Юга, и он с его дорогой мамочкой ждет в погребенной бревенчатой хижине могил со всем этим мешаным прошлым, вовсю историруемым под землей, с пятном медведя, кровью дерева и кукурузными нивами, давно запаханными, и неграми, чьи голоса из середины лесов давно поблекли, и пес гавкнул свой напоследок; этот человек тоже свояжировал на Западное побережье, как все прочие холостые американские элементы, и было ему бледно и шестьдесят, и жаловался на немочь, для женщин при деньгах мог некогда быть видным помещиком, но нынче забытый служка и, может, сколько-то в тюрьме посидел за несколько подделок или безобидных плутней, а еще, может, побыл железнодорожным конторщиком, рыдал и, может, ему так и не удалось никогда, и в тот день, я бы сказал, он увидел мостофермы вверху за холмом транспорта Харрисона, как я, и просыпался утрами с тем же потерянным, теперь манит у моей двери и вламывается ко мне в мир. И вот стоит на трепаном ковре в коридоре, напрочь вытертом черными шагами стариков, затонувших за последние 40 лет с землетрясения, и унитаз испятнан превыше последнего стульчака и последнего смрада и стигмы, сдается мне, что да, в конце света, чертова конца света, потому теперь стучится ко мне в дверь, и я просыпаюсь, говоря: «Как что какчо чёза тесало жульства они там деют, э и ме спыть не даут? Зычем ычем тык? Што это чётакое ходит колотит ме в дверьство поустам ночи и там все знают, я у мамы сирота и ни сестры, и ни отца, и ни буты состылки, но без колыбельки». Я встаю и сажусь и грю «Кагавгав?», а он отвечает: «Телефон?» И мне приходится натягивать джинсы, тяжкие от ножика, бумажника, я всматриваюсь в свои железнодорожные часы, висящие на маленьком дверном промельке чуланной дверки лицом ко мне, тикая безмолвно время; там говорится 4:30 утра воскресной зари. Я иду по ковру трущобного коридора в джинсах и без рубашки и да, полы рубашки висят серо, рабочей рубашки, и беру трубку, и чмошная сонная ночная конторка с клеткой и плевательницами, и ключами болтающимися, и старыми полотенцами, наваленными чистыми, но обтрепанными по краям и с именами всех отелей в преходящем расцвете, по телефону Бригадный Разнарядчик, «Керровай?» «Ага». «Керровай, будет Шермановский местный в 7 часов сегодня утром», «Шерманов местный, понял». «Из Бэйшора, дорогу знаешь?» «Ну». «У тебя в прошлое воскресенье такая же работа была – окай, Керровай-й-й-й-й». И мы взаимно вешаем трубки, и я говорю себе окай, это Бэйшорский чертов старый грязный отвратный старый завидный старый псих Шерман, который меня так ненавидит, особенно когда мы были на разъезде Редвуд, пинали товарные вагоны, и он всегда упирает на то, чтоб я работал с заднего конца, хоть как первогодку мне будет проще следовать за буфером, но я работаю сзади, и он хочет, чтоб я был ровно там с деревянным башмаком, когда вагон или отцеп пнутых вагонов останавливается, чтоб они не скатились по наклону и не начали катастрофу. Ну что ж, все равно я со временем научусь любить железную дорогу, и Шерман меня когда-нибудь полюбит, да и все равно лишний день – лишний доллар.
И вот моя комната, маленькая, серая в воскресном утре; теперь со всей неистовостью улицы и предыдущей ночи покончено, бомжи спят, может, один-другой растянулись на тротуаре с пустым мерзавчиком на подоконнике – ум мой вихрится жизнью.
И вот я на заре в своей тусклой келье – 2½ часа еще до времени, когда мне придется засунуть железнодорожные свои часы в часовой кармашек джинсов и выгрестись, дозволив себе ровно 8 минут до вокзала и поезда в 7:15 № 112, на который мне надо успеть, чтоб пять миль проехать до Бэйшора сквозь четыре тоннеля, выныривая из мрачного млика грустной Рань-сцены Фриско в дождеустом туманутре во внезапную долину с угрюмыми сопками, подымающимися к морю. Бухта слева, туман прикатывает, как одержимый, тягами, от которых беленькие коттеджики недвижимисступленно склоняются к накануне-рождественским синим печальным огонькам. Вся моя душа и сопутствующие глаза глядят на эту реальность жизни и работы в Сан-Франциско с эдаким довольным получреслорасположенным содроганием, энергия к пялеву сменяется болью у врат работы и культуры, и натурального туманного страха. Вот я в своей комнатенке не очень понимаю, насколько мне на самом деле удастся себя одурачить и почувствовать, что эти следующие 2½ часа будут хорошо наполнены, накормлены работой и мыслями об удовольствии. Так восхитительно ощущать, как холод утра оборачивает мои толстостеганые одеяла, пока я лежал себе, часы лицом и тикая мне, ноги раскинуты в удобных трущобных мягких простынях с мягкими прорехами в них или швами, съежился в собственной коже, и богатый, и ни цента не трачу на – гляжу на свою книжулечку – и пялюсь на слова Библии. На полу отыскиваю спортивную страницу «Кроникл» последнего красного дня субботы с новостями о футбольных матчах в Великой Америке, чей конец я безрадостно зрю в сером входящем свете. Тот факт, что Фриско выстроен из дерева, меня в моем покое удовлетворяет, я знаю, никто меня не потревожит 2½ часа, и все бомжи спят в своей постельке вечности, бодрствуя или нет, с бутылкой или без. Мне в зачет идет только радость, что я чувствую. На полу мои башмаки, здоровенные лесоповально-сапожищевые геть-джековые рабшмаки топомпать по скальникам и не подворачивать лодыжку – башмаки солидности, что, когда их надеваешь, ярмически, знаешь, что теперь ты работаешь, и потому по той же причине башмаки нельзя носить ни по какой иной, вроде радостей ресторанов и представлений. Прежде-ночью башмаки, на полу возле драндулетных башмаков пара синих холщовых à la стиль 1952 г., в них я шагал мягко, как призрак, по выемчатым холмистым тротуарам Ах Я Фриско сплошь в блескучей ночи, с вершины Русского холма глядел вниз в какой-то миг на все крыши Северного пляжа и неоны мексиканских клубов. Я спускался к ним по старым ступеням Бродвея, под которыми они внове трудились над горным тоннелем – ботинки годные для водокраев, эмбаркадеров, склонных и плоских лужаек парковых и верхоклассных просторов. Трудмаки, покрытые пылью и некоторым маслом от паровозов – смятые джинсы тут же, ремень, синий железнодорожный плат, нож, расческа, ключи, стрелочный ключ, ключ от теплушки, колени белые от мелкопылей Речдна Пахаро, жопа черная от скользких песочниц в одной железнодорожной стрелке за другой – серые рабшорты, грязная майка, грустные трусы, измученные носки моей жизни. И Библия на тумбочке рядом с арахисовым маслом, латуком, хлебом с изюмом, трещина в штукатурке, задубевшая от застарелой пыли кружевная занавеска уж больше не кружавится, но жесткая, как – после всех этих лет жесткопыльной вечности в этом Камейном сволочном постоялом дворе с красными глазами слезящегося старичья, умирающего, пялясь без надежды на мертвую стену, которую еле видишь сквозь окнопылищи, а в последнее время в колодце срединного пути с крыши слышал лишь крики китайчонка, чьи отец и мать вечно твердят ему, чтоб чисти-блистил, потом орали на него, он трепал нервы, и слезы его из Китая были крайне настойчивы и всемирны, и являли все наши чувства в разломанном Камео, хотя это и не признавалось бродягой, вот только за исключением случайной резкой прочистки горла в коридорах либо стона кошмаровидца – таким вот, и небреженьем твердовзорой алкоголички старорежимной хористки горничной шторы теперь поглотили всю утюжность, что могли только принять, и висели теперь жестко, и даже пыль в них стала железом, потрясешь их – и потрескаются и падут рваниной и разбрызгаются, как железные крылья на колокольном бонге, и пыль взлетит тебе в нос опилками стали и задушит тебя насмерть, поэтому я никогда их не трогал. Моя комнатушка в 6 уютненькой зари (в 4:30) и до меня все это время, это свежеглазое время на чуть кофе, вскипятить воду на моей плитке, размешать, по-французски, медленно тщательно вылить в мою белую жестяную кружку, закинуть туда сахару (не калифорнийского свекольного, как надо бы, а новоорлеанского тростникового, потому что палеты свёклы я таскал из Окленда в Уотсонвилл многие разы, 80-вагонный товарняк, а в нем сплошь полувагоны, загруженные печальной свёклой, похожей на головы обезглавленных женщин). Ах, я как, но то был ад, и теперь все только мне, и я себе делаю тост с изюмом, сажая его на проволочку, которую изогнул специально, чтоб помещать над плиткой, тост растрескался, вот, я мажу маргарин на еще докрасна горячий тост, и он тоже потрескивает и тонет в золоте, среди подгоревшего изюма, и вот какой у меня тост. – Потом два яйца, медленно поджаренные в мягком маргарине на моей маленькой трущобной сковородке где-то с полдайма толщиной, а фактически тоньше, кусочек крохотной жести, что можно взять с собой в поход. Яйца медленно пушатся и разбухают от паров масла, и я кидаю на них чесночную соль, и, когда они готовы, желток их слегка затянулся пленкой поджаренного белка сверху от жестяной крышки, что я кладу на сковородку, поэтому теперь они, раз готовы, то вынимаются, я их размазываю по уже приготовленной картошке, которая варилась маленькими кусками, после чего смешивалась с беконом, который я уже поджарил кусочками, что-то вроде драного такого пюре с беконом, с парны́ми яйцами поверх, а на гарнир латук, с плюхой арахисового масла рядом, гарнирно. Я слыхал, в арахисовом масле и латуке все витамины, какие надо, это после того, как я по первости начал есть эту комбинацию из-за вкусноты и ностальгии по вкусу. Мой завтрак готов где-то в 6:45, и, пока ем, я уже одеваюсь на выход, одно за другим, и когда последняя тарелка вымыта в маленькой раковине под краном кипящей горячей воды, я делаю свой последнебыстрый глог кофе и быстро споласкиваю кружку под струей горячей воды, и сломя голову ее вытереть и плямкнуть на место у плитки и бурой картонки, в которой вся бакалея сидит, туго увязанная в бурую бумагу. Я уже подхватываю свой фонарь тормозного кондуктора оттуда, где он висел на дверной ручке, и мое драное расписание, надолго завалявшееся сложенным у меня в заднем кармане и готовое на выход; все схвачено – ключи, расписание, фонарь, ножик, носовой платок, бумажник, расческа, железнодорожные ключи, мелочь и себя не забыл. Гашу свет у грусть-грязной скорбно-кормной ныр-комнатки и выметаюсь в туман течения, спускаясь по скрипкоридорным ступеням, где старичье пока еще не сидит с воскресными заутренними газетами, потому как еще дрыхнет, либо же некоторые, как я теперь могу, уходя, слышать, начинают бездрынглиться, дабы проснуться у себя в комнатах со своими стонами и перхами, и чушуями, и жуткими звуками. Я спускаюсь по лестнице на работу, поглядываю сверить время моих часов с часами в конторщицкой клетке. Едва ли два ли три старпера уже сидят в темно-буром вестибюле под такбумкающими часами, беззубые, или мрачные, или изысканно усатые. Что за мысль на свете вихрится в них, когда видят они молодого рьяного тормозного кондуктора-бродягу, спешащего к своим тридцати долларам в воскресенье? Что за воспоминания о старых усадьбах, выстроенных без сочувствия, мозолерукая судьбина выделила им утрату жен, детей, лун – в их время рушились библиотеки – старперы телеграфнопроводного деревянного Фриско, в туманно-серое лучшее время сидящие в своем буром потопшем море, и будут тут, когда сегодня под вечер с лицом, распаленным от солнца, что в восемь все выгорит пламенем и сделает нам солнечные ванны в Редвуде, они там по-прежнему будут цвета клейстера в зеленой преисподней и по-прежнему читать ту же редакционную статью снова и снова, и не поймут, ни где я был, ни зачем, ничего. Нужно мне оттуда выбираться либо задохнуться, на Третью улицу или стать червем, нормально жить же и спать-пить внутри, и играть радио, и готовить завтрачки, и отдыхать внутри. Но, о, Господи, мне теперь нужно на работу, я спешу по Третьей к Таунсенд на мой поезд в 7:15 – осталось 3 минуты, я в панике пускаюсь трусцой, черт бы побрал, я сегодня утром не оставил себе времени сколько нужно, я спешу под Харрисоновым наклонным въездом на мост Оклендской бухты, мимо «Швайбэкер-Фрея», громадной тусклой печатни с красной неонкой, всегда призрачно я там вижу моего отца, покойного директора, бегу и спешу мимо битых негритянских бакалейных лавок, где покупаю себе все арахисовое масло и изюмный хлеб, мимо краснокирпичного железнодорожного проулка, теперь сплошь туман и мокрядь, через Таунсенд, поезд отправляется!
Бестолковые железнодорожники, кондуктор – старый Джон Дж. Меднотазз, 35 лет беспорочной службы на старой доброй ЮТ, уже там серым воскресным утром со своими золотыми часами напоказ, щурится в них, стоит у паровоза, оря любезности старому машинисту Джоунзу, а молодой кочегар Смит в бейсболке на сиденье кочегара жует сандвич. «Ну дак как те вчера старина Джонни О понравился, он, наверно, стока голов не засандалил, скока мы думали». «Смит шесть долларов поставил на бильярд в Уотсонвилле и сказал, что огребет тридцать четыре». «Бывал я в той Уотсонвиллской бильярдной». На бильярдне жизни они бывали, флиртузили друг друга, все те долгие запокерные ночи в буродеревянных железнодорожных притонах, от дерева пасет размятой сигарой, плевательница тут больше 750 099 лет, и псина входила сюда и выходила отсюда, и эти старички у старого притененного бурого света гнулись и бормотали, да и юные пацаны тоже в своей новой тормозной пассажирской форме, галстук развязан, тужурка отброшена назад, сверкает юношеская улыбка счастливых, бестолковых, откормленных, орабоченных, прокарьеренных, обудущенных, отпенсионенных, госпитализированных, позабоченных железнодорожников. 35, 40 лет такого, и они потом дорастают до кондукторов, и посреди ночи их годами вызывал бригадный разнарядчик, вопя: «Кэссади? У нас Максимушная местная неделя, ты ведешь ли по праву», но теперь, коли старики всё, у них только постоянная работа, постоянный поезд, кондуктор 112-го со златчасами орет свои любезности на сплошь бешеного жар-пса, сатанинского машиниста Уиллиса, да он самый дикий человек по эту сторону от Галлии и Гальбана. Однажды, как известно, загнал паровоз на этот крутой уклон… 7:15, пора трогаться, а я бегу по станции, слыша, как дрязгает колокол, и пар пыхтит, они трогаются. Я вылетаю с перрона и на миг забываю, то есть и не знал никогда, на каком это пути, и кружусь в смятении какое-то время, не понимая, какой путь, и не вижу никакого поезда, и вот это самое время тут я и теряю, 5, 6, 7 секунд, когда поезд хотя и тронут, но лишь медленно расчухивается перед движением, и человек, любой толстый управляющий мог бы легко подбежать и уцепиться за него, но когда я ору помощнику начальника станции: «Где 112-й?», и он мне отвечает, что на последнем пути, то есть том, какой мне и присниться не мог, я бегу со всех ног и уворачиваюсь от людей à la полузащитник из «Коламбии», и врезаюсь в путь быстро, как блокирующий полузащитник, когда несешь мяч с собой влево, а шеей и головой финтишь и толкаешь мячом, как будто сейчас весь сам кинешься в облет всей левой стороны, и все психологически пыхтят с тобой вот так вот, как вдруг отпрядываешь, и фьють дымком, и подножкой похоронен в яме, игра на понижение, летишь в яму. Почти еще и сам не сообразив, влетаю в рельсы и я, и на них поезд ярдах в 30 и прямо у меня на глазах неимоверно набирает скорость, такое ускорение, что я б и мог поймать, глянь я туда секундой раньше, но я бегу, я знаю, что могу успеть. На задней площадке стоит задний тормозной кондуктор и старый порожняковый кондуктор Чарли У. Джоунз, да у него ж было семь жен и шестеро детей, а однажды в Лике, нет, наверно, все-таки в Койоте он ни шиша не видел из-за пара, и выходит такой, и нашел свой фонарь в и́глу натурально концевого крана моего вестника, и ему дали пятнадцать выслуг, поэтому теперь вот он воскресным, кхар хар оуляля, утром, и он, и молодой задний недоверчиво смотрят, как его ученик тормозного кондуктора бежит безумным легкоатлетом за их отходящим поездом. Мне хочется заорать: «Пневматику продуй, продуй же пневматику!», зная, что, когда пассажир отходит, примерно в точности на первом переезде к востоку от станции они чутка стравливают воздух, проверяя тормоза, по сигналу машиниста, и это на миг притормаживает поезд, и мне б удалось, и я б его поймал, но никакую пневматику они не проверяют, сволочи, и я, черт, знаю, что бежать мне придется, как сукину сыну. Но вдруг мне стыдно становится думать, что́ скажут люди всего света, когда увидят, как человек так дьявольски быстро бежит со всех своих ног, скача по жизни, как Джесси Оуэнс, лишь для того, чтоб на клятый поезд успеть, и все они с их истерией недоумевают, убьюсь ли я, уцепившись за заднюю площадку, и тут бац, я падаю и весь такой бум, и лежу навзничь наперерез переезда, поэтому старый сигнальщик, когда поезд протек мимо, увидит, что все лежит на земле в той же похлебке, все мы, ангелы, умрем, но даже не знаем, ни как, ни собственного алмаза. О, небеса, просвети нас и открой же глаза – открой нам глаза, открой нам глаза. Я знаю, вреда мне не будет, доверяю башмакам своим, ручной хватке, ногам, прочности йях и ээх сжатки и схватки, и силе, и нужде, никакой мистической силы для измерения мускулатуры в реберной спине у меня, но черт бы это все побрал, прилюдный стыд попасться так в спринте, как маньяку, за поездом, особенно если двое таращатся на меня, разинув рты, с заду поезда и качают головами, и орут, что не догоню, хотя я и вполсилы рву за ними следом с открытыми глазами, пытаясь донести до них, что могу, и чтоб они не истерили и не ржали, но понимаю, что все это для меня слишком уж чересчур, не пробежка, не скорость поезда, который все равно две секунды спустя после того, как я сдался в этой сложной погоне, и впрямь сбавил ход на переезде для проверки пневматики перед тем, как опять вспыхтеть, уже насовсем и к Бэйшору. Так я опоздал на работу, и старый Шерман меня ненавидел и возненавидит меня еще пуще.
Земля, что я б ел в одиночестве, хрумк – железнодорожная земля, плоские прогоны долгого Бэйшора, которые мне необходимо преодолеть, чтоб добраться до Шермановой чертовой теплушки на 17-м пути, готовой отправиться направлением на Редвуд и к 3-часовой работенке утра. Слезаю с автобуса на Бэйшорском шоссе и несусь по улочке, и сворачиваю. Мальчишки, что катаются на буфере маневрушки стрелочным днем, проезжают мимо, вопя на меня с верхних мостков и подножек: «Давай поезжай с нами», иначе я б еще на 3 минуты опоздал на работу, но теперь я вскакиваю на маневровый паровозик, который моментально притормаживает, подхватить меня, и он одинок, ничего не тянет, кроме тендера, парни были аж на другом краю сортировки, чтоб вернуться на какой-то путь необходимости. Тому парнишке еще придется научиться стопарить себе без посторонней помощи, как уж не раз я видел, что некоторые эти молодые козлики думают, будто у них все есть, а план припоздал, миру придется обождать, массивный древесный вор с преступлением того ж сорта, и отдушки, и всевозможных упырей – ТРЕСЬнут! вышел грандиозной вспышкой всего преступления и огрязневением всех мастей – Сан-Франциско и саваннополосные Бэйшоры последние и последняя дальвнизу нефтефитей покровистого расцвета аттличной работы ай-участково, а вы б не? – железнодорожная земля, что я ел бы один, пешком, склонив главу, добраться до Шермана, кто, тикая часами, наблюдает придирчивым глазом время отправки, дать «путь свободен», валите, сейчас воскресенье, времени тратить не стоит, единственный день в его долгой семиднейвнедельной рабочей биографии, когда ему выпадает немного отдохнуть дома, когда «Иии Христе», когда «Скажи этому сукинсыному скубенту, тут не вечеринка с пикником, будь срань эта проклята и сиськи враспялку, ты им скажи что-нибудь, и как ты себе какого черта рассчитываешь, что подотсохнет сиська там, да ты все равно сплошь насквозь огромная обуза, мы ОПАЗДЫВАЕМ», и вот так вот я влетаю опоздало. Старый Шерман сидит в вахтовке над своими стрелочными списками, когда видит меня холодными голубыми глазами, говорит: «Знаешь, что ты должен здесь быть в 7:30, правда, так какого же дьявола ты делаешь, раз являешься в 7:50, ты на двадцать ятых минут опоздал, ты какого хуя это творишь, что у тебя, день рождения?» И встает, и склоняется с задней безотрадной площадки, и дает сигнал отправления машинистам впереди, у нас отцеп где-то из 12 вагонов, и, говорят, плево, и мы отправляемся поначалу медленно, набираем скорость на работу. «Засвети уже этот чертов огонь», – говорит Шерман, на нем новехонькие рабшмаки, вот чуть ли не черась куплены, и я примечаю чистую робу, которую жена его постирала и выложила на стул, вероятно, сим же утром, не далее; и я поспешаю и швыряю уголь в пузатый хлоп, и беру запал и пару запальчивых за пальчики, и жгу их, треская. Ах, Четвертое июля, когда ангелы разулыбаются на горизонте, и все поддоны, где потерялись безумцы, вернутся к нам навсегда из Лоуэлла моего душевного расцвета и единственной умедитированной долгопесенной надежды к небесам молитв и ангелов, и, конечно, сон и заинтересованный взгляд образов, и но теперь мы засекаем недостающего фигляра, вот он, бедный добрычел задний кондуктор, даже еще не в поезде, и Шерман выглядывает хмуро в заднюю дверь и видит своего заднего; тот машет с пятнадцати ярдов, вечно останавливаться и ждать его, и, будучи старым железнодорожником, он определенно не собирается бежать или даже прибавлять шаг. Это хорошо понимается, кондуктору Шерману приходится встать от своего стула у стола со стрелкосписками и дернуть пневму, и остановить чертов поезд ради заднего кондуктора Арканзасского Чарли, кто видит, что это деется, и просто подходит вразмашку в размашистой робе своей без единой заботы, сталбыть, он тоже опоздал или на крайняк пошел судачить в контору сортировки, пока ждал балбеса главного тормозного, сигналист впереди, предположительно на буфере. «Первым делом мы чего, мы подбираем вагон вперед в Редвуде, сталбыть, тебе только надо соскочить на переезде и отойти посигналить флажком, не слишком далеко». «Я разве не с головы работаю?» «Ты сзаду работаешь, нам не то чтоб много чего делать, и я хочу все закончить быстро», – рявкает кондуктор. «Только не напрягайся и делай, что мы говорим, и смотри в оба, и сигналь». В общем, мирное воскресное утро в Калифорнии, и мы отправляемся, так-а-тик, лао-цзыевым вагончиком, с Бэйшорской сортировки, приостанавливаемся затем на миг у магистрали, ждя зеленого, старина 71-й или старина какой-то только что был тут, и теперь вот мы выезжаем и буячим по древесным долинам и лощинам долов с городками, и через главные улицы, пересекающие пустыри парковок под присмотром вчера-ночью, и Стэнфордские участки мира – к нашему пункту назначения в Пухе, который мне видно, и, поэтому могу скоротать время я наверху в турели и со своей газетой врубаюсь в последние новости в передовице, а также размышляю и делаю зарубки про деньги, что уже потратил на этот день воскресенье, абсолютно ни йоты, потратил ничто. Мимо летит Калифорния, и грустными глазами мы смотрим, как она разматывает всю бухту, и рассуждение спадает до постепенных лжей, что облегчают и остепеняются затем до долины Санта-Клары, и вот смоква, а за ней смог незапамятный, пока дымка смыкается, и мы на бегу вылетаем на яркое солнце Шаббата Калифорнияйского.
В Редвуде я слезаю и стою на печальных масляных шпалах тормозной железнодорожной земли, с красным флажком и торпедами подключенными, и запальниками в заднекармане с расписанием, примятым к ним, а жаркую свою тужурку оставил в вахтовке. Стою себе, затем с закатанными рукавами, и вот крылечко негритянского дома, братья сидят в одних рубашках, беседуют с сигаретами и смеются, а маленькая дочка стоит в поросли садика со своим ведерком игр и «хвостиками» на голове, а мы, железнодорожники, с мягкими знаками и без звука срываем наш цветик, согласно тому же доброчелскому диспетчерскому приказу, что за всю последнюю жизнь вниманий старина кондуктор промышленный рабочий проституированный Шерман тщательно читал, сынок, чтоб не совершить ошибки:
«Воскресенье утром 15 октября, забрать цветочный вагон в Редвуде. Диспетчер ММС».
Я сунул деревянный башмак под колеса вагона и смотрел, как он елозит и трескается, пока вагон помаленьку на него наезжал и останавливался, а иногда вообще нет, и катился себе дальше, оставляя дерево расплющенным до самого рельса с выпирающими наверх треснутыми концами. Днями в Лоуэлле давным-давно я задавался вопросом, что эти чумазые мужики делают с большими товарными вагонами и поленьями в руках, и когда далеко в вышине над эстакадами и крышами огромного серого склада вечности я видел бессмертные дырявые облака краснокирпичного времени, дрему настолько тяжкую во всем июльском городе, что висела даже в промозглом сумраке отцовской мастерской, у которой снаружи держали большие автоприцепы с маленькими колесами и плоскими серебристыми платформами и со всяким мусором по углам и на подножках, типографская краска впитывалась в маслянистое дерево глубоко, как черная река, свернутая в нем навеки, контрастом белым пышным кремоблакам снаружи, которые видно, только если стоишь средь хлопьев пыли в дверях прихожей, над старым Диккенсовым Лоуэллом 1830 г., краснокирпичным, они плывут, как в старом мультике с узорами птичек, которые тоже проплывают мимо, все таинственно, как на сером дагеротипе в завито-спермяных водах в дыре канала. Тем самым точно так же днями в краснокирпичном проулке ЮТ, вспоминая изумление свое от медленно мелющего движения и склизкого скрежета гигантских товарных вагонов и платформ, и вагонеток, что катятся мимо с этой ошеломляющей хрустящей стальпылью, и лязгой, и трезгой стали по стали, содрогание всего этого стального предприятия, вагон проезжает с отжатым тормозом, поэтому вся тормозная тяга – monstre empoudrement de fer en enfer пугающими туманными ночами в Калифорнии, когда видишь сквозь дымку медленно минующих чудищ и слышишь уии уии скрии, эти безжалостные колеса, о коих некогда кондуктор Рей Майлз в моих студенческих поездках сказал: «Когда эти колеса переезжают тебе ногу, ты им без разницы». Так же, как и дереву, что я жертвую. Что делали те чумазые мужики, некоторые стояли на крышах товарных вагонов и подавали сигналы далеко вдоль по краснокирпичным дырам переулков Лоуэлла, и кое-кто из стариков медленно, как бомжи, расхаживает по рельсам, а делать им нечего, большой отцеп вагонов скрежещет мимо с этим зубостискивающим скри скри, и гигантская обнисталь вгибает рельсы в землю и шевелит шпалы, теперь я знал по работе, как на Шермановой Местной по воскресеньям мы разбирались с деревянными чурками из-за наклона в земле, от которого пнутые вагоны не останавливаются, и на них приходится ехать, тормозить их и останавливать башмаками. Уроки, что я там выучил, вроде: «Подсовывай, закрепляй его тормозом хорошенько, нам не надо, чтоб этот сукин сын погнал обратно в Город, когда мы к нему другой вагон пнем», лана, но я играю по правилам безопасности по технике безопасности в тютельку, и потому вот я тут задним тормозным на Шермановом местном, мы выехали воскресным утром проповедным расцветшим цветочком вагона и отвешивали книксены шабашному Богу во тьме, все обустроилось таким вот манером и согласно старым традициям, что уходят корнями к лесопилке Саттера и тем временам, когда первопроходцы, которым осточертело болтаться по скобяной лавке всю неделю, надевали лучшие свои наряды и курили, и ворчали деснами перед деревянной церквушкой, а старые железнодорожники непостижимо древней ЮТ XIX века, другой эпохи, в цилиндрах дымоходных и с цветочками в петлицах, и перемещали немногие вагоны в млекобутылку златограда с формальностью и иной жваниной думной мысли. Подают сигнал и пинают вагон, с деревом в руке я выбегаю, старый кондуктор орет: «Тормози давай его, он слишком быстро едет, успеешь перехватить?» «Ладно». И я бегу и не особо спешу трусцой, и жду, и вот огромный вагон высится надо мной, только что перешел на свой путь с паровозных путей, где (магистрально) кондуктором производилось все углованье и стрелкованье, это он переводит стрелку, читает список разметки, переводит стрелку – и вот вверх по скобам я лезу и по технике безопасности одной рукой вишу, другой торможу, медленно, согласно стыку, полегче, пока не достигаю ждущего отцепа вагонов, и в них мягко мой заторможенный вагон бумкает, дзомм – вибрации, все внутри сотрясается, колыбель-качальный товар дзомкает с ним вместе, все вагоны от этого столкновения перемещаются примерно на фут вперед и сокрушают башмаки, размещенные раньше. Я спрыгиваю и всовываю чурбак, и чуть совсем было не приклеиваю его под стальную реборду этого чудовищного колеса, и все останавливается. И вот уж я оборачиваюсь, обеспечивать следующий пнутый вагон, который едет по другому пути и тоже довольно быстро, я трюхаю, нахожу по пути деревяху, взбегаю по скобам, останавливаю, по правилам безопасности вися на одной руке, забыв о кондукторском «закрепляй его тормозом хорошенько», этому тогда следовало б научиться, ибо год спустя в Гуадалупе, в сотнях миль дальше по линии я скверно притормозил три платформы, у платформ ручные тормозные тяги со старой ржой и развинченными цепями, скверно одной рукой по безопасности цепляясь, вдруг неожиданный стык меня стряхнет – и под безжалостные колеса, чье воздействие на древесные поленья кости мои разоблачат – бам, в Гуадалупе пнули отцеп вагонов против моих скверно приторможенных платформ, и все парадом покатило по всей линии назад в Сан-Луис-Обиспо, если б не старый бдительный кондуктор, оторвавшись от стрелочных списков в вахтовке, не увидел весь этот парад и не выбежал переключить стрелку прямо перед ним, и не размыкал стрелочные приводы с той же скоростью, с какой вагоны подъезжали; что-то вроде комиков на арене в цирке, штаны клоунские на нем болтаются, и с истерическим ужасом от одной стрелки к другой носится, а парни сзади вопят, буфер тронулся вслед за отцепом и догоняет его, чуть не толкает его уже, но сцепки замыкаются как раз вовремя, и паровоз тормозит все до полной остановки, 30 футов почти впереди перед окончательным сходом с рельсов, чего старый запыхавшийся кондуктор не мог в итоге допустить, нас бы всех с работы выперли, мои тормоза по технике безопасности не приняли в расчет инерцию стали и легкий уклон земли… если бы в Гуадалупе был Шерман, я б стал ненавистным Кейруууээээйеем.
Гуадалупе в 275,5 милях дальше по сияющим рельсам от Сан-Франциско, вниз по диспетчерскому участку, названному в его честь, Гуадалупскому, – вся береговая дистанция начинается с тех грустных мертвых тупиковых блоков на Третьей и Таунсенд, где из гаревых клумб растет трава, как зеленые волосы старых токайских героев, давно укошенных в землю, как железнодорожники XIX века, которых я видел на Колорадских равнинах на маленьких станциях передачи диспетчерских приказов, укошенных в землю твердой сухой спекшейся пыли, упакованных в ящики, раззявленноустых, блюющих гравием, ласкаемых сверчком, ушедших вкось так далеко, утопших к могиле на глубину гроба в подножье стопы земли. Ох, можно подумать, они никогда не страдали и роняли реальные поты в ту невспаханную земь, никогда не озвучивали дочерна запекшимися губами сочные слова сожаления, да и теперь шумят не сильнее шины «жестянки Лиззи», чья жесть цингует на солнечных ветрах сегодня днем, ах, призрачные Шайенн-Уэллс и диспетчерские приказы Денвер и Рио-Гранде, Северные Тихоокеанские и Атлантические береговые линии, и Уанпост Америки, все пропали. Береговая дистанция старушки ЮТ, выстроенная в непоймисот чухчуханном, и раньше вилась как чокнутая скрюченная магистралька вверх и вниз по холмам Бэйшора, как чокнутая гонка по пересеченной местности для европейских бегунов, то была их златоносная бандитограбимая железная дорога ночи старика Зорро, где чернила и всадники в меховатых плащах. Но теперь это современная старушка береговая дистанция ЮТ и начинается у тех тупиковых блоков, и в 4:30 неистовые пассажиры с Маркет-стрит и Сэнсом-стрит, как я сказал, истерически бегут на свой 112-й, добраться домой вовремя к Здрасьте-Пожалти телевидений в 5:30 с их размахивающими пистолетами Нил-Кэссадованными Поскакунскими детишками. 1,9 мили до Двадцать третьей улицы, еще 1,2 Ньюком, еще 1,0 до Пол-авеню и тагдалей, это все крохотные ссыстановками на том 5-мильном коротком отрезке сквозь 4 тоннеля к могучему Бэйшору. Бэйшор на милевой отметке 5,2 тебе показывается, как я сказал, той гигантской стеной долины, уклоняющейся с иногда в вымерших уже зимних сумерках громадными туманами, млекодоящими, сворачивающимися, простонакатывающими без единого звука, но ты словно б слышишь радарный гул, старомодно тускломасочный рот Джека Лондона с Картофельной Грядки, где старые свитковолны наползают поперек серой унылой Северной Пасифики с дикой крапинкой, рыбкой, стеной хижины, старыми устроенными переборками затонувшего судна; рыба плавает в тазовых костях старых любовников, что лежат сплетясь на дне моря, как слизни, уже не различимые кость от кости, но сплавленные в одного кальмара времени, тот туман, тот ужасный и безрадостный Сиэтловатый туман, что с картофелегрядки идет-несет вести с Аляски и от алеутского монгола, и от тюленя, и от волны, и от улыбающейся морской свиньи; тот туман в Бэйшоре, который видишь, как волнится вовнутрь и наполняет канавки, и вкатывается вниз, и творит молоко на склонах холмов, и ты думаешь: «Холмы эти мрачны только от лицемерия людей». Налево у горной стены Бэйшора весь твой Залив Сан-Фран показывает через широкоплоские сини на затерянность Окленда, и поезд, магистральный поезд бежит и цокает, и цокато цикает, и делает маленькой конторе Бэйшорской сортировки мимолетные причуды, столь важные для железнодорожников; маленькая желтоватая хижина ярыжек и луковой шелухи планков диспетчерских приказов и допусков кондукторов, и путевых листов, пришпиленных и отпечатанных, и проштампованных от самого Карни, штат Небраска, и далее мычащими коровами, что переехали по трем разным железным дорогам, и все эдакоподобные факты, что пролетают вспышкой мимо, и поезд с ними справляется, дальше, минуя Башню Визитации, что старыми железнодорожниками-оклахомцами, ныне калифорниянами, вовсе даже не мексиканизировалась в произношении, Ви Зи Та Сьо, а просто называется, Визитейшн, как воскресным утром, и часто слышишь: «Башня Визитации, Башня Визации», ах ах ах ах аха. Мильный столб 6,9, следующий 8,6 Батлер-роуд отнюдь никакая не тайна для меня к тому времени, как я стал тормозным кондуктором, служила огромной грустной сценой ночей сортировочного ярыжничества, когда на дальнем конце товарняка в 80 вагонов, чьи номера я со своим фонариком записываю, пока хрущу по гравию и весь спинустал, отмеряя, сколько мне еще надо пройти, по грустному уличному фонарю Батлер-роуд, сияющему впереди у конца стены долгих черных грустноустых длинновагонов железной краснотемной железнодорожной ночи – со звездами выше, и фьютьмимной «Молнией», и ароматом паровозного угледыма, пока я стою в стороне и даю им пройти, и дальше вдоль по линии в ночи вокруг аэропорта в Южном Сан-Фране виден этот сукинсынсов красный свет, машущий Марсом сигнальный огонь, машущий в темных больших красных путевых знаках, что раздуваются вверх и вниз, и шлют огни в рьяночистые утра́чистые прелестнебеса старушки Калифорнии средь поздней грустной ночи осенне весенне вот-есенне зимне летней порой высокие, как деревья. Все вот это, и Батлер-роуд в придачу мне не загадка, не слепое пятно в этой песне, но хорошо известно, кроме того, я б мог измерить, как далеко мне еще осталось, по концу здоровенного розового неона шести миль длиной, можно подумать, гласящего: «ВИФЛЕЕМСКАЯ СТАЛЬ ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ», покуда записываю номера товарных вагонов ДЦ 74635 (Джерси-Центральная), ДиРГ 38376, и НЙС, и ПР, и все остальные, работа моя почти сделана, когда этот огромный неон со мной поравнялся, и в то же время это означало, что грустный уличный фонарик Батлер-роуд всего в 50 футах от меня, и никаких вагонов за ним, потому что это переезд, где их отцепляют, а потом заворачивают на другой путь Южной городской сортировки, вещам тормозной важности, стрелочной важности я научился только потом. Итак, С-Ф-мильный столб 9,3 и что за унылая главная улочка, ох, батюшки, туман прикатил оттуда отлично, и неонные коктейлики с вишенкой на зубочистке, и унылые туманноватые зеленые «Крониклы» в 10¢-вых тротуарных жестяных блямках, и бары ваши, где внутри буха́ют жирные гладковласые бывшие штурмовики, и октябрь в бильярдной и прочее, куда мне податься за парой конфетных батончиков либо бессвязными супами между работками сортировочного ярыжки, когда я был сортировочным ярыжкой и врубался в потерянность на той стороне, человеческой, а потом приходилось идти на другой конец, милю к Заливу, к огромным бойнезаводам «Армор и Свифт», где я списывал номера мясорефрижераторов, а иногда приходилось отходить на шаг в сторону и ждать, когда подъедет местный, и кой-какие стрелки переключал, а сигналист или кондуктор мне всегда говорил, которые остаются, а которые едут. Всегда по ночам, и всегда земля мягкая, как навоз, хотя на самом деле крысья земля под ногой, бессчетные крысы, которых я видел и швырял в них камнями, пока не ощущал, что счас меня стошнит. Я спешил, убегая как от кошмара, от той норы, а иногда фабриковал фальшак, а не номера, чтоб слишком не подходить к гигантской поленнице, в которой так полно крыс, что она им как многоквартирный дом. И печальные коровы мычат внутри, где мелкие крысята-мексиканцы и калифорнияне с безрадостными, неприятными, недружелюбными лицами и драндулетами ездить-на-работу тусутся по своей кровавой, к черту, работе, пока наконец не поработал в воскресенье, сортировка «Армор и Свифт», и не увидел, что Залив всего в 60 футах, а я этого никогда не знал, но свалка кишит сранью и крысиными приютами хуже обычного, хотя за нею и вода, и впрямь рябит голубовато, и впрямь в печальной утренней ясности показывала чистые плоские зеркала явно до самого Окленда и мест в Аламеде через всю дорогу. И на жестком ветру воскресного утра я слышал бормот жестянкиных стен, разломанных брошенных бойних складов, срань внутри и дохлые крысы, давленные тем самым местным в выходные ночи, а некоторых и я мог зашибить своей тужуркой, набитой защитными камнями, но, главным образом, систематически убитые крысы валялись повсюду в пылком душераздирающем неотступными облаками диковетром дне, где большие серебряные аэропланы цивилизованной надежды взлетают по ту сторону смердящей топи и мерзких жестяных квартир к местам где-то в воздухе. Гах, бах, иеоеоеоеое – есть тут кошмарный грязный стон, что слышишь, гагачепухая в том полетпомете, тех укромных силосохранилищах и убиенных жестекрашеных проходах, пена, соляная, и ба о ба крысьи гавани, топор, кувалда, мычавые коровы и все это, сплошной непомерный ужас южного Сан-Франциско, вот твоя веха 9,3. После этого налетающий поезд забирает тебя в Сан-Бруно начисто и далеко за долгим изгибом, окружающим болото аэропорта ЮСФ, а затем дальше к мильному столбу Ломита-парка 12,1, где прелестные деревца пассажиров потока, и секвойи хрустят и болтают о тебе, когда проезжаешь на паровозе, чьи котлы красно отбрасывают твою всемогущую тень наружу на ночь. Видишь все малютки ранчо-стильные калифорнийские дома, и ввечеру люди прихлебывают в гостиных, открытых благоденству, звездам, надежде, что деточки должны увидеть, лежа в постельках и спать-пора, и погляди-ка наверх, и звезда для них трепещет в вышине над железнодорожной землей, и поезд зовет, а они думают, что уж сегодня ночью-то звезды выйдут; они выходят, они исчезают, они изливают, они ангелизируют, ах, я, я должен прийти из земли, где детям дают плакать, ахти мне жаль, что не был я ребенком в Калифорнии, когда солнце зайдет, и мимо грохочет «Молния», и я б мог видеть сквозь красное дерево смоковницы, как сияет одному лишь мне мой трепетный свет надежды, и творя млеко на склонах гор Перманенте кошмарные Кафкины цементные фабрики либо нет, крысы боен южного города либо нет, нет, либо нет; жаль, что я не деточка в колыбельке в маленьком ранчо-стильном славном домике, где мои родители прихлебывают в гостиной с венецианским окном, указующим наружу на задний дворик лужайковых кресел и забора, ранчо-стильной бурой заостренной сплошной ограды; звезды в вышине, чистая сухая золотая пахучая ночь, и сразу за несколькой порослью, и деревянным чурбаньем, и резиновыми шинами, бам магистральная линия Старушки ЮТ, и поезда сверкают мимо, тум, тбум, громадный хряст черного паровоза, внутри чумазые красные мужики, тендер, затем долгая змея товарняка и все номера и вся эта штука мелькает мимо, гкракхсы, гром, мир целиком несется мимо, наконец поконченный прелестной маленькой теплушкой с ее бурым дымным огоньком внутри, где старый кондуктор согнулся над путевыми листами, и сверху в куполе задний тормозной сидит, выглядывая время от времени, и говорит сам себе все черно, и задние концевые огни, красные, лампы в заднем крылечке теплушки; и все штука миновала, завывая, за изгиб к Берлингейму, к Маунтин-Вью, к милым Сан-Хосям ночи, еще дальше Гилрои, Карнадеросы, Корпорали, и та птица Читтендена на заре, ваши Логаны странной ночи, все освещенные и онасекомленные, и безумные, ваши Уотсонвилли, морские трясины, ваша долгая длинная линия и магистральные рельсы, липкие на ощупь в полуночной звезде.
Мильный столб 46,9 – это Сан-Хосейная сцена сотни любознательных бомжей, что валандаются в кустах вдоль рельсов со своими тюками дряни, своими корешками, личными канистрами воды, банками воды, в которых варить кофе, или чай, или суп, и со своей бутылкой токайского вина или обычно мускателя. Мускатная Калифорния сплошь вокруг, в небе голубом, драно-белые облака напихивает через верхушку долины Санта-Клара из Бэйшора, куда пришел высокий тумановетр, и сквозь прорехи в Южном городе тоже, и покой лежит тяжко в укрытой долине, где бродяги обрели временный отдых. Жаркая дрема в сухих зарослях, лишь лощины сухого тростника торчат, и против них идешь проламываясь. «Ну, мальчонка, как насчет вкепать рому до Уотсонвилла». «Это не ром, мальчонка, это новый сорт параши». Цветной бродячий сезонник сидит на сраной старой газетке за прошлый год и использованной Крысоглазом Джимом с Денверских виадуков, что проезжал тут прошлой весной с пакетом фиг на горбу – «Так плохо не было с 1906-го!». А теперь 1952 г., октябрь, и роса на злаках этой всамделишной земли. Один из мальчонок подымает жестянку с земли (что отскочила с полувагона от внезапного шпрррама товарняков, таранимых вместе на сортировке, чтоб провис на дыбы не вставал) (баум!), куски жести разлетаются по сторонам, падают в заросли, возле пути № 1. Сезонник кладет жестянку на камни над костерком и жарит на ней хлеб, но он пил токай и разговаривает с другими мальчонками, и тост его подгорает, совсем как в кухонных трагедиях. Сезонник давай зло материться, потому что сколько-то хлеба потерял, и пинает камень, и говорит: «Двадцать восемь лет провел я в стенах Даннеморы, и хватит уже с меня захватывающих панорам великих деяний, вроде как пьяный Кэннеман тогда написал мне то письмо с миннеаполи, и там тока про чикагскую пьянь было – яйму грю тысатри паря так низзя ну в общем сирано написалму письмо». И ни души ж не слушает, потому что никто не станет слушать бродягу, все остальные бомжи батрабалдают, и тебе ни найти, ни выкрутипутаться из этого – все трещат одновременно, и все потерянные. Чтобы понять, надо вернуться к железнодорожнику. Типа, скажем, спрашиваешь мужика: «Где путь 109?» – ну – если это бомжара, он скажет: «Ехай вон туда, дядяй, может, вон тот старикан в синей косынке знает, а я Дылда Хоумз Хаббард из Растона, штат Луизиана, у меня время нету и знанья никакого, как мене узнать чего, где этой твой путь 109 – у мя тока это – дайм надо, не уделишь мне дайм, я тада своей дорогой мирно пойду, а не уделишь, я своей дорогой мирно пойду, тут не найдешь – не потеряешь – и отсюда до Бисмарка, штат Айдахо, я тока и терял, и терял, и терял все, что у меня было». Бродяг этих надо впустить к себе в душу, когда они так говорят, большинство же проскрежещет: «Путь 109 на Чилликоти тудой» сквозь щетину и слюни у себя в бороде – и отвалит в сторону, жоповлача за собой мешки до того огромные, содержательные, тяжелые – расчлененка у них там, что ли, не хочешь, а подумаешь, зенки красные, диким дыбом волосья, железнодорожники на них смотрят с изумлением раз, а потом уж больше нипочем не глядят – что жены скажут? Спросишь у железнодорожника, какой путь 109-й, он остановится, перестанет резинку жевать, поправит пожитку свою, свой фонарь на тужурке или обед и повернется, и сплюнет, и прищурится на горы к востоку, и глазами поведет очень медленно в личной своей каверне глазной кости между лобной костью и скульной костью, и скажет, все же раздумывая и надумав: «Его зовут 109-м путем, хотя должны 110-м, он совсем рядом с ледяной платформой, ну, знаешь, там ле́дник вон там». «Ага». «Вот и он там, от первого пути на магистрали считать начинаем, но от ледника номера перепрыгивают, они там поворачивают, и надо будет перейти через 110-й путь, чтоб выйти на 109-й – только на 109-й никогда частить не нужно, поэтому 109-го вроде как на сортировке просто не хватает… номера, вишь…» «Ага». Это я точно знаю. «Это я теперь точно знаю». «И вот там она как раз». «Спасибо, мне туда очень по-быстрому надо». «Вот вся беда с железной дорогой, всегда куда-то надо очень по-быстрому, птушто, если не успеешь, это как местному по телефону отказать и сказать, что хочешь отвернуться и на боковую, как Майк Райан прошлым понедельником сделал», – говорит он сам себе. – И мы идем-машем и ушли».
Вот сверчок в камыше. Я сидел на речднах Пахаро и жег костерки, и спал с курткой поверх своего тормозного фонаря, и рассуждал о калифорнийской жизни, пялясь в синее небо.
Кондуктор там еще валандается, ждет своих диспетчерских приказов, когда получит, подаст машинисту сигнал «путь свободен», махнет слегка ладонью из стороны в сторону, и мы отправимся. Старый локомотивщик приказывает дать пару, молодой кочегар подчиняется, локомотивщик пинает и тянет себе большой рычаг дросселя, а иногда подскакивает с ним, побороться, как прямо ангел в преисподней, и тянет гудок дважды ту-ту, отправляемся, и ты слышишь первый пых паровоза – пых – вроде неудачно – пых а пух – вжик – пых ПЫХ – первое движение – поезд тронулся.
Сан-Хосе – потому что душа железной дороги есть прогон каторжан, долгий товарняк, видишь, как змеится по рельсам с тянущим пых пых паровозом странник, победитель, артериальный угрюмый магистральный творец рельсов – Сан-Хосе в 50 милях к югу от Фриско, и это центр всех каторжан береговой дистанции либо долгой деятельности дорожного прогона, известный под названием рога, потому как поворотный пункт для рельсов, что идут вниз от Фриско к Санта-Барбаре и ЛА, и рельсов, что идут и сияют обратно в Окленд через Ньюарк и Найлз по веткам, что также пересекают могучую магистраль Долинной дистанции направлением на Фрезно. В Сан-Хосе я должен был бы жить, а не на Третьей улице Фриско, вот по каким причинам: 4 часа утра, в Сан-Хосе, поступает звонок по телефону, там главный диспетчер звонит с 4-й и Таунсенд в Грустном Фриско: «Керуувэййй? Порожняком на 112-й в Сан-Хосе к перегону на восток с кондуктором Дегнэном понял?» «Ага, порожняк 112-й перегоном на восток, так точно», что значит возвращайся в кроватку и снова вставай только около 9, у тебя все это время оплачено, и, парнишка, не перживай из-за чертовни и хернотени всякой, в 9 тебе всего-то придется что встать, а ты уже скока долларей заработал? Прям во сне, как ни верти, и напяливай рабочий малахай да рассекай, и садись на автобусик, и езжай в контору сортировки Сан-Хосе возле аэропорта, а на сортировке сотни заинтересованных железнодорожников и пришпиленных разнарядок, и телеграф, и паровозы, и там выстраиваешься и нумеруешься, и отмечаешься, и все время новые паровозы подлетают из депо, и повсюду в сером воздухе неимоверные возбуждения движения подвижного состава и сотворение больших зарплат. Ты туда приезжаешь, находишь своего кондуктора, который окажется просто каким-нибудь старым цирковым комиком в штанах мешком да с задранными полями шляпы и багровой рожей, и красным носовым платком, и перепачканными путевыми листами, и стрелочными списками в руке, и отнюдь не ученический большой фонарь тормозного кондуктора, как у тебя, а маленький старый 10-летний крохотный фонарик, купленный у какого-то старого батрака, и батарейки к нему ему приходится покупать у Давеги, а не по-ученически брать в конторе сортировки бесплатно, потому что через 20 лет на жд надо ж найти какой-то способ отличаться, а также облегчить бремена, что на себе таскаешь; он там, клонится, у плевательниц, с другими, ты подходишь, шляпа на глазах, говоришь: «Кондуктор Дегнэн?» «Я Дегнэн, что ж, похоже, до полудня ничего особого не будет, поэтому расслабься пока и далеко не отходи». Поэтому идешь себе в синюю комнату, как ее называют, где синие мухи жужжат и гудят вокруг старых жудьких грязных диванных чехлов, натянутых на лавки с вылезающей набивкой, и привлекающих, а то и родящих дальнейших мух, и там ложишься, если и без того не полно спящих тормозных кондукторов, и заворачиваешь там верха своих башмаков наверх ко грязному старому бурому грустному потолку времени, с призраками лязга телеграфов и пыха паровозов с улицы, довольно, чтобы в штаны наклал, и наворачиваешь поля шляпы на глаза, и валяешь себе спать. С 4 утра, с 6 утра, когда по-прежнему сон у тя на глазах в темном грезном доме, ты получал 1.90 в час, а теперь 10 утра, и поезд еще даже не составлен, и «До полудня вряд ли», – говорит Дегнэн. Поэтому до полудня ты уже проработаешь (потому что считается со времени 112-го, порожняковое время) шесть часов, и потому уедешь из Сан-Хосе со своим поездом около полудня, а то и погодя, в час, и до конечного городка Уотсонвилла огромной каторжной команды, куда всё катится (административный район ЛА), доедешь только к 3 дня, а коли зададутся незадачи и в 4 или 5, под вечер, когда там, ожидая сигнала гуртоправа, машинисты и проводники видят, как долгое красное грустное солнце убывающего дня падает на прелестную старую приметную ферму мильного столба 98,2, и день окончен, перегон окончен, им заплатили аж с самой зари того дня, а проехали всего 50 миль. Так оно и будет, так что спи себе в синей комнате, грезь о 1.90 в час, а также о своем покойном отце и мертвой любви, и плесневенье в костях, и возможном листопаде тебя – поезд составят только к полудню, и никому неохота теребить тебя до того – везучая детка и железнодорожный ангел мягко у тебя в стальном предпринятом сне.
В Сан-Хосе столько всего.
Так, если живешь в Сан-Хосе, у тебя преимущество трех часов лишнего сна дома, не считая дальнейшего сна на гнилом пуфе кожаной тахты в синей комнате; вместе с тем я применял 50 миль поездки с Третьей улицы как библиотеку себе, брал с собой книги и газеты в драную черную сумочку, ей уже 10 лет, первоначально купил ее девственным утром в Лоуэлле в 1942 г., чтоб ходить с ней в моря, прибыли тем летом в Гренландию, и, сталбыть, сумка настолько аховая, что тормозной кондуктор, завидя меня с ней в кофейне на сортировке Сан-Хосе, сказал, гикая громко: «Прям поезда с такой сумкой грабить, такую редко увидишь!» А я даже не улыбнулся и не согласился, и то было начало, середина и вся протяженность моих светских взаимоотношений на железной дороге с добрым старичьем, что на ней пашет, после чего я стал известен как Керруувааййй-Индеец с липовым имечком, и всякий раз, как мы проезжали мимо индейцев помо, что посекционно клали рельсы, путейщиков с сальными черными волосами, я махал и улыбался, и был единственным на ЮТ, кто так делал, кроме старых локомотивщиков, кто и впрямь всегда машет и улыбается, да начальства путейщицкого, которое сплошь старые белые очкатые степенные старые петухи и питухи времени, все их уважают, кроме смуглых индейцев да восточных негров, с кувалдами и в грязных штанах. Им я махал и вскоре после читал книжку, и выяснял, что у индейцев помо боевой клич «Я Я Хенна», что я однажды подумал было заорать, когда паровоз хрястогрохал мимо, но что от меня тогда будет, окромя сходов с рельсов моего собственного «я» и машиниста. Вся железная дорога раскрывается, и ширше, и ширше, пока наконец я год спустя и впрямь не бросил ее, снова ее увидел, но теперь поверх волн моря, все береговая дистанция вилась вдоль мышиного цвета стен безрадостного мыса бальбоамерикеи, от судна, и так вот железная дорога раскрывается навстречу волнам, а те китайские и на ориентовом покрове, и море. Она бежит драно до облаков плато и до Пукальп, и затерянных Андейских высот далеко под ободом мира, она также сверлит глубокую дыру в разуме человеческом и перевозит кучу интересного груза в дыры опрометчивые и из них, а также иные тайноместа и подражательный cauchemar[3] вечности, как сами увидите.
И вот однажды поутру мне позвонили на Третью улицу часа в 4 утра, и я сел на раннеутренний поезд до Сан-Хосе, прибыл туда в 7:30; мне велели не беспокоиться ни о чем часов до 10, поэтому я вышел в своем непостижимо бродяжьем бытии, пошел искать кусков проволоки, чтоб можно было согнуть так над моей плиткой, чтоб удерживали они хлебушки с изюмом, делать из них тосты, а также ищу по возможности приблуду из мелкой проволочной сетки получше, на которую можно будет ставить котелки – греть воду и сковородки – жарить яйца, поскольку плитка у меня такая мощная, что часто спаливала и жгла дочерна донышки моих яиц, если я случайно упускал возможность, отвлекшись на чистку картошки или же иным чем-то занимаясь. Я бродил вокруг, в Сан-Хосе за путями была свалка, я пошел туда и поискал, там дрянь до того ненужная, что владелец даже и не высунулся, я, зарабатывающий 600 в месяц, удрал оттуда с куском мелкой сетки себе на плитку. Вот уже 11, а поезд по-прежнему не составлен, серый, мрачный, чудесный день. Я побрел по улочке из коттеджей к большому бульвару Хосе и съел мороженое «Гвоздика» с кофе поутру; вошли целыми стаями и классами школьницы в тугоблегающих и вольносущих свитерах и чем не на свете, то была какая-то дамская академия, что вдруг пришла судачить кофием, а тут я такой в своей бейсболке, черной склизкой масляной и ржавной куртке, погодной куртке с меховым воротником, на который я, бывало, откидывал голову в песках уотсонвиллских речдней и гравиях Саннивейла напротив «Вестингауза» возле участка ученичества Шукля, где поимел место мой первый великий миг железной дороги у Дель-Монте, когда я пнул свой первый вагон, и Уитни сказал: «Ты начальник, давай-ка, тяни палец помощнее, суй туда руку и тяни, бо ты ж тут начальник». И то был октябрьский вечер, темно, чисто, ясно, сухо, кучи листвы у путей в сладкой надушенной тьме, а за ними ящики фруктов Дель-Монте, и рабочие разъезжают вокруг в ящичных тележках с торчащими совалками под низ и – никогда не забуду, как Уитни это сказал. Тем же памятованьем сомнения, несмотря на и потому как, хотел сэкономить себе все деньги на Мексику, я также отказался тратить 75 центов или даже на 35 центов меньше на рабочие перчатки, заместо, первоначально потеряв свою первую купленную рабочую перчатку, пока подавал тот прелестный цветочный вагон в Сан-Матео воскресным утром с Шермановым местным, я решился собрать все свои другие перчатки с земли и так ходил недели с черной рукой, хватаясь за липкое холодное железо паровозов росистыми холодными ночами, пока наконец не нашел первую перчатку за сортировкой Сан-Хосе, бурую матерчатую перчатку с красной Мефистофелевой подкладкой, поднял ее вялую и влажную с земли и дерябнул об колено, и дал просохнуть, а потом носил. Окончательная вторая перчатка найдена за конторой сортировки Уотсонвилла, маленькая перчатка из кожзама снаружи с теплой подкладкой снутри, порезанная ножницами или бритвой на запястье, чтоб легче было надевать и избегать сдергиванья и сдыргиванья. Таковы мои перчатки, я потерял, как я уже говорил, свою первую в Сан-Матео, вторую с кондуктором Дегнэном, пока ждал сигнала «путь свободен» с буфера (работая сзади из-за его страха) у путей в Лике, на долгом повороте, от движения по 101-й трудно слушать, и фактически во тьме той субботней ночи услышал-то как раз наконец старый кондуктор, я ничего не слышал, я бежал к теплушке, когда она скакнула вперед с выбором слабины, и забрался на борт, считая свои красные фонари, перчатки, запалы и что не, и понимая с ужасом, когда поезд дернулся вперед, что уронил одну свою перчатку в Лике, черт! – теперь у меня было две новые перчатки, с земли подсобранные. В полдень того дня паровоз еще не подали, старый машинист еще не вышел из дому, где он подхватывал пацанчика своего с солнечного тротуара в распахнутые объятия и целовал его поздним джон-красным часом предыдущего дня, поэтому я там спал на жутком старом диване, когда, ей-богу, так или иначе и после выходил несколько раз проверить и взобраться по всему буферу, который теперь стоял на приколе, а кондуктор и задний тормозной пили кофе в лавке, и даже кочегар, а потом возвращался к дальнейшим размышлениям либо дремленьям на чехле, рассчитывая, что они меня позовут, как в снах своих слышу двойное ту-ту и слышу, как паровоз великой тревоги отходит, а это мой паровоз, только я этого сразу не осознаю, думаю, что это какой-то блязгающий горестный старый чернорельсобуфер шлептрескает себе во сне, или вижу сон на самом деле, как вдруг просыпаюсь от того факта, что они же не знали, что я сплю в синей комнате, а приказ получили, и дали сигнал «путь свободен», и вот отправились в Уотсонвилл, позабыв переднего кондуктора. По традиции, кочегар и машинист, если не видят переднего кондуктора на паровозе, а сигнал к отправке дан, они и отправляются, нечего им связываться с этими сонными кондукторами. Я вскакиваю, хватаю фонарь и в сером дне мчусь точно над тем местом, где когда-то нашел ту бурую перчатку с красной подкладкой, и думаю о ней в раже своего мандража, и, выскакивая, вижу паровоз далеко на линии; летит, как лет 50, набирает скорость и пыхгыхтит, а за ним весь поезд громолязгает, и вагоны ждут у переезда события, это МОЙ ПОЕЗД! Стремглав я иноходью, и несусь над местом перчатки, и через дорогу, и за угол свалки, где искал жесть также тем же ленивым утром, ошиломыленные пастераззявившие железнодорожники, штук пять их там, смотрят, как этот чокнутый ученик бежит за своим паровозом, пока тот отходит на Уотсонвилл. Успеет ли? За 30 секунд я уже поравнялся с железной лесенкой и перекидываю фонарь в другую руку – схватиться покрепче за нее и забраться, и взобраться, да и все равно вся эта круговерть заново остановилась на красный, пропустить старого, думаю, 71-го пройти по сортировке, там, думаю, уже почти 3 часа я проспал и заработал или начал зарабатывать невероятные сверхурочные, и тут произошел этот кошмар. В общем, им дали красный, и они остановились все равно, и я успел поймать свой поезд и сел на песочницу дух перевести, ни единого замечания на свете об унылых челюстях и холодных голубых оклахомских буркалах того машиниста и кочегара, они в сердцах у себя, должно быть, придерживались некоего протокола с железной желдорогой, ибо какое им дело до этого ушлепка пацана, который по шлаку бегал за своей запоздавшей потерявшейся работой.