Меж трех огней. Роман из актерской жизни бесплатное чтение
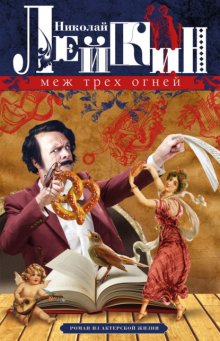
© «Центрполиграф», 2022
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2022
Глава I
В летнем театре на сцене первая репетиция. Поставлен ободранный павильон. Холодно. Везде сквозит. Чахоточного вида суфлер в пальто с выеденным молью воротником сидит на суфлерской будке и подает реплики двум репетирующим актрисам – одной молодой, закутанной в перовое боа, другой пожилой в накинутом на голову сером суконном платке. Рядом с суфлером режиссер на стуле – пожилой человек в бороде с проседью. На голове его красная турецкая феска с черной кистью, шея завязана белым кашне. Он держит в руке тетрадь, прислушивается к репетирующим актрисам и курит папиросу.
– Постойте… – останавливает он движением тетради пожилую актрису. – Эту сцену я вас прошу вести гораздо нежнее. Вы мать, перед вами дочь. Вы очень хорошо знаете, на какой опасный подвиг вы ее отправляете.
– Я, Феофан Прокофьич, понимаю, но ведь сегодня первая репетиция… Можно сказать, считка… – отвечает актриса.
– Прекрасно, моя родная, но и со считки уж нужно давать тон. Иначе вы не войдете в роль. Да и я, как режиссер, вижу вас в первый раз. Никогда раньше с вами не служил и должен ознакомиться с вашими способностями для последующих ролей. На этой же неделе я должен раздавать роли для другой пьесы. Повторите… И пожалуйста, эту сцену понежнее.
– Ах, вы какой, право… – жмется пожилая актриса. – Разумеется, на следующей же репетиции я буду читать вовсю…
– Невозможно, моя дорогая… Вы на всех репетициях должны вести вовсю, иначе мы не ознакомимся. Тут в пьесе ремарки нет. Но, по-моему, вы должны даже обнимать дочь, говоря эти слова. Ну-с, пожалуйста… Я слушаю.
Сцена повторяется.
За павильоном толпятся актеры и актрисы в самых разнообразных одеждах, ожидающие своего выхода. Между ними помощник режиссера, молодой белокурый малый в усах и с книжкой выходов. У мужчин по большей части воротники пальто подняты, на голове мягкие фетровые шляпы. Все они жмутся от холода. Все они собрались с разных концов России, и многие не знакомы еще друг с другом. Курение папирос идет вовсю. Один из актеров – рослый, красивый, но несколько с одутловатым лицом брюнет – сидит на пне и свертывает папиросу, тщательно облизывая бумагу. Он в светло-сером франтовском пальто, в красном галстуке, в который воткнута булавка с крупной жемчужиной, и в глянцевитом цилиндре. Золотое пенсне на цепочке болтается поверх пальто. К нему приглядывается маленький кругленький блондинчик с плохо выбритым лицом, в потертом пальто и жокейской фуражке. Наконец, он подходит к нему и говорит:
– Лагорский… Не узнаете? Когда-то в Казани и Симбирске… Помните?
– Бог мой! Кого я вижу! Мишка Курицын сын! – восклицает брюнет, поднимаясь с пня.
– Зачем же ругаться-то, Василий Севастьяныч…
– Я, брат, любя. Здравствуй… Как же тебя не помнить! Я о тебе сказки детям рассказываю.
Лагорский снимает цилиндр и троекратно целуется с Мишкой Курицыным сыном.
– Я знал, Василий Севастьяныч, когда ехал сюда, что вы здесь на героические роли, – улыбаясь во всю ширину лица, говорит Мишка. – В газетах прочел… Ехал и радовался, что увижусь с вами… Вы, Василий Севастьяныч, мне жизнь спасли, и это я помню чудесно.
– Да, да, да. И это я помню… Ты-то как сюда попал?
– Через московское бюро. На роли вторых простаков, Василий Севастьяныч.
– На полсотни в месяц?
– Подымайте выше, Василий Севастьяныч. Семьдесят рублей.
– Ого! Ты, брат, прогрессируешь, Мишка! – шутливо отнесся к нему Лагорский и похлопал его по плечу. – Не пьешь больше?
– Малость балуюсь, но в умеренном тоне. Я, Василий Севастьяныч, уж теперь не под фамилией Перовского играю, а под своей собственной… Тальников я…
– Что же, скандал какой-нибудь где-нибудь вышел, что ты переменил фамилию?
– Нет, так-с. Что же свою Богом данную фамилию обижать? Лучше же ее увековечить. Подумал, подумал: «Зачем я по сцене Перовский? Буду Тальников». Ну и стал Тальников.
– От долгов лучше скрываться, когда под чужой фамилией играешь.
– Какие у меня долги, Василий Севастьяныч! И наделал бы, может статься, да никто не верит. А как здоровье вашей супруги Веры Константиновны, Василий Севастьяныч? – спросил Тальников.
– Жена? Она здесь… Она в театре, который с нами рядом, будет играть. Она в «Карфагене»… В театр сада «Карфаген» приглашена… Там легкие пьесы… Только я говорю не о Вере Константиновне, а о жене, о Надежде Дмитриевне Копровской. На триста рублей она приехала.
– Позвольте, – остановил Лагорского Тальников. – Но ведь в Казани у вас была супруга Вера Константиновна Малкова. Помните, когда вы в «Европе» стояли и я ходил к вам по утрам ординарцем?
– Малкова мне не жена. Она так…
– Боже мой… А ведь я ее за вашу супругу считал! Душа в душу жили. Ведь у вас от нее была дочка Наташа?
– Даже две: Наташа и Катя… Но Малкова мне, Мишка, не жена, хотя она прекрасная женщина, прямо святая женщина.
– Где же она теперь, Василий Севастьяныч? Я про Малкову…
– Вообрази, здесь, в труппе. Сегодня ее нет, но завтра она будет. А я теперь сошелся с женой. Не знаю, как и быть, – пожал плечами Лагорский. – И можешь ты думать, она, эта самая Малкова, живет через пять-шесть дач от меня, на той же улице. Жена покуда ничего еще не знает, но Малкова уж ревнует. Она – женщина-огонь.
Лагорский улыбнулся.
– Затруднительное ваше теперь положение, Василий Севастьяныч, – произнес Тальников.
– Водевиль, – отвечал Лагорский. – Но вздор, вывернусь. Как в водевиле и вывернусь. Ведь это у меня всегда и во все времена было. Только, разумеется, не так близко. Ведь и при Малковой… Помнишь, там у меня была вдова купчиха? И от ней есть.
– Шельганова? Помню. Вы меня брали к ней. Я там в ее именины таперствовал.
– А я помню, что ты там бобровую шапку стянул.
– Уж и стянул! Просто обменялся по ошибке.
– Вместо драповой-то бобровую взял?
– Выпивши я был, Василий Севастьяныч. Ведь такое происшествие с каждым может случиться.
– С каждым! Однако бобровой-то шапки все-таки ты не возвратил.
– Бедность, Василий Севастьяныч… Получал всего тридцать рублей. Вы с Шельгановой любовью выманивали, а мне так Бог послал.
– Выманивали! Что ж ты меня за альфонса считаешь, что ли! – возвысил голос Лагорский.
– Зачем за альфонса? Просто вы большой сердцеед… хе-хе-хе… – поправился Тальников.
– Ну, то-то, – самодовольно проговорил Лагорский и выпрямился во весь рост. – Послушай… Ты помнишь Настю, горничную Милковой-Карской? Бутончик такой был в Симбирске за кулисами. Настя…
– Как же не помнить-то! Вся труппа за ней гонялась.
– Ну а я ее тогда сманил, увез в Нижний и жил с ней. Прелестный был цветочек.
– Знаю-с. На моих глазах все это было. В Нижнем-то только я не был.
– Ну вот из этой Насти я сделал маленькую водевильную актриску… Окрестил ее для сцены На́стиной. Хорошенькая… Личиком брала… Она и в водевиле, и в оперетке на маленькие рольки… Привязана была ко мне, как кошка. Более года мы с ней жили, имел я от нее сына, который теперь в деревне у ее матери на воспитании. Мы не расходились… А просто ангажемента нам не случилось вместе в одном городе, и пришлось разъехаться. Настя поехала в Тифлис, а я в Вологду… Если бы ты видел, какие сцены прощания были! – рассказывал Лагорский, но тотчас же махнул рукой и прибавил: – Впрочем, ты этого ничего не понимаешь!
– Отчего же не понимать? У меня, Василий Севастьяныч, сердце также чувствительное, – обидчиво произнес Тальников. – Физиономией я не вышел, а сердцем…
– Ну, что об этом говорить! – перебил его Лагорский. – Так вот, я тебе хочу сказать, что и эта Настина здесь и играет рядом в саду «Карфаген». И можешь ты думать, какое совпадение: тоже живет на даче в полуверсте от меня. Жена, Малкова, Настина. Стало быть, я меж трех огней. И не тужу.
– Вам выходить, господин Лагорский… – шепнул ему помощник режиссера.
Лагорский вышел на сцену.
Глава II
Лагорский кончил свою сцену и опять появился за кулисами.
– Какая здесь все дрянь в труппу набрана, – сказал он Тальникову. – Ступить по сцене не умеют.
– Есть, есть товарец… – поддакнул ему Тальников. – А на какое жалованье приехали!
– Да ведь я и тебя считаю за дрянь.
– Я, Василий Севастьяныч, человек скромный. Я на маленькие роли.
Тальников весь как-то сжался и стал потирать руки.
– Ну, разве на маленькие-то. Ты кого здесь в пьесе играешь? – спросил Лагорский.
– Крестьянина Пьера…
– Ну, эта роль по тебе. Ты дураков можешь.
– Угостите, Василий Севастьяныч, папироской.
– А ты опять, как и всегда, без папирос. Ведь уже теперь-то, кажется, можешь на свои покупать. Сам же говоришь, что семьдесят рублей получаешь.
– В дороге издержался, Василий Севастьяныч. Сорок рублей было мне выслано авансом на дорогу, я и издержался. Да у меня есть табак, только дома. Ведь я с Кавказа ехал.
– Бери, свертывай себе папиросу. Ведь я самокрутки курю.
Лагорский подал хороший серебряный портсигар. Тальников стал свертывать папиросу и сказал:
– Сейчас видно, Василий Севастьяныч, что вы в достатке: и при серебряном портсигаре, и при часах золотых, и при булавке с жемчугом.
– У меня кроме этого есть что закладывать. В Симбирске мне поднесли ящик серебра, в Самаре две серебряные вазы для шампанского.
– Любимец, блаженствуете…
– Не жалуюсь. А труппа здесь дрянь, за исключением Малковой, – опять начал Лагорский. – Набрана числом поболее, ценою подешевле…
– Нет-с… Жалованья хорошие… Не скажите.
– Ведь это для тебя хорошие-то, а для актера с именем – ах, оставьте. Здесь Петербург… Здесь не в Царевококшайске, здесь жизнь втридорога. Жена хозяйство завела, так по семнадцати копеек фунт за говядину платит.
– Верно-с… Правильно вы… – поддакнул снова Тальников. – Я за сорок копеек обедаю у одной вдовы, так очень голодно. Вы мне позволите, Василий Севастьяныч, к вам по утрам ординарцем приходить? Как в Казани приходил. Приходить и быть при вас на манер адъютанта?
– Приходи, приходи… Я тебя познакомлю с моей настоящей женой Надеждой Дмитриевной… Дача Петрова, рядом с булочной…
– Разыщу, Василий Севастьяныч. Вас, наверное, все знают.
– Только ты жене насчет Малковой ни гугу… – предупредил Лагорский Тальникова.
– Зачем же я буду говорить! Я тайны и не такие хранил.
– И про Настю Настину ни слова…
– Гроб. Могила… – проговорил Тальников, ударив себя в грудь. – С какой стати я буду вносить в семью смуту!
– Ну, пойдем в буфет. Я тебя за это водкой угощу. Надо червячка заморить. Мой выход еще не скоро. Теперь на сцене солдат национальной гвардии будет разглагольствовать с угольщиком и Фаншетой.
Они отправились во временный буфет, который был при театре, в бутафорской. Там было несколько актеров, которые пили водку и пиво и ели горячие пирожки. Один из актеров, пестро одетый, черненький, как жук, с синеватым подбородком и густыми бровями, подскочил к Лагорскому и проговорил:
– Позвольте вам напомнить о себе, господин Лагорский… Мы служили вместе в Самаре. Чеченцев, здешний любовник… Не помните?
– Помню, помню… Вы тогда только еще начинали… из любителей… – сказал Лагорский и сухо пожал ему руку.
Разговор не клеился. Чеченцев отошел. Лагорский сморщил лицо и произнес:
– Прохвост. Обобрал в Самаре одну глупую старуху. Любовник… Я его в Самаре по сцене ходить учил, а здесь он любовником. Тьфу! Вот она здешняя труппа. Вот из каких звеньев. Пей, Мишка, да пойдем.
Лагорский и Тальников выпили и стали есть пирожки.
– Заметили, Василий Севастьяныч?.. Любовник-то в бриллиантовом кольце. Только, я думаю, бриллианты-то ненастоящие…
– Черт его знает! – брезгливо сказал Лагорский. – Черкесов… или как он?.. Осетинцев… Кабардинцев… – умышленно перевирал он фамилию актера. – Любовник… Я его учил по сцене ходить. А то все, бывало, задом становится.
Прожевывая пирожки, они опять отправились на сцену.
Здесь Лагорский нос с носом столкнулся с Малковой. Это была высокая стройная красивая блондинка в шляпке с перьями, в пальто мешком с необычайно большими пуговицами в виде маленьких блюдечек. На шее было намотано перовое боа. Лагорский попятился.
Он не ждал Малкову.
– Откуда ты? – произнес он удивленно.
– Прямо из дома, Вася. Я за тобой, – заговорила Малкова. – Я пришла тащить тебя к себе обедать. А то ты ни разу еще у меня не обедал. Я тебе и водку, и закуску приготовила. Какая, Вася, у меня редиска!
– Милый друг, да ведь я у Копровской нанял комнату со столом, – смущенно отвечал Лагорский. – Со столом… И деньги вперед уплатил.
Он не назвал Копровскую женой.
– Экая важность, подумаешь, что ты не заешь там какой-нибудь полтинник! – воскликнула Малкова. – А у меня для тебя сегодня вареный сиг с яйцами. Понимаешь ты, сиг. Местное петербургское блюдо. Такого сига у нас на Волге ни за какие деньги достать нельзя.
– Дома я тоже заказал жареную корюшку. Тоже местное блюдо. Не явиться неловко.
– Плюнь на корюшку! Ну что тебе корюшка! Нет, Вася, я тебя не отпущу, я нарочно затем и пришла, чтобы взять тебя и тащить, – решительно сказала Малкова. – Пойдем.
– У меня еще репетиция не кончена. Целый акт впереди… Три лучшие сцены.
– Я подожду. Но все-таки тебя не оставлю. Ты должен у меня сегодня обедать.
– Я у тебя ужинал третьего дня, Веруша.
– Обед – не ужин. Пойдем. Я не уйду без тебя. Буду ждать.
Она села на дерновую скамью. Лагорский жался и не знал, что делать. Он и жене обещал непременно быть к обеду.
– Веруша! А ты разве не помнишь Мишу Перовского, который служил с нами в Казани? – спросил он Малкову и указал на Тальникова. – Мишу, который к нам по утрам являлся, как статуя командора.
Малкова прищурилась.
– Как же не помнить, – сказала она и тихо прибавила: – Только ты его не зови к обеду. Я хочу с тобой наедине поговорить. Мне много, много надо с тобой говорить.
Лагорский сморщился. Он предчувствовал, что может предстоять разговор, полный упреков, и сцены ревности.
А Малкова уж подозвала к себе Тальникова и разговаривала с ним. Тот, поцеловав ее руку жирными губами, рассказывал ей, что он опять польщен от Василия Севастьяновича, что Василий Севастьянович опять пригласил его к себе в ординарцы и позволил быть адъютантом.
– Дочка ваша Наташа как поживает? – спросил ее Тальников.
– О, Наташу я уж устроила теперь у моей матери. Там ей отлично, – отвечала Малкова.
– Господин Лагорский! Пожалуйте! Ваш выход! – кричал помощник режиссера.
Лагорский сложил руки на груди и медленно стал выходить на сцену.
Глава III
Репетиция кончилась, и Малкова повела Лагорского к себе обедать. Она взяла его под руку и по дороге весело болтала с ним, рассказывая о своем хозяйстве.
– Ведь я прежде все по номерам жила и своего стола не держала. И с тобой мы жили в Казани в гостинице. До тебя я тоже в меблированных комнатах и обеды брала из трактиров или кухмистерских, – говорила она. – А теперь, когда у меня стряпают дома, я вижу, что это куда выгоднее! И наконец, я ем, что я хочу, а не то, что мне дают. Горничной моей Груше я прибавила за стряпню только три рубля в месяц. И как она отлично готовит! Вот ты сегодня попробуешь ее стряпню. Суп отличный… А мне кроме супа ничего и не надо. Ну, бифштекс, котлету… Сладкое я в булочной беру. Два пирожка по три копейки. И главное, что мы обе сыты: я и Груша. И нам еще от обеда всегда что-нибудь на ужин остается. Переезжай ко мне, Вася. Ну что тебе у жены жить! – прибавила Малкова. Лагорский передернул плечами.
– Друг мой, как же я к тебе перееду, если я жене дал слово, что я весь летний сезон пробуду у нее жильцом, – проговорил он. – Жена, рассчитывая на меня, и отдельную дачу наняла, иначе она сняла бы где-нибудь две комнаты. Хотя мы с ней почти чужие, но неловко все-таки женщину подводить. Она треть денег уже уплатила за дачу.
– У ней есть кто-нибудь? Связавшись она с кем-нибудь? – спросила Малкова.
Лагорского покоробило. Он даже вспыхнул, но тотчас же успокоил себя и отвечал:
– Не знаю. Пока я ничего не замечал. Да где! Она болезненная женщина.
– Копровская-то болезненная женщина? Ну, врешь. Я ее видела в Севастополе, когда проезжала в Ялту на гастроли. Она женщина кровь с молоком. И брюнетка с усиками. Эти брюнетки с усиками всегда здоровы.
– Наружность, друг мой, очень часто обманчива. И наконец, кому же и знать, как не мне? Я все-таки жил с ней три с половиной года. Ну да что об ней разговаривать! Бросим, – закончил Лагорский. – Ты говоришь, что будешь меня угощать сегодня сигом, – переменил он разговор.
– Вареным сигом, Вася, с яйцами и маслом, – отвечала Малкова.
– Шесть лет я не был в Петербурге и шесть лет сига не ел. Ах да! В Москве раз ел зимой. Зимой туда их привозят.
Лагорский рад был, что разговор с его жены перешел на рыбу, но Малкова опять начала:
– Мне кажется, Васька, что ты все врешь! Мне кажется, что ты опять сошелся с женой. Простил ее и сошелся. Иначе с какой стати тебе было переезжать к ней на квартиру?
– Уверяю тебя, Веруша, что нет! – отвечал Лагорский.
– Странно. Четыре года ты с ней не жил, рассказывал мне о ее невозможном характере, о тех скандалах, которые она тебе делала в труппе, и вдруг опять с ней. Нет, тут что-то неладно.
– Некуда было деться. Ведь здесь, на окраинах, гостиниц нет, а она предложила квартиру и стол. Ну, вижу, что под боком… недалеко от театра – я и взял… Приезжай ты, Веруша, раньше, предложи ты – я взял бы у тебя квартиру. Да ведь и дешево я плачу.
– А сколько? – вдруг спросила Малкова.
Лагорский замялся. Он не знал, что и сказать. Он соображал, что сказать, и не сообразил.
– Я рыбу люблю ужасно, – проговорил он. – И у себя дома я сегодня просил, чтоб мне была сделана жареная корюшка. Жареная корюшка со свежим огурцом – прелесть.
Он жался и старался высвободить свою руку из-под руки Малковой. Они подходили к даче, где он жил с женой, миновать которую им было нельзя, ибо она стояла им по пути, а ему показалось, что на балконе мелькает красная кофточка его жены.
– Что ты? – спросила его Малкова.
– Хочется покурить. Дай мне свернуть папироску, – отвечал он, освобождая свою руку, и стал доставать порттабак из кармана.
Для скручивания папиросы он приостановился и, щурясь, стал смотреть вдаль на балкон, на красное пятно. Дело в том, что ему ужасно было неловко проходить мимо своей дачи под руку с Малковой, ежели жена увидит его. Еще если бы он вернулся потом к обеду, то он сказал бы, что провожал товарища по сцене такую-то, но ведь он не явится к обеду, жена его будет ждать – и потом выйдет ссора, скандал. Свернув папиросу, он сделал несколько шагов вперед и на ходу стал закуривать ее. Шел он медленно и молчал. Пятно продолжало краснеть. Он опять остановился и был как на иголках.
Малкова пристально посмотрела на него и спросила:
– Что с тобой, Василий?
– Вот, видишь ли, милочка, я замечаю красную кофточку жены моей на балконе, – сказал он. – То есть Копровской… – поправился он. – И хотя она мне теперь вовсе не жена, но все-таки квартирная хозяйка, которой я заказал к обеду корюшку.
– Понимаю.
Малкова надулась.
– Понимай или не понимай, а все-таки чрезвычайно неловко проходить мимо нее с дамой, не заговорить с ней, то есть с Копровской, и в конце концов не прийти даже к обеду, – сказал Лагорский. – Пойдем шаг за шагом и повременим подходить. Может быть, красная кофточка скроется.
– Ну, теперь мне все ясно, – сказала Малкова. – Ты даже боишься своей жены, так какая же она тебе квартирная хозяйка!
– Вовсе не боюсь. Но если бы я ей еще не заказывал корюшки…
– Ты, Васька, изолгался. Ты подлец.
– Ничуть… Но согласись сама…
– Ты где живешь?
– Да вот через две дачи. Видишь, что-то краснеется на балконе? Это кофточка Копровской. Она сегодня в красной кофточке.
Малкова посмотрела вперед.
– Господи, как у страха-то глаза велики! – сказала она, засмеявшись. – На балконе это даже не кофточка и не женщина, а просто через перила перекинуто что-то красное. Одеяло, что ли?
– Да так ли?
Лагорский прибавил шагу.
– О, как жена твоя взяла тебя в руки! – продолжала Малкова. – Ты даже красного одеяла боишься.
У Лагорского отлегло от сердца, и он сам рассмеялся.
– Действительно, красное одеяло, – проговорил он. – Но если бы это была Копровская, которая ждет меня к обеду, было бы чрезвычайно неловко проходить мимо нее, особенно с дамой под руку.
– Отчего же непременно с дамой под руку? При чем тут дама? – допытывалась Малкова. – Сам же ты говоришь, что с женой своей теперь ничем не связан.
– Ничем, кроме квартиры и стола. Но все-таки…
Они поравнялись с дачей, где на балконе висело красное одеяло. Лагорский прибавил шагу и старался пройти мимо дачи как можно скорее. Но Малкова остановилась и стала смотреть в палисадник перед дачей.
– Здесь ты живешь? – спрашивала она.
– Здесь. Только, пожалуйста, не кричи.
Лагорский пробежал от Малковой вперед. Она догнала его.
– Дабы узнать истину, я, Васька, завтра или послезавтра зайду к тебе чаю напиться, – сказала она. – Должна же я знать, в каких ты отношениях с женой. Иначе с какой же стати я буду расточать тебе свои ласки! Я делиться ни с кем не люблю.
– Уверяю тебя, что с Копровской я в самых обыкновенных отношениях. Как добрый знакомый, как старый знакомый, пожалуй, – и больше ничего… – старался уверить Лагорский Малкову.
– Ну, я зайду, и мы посмотрим.
– Заходи. Только, пожалуйста, без скандала…
– Зачем же я буду скандалить, если жена твоя первая не сделает мне скандала?
– О, она не такая! Ведь ты придешь ко мне, как знакомая к знакомому, – заискивающе проговорил Лагорский.
– Ну, мы там посмотрим. А только на днях я к тебе зайду. Непременно зайду, – подчеркнула Малкова.
Они подошли к даче Малковой и стали входить в палисадник.
Глава IV
Малкова помещалась в верхнем этаже маленькой дачи, ветхой, с покосившимися полами, со скрипучей лестницей, но три ее крошечные комнатки имели симпатичный вид. Она успела придать им некоторую уютность. В гостиной, она же и столовая, лежал на полу персидский ковер. Лагорский помнил его еще в Казани. Она всегда возила его с собой и завертывала в него во время пути разные вещи. На убогой хозяйской мягкой мебели лежали белые чистые ажурные покрышки ее работы. Стоял диван, и на нем лежала вышитая шерстями подушка с изображением красной птицы на черном фоне. И подушку эту Лагорский помнил с Казани. Стены гостиной были увешаны венками из искусственных цветов с лентами – это были подношения от публики в дни бенефисов Малковой. Был тут и маленький серебряный венок. На двух окнах висели белые коленкоровые занавески, хотя прибитые прямо к стене гвоздями, но гвозди эти были задрапированы также лентами от бенефисных венков. В спальной Малковой помещался туалетный стол, покрытый кисеей на розовом подбое, со складным зеркалом на нем, с туалетными принадлежностями, со свесившейся со стены такой же кисейной драпировкой, подхваченной розовыми лентами. У другой стены стояла опрятная постель с белым ажурным покрывалом, также на розовом подбое, с подушками в прошивках и кружевцах. Третья комнатка была занята сундуками с гардеробом Малковой и в ней помещалась ее горничная Груша. И тут стояла чистая постель с тканёвым одеялом и нарядными подушками.
Лагорский был уже у Малковой тотчас после ее приезда, но тогда Малкова не была еще устроившись в квартире и жила на бивуаках, как Марий на развалинах Карфагена, как она выражалась. Теперь же квартира была прибрана и вовсе не походила на квартиру по несколько раз в году переезжающей актрисы, которые, привыкши жить по номерам, обыкновенно вовсе не заботятся об убранстве своих жилищ. Нигде не было видно ни юбок, висящих по стенам, ни разбросанной на полу обуви, ни корсета, валяющегося на стуле, ни тарелок с остатками еды, стоящих на подоконниках, как это бывает зачастую у актрис и как это именно было у жены Лагорского – Копровской.
Лагорский любовался комнатками Малковой и сравнивал их с комнатами своей дачи, где он жил с женой, не отличающимися не только убранством, но даже и необходимой чистотой, где сундук очень часто заменял стул, где постели оставались по целым дням с утра не постланными, где окна вместо занавесок завешивались на ночь суконным платком, простыней и женскими юбками.
– Хорошо ты, Веруша, устроилась, – сказал Лагорский, рассматривая в гостиной фотографии Малковой в ее лучших ролях, повешенные на стене между венками и лентами. – У меня дома нет ничего подобного. Мы до сих пор живем, как цыгане в стане, как кочевники.
– Так вот и переезжай ко мне, – заговорила Малкова. – Здесь в гостиной и поселишься. Смотри, я нарочно для тебя велела вот этот хозяйский диван новым ситцем обить. Очень уж он был грязен и залит чем-то, так что даже противно было садиться. Явился странствующий по дачам обойщик, я купила ситцу – и вот он обил диван.
– Знаю, знаю. Ты, Веруша, у меня насчет чистоты молодец. Я помню, как ты в Казани следила за моим бельем, как пушила прислугу, когда комнаты были плохо прибраны. У тебя что-то врожденное к чистоте и порядку. Ты любишь украшать свое гнездышко.
– И милости просим в это гнездышко.
– Не могу, родная. Слово дано. Хотя Копровская дефакто теперь мне и не жена, но она все-таки товарищ, а товарища подводить неблагородно. Зачем же я буду наносить ей убытки? Она рассчитывает, что я весь сезон проживу у нее.
– Если любишь меня, то убытки эти можешь ей возместить, – продолжала Малкова. – Ну, заплати ей за комнату за целое лето. Ведь всего-то, я думаю, рублей пятьдесят. Что тебе значит? Будто в карты проиграл. Впрочем, я приду к тебе чай пить и посмотрю, в каких ты отношениях с женой. Мне сдается, что ты все врешь. Если ты сошелся с женой, то тогда я тебя тревожить не стану. Скатертью дорога. Но тогда уж и ко мне прошу ни ногой…
Лагорский нежно обнял Малкову и сказал:
– Веруша, я тебя люблю, я не могу не видеться с тобой. Я должен быть около тебя и целовать эти глазки, эти щечки, этот лобик.
И он поцеловал ее в слегка подведенные глазки, в лобик и щечки. Она улыбнулась.
– Однако ты два года не целовал их. Не целовал, когда служил в Симбирске, не целовал в Нижнем, – проговорила она. – И где ты был еще? В Вологде, что ли?
– В Вологде и в Архангельске два летних сезона, – отвечал он. – Но это ничего не значит. Ты два года была у меня в сердце.
– Два года в сердце, а сам даже не писал мне. Хороша любовь!
– Неправда. Из Симбирска я тебе послал три письма.
– А из Нижнего ничего и из других городов – ничего.
– Из Нижнего я тебе послал 17 сентября поздравление с днем ангела в Ростов-на-Дону. Да ведь и ты не писала.
– Не писала, потому что знала, что ты был с этой связавшись… Как ее? С горничной, которая полезла в актрисы. Ведь Кардеев приезжал к нам из Симбирска и рассказывал.
– Ну, какая же это была связь! Мимолетная. Без таких связей ни один здоровый мужчина быть не может, – сказал в ответ Лагорский.
– А знаешь, она здесь… Эта Настина… – сказала Малкова. – Я видела ее в Петербурге.
– Не знаю, не видал и не слыхал, – соврал Лагорский.
– Вот и к ней я буду тебя ревновать, Васька. Она в труппе «Карфагена» с твоей женой служит. О, она тонкая бестия! Она завлечет тебя, Васька.
– В первый раз слышу, что Настина в «Карфагене» служит, – врал Лагорский. – Странно, что я ее не видел. Но ты, друг Веруша, ничего не бойся. Для тебя нет соперниц. Я весь твой. Не буду лгать, во время нашей разлуки я не страдал по тебе, не убивался, но, когда здесь увидал тебя снова, ты опять зажгла мое сердце и любовь моя к тебе возгорелась с новой силой.
Лагорский опять обнял Малкову и посадил ее рядом с собой на диван. Она засмеялась и, принимая от него поцелуй, бормотала:
– Как ты это говоришь… Какими словами… Будто на сцене, будто из какой-то роли…
– Актер… Ничего не поделаешь. Такая уж наша привычка к красивым словам, – ответил он, поднялся и сказал: – Ну что ж… Давай обедать. Есть я чертовски хочу.
Малкова сняла со стола альбом с серебряной доской – бенефисное подношение, два подсвечника со свечами и стала накрывать ковровую скатерть белою скатертью, крича своей прислуге:
– Груша! Тащи сюда посуду. Я накрываю стол. Подавай обедать! Да прежде редиску и селедку для Василия Севастьяныча! Бутылочка с водкой у меня в спальне.
В дверях показалась опрятно одетая в ситцевое платье пожилая уже горничная, Груша, в белом переднике с кружевами и прошивками, кланяясь Лагорскому, и держала в руках две тарелки с редиской и селедкой, сильно обсыпанной зеленым луком.
Глава V
Пообедав и выпив кофе, Лагорский стал прощаться с Малковой. Та не отпускала.
– Посиди еще… – упрашивала она. – Куда торопиться? Вот мы подышим легким воздухом на балконе… Посмотрим на проходящих… У меня апельсины есть. Поговорим… Напьемся чаю. Я, Вася, с самоваром… Я самовар купила. Полное хозяйство… Что ж, уезжать на зимний сезон, так продать можно.
– Ты у меня запасливая… Ты умница, ты хозяйка… – хвалил он ее и, как ребенка погладив по голове, взял шляпу и все-таки уходил.
Она удерживала его за руку, любовно смотрела ему в глаза и продолжала просить:
– Не уходи… Останься еще со мной.
– Нельзя… Роль учить надо. Уж и так седьмой час, – отвечал он. – Здесь не провинция. Роль надо знать хорошо.
– Вздор… Ты боишься своей жены… И дернуло тебя опять с ней связаться!
– Уверяю тебя еще раз, Веруша, что моя связь ограничивается только квартирой и столом.
– Ну, хочешь, я за тебя внесу ей за квартиру и стол? – спросила Малкова, все еще держа Лагорского за руку.
– Что ты!.. Зачем же это? Но все-таки прощай. Уверяю, что у тебя мне и сидеть приятнее, и уютнее, и веселее, я даже дышу как-то свободнее у тебя, но идти домой все-таки надо. Идти и заняться ролью… Ты знаешь, я не ремесленник. К искусству отношусь серьезно.
– Так ведь у тебя роль с собой. Учи здесь… Поставят самовар, будем пить чай, а ты учи роль. И я буду роль учить. Помнишь, как в Казани, когда мы жили в «Европе».
– В другой раз с удовольствием, но сегодня надо дома, – стоял на своем Лагорский.
– У тебя есть ли самовар? – спросила Малкова.
– Ничего подобного. Копровская моя не такова. Она кипятит воду для чаю и кофею на бензинке. Разве она хозяйка? Разве она запаслива? У ней и десятой доли нет твоих милых качеств. Прощай.
Лагорский обнял и нежно поцеловал ее, уходя кивнул на венки, висевшие на стене и сказал:
– Как сохранились цветы и ленты. Их опять в бенефис подносить можно.
– Зачем же это? С какой стати? Что за фальсификация! Я никогда этого не делаю, – отвечала Малкова.
– Отчего же… Для коллекции, для комплекта… Ведь эти венки все равно тобой заслужены. У меня есть хороший серебряный портсигар с эмалью, и я всякий раз его себе подношу от публики. Для коллекции, для счета подношу.
Лагорский ушел. Она проводила его до лестницы, обвила его шею руками и шепнула:
– Приходи ночевать, Вася!.. Диван этот твой. Я нарочно обила его новым ситцем.
Когда он вышел на улицу, Малкова стояла на балконе и кивала ему, улыбаясь.
– Всего хорошего! Завтра на репетиции увидимся! – крикнул он и сделал жест рукой.
Сделав шагов сто по улице, Лагорский остановился. Он сообразил, что если он будет подходить к своему дому с улицы, то жена его, ожидая его на балконе дачи, может заметить, что он подходит к дому не со стороны театра, а с другой стороны, а он готовился рассказать ей в свое оправдание, что он не пришел к обеду, целую историю, как его задержали в театре.
«Пройду на заднюю улицу и оттуда проберусь к себе на дачу по задворкам», – решил он и юркнул во двор какой-то дачи. Там он нашел калитку, выбрался на другую улицу и уж оттуда проник в свое жилище.
Лагорский не ошибся. Жена его сидела на балконе, ждала его и даже в бинокль смотрела на дорогу, где он должен был показаться. Но он вошел в свою дачу с черного хода, прошел на балкон, подкрался к жене и, шутливо взяв ее за голову, зажал ей руками глаза.
Жена вскрикнула, высвободилась, ударила его по рукам и гневно сказала:
– Что за глупые мужицкие шутки! Где это ты шлялся? Где это ты пропадал? Я сижу голодная и жду тебя к обеду. Плита горит, суп перекипел и воняет уж салом, твоя корюшка, что ты заказал изжарить, высохла, как сухарь… Бесстыдник…
– Не сердись, Надюша… На репетиции долго задержали… – оправдывался Лагорский. – Сегодня первая репетиция. Режиссер этот, Феофан, хочет показать, что он что-то смыслит, поминутно останавливает актеров, требует повторения… Конечно, не премьеров и не меня он останавливал, но пьеса постановочная, много народных сцен. А труппа ужасна… Не актеры, а эфиопы какие-то набраны… Ступить не умеют!
– Но ведь не до семи же часов вас морили! – воскликнула Копровская, хмуря черные брови. – У нас в «Карфагене» репетиция тоже тянулась без конца, но в четвертом часу я уж была дома. Как хочешь, а я уж полчаса тому назад пообедала. Я не могу так долго ждать. У меня даже тошнота сделалась.
– И прекрасно сделала, Наденочек, потому что и я пообедал, – отвечал Лагорский.
Копровская сверкнула глазами.
– Пообедал? – гневно закричала она. – Ну так я и знала! А я здесь сижу голодная, жду, страдаю, жду милого муженька, а он, нажравшись, где-то прохлаждается.
Мерзавец! И отчего ты не прислал домой хоть плотника какого-нибудь из театра или портного сказать, что ты не будешь обедать? Еще корюшку себе заказал! Подлец!
– Наденочек… Прости… Обстоятельство такое вышло. Антрепренер пригласил… Мы пообедали в буфете, – оправдывался Лагорский. – То есть даже, строго говоря, и не обедали, а ели, потому что кухня еще не вполне готова. Супа не было. Раки… шнельклопс… ну, закуски… А я обожаю раков – ну и не мог себе отказать в этом удовольствии… Да и антрепренеру не мог отказать. Ведь с ним целый сезон надо жить, – врал он. – Уж ты, Наденок, не сердись.
Он подошел к жене, хотел ее обнять и поцеловать, но она ударила его по рукам и отвернулась от него, сев на стул.
– Какая ты грозная! Какой у тебя характер! Уж ничего и простить не можешь! – пробормотал Лагорский.
– Потому что я знаю, с кем ты был, с кем ты обедал в ресторане. Никакой тут антрепренер, никакие тут раки не играют роли… Все это пустяки… Я все знаю… Сегодня на репетиции в «Карфагене» мне посторонние люди открыли глаза. Тут женщина…
– Сплетни… Язык у людей без костей…
Лагорский сидел поодаль от жены, скручивал папиросу и радостно думал: «Ничего ты не знаешь, ежели говоришь, что я обедал в ресторане».
Он молча смотрел на жену и сравнивал ее с Малковой. Копровская была женщина лет тридцати пяти, брюнетка с роскошными волосами, в косе которых был воткнут в виде шпильки бронзовый кинжал. Лицо ее с широкими бровями и маленькими усиками, темневшими полоской над верхней губой, было красиво, но имело злое выражение. Она была среднего роста, имела полную фигуру с красивой развитой грудью, хотя и не дошла еще до ожирения. Одета Копровская была неряшливо, в когда-то дорогой шалевый с турецким рисунком капот, но ныне уже весь запятнанный, с отрепанным подолом юбки, а на ногах ее были старые туфли со стоптанными задками.
– Феня! – закричала Копровская кухарке. – Гасите плиту и съедайте все, что у вас есть приготовленного! Барин обедать не будет.
– Вели оставить жареной корюшки мне к вечеру, – заметил жене Лагорский.
– Приказывайте сами, я для вас распоряжаться больше не стану, – отвечала она.
Лагорский сам пошел в кухню. Проходя по комнате, он посмотрел на разбросанные по стульям принадлежности костюма Копровской, на валяющиеся около дивана ее полусапожки, на розовые шелковые чулки, висящие на спинке стула, на шерстяной платок, которым было завешено окно вместо шторы, сравнил жену с Малковой, аккуратность и любовь к порядку Малковой с привычками жены, вздохнул и подумал про жену: «И черт меня дернул опять сойтись с ней!»
Глава VI
Стоял конец апреля. Апрельские сумерки наступали нескоро. Только в десятом часу начало темнеть. Копровская зажгла две свечи в дорожных складных подсвечниках, поставила их перед дорожным зеркалом, помещающимся на простом некрашеном столе, наполовину застланном полотенцем с вышитыми концами, и, присев, стала учить роль перед зеркалом. Лагорский растянулся на продранном клеенчатом диване с валиками и тоже читал роль, подставив к дивану деревянную табуретку со свечкой.
Было холодно на даче, дача не имела печей, кухонная плита согревала комнаты плохо. Оба они кутались. Лагорский надел кожаную охотничью куртку на лисьих бедерках. Копровская была в драповой кофточке, с головой и шеей обернутыми пуховым платком. Она читала роль вслух, бормоча ее вполголоса. Он смотрел в тетрадь и читал про себя. Вдруг она увидела, что в комнате горят три свечки, и закричала:
– Зачем третью свечку зажег! Погаси.
– Как же я буду, душечка, учить роль? – отвечал он. – Ведь темно.
– Ну, зажги четвертую. Не желаю я при трех свечах сидеть в комнате.
– Да если нет четвертого подсвечника.
– Поставь свечку в бутылку! Феня тебе даст бутылку из-под сельтерской воды.
Лагорский крякнул и поднялся с дивана, который скрипнул под ним.
– Очень уж я не люблю такую цыганскую жизнь. И так уж мы живем как на бивуаках, – сказал он. – А тут еще свечка в бутылке. Ни лампы у нас нет, ни самовара…
– Покупай на свои деньги. А я не желаю обзаводиться хозяйством на четыре месяца. Да ведь здесь на севере скоро будет так светло, что и никакого огня не потребуется, – отвечала она.
– А осенью? А в июле и в августе? Теперь у меня денег нет, а как получу жалованье, куплю и лампу, и самовар.
– Ты знай, что я сына возьму из училища на каникулы после экзаменов. На него деньги потребуются. Ему и блузочку сшить надо, и рубашонок, и сапоги…
– И на сына хватит. И наконец, не забывай, что этот сын как мой, так и твой…
– О, я не забываю! Если бы я-то его забыла, то ему пришлось бы быть уличным мальчишкой и ходить с рукой… – выговорила Копровская и спросила: – Ты сколько на него прислал мне в прошлом и в позапрошлом году? Ну-ка, посчитай. Сколько ты ему прислал за те четыре года, которые мы жили, разъехавшись?
– Посылал столько, сколько нужно было платить за его содержание и учение в училище, – сказал Лагорский.
– Врешь. Ты даже и на это полностью не присылал. А два года он пробыл при мне. Его и перевозить нужно было с места на место, и кормить, и одевать, и приготовить для поступления в училище.
– Триста или двести пятьдесят рублей в год ты на него всегда от меня имела. Только раз я был не аккуратен, когда летом в Ставрополе в товариществе служил.
– Так разве он мне триста рублей в год стоит? Наконец, ты забываешь, что у нас есть маленькая дочка.
– Дочь у бабушки. Ей хорошо.
– Однако бабушка-то эта с моей стороны, а не с твоей. Моя мать, а не твоя. Много ли ты на дочь посылал?
– Посылал кое-что на лакомство и наряды, а не посылал больше, потому что Анюточке там и так хорошо. Твоя мать получает пенсию, какую ни на есть. У ней есть домишко в Калязине.
– Бездоходная избушка на курьих ножках, а ты говоришь «дом».
– Однако, все-таки, она в нем сама живет.
– Ну, все равно. А я на Анютку уж каждый месяц не менее десяти рублей посылаю.
– И я посылал ей из Нижнего, когда играл на ярмарке, шелковое одеяло и туфельки. Канаусу послал.
– Ну да что об этом говорить! – перебила она его. – Ты отец-то знаешь какой? Тебя как отца-то черту подарить, да и то незнакомому, чтоб назад не принес. Да… Нечего морщиться-то! Да и то сказать, где же тебе быть хорошим отцом для своих законных детей, если у тебя в каждом городе, куда ты приедешь, заводится новая семья. Ведь и на тех детей надо что-нибудь давать. Ведь и те матери что-нибудь требуют на детей. И им дать надо. Ты петух какой-то… Прямо петушишка.
Копровская ворчала, а Лагорский пыжился и молчал. Он чувствовал некоторую справедливость в ее словах, но в то же время думал про себя: «И на кой черт я опять сошелся с ней?»
Горничная Феня, молоденькая, курносенькая девушка, с заспанными уже глазами, принесла ему свечку, поставленную в бутылку. Он зажег свечку, поставил ее на табуретку и лег опять на диван, продолжая читать роль.
В комнате было как бы шмелиное жужжание. Копровская читала вслух, вполголоса, по временам взглядывала в зеркало и играла лицом. Дабы заглушить ее говор, Лагорский сам стал бормотать. Так длилось с четверть часа.
Наконец он проговорил:
– Хорошо бы чаю напиться теперь.
– Ох, опять зажигать бензинку! – вздохнула Копровская. – Мне чаю не хочется. А ты пей сельтерскую воду.
– В такую-то холодину? Да что ты? А бензинку может и Феня зажечь и согреть на ней воду.
– Надо же и девушке дать покой. Она спать хочет. Скоро десять часов.
Но Лагорский уж закричал горничной:
– Феня! Зажгите, пожалуйста, бензинку, скипятите воду и заварите чай! Мне пить хочется. Надо за булками послать, – сказал он жене. – У нас сливочного масла нет?
– Откуда же оно возьмется! Что было сегодня утром, мы съели, – отвечала Копровская.
– Надо и за маслом послать. Да кусок колбасы или ветчины купить, что ли?
– Для тебя есть там корюшка жареная. Хлеб черный есть.
– Этого мало. У меня аппетит зверский.
– Ну так и иди сам в булочную и колбасную. А Фене некогда. Она должна за бензинкой смотреть и воду кипятить. Да и наработалась уж она сегодня.
– Да я раздевшись и в туфлях.
– Оденешь сапоги-то, что за барство такое! И боже мой, как ты обленился! – ворчала Копровская.
Лагорский начал надевать сапоги, надев их, напялил на себя пальто и, покрыв голову шляпой, отправился за покупками. Минут через десять он вернулся со свертками с едой и с букетом ландышей и поднес его Копровской.
– Сейчас на улице у мальчика купил, – сказал он. Копровская улыбнулась, взявши букетик, и проговорила:
– Как это ты надумался сделать жене приятное? На тебя не похоже. Ведь это первый подарок от тебя после того, как мы сошлись вновь.
– А чечунчи-то я тебе пять аршин на кофточку презентовал, которая у меня от Нижнего Новгорода осталась?
– Так ведь то Васютке на костюм пойдет, когда он приедет к нам на каникулы.
Лагорский развертывал из бумаги колбасу, булки и кусочек сливочного масла.
– У нас есть тарелки? Дай тарелочки, чтоб разложить все это, – говорил он.
– Зачем? Потом мыть надо тарелки. Пускай так на бумаге лежит все, – отвечала она.
– Ах, как не нравится мне эта бивуачная, лагерная жизнь! – вздохнул он.
– Ну так найми себе лакея. А ножик для колбасы и для масла есть. Вот возьми…
Она подала ему складной ножик.
Вошла Феня, внесла два чайника с кипятком и заваренным чаем и три тарелки.
– И тарелочки принесла, милая? Молодец, девица! Приучайся всегда к порядку, – сказал, улыбаясь ей, Лагорский и потрепал ее по плечу и по спине.
Копровская сверкнула глазами, но ничего не сказала.
Лагорский начал есть. Он ел с большим аппетитом. Подсела к столу и Копровская и тоже пила чай и ела колбасу на булке с маслом. Через минуту она тихо сказала:
– Ты ужасный петушишка, Василий. Ведь вот я и за мою Феню боюсь. Ты думаешь, что я не вижу, какими плотоядными глазами ты на нее смотришь? А она девчонка молоденькая, глупая. Нельзя при тебе молодых горничных держать.
Лагорский только покачал головой и проговорил:
– Ах, ревнивица! Знаешь, ведь уж это ужас что такое! С тех пор как мы во второй раз сошлись, ты стала вдвое ревнивее.
Глава VII
Наступал май. Приближалось открытие спектаклей в обоих садовых театрах, как в театре сада «Сан-Суси», где служили в труппе Лагорский с Малковой, так и в театре сада «Карфаген», где имела ангажемент Копровская. Спектакли в «Карфагене» должны были начаться 1 мая старой трехактной легкой переводной комедией.
В театре «Сан-Суси» открытие спектаклей было назначено днем позднее. Ставили «Каширскую старину» с Малковой в роли Марьицы и с Лагорским в роли Василья. Новинки в обоих театрах были объявлены в афишах, но их приберегали к следующим спектаклям. Репетиции шли в театрах усиленно: утром и вечером.
На репетициях «Каширской старины» Лагорский все брюзжал и говорил всем:
– Чувствую, что не подхожу я теперь к роли Василья. Тяжеловат я для молодого парня, и мои годы ушли, но взялся для того только, чтобы наш любовник Черкесов эту роль не погубил.
– Чеченцев, Василий Севастьяныч, а не Черкесов… – подсказал ему Тальников.
– Э, все равно! Один черт! Так вот взял из-за того, чтобы он роль не погубил. Не играй я – ему бы Василий достался. А каково бы Марьице-то, Малковой-то, было играть с этим Лезгинцевым! Ведь у ней все лучшие места с ним.
На предпоследней репетиции Малкова, как только пришла в театр, сейчас же печально сказала Лагорскому:
– А я к своему завтрашнему дебюту с сюрпризом.
– Что такое? – спросил Лагорский, видя ее встревоженное лицо.
– Муж приехал.
– Ну-у-у? Зачем? Что это ему понадобилось?
Она слезливо заморгала красивыми глазами и отвечала:
– Лишней срывки. Лишней мзды захотел. У меня конец срока паспорту. Ведь он всегда мне только на один год отдельный вид на жительство высылает. Обыкновенно бывало так: я посылаю ему сто рублей на табак, на выпивку, а он шлет мне паспорт. И так длится уже несколько лет. Но нынче он из письма моего узнал, что я играю в Петербурге, стало быть, петербургская актриса и, по его понятиям, значит, дороже стала, ну и захотел за паспорт больше. Живет он в Новгородской губернии, приехать сюда в Петербург стоит недорого, несколько часов езды – вот он и приехал. Вчера под вечер вдруг является ко мне. Я испугалась, задрожала, со мной чуть дурно не сделалось. Я, Вася, хотела уж Грушу за тобой посылать, но он недолго просидел и не особенно дерзничал. Это ужас что такое! – пожала Малкова плечами. – Сколько лет я от него освободиться не могу? Развод… Хлопотать о разводе? Но ведь это бог знает сколько денег стоит. Капитал… А я всегда бедна как церковная мышь… И вот я всю ночь не спала. Сегодня вся дрожу… Каково завтра играть ответственную роль!
Лагорский оттопырил нижнюю губу и, покачав головой, спросил:
– Сколько же он хочет за паспорт?
– Ужас сколько! Триста рублей просит. «Петербург, – говорит, – даст тебе больше, чем провинция, должна ты и со мной соответственно делиться».
– Да, это куш. Это много.
– Еще бы… сто рублей я ему скопила и послала. А теперь еще двести подавай, – чуть не плача говорила Малкова. – И сто-то рублей с каким трудом и скопила! Зимой мы играли на марки в товариществе, и я многого недополучила. Ах, это ужасно! Ну откуда я возьму? Ты, Василий, сегодня вечером свободен. Съезди к нему и поторгуйся. Он остановился где-то в Гончарной, в номерах… Съездишь?
– Как же я могу сегодня съездить, если сегодня вечером у жены первый спектакль! – воскликнул Лагорский.
– Опять жена? Но ведь это же, наконец, несносно, – раздраженно проговорила Малкова. – Сам же ты уверяешь, что у тебя к жене только квартирные отношения, а теперь и первый спектакль, и все такое!.. Не будешь ли ты еще ей подносить букет?
– Зачем букет? С какой стати? Но если и по-товарищески, то должен же я посмотреть, как ее примут, какой она будет иметь успех у здешней публики.
– Брось. Что тебе до ее успеха, если вы окончательно разошлись! И наконец, с женой твоей ничего не случится неприятного, если ты ее не посмотришь в первый спектакль. А я… Ну что же буду делать, если муж заупрямится и не выдаст мне паспорта! Поезжай, Василий, – упрашивала Лагорского Малкова.
– Сегодня не могу. Решительно не могу. С женой мы разошлись не ссорясь, и она все-таки мне товарищ. А ты знаешь, я всегда за товарищество.
– Василий! Во имя наших отношений. Во имя наших детей… Съезди к нему сегодня… Мне хочется, чтоб уж сегодня покончить. Поторгуйся с ним и покончи. Мне хочется, чтобы уж во время завтрашнего спектакля мне быть спокойной и играть без тревоги. Потешь меня, Василий…
Малкова взяла Лагорского за обе руки.
– Дурочка моя, неудобно… – ласково проговорил Лагорский. – Я завтра съезжу.
– Как ты можешь съездить завтра, если завтра утром у нас репетиция, а вечером спектакль.
– Между репетицией и спектаклем съезжу. Ведь это же не в Китай, а в Гончарную съездить. Я знаю, где эта Гончарная. Съезжу и переговорю с ним. А ты не тревожься. Конечно же, муж твой заломил и уступит. Съезжу завтра. Что мне такое наш спектакль? Пьеса «Каширская старина» – старая пьеса, десятки раз игранная.
– Ах, Василий! – вздохнула Малкова. – Мне твоя жена не дает покоя. Все о жене… Жена у тебя поминутно на языке… Жена твоя… паспорт… мой муж… Ну как тут играть, если дух неспокоен!
– Съезжу, съезжу завтра. А сегодня вечером мы с тобой увидимся в спектакле в «Карфагене», переговорим и выработаем план действий против твоего мужа. Я забыл… Что он такое у тебя? Какое его звание? Как ты по паспорту?..
– Жена отставного подпоручика.
– Ну, чин не особенно важный. Что, он служит теперь где-нибудь? – расспрашивал Лагорский.
– Вчера он мне сказал, что он теперь волостным писарем, но переходит письмоводителем к земскому начальнику. Ах, всем он был, но нигде не уживается! Служил и на железной дороге, служил и при элеваторе каком-то, был управляющим в имении. Он и в Петербурге кем-то служил…
– Рюмочка губит? – спросил Лагорский.
– Ах, все тут! – отвечала Малкова. – Просто беспутный, никуда не годный человек. Так съездишь завтра к нему, Василий? – спросила она его.
– Съезжу. Даю слово…
Они пожали друг другу руки. Малкова посмотрела по сторонам и, видя, что около них в колоннах никого нет, приблизилась к его лицу и чмокнула в щеку.
Глава VIII
Лагорский хоть и дал слово Малковой поехать к ее мужу торговаться насчет ее паспорта, но ехать ему очень не хотелось. Обещание это камнем легло на него.
«И жена со своими капризами… Ей делай то и это… Для нее хлопочи… А тут еще Малкова с паспортом… – рассуждал он. – Малкова, по всем вероятиям, думает, что я своих денег прибавлю к ее ста рублям за паспорт. А откуда я их возьму, если у меня три пятирублевых золотых с мелочью в кармане? А жена так совсем без гроша. Сегодня дал ей десять рублей на расходы по дому. Ведь это не в гостинице, где ешь, ешь, а потом заплатишь. Здесь за булку, за кусок мяса, за рыбу сейчас деньги на бочку. Говорил я ей о самоваре и лампе, а теперь она требует, чтобы я самовар и лампу купил. И дернула меня нелегкая за язык! Да… Сегодня перед спектаклем придется еще портнихе платить! – вспоминал он. – Жена отдала портнихе два платья расставлять. Растолстела она, как корова, стала примерять платья, и корсажи не сходятся. А сколько я ворчанья-то вынес, что она растолстела! Как будто я виноват в этом».
Лагорский махнул рукой.
Репетировать он начал в самом мрачном настроении духа. Паспорт Малковой сидел у него, как гвоздь, в голове.
«А что, не послать ли нам Мишку Курицына сына торговаться насчет паспорта-то? – мелькнула у него мысль. – Он сторгуется с мужем, муж приготовит паспорт, а потом заплатим мужу…»
Во время перерыва репетиции он сказал об этом Малковой.
– Какой такой Мишка Курицын сын? – воскликнула Малкова и вся вспыхнула.
– Да Перовский… Тальников… простак… который играет Савушку… Тот самый, который к нам в Казани каждое утро ординарцем бегал.
– Да ты совсем с ума сошел! Зачем же я буду в свои семейные дела чужого человека путать! С какой стати выдавать свои секреты? Ведь этого же никто в труппе не знает, что я каждый год от мужа откупаюсь. Никто даже не знает, замужем я или девица. А твой Курицын сын все и разгласит.
– С какой стати? Он преданный нам человек. Помнишь в Казани?.. Ему можно поручить под секретом.
– Преданный, но пьющий… А у пьяного язык всегда с дыркой. Он даже хвастаться этим будет под пьяную руку. Нет, Василий, ты обещал, и ты должен мне это устроить. Я вся твоя, я тебе беззаветно отдаюсь, и ты должен иметь обо мне хоть это-то попечение. Завтра ты сам съездишь.
Лагорский поскоблил пальцем за ухом и отвечал:
– Хорошо. Но предупреждаю тебя, Веруша, что если ты рассчитываешь и на денежную помощь с моей стороны, то есть что я прибавлю к твоим ста рублям от себя, то денег у меня теперь нет.
– Да, я хотела тебя об этом попросить, Вася, помоги мне. У меня тоже денег нет. Эти заветные сто рублей были приготовлены, но других денег нет. Ты спроси денег в конторе и уж уплати мужу, что он будет требовать лишнее. Теперь в конторе дают вперед.
– Да уж взято… Я взял…
– Ах, как же это так?.. Ну, заложи что-нибудь… Мне заложить нечего, кроме гардероба… А гардероб, сам знаешь, нужен… Ведь начнутся салонные пьесы. А в конторе у меня взято.
– Хорошо. Я достану немного денег… Но немного… Не больше пятидесяти рублей… Эти деньги, может быть, мне и в конторе дадут… Но возьми и ты в конторе. Я отдам тебе потом в разгаре сезона, когда управлюсь со своими делами, а теперь, Веруша, не могу.
– Заложи булавку с жемчужиной. Под нее тебе в Казани пятьдесят рублей давали.
И Малкова ткнула Лагорского в красный галстук, в который была воткнута булавка с крупной жемчужиной.
– Кроме того, ты мне рассказывал, что у тебя тот серебряный портсигар цел, который тебе в Казани поднесли.
– Ценные вещи дают, друг мой, актеру некоторый апломб, так сказать, придают ему вес, – сказал ей Лагорский. – Но делать нечего, заложу что-нибудь. Знай, однако, что больше пятидесяти рублей я не могу, решительно не могу.
В конце репетиции зашла за Лагорским в театр жена его Копровская, села и из-за кулис стала смотреть, как он кончает горячую сцену пятого акта. Он увидал ее и вздрогнул, спал с тона и стал вести сцену вполголоса.
«И чего это ее принесло! – подумал он. – Вдруг Малкова попросит меня знакомить ее с женой?»
Но Малкова не заметила его жены и, кончив пьесу, пошла в уборную примерять костюмы, где ее ждала костюмерша. Лагорский тоже сделал вид, что не замечает жену и направился в мужскую уборную, но жена догнала его.
– Я к тебе… Я за тобой по дороге зашла. Пойдем домой. У нас уж давно репетиция кончилась, но я все с портнихой возилась. Ужасная история! Представь себе: портниха отказывается расставить корсаж голубого платья с кружевами, говорят, что запасов нет, и я должна буду играть в желтом, а оно совсем отрепано. Ведь это ужас что такое! И для первого-то выхода.
– Полно, Наденочек, по-моему, оно очень и очень еще недурное платье, – утешал жену Лагорский.
– Молчи. Что ты понимаешь! Ничего ты не понимаешь! – закричала она. – Да и не хочешь ничего понимать, что до жены касается! Вот если бы что касалось Малковой…
– Пошла… поехала! – махнул рукой Лагорский. – Ах уж мне эти сцены ревности! И хоть бы мы были особенно нежные супруги… то есть я-то с тобой и ласков, и приветлив, а ты только фыркаешь, упрекаешь и ругаешься.
– Да как же к тебе иначе-то относиться, если ты этого не заслуживаешь! Ласков, приветлив… А оказывается, прошлый раз обедать-то ты к Малковой убежал, а вовсе не в ресторане обедал. А я тебя ждала и сидела голодная. Мне, брат, все рассказали, какой ты петушишка. Я имею все сведения. Ну что ж, устроил ты то, что я просила? – задала она вопрос.
– А что такое? – спросил он.
– Забыл! Забыл о том, о чем я просила! Забыл, от чего зависит судьба и успех твоей жены?! – закричала она. – Ну, супруг! Вот если бы Малкова тебя попросила, то я уверена, что ты распялся бы за нее. Да еще распнешься. Увижу я… Ведь выход-то ее первый на сцену завтра.
– Да что такое? Только не кричи, пожалуйста, не делай скандала… – остановил ее Лагорский.
– Я просила тебя похлопотать насчет моего приема сегодня вечером… Просила похлопотать… устроить… посадить в театр кого-нибудь из знакомых тебе… Ведь меня здесь не знают… А нельзя же без хлопка уйти.
– Ах, это-то? Похлопать? Это я все сделал… Будь, Наденочек, покойна… – соврал Лагорский, замявшись. – Будут наши, и я просил их.
– Да кого? Кого ты просил-то? – допытывалась Копровская.
– Все наши будут… Все собираются. Они поддержат тебя. Тальников… Это верный человек… Он мне преданный. Маркин такой есть… Он будет. Наконец, я сам… Музыкант один есть из Казани. Он…
Копровская протянула ему несколько билетов.
– Напрасно покупала. И так впустят. Да я сказал и портным. Они похлопают. Аплодисменты будут. С треском… – проговорил Лагорский.
– Ты дай им на пиво, Вася… Пусть постараются. Ведь только бы начать, а там и публика поддержит.
У меня роль выигрышная… Уходы хорошие… Всегда важны первые хлопки.
– Будет исполнено. О чем ты беспокоишься!
Копровская успокоилась.
– Ну, пойдем… – сказала она. – Надеюсь, что уж сегодня-то домой обедать? Не пойдешь к своей Малковой.
– Да что ты, Веруша!.. Брось…
– Вот уж ты даже ее именем меня называешь. А еще смеешь оправдываться. Нет, так нельзя…
Лагорский совсем запутался. Он покраснел.
– Прости, Надюша… Смешал… – сказал он. – Ведь целую пьесу сейчас с ней вел. Пьесу в пять актов.
– Молчи. Не оправдывайся. Ведь не Верушей же ты ее называл по пьесе.
Лагорский виновато следовал за женой и бормотал:
– А насчет поддержки не беспокойся. Поддержка будет… Тальников… портные… наши музыканты… Я сам… Да и вообще всех наших попрошу…
Глава IX
Спектакль в театре сада «Карфаген» был назначен в восемь с половиною часов вечера, а перед спектаклем в шесть часов служили в ресторанном зале молебен для открытия летнего сезона. На молебствие были приглашены все артисты театра, а равно и персонал садовых увеселений, но явились очень немногие. Иные считали время между репетицией и спектаклем для себя неудобным и предпочитали, пообедав, отдохнуть – это были главным образом женщины, – а иные, большею частью мужчины, не пришли потому, что узнали, что после молебна никакой закуски не будет. На молебне, впрочем, стояли вся садовая и ресторанная администрация, официанты, билетеры, режиссер – маленький юркий человечек, суфлер – худой и длинный чахоточного вида человек, два черноусых акробата – очень красивые статные итальянцы, испанка-танцовщица с необычайно громадной косой, свернутой в тюрбан, кое-кто из русских артистов на маленькие роли и три приехавших газетных рецензента. Во главе всех стоял антрепренер купец Анемподист Аверьянович Артаев – пожилой, небольшого роста человек с бородкой с проседью. Он был почему-то в мундире, присвоенном членам одного благотворительного общества, при шпаге, с треуголкой в руке и с ушами, заткнутыми морским канатом. Газетные рецензенты, приехав на молебен, также были удивлены, что после молебна не будет обеда и даже закуски, но антрепренер Артаев успокоил их, говоря:
– Мы ужин после спектакля делаем-с. Ужин-с… На ужин милости просим. А обед или даже закуску нельзя… Совсем нельзя… Я уже думал об этом, но нельзя. Судите сами: ежели артист урежет муху, то каков он будет в спектакле! А после спектакля – самое хорошее дело.
Рецензенты согласились с его доводами и после молебна отправились обедать в буфет сада, причем Артаев напутствовал их словами:
– А для представителей печати у нас положение – пятьдесят процентов скидки, кто за свой счет потребляет. Не обижайте только нас в газетах.
После семи часов на сцену начали собираться артисты театра и направлялись в уборные. Копровская жаловалась, что не достала извозчика.
– Вообразите, более полуверсты пришлось от дома пешком тащиться! А все Лагорский… Был извозчик, но Лагорский вздумал с ним торговаться, а он хлестнул лошадь и уехал. А я с гардеробом… Еще хорошо, что дворник помог и дотащил картонку, а то горничная прямо упала бы от изнеможения. У ней, кроме того, картонка с шляпкой, зонтик в чехле и ящик с гримировкой. Да не толкись ты тут попусту! – крикнула она на мужа, начавшего скручивать для себя папироску.
– Друг мой, да ведь сама же ты просила тебя проводить в уборную. У меня в кармане твои складные подсвечники и свечи. Возьми их, – сказал Лагорский.
– Передай Фене. Леденцы захватил, которые я принимаю, чтоб горло не сохло?
– Вот коробочка. Я кладу на стол. Могу теперь уходить?
– Постой. Погоди. Ты куда?
– Да ведь ты гонишь.
– Я не гоню, но терпеть не могу, когда ты без дела слоняешься, рассядешься и сейчас начинаешь свертывать для себя соску. Ну, иди да хлопочи насчет чего я тебя просила. А портных Тальникову своему поручи. Да и сам наблюдай. А то ведь они могут не вовремя начать аплодировать и дело испортят. Услужливый дурак опаснее врага. А ты пьесу знаешь.
– Да и Тальников знает. Она у нас шла в Казани.
– Нет, ты все-таки сам наблюдай. Да, пожалуйста, Василий, зря не толкайся в буфете.
– Позволь. Ты ведь просила меня постараться познакомиться с рецензентами, прислушаться и узнать, что о тебе говорят.
– Да, да… Но я говорю вообще… И бога ради не прозевай моих выходов… Наблюдай… А мне потом скажешь, что у меня не эффектно. Ведь пьеса не один раз пойдет. Ну, иди и хлопочи… А после первого акта зайди ко мне.
– Бог мой! Да ведь должен я в антрактах с рецензентами-то! – воскликнул вышедший из терпения Лагорский.
– Да, да… Но, все-таки, ты можешь поделить время. Послушаешь, что в буфете рецензенты будут говорить, и потом сюда… – поправилась Копровская и стала раздеваться, расстегивая корсаж.
Лагорский вышел из уборной, стал проходить сзади поставленного уже павильона, проталкиваясь среди плотников, бутафоров и разной театральной прислуги, как вдруг услышал женский голос:
– Лагорский! Постойте! Даже и в американских землях, когда проходят мимо знакомых женщин, то останавливаются и здороваются.
Он остановился, посмотрел по сторонам. Из-за декорации, «пришитой» к полу и изображавшей куст, вышла маленькая кругленькая женщина с вздернутым кверху носиком, очень миловидная, в кофточке из драпа, имитирующего мерлушковый мех, и в громадной не по росту шляпке с перьями и цветами.
– Здравствуйте, Василий Севастьяныч, – сказала она, протягивая руку в бледно-желтой перчатке.
– Ах, Настенька!.. Настасья Ильинишна. Вас ли я вижу! – проговорил Лагорский и пожал ее руку.
Это была та самая Настина, когда-то горничная актрисы Милковой-Карской, которую Лагорский, сманив с места, превратил в маленькую актриску и жил с нею около года.
– Какой ты гордый… Проходите мимо и не кланяетесь, – продолжала Настина. – А ведь, кажется…
– Не видал, голубушка, а то неужели бы я!.. – оправдывался Лагорский.
– А я здесь служу. Недавно узнала, что и вы рядом с нами в театре «Сан-Суси» служите. Все хотела повидаться с вами, сходить к вам на репетицию, но как-то не удавалось…
– Служу, служу… Ну, увидимся потом…
Лагорский протянул Настиной руку и хотел уходить.
– Постойте… – остановила она его. – Я ведь очень рада, что увидалась с вами. Целую зиму не видела… весь зимний сезон. И ни одного письма, а обещал. Ведь если я не писала, то мужчина должен первый… Да и как я пишу! Словно слон брюхом… А я все ждала… Вот, думаю, Василий напишет! И не стыдно?..
Лагорский молчал, переминался с ноги на ногу и хмурился. Настина взяла его за рукав.
– Василий Севастьяныч, да что вы такой! Или вам неприятно, что я вас остановила! – вскричала она.
– Что ты, Настенька… – отвечал он в замешательстве и, обернувшись, взглянул по направлению к уборной жены. – Отчего же не рад? Даже очень рад, – прибавил он.
– Ну то-то. Ведь жили душа в душу. Более года жили, – не отставала от него Настина. – Ну-с, познакомилась я с вашей женой Копровской, так как мы вместе служим. Знаете, ведь никогда я не воображала, что жена ваша Копровская. Я ведь все думала, что жена ваша Малкова, настоящая законная жена. Ведь у вас от Малковой были дети.
– Да, были. Они посейчас живы… – пробормотал Лагорский.
– А Копровская лучше Малковой, право, лучше… – бормотала Настина. – Вы, стало быть, опять сошлись с Копровской? Я слышала, что сошлись. Но ведь вы ветрены, милый друг. Сегодня Копровская, завтра Малкова, потом Настина, а еще потом какая-нибудь Иванова. Правда ведь? – задала она вопрос, понизила голос и проговорила: – А что ж ты, Василий, не спросишь о нашем ребеночке?
Голос ее дрогнул.
– А что он? Где он? Здоров? – спросил Лагорский.
– Умер, Вася, умер… – слезливо отвечала Настина, вынула носовой платок и стала прикладывать к глазам. – В декабре прошлого года умер. И как, говорят, страдал! Я хотела тебе писать, но тут начали ставить у нас «Феодора Иоанновича», начались репетиции, репетиций много… Да и как я пишу? Я совсем не умею писать. Я как лягушка… А то еще хуже…
– Ну, до свидания. Увидимся, – прервал ее Лагорский.
– Да, да… Конечно… Очень рада. К себе пока не зову. Я в городе, в гостинице, но несносно ездить сюда, далеко… – говорила Настина. – Переберусь сюда. Поближе к театру. Нет ли где здесь отдающейся комнаты со столом?
– Не слыхал я…
– Завтра буду искать. Непременно надо переехать сюда. И вот как перееду сюда – милости просим ко мне… Торопишься? – задала она вопрос. – Ну, ступай.
– В буфете ждут, – отвечал Лагорский и побежал через сцену.
Глава X
Лагорский бродил по ресторану, по веранде, пристроенной к ресторанным залам, смотрел на съезжавшуюся в сад и театр публику, отыскивая глазами Тальникова, чтобы попросить его поддержать жену аплодисментами, но Тальникова не было. Лагорский хоть и уверял жену, что сговорился уже насчет ее поддержки с Тальниковым и другими лицами, но врал. До сих пор он ни к кому еще не обращался по этому предмету, а потому был в страшном затруднении. Он вышел в сад, искал его в саду, но и в саду его не было. Но вот Лагорскому попался актер Колотухин, служивший с ним вместе в труппе театра «Сан-Суси». Это был пожилой человек, полный, с седой щетиной на голове и мешками под глазами – комик и резонер. Он важно прохаживался по саду с сигарой.
– Не видали ли вы тут, Алексей Михайлыч, Тальникова? – обратился к нему Лагорский. – Я Тальникова ищу.
– Рыбу удит, – флегматично отвечал Колотухин.
– Как рыбу? Где?
– На реке. Трое их давеча с удочками отправились на реку. Он, Подчищаев и еще кто-то. Заходили ко мне на дачу в садишко червей искать… Но какие у меня черви! «Вы, – я говорю, – в навозной яме ищите, а то под камнями».
Лагорский рассердился.
«Нашел время рыбу удить! Будто бы другого-то времени не было, – досадливо подумал он. – Да и нужного человека сманил. Ведь этот Подчищаев также мог бы пригодиться для аплодисментов. Черт!»
– У меня, Алексей Михайлыч, сегодня жена в первый раз играет, – сказал он Колотухину.
– Копровская? Знаю. Хотя недавно узнал, что она ваша жена, – отвечал Колотухин.
– Так вот, если будете в театре, то поддержите ее, пожалуйста. По-товарищески прошу.
– Гм… А ловко ли это будет? Ведь тут сегодня наш султан и повелитель Чертищев (так звали содержателя театра и сада «Сан-Суси»). Я видел его сейчас.
– Что ж такое Чертищеву-то? – спросил Лагорский.
– Как что? Батенька! Ведь он и Артаев – это, в некотором роде, гвельфы и гвибеллины. Два театра рядом… И оба перебивают друг у друга публику. Война Алой и Белой роз также, если хотите.
– Полноте, Алексей Михайлыч. Я по-товарищески прошу.
– Мстить будет.
– Ну, как хотите. Откровенно говоря, я вас считал выше всего этого.
– Да я и то выше… А я слышал так, что сегодня сюда… Чертищев, то есть… Я так слышал, что он от себя более десятка разных свистунов и шикальщиков подсадил. Портные наши будут, бутафоры, билетеры. И приказано им шикать.
– Да что вы! – проговорил Лагорский и упал духом, ибо чувствовал, что попытка его создать клаку жене удасться не может.
– Так слышал. Я в пивной слышал. Давеча слышал. И за что купил, за то и продаю, – проговорил Колотухин. – Впрочем, я-то, может быть, и похлопаю вашей жене, если Чертищев в это время на меня смотреть не станет. Он промышленник, а она все-таки актриса, товарищ.
– Благодарю вас за обещание.
Лагорский отошел от Колотухина.
«Ну, не стоит и подговаривать на аплодисменты, если это так… Уж если портные наши и бутафоры подговорены, то кого же я-то подговаривать буду!» – подумал он и натолкнулся на Малкову.
Нарядно и очень к лицу одетая, в какой-то особенной шляпке, в которой Лагорский ее еще не видал, она шла под руку с любовником Чеченцевым.
– Ну вот и отлично. Мой кавалер нашелся. Больше я не хочу вас затруднять. Он сейчас сменит вас, – сказала она Чеченцеву, высвободила свою руку от него и взяла под руку Лагорского. – Все по жениным поручениям хлопочешь? – тихо спросила она его.
– Хлопотать-то, оказывается, невозможно, – отвечал Лагорский. – Представь себе, Веруша, что я сейчас узнал от нашего Колотухина! Здесь сегодня подсадка в театре будет… подсадка от нашего Чертищева… и наши портные, и вся прислуга шикать будут здешним актерам.
– Ну-у-у? – протянула Малкова. – Стало быть, и здешняя челядь завтра будет шикать нам в нашем «Сан-Суси»?
– Да уж само собой в отместку, если Артаева спектакль ошикают. Не миновать и нам.
– Василий! Ведь надо меры принимать. Так, спустя рукава, нельзя…
Малкова совсем встревожилась. Лагорский сказал:
– Какие же можем принять меры? Тут нет мер. Вот посмотрим, что здесь будет. Ах, бедная жена! Мне ее жалко как товарища!
– Хоть при мне-то оставь. Ну что ж все жена да жена! Я, Василий, тебе скандалы делать буду!
– Да ведь я по человечеству… Как актрису мне ее жалко. За что ошикают?
– Ну и называй ее Копровская, а не жена. А то жена, жена… Я твоя жена… фактическая жена. И странное дело: ее жалеешь, а меня не жалеешь. Ведь точно так же завтра и на меня ополчатся, и, может быть, даже сильнее.
– Не думаю. Ведь сегодня в распоряжении Чертищева весь служебный персонал сада и театра. У нас в «Сан-Суси» спектакля нет. А ведь завтра-то у Артаева в «Карфагене» такой же спектакль будет, как и у нас, так откуда он людей-то преданных возьмет, чтобы нам шикать? Ну, пошикает кто-нибудь, а наши ресторанные заглушат хлопками.
– Ах, дай-то бог, – проговорила Малкова. – Можешь ты думать, Василий, я уже теперь вся дрожу.
– Полно. Успокойся. Надо будет просить нашего Чертищева, чтобы он завтра во время спектакля отрядил официантов, что ли, чтобы они нас защищали, – сказал Лагорский.
– Похлопочи, Василий.
– Да и тебе, Веруша, следует похлопотать. Обратись завтра и ты к нему с просьбой. Ведь это шкурный вопрос…
– Всенепременно же… Но как это неприятно! Боже мой, как это неприятно, когда два театра враждуют! Я раз попала в такое положение в Харькове. Так, можешь ты думать, никто никакого успеха… Наконец кончилось тем, что сборы начали падать.
Лагорский и Малкова шли под руку по площадке сада среди публики.
– А где мы сядем в театре? Ты схлопотал что-нибудь? – спросила она. – У тебя ложа, что ли?
– Ничего еще не схлопотал. Где же схлопотать-то!
– Как же это так… Жена играет, а у тебя даже и места нет, где сесть.
– Свободные билеты обыкновенно выдают после начала первого акта, – сказал Лагорский.
– Но ведь можно загнуть билет в кассе, а продадут его и явится публика – можно пересесть на другое место. Твоя жена выходит в начале первого акта, и мне хочется видеть ее выход. Актриса-то она, говорят, с изъянцем, но все равно я хочу ее посмотреть. Поди к ней и попроси, чтоб она потребовала в кассе для нас ложу загнуть. Она здесь все-таки премьерша и может потребовать.
Лагорский мялся. Ему не хотелось, чтобы его жена со сцены увидала его в ложе с Малковой. Да и не станет она выпрашивать для него ложу. Она сейчас скажет: «Для кого тебе ложу, если ты один».
– Но если нет лож, если ложи все проданы? – сказал он.
– Какой вздор! Наверное есть. Ну да все равно: если нет лож, иди и проси два кресла.
– Хорошо, хорошо. Но я немножко повременю. Я ищу Тальникова.
– Тальников на реке рыбу удит. Я видела его. Сидит с удочкой. Иди, Василий, и проси, чтобы два кресла загнули. А я вот тут на скамейке подожду тебя.
И Малкова высвободила из-под руки Лагорского свою руку.
Лагорский зашагал к театру.
– Да не засиживайся там около своей жены! – крикнула она ему вслед.
Глава XI
Лагорский побывал у жены в уборной и, войдя, залюбовался на нее – до того она была красива, стройна и эффектна, приготовившись к выходу на сцену. Она была совсем уже одета, и горничная Феня, присев на корточки, пришпиливала ей что-то на юбке. Лагорский уже около пяти лет не видал ее такою. Дома Копровская всегда была неряшливо одета, без корсета, растрепанная, в стоптанных туфлях, а иногда с немытой шеей и грязными руками. Теперь же она была прекрасно причесана к лицу парикмахером, в меру подведенные карандашом ее глаза блестели, нежный, умело положенный, румянец играл на щеках, в ушах блестели серьги с фальшивыми бриллиантами, стан, затянутый в корсет, был гибок. Копровская стояла перед зеркалом, смотрелась в него и играла лицом, то улыбаясь, то строго хмуря брови. Она заметила, что Лагорский любуется ею, и спросила его:
– Ну что, хорошо так будет?
– Прелестно! – с неподдельным восторгом отвечал Лагорский. – Знаешь, ты прехорошенькая. И как к тебе идут это платье, прическа… Какие у тебя глаза!
– Черные волосы старят. Брюнетка для сцены – ужасная вещь. Будь у меня волосы хотя немножко посветлее – совсем другое дело было бы, – самодовольно говорила она, взяла ручное зеркальце и стала рассматривать свою прическу сзади.
– Нет, ты отлично сохранилась, Наденочек!
– Ты это говоришь таким тоном, как будто бы я и в самом деле старуха.
– Боже избави, Надюша! И не думал.
– Ну что же, устроил все, что я просила?
– Да, да, Надюша, будь спокойна, – говорил Лагорский. – Мало здесь наших-то… Но я кой-кого попросил. Надо, чтобы и ваши поддерживали. Те, кто не занят.
– Наши-то поддержат. Разве только что сторонники Марьи Дольской. Это соперница моя и воображает, что может перейти мне дорогу. Ужасная дрянь! Успела уже привести к себе каких-то мальчишек в формах. Давеча на репетиции около нее терлись студент какой-то и юноша в треуголке…
– Ты хорошенько попроси своих, – повторил Лагорский. – Петербургская публика – сухая, черствая, она видала виды, и ее ничем не удивишь.
Он хотел ей сказать, что затевается против их труппы клака, чтоб шикать и свистать, но побоялся напугать ее, помялся и ничего не сказал.
– Бог не выдаст – свинья не съест, – проговорила ему Копровская как бы в ответ и прибавила: – Хотя я ужасно боюсь. Ну, ступай. Хлопочи.
– Я без билета, некуда сесть, – сказал Лагорский. – Добудь ложу. Тогда мы и засядем туда. Нас из труппы «Сан-Суси» считают здесь соперниками, конкурентами, врагами и билетов не дают.
– Просила я у Артаева… Сейчас здесь он был. Но он говорит, что ложи все проданы. А вот тебе контрамарка на кресло. Феня, дай билет!
– Мне, Надюша, надо, по крайней мере, два. Со мной Колотухин, Алексей Михайлыч.
– Ах, боже мой! Все невпопад! У меня два кресла и было, но я отдала одно этому… Мохнатову…
– Не сердись, Надюша, не сердись! Перед выходом нехорошо.
– Феня! Сходите к Артаеву… Он рядом в уборной… И попросите для меня еще кресло, – отдала приказ горничной Копровская.
Горничная отправилась и вернулась вместе с антрепренером «Карфагена» Артаевым. Он был уже во фраке и в цилиндре.
– Анемподист Аверьяныч, дайте мне еще один билет, – обратилась к нему Копровская. – Вот это муж мой… Лагорский… Рекомендую… А он сядет с товарищем.
– Мы знакомы с господином Лагорским, – отвечал Артаев, полез в карман и спросил Копровскую: – А шикать они, их товарищ, нам не будут?
– Как шикать? Напротив, муж пригласил его, чтоб поддержать меня.
– Ну, вам-то, может статься, они и будут хлопать, а остальным не думаю-с… Чертищев всех своих сансусиских просил, чтоб нам шикали.
– Да что вы! – воскликнула Копровская. – Боже мой, как же это так? Правда это, Василий? – обратилась она к мужу.
– Не слыхал, ничего подобного не слыхал, – отвечал тот. – Артист артисту не станет шикать. Это была бы уж подлость.
– Верно, верно-с… – кивал ему Артаев. – Наши агенты нам донесли. Ну, да и мы покажем завтра себя! Ведь и у вас завтра первый спектакль-с. А билеты возьмите. Нам этого добра не жаль-с. Вот. Вы муж… супруг Надежды Дмитриевны… Пожалуйте… Вы шикать не станете.
Артаев подал Лагорскому две контрамарки и вышел из уборной.
– Ну, иди, Василий. А потом в антракте вернешься и мне все расскажешь, – сказала Лагорскому Копровская и прибавила, держась за сердце: – Боже мой, как я боюсь! Я вся дрожу. Не выпить ли мне коньяку?
Лагорский ушел, вышел со сцены в сад и стал искать Малкову, но на том месте, где он ее оставил, ее не было. Пройдясь по саду, он ее увидел перед открытой сценой, смотрящей, как красавица-акробатка выделывала свой номер на натянутой проволоке, качалась, улыбалась публике и при этом жонглировала медными шариками. Помахивая двумя контрамарками, Лагорский подошел к Малковой и проговорил:
– Только два кресла. Ложи, говорят, все проданы. Артаев насилу и кресла-то дал. Боится, что наши шикать будут. Он извещен, что наш Чертищев всех своих подговорил шикать во время спектакля, и сулится завтра сам явиться к нам с шикальщиками. Ну, пойдем в театр. Мне надо повидаться кое с кем и попросить, чтобы поддержали Копровскую.
– И возишься ты с ней, как курица с яйцом! – заметила язвительно Малкова.
– Ах, друг мой, она все-таки товарищ, актриса.
– Однако сама она к тебе очень пассивно относится и даже не могла тебе добыть ложу. В котором ряду у тебя кресла?
– В одиннадцатом.
– Какая даль! Она бы еще в галерее дала тебе места! Муж премьерши, сам премьер – и в одиннадцатом ряду, где-то на задворках.
– Да ведь почти полный сбор сегодня.
– Какие пустяки! Просто она не имеет влияния. Посмотри, как я завтра у нашего Чертищева урву ложу для моих знакомых. А она не умеет. Она рохля, должно быть, размазня перед антрепренером. И так-то уж наши русские актрисы чуть не в кабале у антрепренеров, а эти рохли и размазни и совсем вконец дело портят.
Они пробирались к театру, и Лагорский произнес:
– Ну нет… Копровская – вовсе не рохля и, по своему характеру, на размазню не похожа.
– Перед мужем – да… Ты это говоришь как муж. Тебе от нее попадало, да, может быть, и теперь попадает, а перед антрепренерами все на задних лапках служат. Вот иностранцы – другое дело. О, они себе цену знают! Видел сейчас немку, которая на проволоке плясала? Представь себе, она, эта акробатка, почти вдвое больше меня получает за свои ломанья.
– Красота… Голое тело… Грация… Пластика… Разве это можно сравнивать! И насколько ее хватит? Много ли она пропляшет на канате? Ну, пять-шесть лет, а там обрюзгла и меняй профессию, – отвечал Лагорский.
– И переменит, и к тому времени будет иметь капиталец, средства. Немки запасливы. А наша русская двадцать пять лет проиграет на сцене и будет еще беднее того, чем тогда, когда начинала, и в конце концов умрет где-нибудь в глуши без гроша в кармане.
Они входили в театр.
– Послушай… К чему ты это говоришь, Веруша? – спросил Лагорский.
– Обидно. За себя обидно… За русскую актрису обидно. Француженки, немки, итальянки – все скопят что-нибудь на черный день, все в конце концов с запасом, а тут двухсот рублей нет на паспорт, чтобы откупиться от мужниной кабалы. А эта немка-акробатка, говорят, уж дачу под Веной имеет и отдыхает в ней два-три месяца в году. Вот тебе и акробатство! Сравни-ка его с нашим искусством!
– Откуда ты это узнала?! – удивился Лагорский.
– Наш Чертищев сказал. Он перед тем, как тебе прийти, сидел со мной и рассказывал мне. Шестьсот рублей в месяц она получает. Двадцать рублей за выход. Он был зимой в Вене, хотел ее пригласить для своего сада, давал пятьсот в месяц, и она не согласилась. А к Артаеву приехала за шестьсот рублей и за бенефис, – рассказывала Малкова.
Они заняли свои места в театре.
Глава XII
Первый спектакль привлекает всегда в садовые театры много публики. Является, между прочим, и такая публика, которая только на открытия и ездит. Но театр сада «Карфаген» все-таки не был полон. Ложи не особенно пустовали, хотя две-три и были свободные, но в партере то там, то сям виднелись целые кусты пустых кресел и стульев. В ложах засели редакторы-издатели газет с семьями, тароватые биржевики, дельцы, сидящие сразу в трех-четырех акционерных компаниях директорами, начинающие кутить или уже прокучивающиеся купеческие сынки и, наконец, получившие известность модные содержанки, носящие клички барабанщицы, красной барыни, чижика, золотой шпоры и т. п.
Содержатель театра Артаев бродил в проходах партера, поднимался в ложи и, раскланиваясь со знакомыми, говорил как бы в свое оправдание за неполный сбор:
– Полон бы сегодня театр был, да давеча дождичек немножко подкузьмил. По телефону то и дело заказывали кресла, но вот испугались дождичка и не приехали. Да еще подъедут, может быть.
А дождя совсем не было.
Кто-то удивляется и спрашивает:
– Да разве был дождик? А я и не заметил.
– Был маленький. Накрапывал. А в садовом деле это помеха. Боятся. К тому же и холодновато. А если бы чуточку было потеплее – полный сбор.
Театральным рецензентам и лицам газетного мира Артаев сообщал:
– Денег не жалеем для публики. Для лунной ночи особый электрический аппарат поставил-с… Четыреста рублей-с… Вот увидите во втором акте. Прямо из Парижа… Лунную ночь изображает, а можно и пожар… Упомяните, если будете писать. Чертищеву в «Сан-Суси» такой аппарат и во сне не снился, – прибавлял он, переминался с ноги на ногу, выбирал особенно нужного человека и шептал ему на ухо: – А после спектакля прошу в ресторан закусить, хлеба-соли откушать. А нас прошу не обижать.
Следовало рукопожатие.
Иным, в расположении которых к нему Артаев был уверен, он сообщал:
– Свистать нам будут-с. А чем артист виноват, что у нас промеж себя конкуренция!
– Кто свистать будет? Кому? – удивлялся слушающий.
– Соседи-с… Артистам… Да какие это соседи! Не соседи, а злоумышленники. Даже хуже-с… Сами в трубу вылетят и других выпустят. Мы на свои деньги все завели. А там нахватали в долг, где только можно было взять. Завтра, я думаю, первый-то сбор жиды из кассы весь заберут.
– Это вы про театр «Сан-Суси»?
– А то про кого же? Разбойники… Так вы наших-то сегодня поддержите, если что-нибудь выйдет.
– Всенепременно, всенепременно.
Но вот заиграл оркестр, а затем поднялся занавес. На сцене разговаривали молодой лакей в сером фраке, с половой щеткой, и нарядная горничная, с перовкой. Лагорский смотрел на сцену и говорил Малковой:
– Обстановка-то не ахти какая. А рассказывали, что мебель от знаменитого мебельщика взята. Да и павильончик-то подгулял. В афише стоит: новые декорации… А разве это новая декорация!
– Да ведь врать-то – не колесы мазать, – отвечала Малкова пословицей.
По проходу между кресел пробиралась Настина и села рядом с Лагорским.
– Выход жены вашей пришла посмотреть… – сказала она ему. – Сама я в конце второго акта, так еще успею одеться. Слышали, говорят, ваши нам шикать будут? Ваша жена так боится.
Она покосилась на Малкову и смерила ее взором, не поклонившись ей, хотя знала ее.
Лагорский промолчал. Настина тронула его за рукав и начала снова:
– Очень рада, Лагорский, что опять вас вижу. Поищите, душечка, мне комнату, вы здесь живете, и для вас это пустяки. А я ведь за тридевять земель, в гостинице. Каково это – ездить каждый день оттуда и туда! Меня уж извозчики вконец разграбили. Поищете?
– Хорошо. Найдется, так скажем, – отвечал Лагорский.
– Только чтоб со столом. А то ужасно неприятно по ресторанам и кухмистерским. Могу я надеяться? Ведь когда-то мы с вами душа в душу… У меня и кофейник мельхиоровый жив, который вы мне подарили.
Теперь Малкова стала злобно коситься на Настину и шепнула Лагорскому:
– Попросите, чтоб нам дали слушать пьесу.
Лагорский был как на иголках, а Настина продолжала:
– Да хорошо бы поближе к вам мне поселиться. Ведь, надеюсь, будете заходить ко мне? Столько не видались!
Но тут на сцене показалась Копровская, Лагорский весь превратился в зрение. В задних рядах кто-то зааплодировал ее выходу, но не успела она поклониться, как справа и слева зашикали.
– Медвежья услуга – эти хлопки при выходе… Прямо медвежья услуга! – бормотал Лагорский.
– Чего ты волнуешься-то! – шепнула ему Малкова. – Говоришь, что вконец разошелся с ней, а сам волнуешься. Да и ничего не произошло. Просто не хотят, чтобы принимали при выходе. Ведь принимают при выходе только любимиц, знаменитостей.
– Да я об этом только и говорю, Веруша.
Копровская не смутилась и стала входить в роль.
Малкова шептала:
– В первый раз вижу на сцене твою жену. Зачем это она слова-то так отчеканивает?
– Московская школа. Она видела хорошие образцы Федотовой и других. Это московская манера, – отвечал Лагорский.
– Ну какая московская! Прибивает каждое слово гвоздем. Скорей же пошехонская.
Акт кончался. Ушел со сцены любовник после очень веселой эффектной сцены – и ушел, как говорится, без хлопка.
– Какая публика-то здесь сухая! – заметила Настина. – У нас в Екатеринославе за эту сцену раз пять вызывали. А и актерчик-то был – горе.
Но вот и заключительная сцена Копровской. Копровская начала притворно смеяться, и смех этот переходил в истерику. Она закрыла лицо руками, поникла головой на стол и принялась рыдать. Занавес медленно опускался.
– Надо поддержать товарища, – сказал Лагорский, поднимаясь с кресла и зааплодировал. – Вера Константиновна, поддержите.
Аплодисменты раздались в задних рядах, где-то в ложе, аплодировали в балконе, но в то же время раздавалось и змеиное шипенье отовсюду. Настина аплодировала, но Малкова сидела без движений. Аплодисменты были жидки, но все-таки подняли занавес, и Копровская вышла на сцену и раскланивалась публике, с улыбкой прижимая руку к сердцу. Аплодисменты усилились, кто-то во все горло крикнул: «Браво, Копровская!» – но и шиканье не унималось, и кто-то слегка свистнул.
– Злостная подсадка… Покупные бандиты… – бормотал Лагорский, выходя за Малковой из кресел.
Та отвечала ему:
– Конечно, шикать не за что. Играла она так себе… Но актриса она не ахтительная. И зачем она рот кривит? Это уж называется «с изъянцем».
А сзади шла Настина и говорила Лагорскому:
– Лагорский… Будьте паинькой… Поищите мне завтра утром комнату. А я зайду к вам на репетицию узнать, нашли ли вы. Ну, я пойду в уборную одеваться.
Малкова обернулась к нему и почти громко сказала:
– Да отбрей ты ее хорошенько! Ну, что она к тебе пристает, словно к мальчишке! Вертячка… Надела шляпку в три этажа да и думает, что она актриса. Ты, должно быть, с ней путался где-нибудь, что она к тебе с таким нахальством?
– Брось, Веруша, свои ревности. Ведь ты не светская дама, а актриса и актерскую жизнь знаешь. Не нахальство тут, а товарищество. Но, само собой, я на побегушки к ней не пойду и комнату ей искать не стану.
Они выходили из театра. Их нагнал актер Колотухин.
– Вот она война-то Алой и Белой роз. Первая перестрелка уж началась, – говорил он.
Глава XIII
– Ну, теперь я твою жену видела и могу отправиться домой, – говорила Малкова Лагорскому. – Пьесу я знаю, так чего же мне еще? А завтра у нас спектакль. Пойдем ко мне, Василий, чай пить.
– Да что ты, Веруша! У жены в третьем акте самая лучшая горячая сцена. Надо принять меры против этого шиканья, – произнес Лагорский как бы с испугом. – Я должен побывать в буфете, прислушаться, что про жену говорит пресса. Прислушаться и сообщить жене. Она просила.
– Неисправим, хоть брось! – махнула рукой Малкова. – Слушай, Лагорский: я буду не на шутку сердиться, если ты так будешь говорить о Копровской. Помилуй, у тебя после трех слов четвертое слово – жена. Это даже оскорбительно для меня. Вдумайся, каково мне это слушать! Ведь у меня с тобой не мимолетная связь, не женский каприз. Я серьезно смотрю на то, что принадлежу тебе. А ты только: жена – и ничего больше.
Лагорский понизил тон.
– Я понимаю, Веруша, но что же делать, если она просила позаботиться о ней по-товарищески. Кроме меня у ней здесь нет знакомых мужчин. Я по-товарищески только. Нельзя же ее бросить на произвол судьбы. Мы разошлись, но не ссоримся, во вражде не находимся.
– Вечно одна и та же песня, – сказала Малкова. – Не понимаю я таких отношений. Около десяти лет я на сцене, видала виды, но не понимаю. Ну, если ты теперь идешь в буфет, то возьми меня с собой, угости чаем и раками. Ужасно люблю раков… «А денег у меня два франка и несколько сантимов», – процитировала она слова Любима Торцова из «Бедность не порок» Островского. Лагорский при этих словах весь съежился.
– Милая Веруша, готов бы я это сделать, я весь твой, – заговорил он, – но сейчас я, прежде всего, должен сбегать на сцену… А в буфет потом… Я обещал! По-товарищески обещал.
– Опять жена! Но ведь это уже превышает всякие границы! Это, это…
Малкова сердито вырвала свою руку из-под руки Лагорского.
– Нельзя же, Веруша, если я дал слово. Завтра я весь твой, завтра я всем своим существом к твоим услугам, но не сегодня. Завтра я и за паспортом твоим к мужу поеду.
– Провались ты совсем! Ничего мне не надо! Ничего!
– Если ты, Веруша, подождешь меня, пока я сбегаю на сцену… Подожди… Я вернусь… Вернусь, и во втором антракте и чай, и раки…
– Довольно! Достаточно я натерпелась! Я ухожу домой, и знай, что между нами все кончено! – гневно проговорила Малкова, приложила носовой платок к глазам и свернула в уединенную аллею.
Лагорский шел за ней. Его всего передергивало. Он видел, что она плачет.
– Веруша, успокойся. Ну, зачем делать скандал? Удивляюсь, как ты не можешь понять сценические товарищеские отношения… Десять лет актрисой, как сейчас сама сказала, и не понимаешь этих простых отношений.
Она обернулась к нему вся в слезах и с негодованием крикнула:
– Прошу оставить меня в покое! Прочь! Или я тебя… я тебя ударю.
Лагорский остановился.
«Закусила удила, – подумал он, тяжело вздохнув, – теперь с ней ничего не поделаешь, пока не остынет. Я помню… знаю по Казани… Бывало там всякое…»
Малкова сделала несколько шагов, опять обернулась и с дрожанием в голосе произнесла:
– И уж прошу больше ко мне ни ногой! Терпение мое лопнуло!
Он стоял, смотрел ей вслед, покачивал головой и, когда она скрылась, тихо пошел на сцену.
В уборной он встретил жену. Она полулежала на убогом диванчике. Горничная стояла перед ней с рюмкой, наполненной валерьяновыми каплями. Тут же был и Артаев.
– Но ведь ничего особенного не случилось, – утешал ее Артаев. – Мы ожидали большего. Наши все-таки заглушили их безобразия, и вас вызвали с треском.
– Какой же это треск! Что вы! – отвечала Копровская. – С треском!
– Сильнее в первом акте невозможно. Вот в третьем… Вы подождите третьего… Хлебнет публика в буфете, явятся чувства, и тогда будет совсем другой интерес.
– Но я вся дрожу… Я боюсь… Я могу предполагать, что во втором акте еще хуже будет.
– Успокойтесь, барынька, успокойтесь. Мы поддержим… А сейчас я вам для успокоения стаканчик пуншгласе с рюмочкой мараскину пришлю! Выйдет легкое асаже, и все прекрасно будет, – проговорил Артаев, выходя из уборной.
Копровская увидала Лагорского.
– А, это вы? Пожалуйте, пожалуйте сюда! – заговорила она раздраженно. – Отлично же вы все устроили, о чем я вас просила.
– Сделал все, что мог, Наденочек, – отвечал Лагорский. – Что же я могу сделать больше? Наши обещали, и некоторые перед спектаклем разбежались. Да билетов на места к тому же у меня не было.
– Не мели вздор! Ты сидел рядом с Малковой! – закричала на него Копровская. – Настина мне все рассказала. Ты сидел, впившись в нее глазами, и млел, так до того ли тебе, чтоб настоящим манером позаботиться о жене! И все-то ты врешь! Ты изолгался, как последний мальчишка! Просил кресло для Колотухина, а сам отдал его Малковой. Лгунишка…
– Малковой я потому отдал, что у Колотухина уж оказалось свое кресло. Колотухин сидел сзади нас и аплодировал тебе, и Малкова аплодировала.
– Врешь! Не ври! Настина сказала, что Малкова мне шикала.
– Врет твоя Настина. Нагло врет.
– Не моя она, а твоя! Ты с ней жил. Она даже твоя креатура. Ты и актрису-то из нее сделал. Я все знаю, мне все известно! Нет, Лагорский, так жить нельзя! Так жить невыносимо! Я не могу, не могу, не могу!
Копровская закрыла глаза платком.
– Наденочек, успокойся… Тебе вредно. Так волноваться тебе нельзя… – уговаривал ее Лагорский. – Ведь тебе впереди еще два акта. А в первом акте, право, ничего дурного не вышло. Ты прекрасно играла, была даже в ударе, была к лицу одета. Тебя вызвали, проводили отлично. Что два-три осла шикать-то начали, так что за беда! Это покупные шикальщики, а не публика. Фигнер – певец какой любимец публики, а и ему сколько раз шикали. А он и в ус себе не дует. Чихать хочет. Прямо – чихать. А из публики тебе аплодировали. Здесь сухая публика, здесь райка нет, но и она аплодировала. Даже очень аплодировала. Я видел даже, что тебе один генерал в первом ряду хлопал, сильно хлопал, – соврал он. – И наконец, это ведь первый акт был, который всегда без особенных хлопков проходит, а результатов надо ждать в третьем акте.
Копровская несколько успокоилась. Она поднялась с дивана, села перед зеркалом и стала с помощью горничной прикалывать себе шляпку на голову.
– Ну что же, был ты в буфете? Прислушивался к разговору публики? Видел кого-нибудь из рецензентов? Что про меня говорят? – спросила она Лагорского.
– Хвалят, хвалят… Неодобрительных отзывов я не слышал, – врал Лагорский. – Конечно, я забежал туда на минутку, но ничего худого я не слыхал.
– Зачем же ты там не остался дольше!
– Ах, Надюша! Да ведь сама же ты велела поскорей сюда прийти.
– Я велела прийти с результатами. Кого же ты из рецензентов видел? Из каких газет? – допытывалась Копровская.
– Да, право, я не знаю. Ведь я еще не успел ни с кем ознакомиться. Потом узнаю и сообщу тебе! Черный такой… в очках… Он хвалил и называл тебя актрисой московского пошиба, – продолжал врать Лагорский.
Лицо Копровской просияло улыбкой.
– Московского пошиба… – повторила она выражение Лагорского и сказала ему: – Ну, иди теперь в сад, в буфет – и везде прислушивайся… Да постарайся познакомиться с рецензентами-то… А потом мне расскажешь.
Как камень свалился с плеч Лагорского, когда он вышел из уборной жены. Он ожидал бо́льших упреков.
Проходя по сцене, он натолкнулся на Настину. Она была уже одета для роли.
– Лагорский! Я надеюсь, что вы мне найдете завтра комнату, – сказала она. – Поищите. Вы должны это сделать. Во имя наших отношений должны. А то поссоримся.
Глава XIV
Спектакль в театре сада «Карфаген» кончился без особенного скандала. Ожидаемое какое-то полное ошикание всей труппы относилось только к области разговоров и сплетен. Во втором акте также кто-то шикнул Копровской, шикнул и любовнику, но аплодисменты своей клаки сделали дело, и их вызвали. Не было восторженных аплодисментов среди публики, да их не за что было и расточать. Впрочем, Копровская была вызвана и в третьем акте, а понравившийся комик так даже и два раза был вызван. Гора родила мышь, если только это была гора. Впрочем, полиция рассказывала, что она вывела из театра какого-то пьяного, пробовавшего свистать. Лагорский антракт между вторым и третьим актом пробыл в буфете, выпил со знакомыми актерами несколько рюмок коньяку, с рецензентами же не успел познакомиться, так как никто из его знакомых их не знал и не мог ему их указать. Он прислушивался к разговору публики об игре артистов, но ничего не слыхал, кроме порицания неудачного освещения на сцене декораций сада лунным светом, которое все время мигало. Явившись в уборную жены, он, однако, рассказывал, что и публика ее хвалит, и театральные рецензенты относились об ней одобрительно. Ободрившаяся Копровская уже улыбалась и спрашивала его:
– Из какой же газеты всего больше хвалили?
Лагорский замялся и отвечал:
– Да, право, я не знаю. Такой черненький, тощий, в очках. Неловко было спрашивать. А только он одобрительно разбирал твою игру.
– Черненький в золотых очках был здесь в уборной. Его мне представляли. Это из газеты «Факел».
– Нет, он не в золотых очках, – отрицательно покачал головой Лагорский.
– Ну, все равно. Я их всех увижу сегодня за ужином и постараюсь познакомиться. Артаев пристает, чтобы я осталась ужинать. Нельзя отказать.
– Да он даже не в очках, а в пенсне, – заговорил Лагорский, опасаясь, что она начнет его проверять при встрече с рецензентами, и стал путать приметы их. – В черепаховом пенсне.
– А говоришь «в очках». Брюнет или блондин?
– Темноволосый. В светлом пальто.
– Какое же место в моей игре ему особенно понравилось? – допытывалась Копровская.
– Сцена на скамейке, в саду… со стариком.
Переодеваясь после исполнения пьесы и смазывая с себя грим, Копровская спросила мужа:
– Ты, Вася, как же?.. Подождешь меня в буфете, что ли, пока я буду ужинать?
– Неудобно… – отвечал Лагорский. – Ужин продлится до бела света. Ну, что я буду делать в буфете! Да у меня и денег не завалило. Я отправлюсь домой и буду ждать тебя дома.
– Врешь! Провалишься куда-нибудь. Я знаю, куда ты зайдешь, знаю, – подмигнула она ему.
– Ах, Надюша, какое недоверие! Неужели же я не доказал тебе мою преданность и любовь? – покачал головой Лагорский. – Сегодня я замучился за тебя.
– Ну, отправляйся домой. И Феню я отправлю домой с картонками. Ты ей найди извозчика и заплати. А меня домой проводит кто-нибудь из наших.
– Душечка, я, все-таки, зайду по дороге в какой-нибудь капернаумчик. Надо закусить. Здесь дорого все, нам, посторонним, в буфете не скидывают, а в капернаумчиках на две трети дешевле. Торгуют там долго… Съем сосисок с капустой…
Копровская сморщилась.
– Ну вот… сейчас уж и капернаумчик! – сказала она. – Пожалуйста, Василий… Ну что же, Феня будет одна в даче… Не засиживайся, пожалуйста.
Она говорила это, но в то же время ревновала и к молоденькой и хорошенькой Фене.
– Впрочем, как хочешь, как хочешь… – спохватилась она. – Иди и закусывай, где хочешь. Свободу твою не стесняю. Полагаюсь на твое благоразумие. Ты не боишься, Феня, одна?
– Нисколько не боюсь, Надежда Дмитриевна, – отвечала Феня. – Чего же бояться-то? Внизу жильцы живут.
Копровская сердилась.
– И дурачина же этот наш хозяин Артаев. Невежа и серый мужик. Не знает приличий. Замужнюю женщину зовет на ужин и не приглашает ее мужа. Уж не объел бы ты его.
– Захотела ты от него приличий! – отвечал Лагорский, почувствовав некоторую легкость на душе, что сейчас он будет свободен на некоторое время. – Артаев – это торгаш. Он кормит только нужных людей. А ты приглашена на подкраску… Ужин с артистками… Еще заставят тебя, пожалуй, читать стихи перед какими-нибудь проходимцами. А что ему, этому мужику, Лагорский, из чужой, конкурирующей с ним труппы! Ну, я пойду. А вот Фене деньги. Портные помогут ей вынести картонки и наймут извозчика. Могу я удалиться? – спросил он.
– Иди, иди. Теперь я буду переодеваться на ужин, – отвечала Копровская, и сердце ее сжалось.
«Уйдет, уйдет… Куда-нибудь с этой мерзавкой Малковой уйдет!» – мелькнуло у нее в голове.
Лагорский вышел в сад с таким облегченным сердцем, что даже готов был приплясывать. Ноги его так и ходили. Он напевал себе под нос что-то из «Елены», присел на скамейку и стал скручивать папироску. Публика в саду поредела. Кто уехал домой, кто ужинать в рестораны, кто удалился в садовый буфет. На веранде пили чай и закусывали. По дорожкам бродили только пьяненькие. С ними перемигивались ночные накрашенные барышни в бросающихся в глаза костюмах, трехэтажных шляпках, попыхивая папиросами, и просили их угостить. Один пьяненький в светло-сером пальто и серой шляпе стоял посреди дорожки, дирижировал сам себе, помахивая обеими руками, и пел «Тигренка». Две накрашенные барышни подошли к Лагорскому.
– Можно вас занять от скуки, господин статский? – спросила одна из них. – А вы нас попотчуете лимонадом с коньяком.
– Денег нет, милые мои, – отвечал им Лагорский, благодушно улыбаясь, – а то бы с удовольствием…
Он закурил скрученную папироску, с наслаждением затянулся и стал выходить из сада.
«Зайду к Малковой. Утешу ее… По всей вероятности, она еще не спит», – решил он и, вышедши из сада, зашагал мимо ряда дач одна на другую похожих, с террасами внизу, с балкончиками в мезонинах, с палисадничками перед террасами. Невзирая на первый час ночи, дачная местность еще бодрствовала. Везде в окнах светились огоньки, мелочные лавочки, булочные и колбасные были еще отворены, по улице бродил народ, шныряли разносчики, продававшие сласти, папиросы, спички, приставали к прохожим с букетами ландышей и черемухи рослые оборванцы.
«Наверное, не спит еще и повторяет роль к завтрашнему спектаклю», – думал про Малкову Лагорский, миновав уже свою дачу и подходя к даче Малковой.
Вверху, в мезонинчике, где жила Малкова, мелькал огонек.
«Не спит», – решил Лагорский и с замиранием сердца, складывая в уме фразы оправдания, что отказался давеча от ее компании, вошел в палисадник и стал взбираться по скрипучей лестнице в мезонин. Через минуту он стучался в запертую дверь.
– Кто там? – послышался голос прислуги Малковой Груни.
– Это я, Груша, Лагорский. Отвори, – сказал Лагорский.
– Барыня спит, Василий Севастьяныч.
– Как же спит, если у ней свет в комнате.
– Она лежит в постели и читает.
Послышались переговоры. И вдруг за дверьми раздался раздраженный голос Малковой:
– Чего вы это по ночам шляетесь и будите несчастную женщину! Вас звали честью разделить компанию, а вы не захотели! Не захотели, а теперь лезете! Убирайтесь! Я спать хочу.
– Пусти меня, Веруша… Пусти, голубка… Мне много кое-что надо тебе сказать, – виновато упрашивал Лагорский.
– Прочь от моих дверей! – отвечала Малкова. – Чего ты скандалишь! Конфузишь перед соседями. Внизу соседи… Убирайся к своей Копровской!.. Служи перед ней на задних лапах, как собачонка! Убирайся к Настиной – и та примет. А я спать хочу и не желаю тебя видеть. Не отворяй ему, Груша. Пусть убирается ко всем чертям, – отдала она приказ прислуге.
В голосе ее были слышны гнев и слезы.
Лагорский стал спускаться с лестницы.
Глава XV
Огорченный, что Малкова его не приняла к себе, Лагорский зашел в один из ресторанчиков, приютившихся на реке, с досады выпил несколько рюмок водки, закусил сосисками с капустой, покрыл все это пивом, раздраженный пришел домой, лег спать, но ему не спалось. Малкова не выходила у него из головы. Он любил ее и боялся последствий ссоры.
«Это уж значит удила закусила. Дошла до белого каления, если выгнала вон, – рассуждал он. – Обыкновенно она только и делала, что упрашивала меня, чтобы я чаще ходил к ней. И чем я мог ее так уж особенно раздражить? Что ужином ее отказался покормить и проводить? Но такие случаи у меня и в Казани бывали, но она не лезла так на стену. О, ревность, ревность! Не верит, что я по-товарищески к жене отношусь. А ведь в нашем быту это так естественно… Я актер, она актриса – ну, и товарищи. И дернула меня нелегкая опять связаться с женой! Ведь уж вконец разошлись, а тут опять… Нежность какая-то напала. Дурак я, совсем дурак! А теперь и поправляй дело, вертись, как угорь на сковороде. Надо завтра постараться как-нибудь задобрить Малкову, – решил он. – Встану пораньше, поеду в город, заложу булавку с жемчужиной и портсигар и выторгую у ее мужа ей паспорт. Это ее успокоит».
Лагорский взял роль и стал читать, но у него рябило в глазах, хотелось пить с водки и соленого. Во рту было сухо. Он три раза вставал и пил воду. Он задул свечу и стал лежать с открытыми глазами. Уже совсем рассвело. Короткие майские сумерки, заменяющие на севере ночь, кончились, и всходило солнце, а сон бежал от его глаз.
«И Настина ее раздражала со своими приставаниями нанять ей комнату, – рассуждал Лагорский про Малкову. – Ведь она догадывается, что я с Настиной жил. Да, Настина и сама нахалка. Прямо при ней говорит: „Во имя наших прежних отношений похлопочите мне о комнате“… И тут ревность. Стало быть, двойная ревность… Говорят, блондинки менее ревнивы, чем брюнетки. Вот жена – брюнетка, а Малкова – блондинка, но по ревности она тоже стоит жены».
В таком положении застала его жена, явившаяся с антрепренерского ужина. Был совсем день. Солнечный луч, пробиваясь в окно, неплотно завешенное жениной юбкой, зайчиком прыгал по полу. Жена явилась шумно, стучала ногами, громко разговаривала с горничной Феней. Лагорский, дабы избежать разговоров, зная, что они не будут дружественные и ласковые, закрыл глаза и притворился спящим, но Копровская крикнула ему:
– Спишь? Так проснись! Успеешь еще выдрыхнуться-то!
Она была раздражена и сердита, с рывками расстегивала свой корсаж.
Лагорский открыл глаза и стал их протирать, сделав тяжелый вздох и сказав:
– Ах, это ты? Пришла? А я и не слыхал. Что тебе?
– Пожалуйста, не притворяйся. Феня мне сказала, что ты только недавно вернулся домой и шарил в кухне в шкапу, отыскивая сельтерскую воду, – заговорила она. – А ты тоже хорош, муженек! Все-то ты мне врешь. Рассказывал, что познакомился с рецензентами, а оказывается, ни один рецензент тебя не знает.
– Никогда тебе этого не говорил. Что ты!
– Ну вот… Ты даже говорил, что какой-то черненький в очках хвалил меня. Видела я этого черненького в очках, и он даже фамилии твоей не слыхал. Ах ты! Лгунишка!
– Не в очках, а в пенсне. Черненький в пенсне. И я с ним даже не разговаривал, а только слышал, что он в буфете одобрительно о тебе говорил.
– Врешь, врешь! Я видела на ужине всех их… Видела и познакомилась… Черствый народ… Только жрали и пили за ужином, а я ничего не успела добиться от них.
Хоть бы словом одним обмолвился кто-нибудь, что вот, мол, здесь вы хорошо играли, а там у вас не удалась сцена. Ни слова… Словно остолопы какие-то! А уж и натрескался же один из них за ужином!
– Все люди и все человеки… – пробормотал Лагорский, чтобы что-нибудь сказать. – У всех слабости одни и те же… Во всех профессиях… Покойной ночи. Я спать хочу, – сказал он и отвернулся.
Копровская разделась и стояла в одном белье, надевая на себя ночную кофточку.
– А ты у Малковой был. Все-таки сбегал к ней… Помиловался со своей кралечкой…
– И не думал, и не воображал! – пробормотал Лагорский.
– Мне наш музыкант сказал, что он видел тебя на набережной, и указал именно то место, где живет ваша премьерша. Где же ты шлялся все это время, если только час тому назад вернулся?
– Я ресторан искал, чтобы поужинать. Ведь, когда ты отправилась на ужин с разными деликатесами, я был голоден как собака. Нельзя же не жравши.
– И все-таки ужинал с ней? С Малковой? То-то ты так нелюбезно встретил возвращение жены и даже не поинтересовался об этом ужине, не поинтересовался, хвалили ли твою жену за ее роль, – язвительно произнесла Копровская, снимая с ног полусапожки и надевая свои любимые стоптанные туфли.
У Лагорского вырвался из груди вопль.
– О, как мне все это надоело! Как мне все это опротивело! – закричал он. – Замолчи, пожалуйста, дай мне покой, или я оденусь и убегу из дома куда глаза глядят!
– Дальше Малковой не убежишь. А ты этого только добиваешься. О, петушишка, петушишка!
Она зашлепала туфлями и отправилась к себе в спальную.
Водворилась тишина. Лагорский заснул тяжелым сном.
Утром Лагорский проснулся, когда жена еще спала. Он быстро вскочил с дивана, умылся, оделся и сказал горничной Фене, что сейчас уходит в театр. Она хотела приготовить ему кофе, но он отказался, сказав, что напьется кофе в театральном буфете. Он рад был, что жена еще спит и что он не будет слышать от нее попреков и брани.
Выйдя из дома, он действительно отправился в театр «Сан-Суси», выпил в буфете кофе, зашел в контору и попробовал, нельзя ли ему получить хоть пятьдесят рублей авансом, но в конторе содержателя сада Чертищева не было, и ему отказали.
«Потащим булавку и портсигар в мытье», – решил он, нанял извозчика и поехал в город, в ломбард, закладывать свои вещи, чтобы потом деньги внести мужу Малковой за ее паспорт.
По дороге, на Каменноостровском проспекте, уже совсем подъезжая к Александровскому парку, Лагорский встретил едущую на извозчике Настину. С ней была большая плетеная ивовая корзинка. Увидав Лагорского, Настина замахала ему руками.
– Стойте, стойте! Остановитесь! Куда вы едете? – кричала она.
Лагорский велел приостановить лошадь.
– По делам еду, – отвечал он, не сходя с пролетки.
– По делам? Вот это мило! А как же вы обещали мне поискать для меня комнату сегодня поутру?
– Неотложные, экстренные дела. На репетицию я вернусь.
– Свои или Малковой? Лагорский! Вы, кажется, опять с этой Малковой того?.. А ваша бедная Копровская!
Впрочем, и она тоже фигурка… Ее жалеть нечего. А вот я-то… Мне за себя обидно… Голубчик, поищите мне хоть после репетиции комнату. А то ведь я замучилась, каждый день по пяти верст взад и вперед ездивши. Сегодня уж меня обещала приютить на ночь наша актриса Тихонова. Не могу ли я сегодня после репетиции с вами вместе походить и поискать комнату?
– Позвольте… Как же это возможно, если у нас сегодня вечером первый спектакль, – отвечал Лагорский, возвысив голос.
– Ну, вот вы какой!.. – с неудовольствием произнесла Настина. – И как вы скоро забываете старое! А я-то когда-то для вас… Ах, Лагорский!..
– Может быть, завтра утром я могу поискать где-нибудь для вас… Завтра нет репетиции.
– Ну хорошо, хорошо. А у нас есть репетиция завтра. Так если найдете, приходите мне сказать. Да поищите поближе к себе комнату-то, чтоб почаще ко мне заходить. Сама я не могу к вам… Вы теперь с женой… Ах, Лагорский, мне так хорошо жилось при вашем покровительстве! Вы такой умный… А теперь меня обижают… Все обижают… До свидания…
Настина улыбнулась и сделала ему глазки.
Они разъехались.
Глава XVI
Под булавку с жемчужиной Лагорскому выдали в ломбарде пятьдесят рублей, а под тяжелый серебряный портсигар – тридцать. Лагорский ожидал получить большую сумму, что его очень обескуражило.
«Пожалуй, с этими деньгами сегодня не покончишь с мужем Малковой насчет ее паспорта, – подумал он. – Ведь муж ее требует триста рублей, то есть двести рублей приплаты к тем ста рублям, которые он получил. Положим, что тут запрос и он спустит что-нибудь, но если он потребует и сто рублей, то у меня на руках все-таки только восемьдесят. Как тут быть?»
И Лагорский стал придумывать какую-нибудь комбинацию, чтобы покончить с мужем Малковой.
«Предложу ему мою расписку на остальные деньги, что вот, мол, так и так, через месяц обязуюсь уплатить столько-то и столько-то. Для верности может и сама Малкова скрепить подписью и, если он заупрямится, поручительский бланк…» – решил он.
По данному Малковой адресу Лагорский отыскал мужа Малковой в Гончарной улице, на дворе большого каменного дома, в четвертом этаже, в меблированных комнатах. Муж Малковой был коренастый человек лет сорока, с рыжеватой щетиной на голове, в усах щеткой и с изрядно красным носом. Одет он был в русскую полотняную рубаху-косоворотку с вышивкой красной бумагой на вороте и рукавах, выпущенную поверх брюк и опоясанную ремнем, и в высоких сапогах. Когда Лагорский вошел в комнату, он сидел у стола с самоваром, около сороковки с водкой и резал ломтиками колбасу на серой бумаге. Другой жилец комнаты, черный, длинный, тоже без сюртука и жилета, лежал на кровати, вытянув ноги на стенку кровати, и читал какое-то письмо. Лагорский, никогда раньше не видевший мужа Малковой, почему-то сначала и обратился к черному и длинному жильцу.
– Я от Веры Константиновны… – начал он, войдя в комнату. – От Малковой…
– Ко мне, ко мне это… Прошу садиться! – закричал коренастый и рыжеватый жилец. – Вот, не угодно ли присесть… – прибавил он, подвигая Лагорскому стул к столу, и спросил: – Что ж она сама-то не потрудилась промяться?
– У ней в настоящее время репетиция, – отвечал Лагорский. – А я ее товарищ по сцене, актер Лагорский… Мы служим в одной труппе. Так вот она и просила меня.
– Очень приятно… – пробормотал муж Малковой, перестал резать колбасу, но руки Лагорскому не протянул.
Не протянул ему руки и Лагорский. Надо было начинать переговоры, но он молчал и покосился на лежавшего на кровати жильца. Муж Малковой понял и заговорил:
– Да, да… Не совсем удобно… такое дело… знаете что… Пойдемте в трактир. Документ у меня готов… Ведь нам только сменяться.
Черный жилец поднялся и сел на кровати.
– Если вам нужно поговорить по секрету, то я могу уйти и посидеть у хозяйки, – сказал он.
– Да, да, милейший Василий Павлыч… Пожалуйста… – отвечал муж Малковой. – Мне-то ничего… Я уж с вами сжился за три дня, а вот им… – кивнул он на Лагорского. – Мы в десять минут кончим.
Черный жилец накинул на себя пиджак, запер на ключ свой саквояж, – очевидно, из предосторожности, ключ положил в карман и вышел из комнаты.
– Ну-с, приступим, – начал муж Малковой, потирая руки. – Впрочем, прежде всего, не хотите ли водочки? – спохватился он. – С дорожки хорошо. Да вот колбаской…
– Благодарю вас!.. Для меня еще слишком рано, – отвечал Лагорский.
– Что за рано! Водку всегда можно пить. Это не пиво, не столовое вино… Ну а уж меня извините… Я выпью… Тресну маленькую…
Он налил в дорожный серебряный стаканчик водки, ловко привычным жестом опрокинул его в рот, поморщился и стал жевать колбасу.
– Я приехал от Веры Константиновны просить у вас для нее снисхождения… – начал Лагорский. – Сумма, которую вы теперь требуете с нее за паспорт, слишком велика, и она не может вам внести ее…
– Гм… Конечно, можно немножко спустить. Я это и вчера ей говорил, когда был у нее, но она ничего не захотела слушать, замахала руками и стала гнать меня вон. Словно я разбойник или грабитель к ней явился, а не муж, – обидчивым тоном говорил муж Малковой. – Конечно, другой бы на моем месте наказал ее за такой прием, но я не мстителен… и интеллигентный человек. Но, прежде всего, скинем маски долой… – улыбнулся он. – Вы что же из себя представляете? Любовник ее? Живете с ней? Говорите прямо… Ведь мне все равно, – прибавил он, взглянув Лагорскому в глаза.
Лагорский пожал плечами.
– Просто расположенный к ней человек, товарищ по искусству, по сцене… – отвечал он.
– Ну, знаем мы это искусство-то! Я, батенька, когда-то ведь сам любительствовал, играл на сцене. Вместе с ней игру-то эту театральную начали, в благородном обществе начали… Я ведь бывший офицер… В полку начали играть… Благородные спектакли… И вот где это искусство-то у меня сидит!
Муж Малковой поколотил кулаком себя по затылку, выпил вторую рюмку водки и продолжал:
– И ведь что удивительно: до этих любительских спектаклей жили мы согласно. Ведь женились когда-то по любви. Имели маленькую квартирку, служил нам денщик, и была жена всем расчудесно довольна. Жили по-хорошему. А со спектаклей на нее словно черт насел. Да-с… «Ты пьяница, ты бурбон – вот какие я слова начал слышать. – Ты бревном лег мне поперек дороги…» Раньше же ничего этого не было. А причина очень простая. Пригласили мы к себе в нашу любительскую компанию актера Перелесского режиссером и на главные роли. Двести рублей ему… Парень видный… Пять-шесть пар разноцветных брюк… в пестрых галстуках щеголял… Жакетка у него была бархатная… белые жилетки. Он и запутал супругу мою, Веру Константиновну. «У меня талант, не могу с тобой жить, ты изверг… давай мне отдельный вид на жительство…» Ну, скандал… Все видят, что я уж не муж, а сбоку припека… Срам… Выдал ей отдельный вид на жительство, а она и уехала с этим Перелесским в губернский город играть. Лагорскому надоело слушать, и он перебил его:
– Сколько же вы можете спустить из запрошенного за паспорт? Я тороплюсь. Мне нужно на репетицию.
– Ах! Ну, пятьдесят рублей… Ну, шестьдесят, чтобы вышло ровно двести сорок, по двадцати рублей в месяц за годовой паспорт, – объявил муж Малковой.
– Этого Вера Константиновна вам не может дать. Она не в силах… – дал ответ Лагорский.
– Полноте! Петербургская актриса… В газетах было сказано, что она знаменитость Поволжья, любимица Казани.
– Мало ли что, врут газеты! Антрепренер угостил газетного человека, а тот и ударил в бубны.
Муж Малковой почесал в затылке и задал вопрос:
– А сколько же она может дать?
– А вот сколько. Сто рублей вы от нее уже получили, – сказал Лагорский.
– Не отрекаюсь. Получил. Я честный человек, хотя мог бы и отречься, чтоб проучить женушку.
– Ну, так к этим ста рублям она предлагает вам еще пятьдесят.
– Сто пятьдесят? Мало! Судите сами: я приехал в Петербург, прожился.
– Больше она не может.
– Слушайте… Сто рублей я возьму… Давайте сто. И уж больше торговаться не будем, – был ответ.
– Понимаете, у ней денег нет. Она и так вам еле скопила. Теперь ведь начало сезона. А пятьдесят рублей получите.
Лагорский взялся за бумажник. Муж Малковой подумал.
– Пусть выдаст расписку в пятьдесят рублей, а потом месяца через два и уплотит мне, – произнес он. – А паспорт у меня готов.
– Но ведь это же излишняя возня. Пересылка денег… возвращение расписки. Возьмите восемьдесят рублей… Тридцать рублей я своих прибавлю, а потом с Малковой получу, – торговался Лагорский. – Я вам восемьдесят рублей, а вы мне паспорт. Сто восемьдесят рублей вам, по пятнадцати рублей в месяц. Так ровнее и короче будет.
– Ах, какой вы торгаш! – пожал плечами муж Малковой. – Вы не купеческого ли звания?.. Сто восемьдесят… Погодите… Сейчас водки выпью.
Он выпил водки, поморщился, махнул рукой и сказал:
– Давайте!
Глава XVII
Лагорский выложил на стол восемьдесят рублей и сказал мужу Малковой:
– Ну, милостивый государь, давайте скорей паспорт. Тот задумался.
– А не лучше ли будет, если я вручу ей этот паспорт сам? – проговорил он. – Согласитесь сами, что ведь это документ, а я вас совсем не знаю.
– Я Лагорский. Известный актер Лагорский-Двинский. Посмотрите сегодняшние афиши, и вы там увидите мою фамилию. Меня пол-России знает.
Лагорский произнес это, гордо выпрямившись и тыкая себя в грудь.
– Верю-с. Но ведь документиком-то вы не можете подтвердить, что Вера Константиновна прислала вас за паспортом, – доказывал муж Малковой. – А я служил, заведывал канцелярией волостного правления и порядки знаю, с законами знаком. С паспортом надо осторожно… – прибавил он.
– Я могу выдать вам расписку в получении паспорта.
– Вот разве это. Впрочем, и это не подходит. Она действительно говорила мне прошлый раз, что пришлет для переговоров Лагорского… Кажется так: Лагорского. Но о вручении паспорта Лагорскому ничего не сказала. Да и Лагорский ли вы? Конечно, я вам должен верить, но…
– Я могу вам это доказать… афишей… Две афиши при мне, – сказал Лагорский и сунул руку в карман.
– Какое же это доказательство! Еще если бы при вас был вид на жительство…
– Вид на жительство тоже при мне, но там я не Лагорский-Двинский, а Чарушкин. По сцене же я Лагорский-Двинский, и под этой фамилией меня всякий знает.
– Ну вот видите: Чарушкин. Вера Константиновна тоже не Малкова. Малкова – ее девичья фамилия. По мужу она просто Петрова, потому что я Петров.
– Это я знаю. Иначе бы я не мог вас разыскать.
– Фамилии-то у вас обоих ненастоящие. Смотрите, какой переплет из всего этого выходит. Нет, уж лучше я сам вручу ей вид на жительство.
– Тогда поедемте к ней со мной сейчас, – предложил Лагорский, собрал со стола деньги и спрятал в карман.
– Охотно… Идемте, – согласился муж Малковой, поднимаясь со стула. – Но вы не обидитесь, что я при вас буду переодеваться? Мне нужно надеть крахмальную сорочку, а другого места у меня нет.
– Вы переодевайтесь. А я подожду вас на улице, за воротами.
– Хорошо! Так я сейчас… Да выпейте вы водочки-то на дорожку… – предложил Лагорскому муж Малковой. – Может быть, теперь уж и пришло ваше время для того, чтобы выпить, а мне все-таки компания…
Дабы потешить мужа Малковой, Лагорский согласился и выпил водки, чокнувшись с ним.
Через десять минут Лагорский и муж Малковой ехали в извозчичьей пролетке в театр «Сан-Суси». Муж Малковой был одет в потертое черное пальто и в белый демикатоновый картуз. Высоких сапог он не снял, черная косынка окутывала его шею, и белая грудь крахмальной сорочки хотя виднелась, но воротничка из-за косынки выставлено не было. По своему виду он походил на приказчика с барок или лесных гонок, но ничего в нем не напоминало, что он отставной подпоручик. Переодеваясь, он, очевидно, выпил всю водку и под влиянием выпитого говорил без умолку.
– Ведь я отчего с жены беру деньги за паспорт? Оттого, что она, уходя в актрисы, обещалась мне возмещать все протори и убытки, которые произойдут в доме при отсутствии хозяйки, – рассказывал он Лагорскому. – А убытки есть, и порядочные есть. Кто приглядит за всем? Некому приглядеть. Да-с. А то ведь я очень хорошо понимаю, что иначе было бы неблагородно брать деньги. Я человек благородный и интеллигентный…
Лагорский отмалчивался.
– А расстались мы с Верой Константиновной честь честью, – продолжал муж Малковой. – Ни драк особенных, ни зверств она от меня не видала. Раз только я вспылил, когда пришел домой и увидал сцену нежничанья ее с этим самым актером Перелесским… Попросту говоря, они сидели обнявшись и целовались. Ну, тут я…
– Не будем об этом говорить… – перебил его Лагорский, которого покоробило от этого рассказа.
– Ах, и вы ревнуете! Но вообразите, каково было мне-то! – подхватил муж Малковой.
– Бросьте.
– Да, конечно, лучше бросить. Дело это теперь уже давнее. Все это быльем поросло. А на другой день она мне говорит: «Так и так, отпусти меня играть в губернский город в театр, мне предлагают сто рублей в месяц жалованья и бенефис». Плач, истерики – ну, я и выдал ей паспорт. А теперь сколько она у вас в театре получает? – поинтересовался муж Малковой.
– Право, я не знаю, господин Петров, – отвечал Лагорский. – У нас в труппе контракты не оглашаются.
Муж Малковой усмехнулся и покачал головой.
– В интимных отношениях с женщиной находитесь да не знаете? Странно… – сказал он. – И даже невозможно этому поверить.
– Не будем об этом говорить! – вырвалось у Лагорского. – Как вы можете утверждать о каких-то интимных отношениях, когда не знаете!
– Полноте. Так зря не пойдете хлопотать о паспорте. Да к тому же, еще говорите, что тридцать рублей от себя даете. Вздор, пустяки, – не унимался муж Малковой.
– Я вас прошу замолчать, господин Петров! – возвысил голос Лагорский и сказал это так строго, что даже извозчик обернулся и в недоумении посмотрел на него.
Но муж Малковой не унимался.
– Да перед кем вы стесняетесь-то? Перед кем церемонитесь-то? Передо мной, что ли? – сказал он. – Так я, батенька, теперь к этому так равнодушен, что мне решительно все равно, с кем она живет. Теперь уж я сам обзавелся давным-давно другой бабой. А вот за протори и убытки мне плати. Требую и за грех не считаю. А вовсе не за конфуз беру, вовсе не за то, что она своим поведением конфузит мою фамилию. За конфуз деньгами не утешишь.
– Какой вы циник, господин Петров! – опять вырвалось у Лагорского.
Муж Малковой не возражал. Через несколько минут он стал просить Лагорского заехать по дороге в трактир и «выпить по чапорушечке», но Лагорский и на это не согласился.
– Не хотите? Жаль. А между тем вам следовало бы меня угостить. Прямо из деликатности следовало бы… – говорил муж Малковой. – Ведь я вам сто двадцать рублей спустил за паспорт-то. Ну да бог с вами!
Лагорский молчал и нетерпеливо ждал, когда они приедут к саду «Сан-Суси». В конце пути, уже близ самого сада «Сан-Суси», муж Малковой, увидав трактир, заговорил:
– Остановитесь, голубчик, у трактира… Я забегу и на свои выпью. Я на скору руку…
Лагорский и на это не согласился.
– После выпьете, после. Получите деньги, вручите Вере Константиновне паспорт и тогда пейте, сколько хотите, – сказал он.
– Злой вы человек… – пробормотал муж Малковой, трогая Лагорского за плечо. – Совсем злой. И с чего вы так против меня? За что? А между тем ведь мы с вами по Вере-то Константиновне свояки… Хоть вы и отрекаетесь, а свояки…
Они подъехали ко входу сада «Сан-Суси». Лагорский выскочил из пролетки и стал рассчитываться с извозчиком. Вылезал из пролетки и муж Малковой и бормотал:
– Буфет здесь, наверное, есть, стало быть, я и доволен, что и требовалось доказать.
Глава XVIII
Репетиция уж давно началась, когда приехали в театр Лагорский и муж Малковой. Первый акт «Каширской старины» уж кончили. На репетиции присутствовал и содержатель театра Чертищев. Это был высокий тощий человек средних лет, с бородкой клином и усами в стрелку, с длинными волосами, зачесанными назад, брюнет, одетый в серое пальто и серую шляпу с широкими полями, которую он носил набекрень. На кистях его рук были золотые браслеты, пальцы были унизаны кольцами. Он тотчас же подбежал к Лагорскому с упреком.
– Что же вы, батенька! Где же вы это пропадаете! А мы вас ждем и ждем, – заговорил он. – Уж послали за вами рассыльного на дачу. Мы хотели поскорей кончить репетицию и служить молебен ради открытия.
– Ездил в ломбард закладывать свои вещи, – отрезал Лагорский. – Я нищ, как Иов, а в конторе денег мне не дали. Я был давеча. Просил, чтоб за вами послали, но мне сказали, что вы в городе.
– Дадим, дадим, милейший. Малую толику дадим. Но все-таки нельзя же так… Ведь вы нас на час задержали, голубчик.
– Боже мой… Но ведь можно было проходить сцены, которые без меня.
– И прошли первый акт, но Малкова капризится, остановила репетицию… Говорит: последняя репетиция, я так не могу, я артистка и уважаю искусство. Но мы-то в два часа хотели служить молебен, а уж теперь опоздали. Начинайте скорей, голубь мой… Мы на вашей сцене остановились.
– Сейчас, сейчас начну.
Лагорский подошел к Малковой. Та встретила его грозно.
– Послушайте… Это ни на что не похоже, – сказала она. – Из-за разных дел вашей супруги вы даже на репетицию не являетесь. Или, может быть, комнату со столом для Настиной искали? Так эти мальчишечьи побегушки вы могли бы и после репетиции исполнять.
– Ни то ни другое, Вера Константиновна, – тихо отвечал Лагорский. – Я был на побегушках для тебя. Съездил в ломбард, заложил свои вещи для твоего мужа, сторговался с ним насчет паспорта и привез его сюда самого с паспортом.
– Зачем это вы его привезли? Кто вас просил? Я видеть его не могу! – возвысила голос Малкова и вся переменилась в лице. – Вы, кажется, задумали вконец меня извести.
– Что же мне было делать, если он не отдал мне паспорта и непременно хотел вручить тебе его сам! Думаешь, мне тоже приятно возиться с пьяным идиотом? А тебе теперь остается только вручить ему восемьдесят рублей, которые я тебе сейчас передам, и получить от него паспорт. Я за сто восемьдесят рублей с ним сторговался.
Лицо Малковой несколько прояснилось, но она Лагорскому не сказала даже спасибо.
Режиссер Утюгов захлопал в ладоши и закричал:
– Будем продолжать, господа! Будем продолжать. Господин Лагорский приехал. Василий Севастьяныч, начинайте, бога ради, начинайте! – обратился он к Лагорскому. – И так уж мы вас сколько времени ждали.
– Ну, с мужем я потом… Скажите ему, чтобы он подождал… – пробормотала Малкова.
Муж Малковой стоял в кулисах. Лагорский подошел к нему и объявил:
– С полчасика вам подождать придется. Присядьте вон там на скамейку. А нас торопят репетировать.
– Я хотел бы рюмочку… Где здесь у вас буфет? – пробормотал муж Малковой.
Но Лагорский ничего ему не ответил, отошел от него и начал репетировать.
Кончили еще один акт. Муж Малковой по-прежнему торчал в кулисах.