Конец старинной музыки. История музыки, написанная исполнителем-аутентистом для XXI века бесплатное чтение
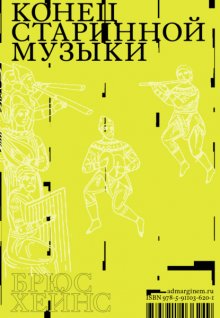
COPYRIGHT © 2007 BY BRUCE HAYNES
The End of Early Music was originally published in English in 2007. This translation is published by arrangement with Oxford University Press. Ad Marginem is solely responsible for this translation from the original work and Oxford University Press shall have no liability for any errors, omissions or inaccuracies or ambiguities in such translation or for any losses caused by reliance thereon.
ООО «АД МАРГИНЕМ ПРЕСС», 2023
Эрато, музе лирики и любовной поэзии,
Эвтерпе, музе музыки,
Джони М. [1], почтенному и почетному доктору безутешной гармонии, которых я смиренно прошу быть покровительницами этой книги
Мы пленники на карусели времени. Мы не можем вернуться, мы можем лишь оглянуться назад, туда, откуда пришли.
Джони Митчелл. The Circle Game. 1966
От автора
Пока я корпел над книгой, полной слов о музыке, меня не покидала мысль, высказанная Джоном Хокинсом в его «Истории музыки» 1776 года: «Традиция лишь на короткий миг прошепчет имя простого исполнителя, каким бы изысканным ни было наслаждение, которое его талант доставил тем, кто внимал ему, тогда как теория, однажды доверенная бумаге и признанная, живет, по крайней мере в библиотеках, столько же, сколько и язык, на котором она была изложена» [2].
Музыка движется, а слова отстают. Но, даже будучи записанными, слова с трудом улавливают сущность такого мимолетного явления, как музыка. «Вообразим человека, прочитавшего все когда-либо написанные книги о музыке, – пишет Роджер Норт (этот неисчерпаемый источник музыкальной мудрости), – я не смею предположить, что музыку можно понять из них, как и вкус мяса из кулинарных книг» [3].
Такой предмет, как музыка, манит нас, побуждает нас продолжать поиск, хотя мы знаем, что в итоге останется больше вопросов, чем ответов. Хокусай, величайший художник, верно уловил дух примирения необъятности нашего воображения с ничтожностью достижений нашей короткой жизни:
Я люблю живопись с тех самых пор, как осознал это будучи шестилетним. В пятьдесят я написал несколько картин, которые показались мне довольно неплохими, но, в сущности, почти ничего из написанного мною до семидесяти лет не представляет никакой ценности. В семьдесят три я наконец познал всё, что есть в природе, – птиц, рыб, животных, насекомых, деревья, травы – всё. В восемьдесят я пойду еще дальше и по-настоящему овладею секретами искусства в девяносто. Когда мне исполнится сто, моя живопись обретет истинное совершенство, а конечной цели я достигну приблизительно к ста десяти годам, когда на моих картинах каждая линия и точка будут полны жизни. Всем вам, кто собирается прожить так же долго, как я, обещаю сдержать свое слово [4].
«Ars longa, vita brevis» [5]. Хокусай дожил только до восьмидесяти девяти (!), так что ему не удалось исполнить свое экстравагантное обещание. Сомневаюсь, чтобы его это удивило или хотя бы расстроило. Мы, люди, делаем что можем и, если нам везет, радуемся этому. Вот итог, к которому пришел Окакура Какудзо:
Небеса современного человечества разбиты в результате борьбы за богатство и власть. Мир бредет на ощупь во мгле эгоизма и вульгарности. Знания покупаются только через нечистую совесть. Доброта практикуется только ради собственой выгоды. Восток и Запад, подобно двум драконам, брошенным в море, тщетно борются, чтобы завоевать сокровище жизни. <…> Мы нуждаемся в Ниуке снова, чтобы избежать великого человеческого опустошения. Мы ожидаем свершения аватары…
А тем временем давайте попьем чая. Полуденный зной озаряет деревья бамбука, фонтаны бурлят с восхищением, шелест сосен слышен в нашем чайнике. Давайте помечтаем о чем-то бесконечно малом, мимолетном и задержим на мгновение свое внимание на красивом безрассудстве вещей… [6]
Изложенные ниже мнения о стиле, исполнении, передаче чувств и других мимолетностях не всегда аргументированы. Они – всего лишь личные отражения сегодняшнего состояния HIP-движения [7] с точки зрения того, кто был вовлечен в него с начала 1960-х годов. Роджер Норт в 1728 году, обращаясь ко мне, а возможно, и ко всем нам, писал: «Я понял, что не знал собственных мыслей, пока не записал и не перечел их; и тогда по большей части туман рассеялся, и пристрастия и неудачи предстали в ясном свете» [8]. Я рад поделиться этими мыслями с вами. Если повезет, они, может быть, вдохновят и вас записать собственные.
Маттезон цитирует Сарториуса, показавшего на примере пары башмаков, что voto non vivitur uno, «одного [башмака. – Пер.] недостаточно» [9] [10].
Столько людей делилось со мной мыслями, что немудрено, если я кого-нибудь из них забуду упомянуть.
Три года назад Канадский совет по делам искусств великодушно предоставил мне исследовательский грант, чтобы я мог «записать и перечесть собственные мысли», составившие эту книгу. Единственное, чего нельзя увидеть, держа ее в руках, это моря удовольствия, которое я испытывал, отдавая этому проекту львиную долю своего времени, и невероятных возможностей для изучения, которые он предоставил мне. Итак, я начну с благодарности совету за поддержку этого и многих других проектов.
Я пообещал Канадскому совету, что моя книга не будет сугубо музыковедческой, и сдержал свое обещание (притом что, готовя ее, прочитал массу книг, многие из которых написаны музыковедами). Временами я думал даже, не отказаться ли от цитирования, но мой долг перед моими многочисленными предшественниками слишком велик, чтобы пойти на это.
Разумеется, своей неизменной любовью к музыке и той ее части, которую понимаю, я обязан своим родителям, познакомившим меня с ней в раннем возрасте и делившим со мной ее радости на протяжении всей жизни. Я также рад и горд назвать пятерых выдающихся музыкантов, которые были достаточно любезны, чтобы в разное время быть моими музыкальными наставниками: Росс Тейлор, Алан Кёртис, Франс Брюгген, Сигизвальд Кёйкен и Густав Леонхардт. Кроме того, я многому научился и получил неоценимую помощь в формулировании мыслей благодаря общению с удивительным музыкантом, Сьюзи Нэппер (с которой мне посчастливилось жить вместе и воспитывать троих детей). Мысли, высказанные в этой книге, не обязательно принадлежат этим людям, но я надеюсь, им понравятся некоторые из них или ракурс, в котором я их рассматриваю.
За советы и содействие в написании книги я хочу сердечно поблагодарить Сесила Адкинса, Джона Батта, Тома Бегина, Альфредо Бернардини, Джея Бернфелда, Тамару Бернстайн, Джеффри Бёрджесса, Джона Блэка, Жанну Бове, Жузепа Бораса, Хосе Боуэна, Джеда Венца, Ури Голомба, Пэта Гранта, Пегги Грис, Люси ван Дал, Росса Даффина, Роланда Джексона, Сэнда Дэлтона, Барта Кёйкена, Мэри Киркпатрик, Майкла Коллвера, Анжель Лаберж, Жана Ламона, Марка-Оливье Ламонтаня, Брэда Лемана, Вашингтона Макклейна, Маттиаса Мауте, Билла Меткалфа, Скотта Меткалфа, Винфрида Михеля, Катрин Мотуц, Кейт ван Орден, Ричарда Острофски, Саманту Оуэнс, Тима Парадайза, Мэг Партридж, Мэтью Писмана, Джесси Рида, Джошуа Рифкина, Ноэла Салмонда, Скипа Семпе, Жюльена Сольгрейна, Стива Стаббса, Тери Ноэла Тоу, Джона Уайлда, Питера Уоллса, Ната Уотсона, Артура Хааса, Стива Хаммера, Стевана Харнада, Алана Дж. Хаулетта, Анаис Хейнс, Кита Хилла, Роберта Хилла, Питера Холмана, Николаса Эйвери, выпускников моих шести очень интересных семинаров в Университете Макгилла в 2005–2007 годах; слушателей моих лекций в Барселонском музыкальном колледже (ESMUC) в 2003 и в 2005 годах и в Амстердамской консерватории в 2005 году; и других, кто, надеюсь, простит меня за временный провал в памяти.
Наконец я хотел бы сказать несколько слов о негромкой, но очень важной поддержке, которую оказывает исторически ориентированному музыкальному сообществу издательство Оксфордского университета. Две из пяти наиболее важных книг, на которые опирается моя работа, выпущены издательством Oxford University Press, в котором выходит и незаменимый журнал Early Music. Я лично благодарен за поддержку и помощь редакторам этой книги, в их числе Сьюзан Райан, Норману Хёрши, Роберту Милксу и Линн Чайлдресс.
Я признателен издателям за разрешение использовать фрагменты следующих источников:
Mitchell J. The Circle Game, Words and Music. © 1966 (Renewed) by Crazy Crow Music (BMI). Все права защищены. Использовано по разрешению.
Small C. Musicking: The Meanings of Performing and Listening. Р. 2, 164, 220, 267, 272, 464, 426, и 421. © 1998 Christopher Small. Перепечатано с разрешения Wesleyan University Press.
Harnoncourt N. Musik als Klangrede. © 1982 Residenz Verlag, Salzburg.
Brown C. Classical and Romantic Performing Practice. 1999. С разрешения Oxford University Press.
Taruskin R. Text and Act: Essays on Music and Performance. 1996. С разрешения Oxford University Press.
Список аудиопримеров
Аудиопримеры можно найти, пройдя по ссылке: https://global.oup.com/us/companion.websites/9780190687489/resources/
В тексте они отмечены символом: ▶
1 ▶ Амстердамский барочный оркестр, Коопман, 1996. Бах. Кантата BWV 207a. Часть 1. Erato. Трек 1. 0–0:27
2 ▶ Musica Antiqua Köln, Гёбель, 1996. Бах. Кантата BWV 207. Часть 1. Archiv. Трек 1. 0–0:38
3 ▶ Неизвестный оркестр, Стоковский, 1957. Бах. Духовная песня «Komm, süsser Tod», BWV 478 (обработка Стоковского). EMI Classics, 7243 5 66385 2 5. Трек 2. 2:02–2:50
4 ▶ Сара Брайтман, 2001. Гендель. «Lascia ch’io pianga». Angel 7243 5 33257 2 5. Трек 6. 0–0:51
5 ▶ Сюзи Леблан, 2001. Гендель. «Lascia ch’io pianga». Atma ACD 2 2260.
Трек 4. 0–0:52
6 ▶ Concentus Musicus, Арнонкур, 1981/1983. Бах. Бранденбургский концерт № 2. Часть 2. Ultima LC 6019. Трек 1:2. 0–0:27
7 ▶ Bath Festival Orchestra, Менухин, начало 1960-х (?) [11]. Бах. Бранденбургский концерт № 2. Часть 2. EMI Classics, 7243 5 68516 2 7.1
Трек 6. 0–0:33
8 ▶ Филадельфийский оркестр, Стоковский, 1928. Бах. Бранденбургский концерт № 2. Часть 2. Andante (первое издание – Victor), ISBN 0-9712764-6-3. Трек 2:11. 0–0:44
9 ▶ Аделина Патти, 1905. Моцарт. «Voi che sapete». Nimbus NI 7840/41. Трек 2:1. С 2:20 до конца
10 ▶ Оркестр Консертгебау, Хор Toonkunst Амстердам, Менгельберг, 1939. Бах. Страсти по Матфею. Хор «Wir setzen uns mit Tränen nieder». Naxos 8.110880–82. Трек 3:11. 6:55–7:50
11 ▶ Gabrieli Consort & Players, Маккриш, 2002. Бах. Страсти по Матфею.
Хор «Wir setzen uns mit Tränen nieder». Archiv 474 200–2. Трек 2:33.
5:00–5:31
12 ▶ Неизвестный оркестр, Стоковский, 1957. Бах. Сюита № 3, BWV 1068. Ария («Ария на струне соль»). EMI Classics 7243 5 66385 2 5. Трек 8. 1:10–2:10
13 ▶ Академия старинной музыки, Берлин, 1995. Бах. Сюита № 3, BWV 1068. Ария («Ария на струне cоль»). Harmonia Mundi HMX 2908074.77. Трек 2. 0:42–1:24
14 ▶ Алессандро Морески, 1904. Бах/Гуно. Ave Maria. DG 4590652. Трек 2. 0:53–1:43
15 ▶ Ванда Ландовска, 1933. Бах. Гольдберг-вариации. Тема. EMI Classics 7243 5 67200 2 2. Трек 1. 2–1:14. 0–0:31
16 ▶ Ванда Ландовска, 1933. Бах. Гольдберг-вариации. Вариация № 13. EMI Classics 7243 5 67200 2 2. 0:38–1:23
17 ▶ Густав Леонхардт, 1965. Бах. Гольдберг-вариации. Вариация № 13. Teldec LC 6019. Трек 14. 0:35–1:19
18 ▶ Пьер Антай, 2003. Бах. Гольдберг-вариации. Вариация № 13. Mirare MIR 9945. Трек 14. 0:34–1:19
19 ▶ Роберт Хилл, 2004. Бах. Гольдберг-вариации. Вариация № 13. Частная запись. Трек 34. 0:32–1:11
20 ▶ Франс Брюгген и Франс Вестер, 1963 (?). Телеман. Концерт ми минор для блокфлейты и флейты. Teldec ASIN: B000000SII. Трек 8.
0–0:46
21 ▶ Брюгген, Билсма, Леонхардт, 1962. Гендель. HWV 365. Часть 3. Telefunken 6.35359. Трек 2. 0–0:48
22 ▶ Брюгген, Билсма, Леонхардт, 1973. Гендель. HWV 365. Часть 3. ABC Classics ABCL-67005/3. Трек 3. 0–0:49
23 ▶ Брюгген, Билсма, Леонхардт, 1962. Гендель. HWV 360. Часть 3. Telefunken 6.35359. Трек 4. 0–0:38
24 ▶ Брюгген, Билсма, Леонхардт, 1973/1974. Гендель. HWV 360. Часть 3. Трек 5. 0–0:38
25 ▶ Неизвестный оркестр, Стоковский, 1957. Бах. BWV 565 (обработка Стоковского). EMI Classics 7243 5 66385 2 5. Трек 11. 0–0:46
26 ▶ Лос-Анджелесский филармонический оркестр, Салонен, 1999. Бах.
BWV 565 (обработка Стоковского). Sony Classical SK89012. Трек 1. 0–0:50
27 ▶ Берлинский филармонический оркестр, Караян, 1952. Бах. Месса си минор. Первое Kyrie, такты 30–34. EMI-Angel 350 °C (35015-6-7); более поздние переиздания: EMI Réferences CHS 7 63505-2, EMI Classics 5 67207 2 5. 0–0:32
28 ▶ Амстердамский барочный оркестр, Коопман, 1994. Бах. Месса си минор. Первое Kyrie, такты 30–36. Erato 4509-98478-2. 0–0:31
29 ▶ Йозеф Иоахим, 1903. Бах. Соната для скрипки соло соль минор. Адажио. Opal CD 9851. Трек 2. 0–0:40
30 ▶ Иегуди Менухин, 1935. Бах. Соната для скрипки соло соль минор. Адажио. EMI Classics 7243 5 67198 2 8. Трек 1:1. 0–0:49
31 ▶ Люси ван Даэль, 1996. Бах. Соната для скрипки соло соль минор. Адажио. Naxos. Трек 1:1. 0–0:34
32 ▶ Оркестр Венской филармонии, Хёффген, Фуртвенглер, 1954. Бах. Страсти по Матфею. Ария «Erbarme dich». EMI Classics. Track 2:9.
1:16–1:53
33 ▶ Г. Кох, романтический гобой, М.Фризенхаузен, Г. Риллинг. Бах.
Кантата BWV 187. Часть 5. Hänssler CD 92.056. Track 22. 0–0:49
34 ▶ Брюс Хейнс, барочный гобой, М. Эммерман, Г. Леонхардт, 1989. Бах. Кантата BWV 187. Часть 5. Teldec 8.35836 ZL 244179-2. Трек 2:5. 0–0:58
35 ▶ Фриц Крейслер, 1911. Крейслер. Liebeslied. DG 4590652. Трек 13. 0–0:56
36 ▶ Джошуа Белл, 1996. Крейслер. Liebeslied. Decca 44409. Трек 7. 0–0:59
37 ▶ М. Петри и Дж. Малкольм, 1984. Марчелло. Соната фа мажор. Ларго. Philips 412 632-2. Трек 21. 0:29–1:23
38 ▶ Стиви Уандер и Take 6, 1992. O thou that tellest good tidings to Zion (из релиза «Handel’s Messiah: A Soulful Celebration»; композиция Мервина Уоррена). Reprise 9 26980-2. Трек 8. 0–0:55
39 ▶ Леонхардт Консорт, Эквилуз, Леонхардт, 1987. Бах. Кантата BWV 165. «Jesu, meines Todes Tod». Teldec. Das Kantatenwerk, vol. 39. 0–0:31
40 ▶ Bach Collegium Japan, Сакурада, Судзуки, 1996. Кантата BWV 165. «Jesu, meines Todes Tod». BIS CD-801. Трек 13. 0–0:26
41 ▶ Леонхардт Консорт, Квекзильбер, Смитерс, Леонхардт, 1976. Бах. Кантата BWV 51. Часть 5. Teldec. Das Kantatenwerk, vol. 14. Трек 5. 0–0:19
42 ▶ Bach Ensemble, Бэйрд, Холмгрен, Рифкин, 1986. Бах. Кантата BWV 51. Часть 5. Florilegium 417 616 2. Трек 12. 0–0:21
43 ▶ Bach Ensemble, Шоппер, Рифкин, 1995–1996. Бах. Кантата BWV 182. Часть 4. «Starkes Lieben». Dorian DOR 93231. Трек 4. 0–0:51
44 ▶ Амстердамский барочный оркестр, Мертенс, Коопман, 1995. Бах. Кантата BWV 182. Часть 4. «Starkes Lieben». Erato 0630-12598-2. Трек 4. 0–0:46
45 ▶ Ансамбль Henry’s Eight, 1997. Клемент-не-Папа. «Ego flos campi». Etcetera KTC 1214. CD 16596. Трек 1. 0–0:48
46 ▶ Ансамбль Concerto Italiano, 1994. Монтеверди. Вторая книга мадригалов. «Non si levava ancor l’alba novella», op. 111. OPS 30–111. CD 10376. Трек 1. 0–0:46
47 ▶ Ансамбль Complesso Barocco, Кёртис, 1996. Монтеверди. «Lamento
della ninfa». Virgin Classics 7243 5 45302 2 7. CD 12778. Трек 8. 2:29–3:20
48 ▶ Ансамбль Complesso Barocco, Кёртис, 1996. Монтеверди. «Or che ’l ciel». Virgin Classics 7243 5 45302 2 7. Трек 17. CD 12778. 1:00–1:59
49 ▶ Джошуа Белл, 1996. Крейслер. «La Précieuse» (приписывалась Луи Куперену). Decca 44409. Трек 5. 0–0:52
50 ▶ Ансамбль Gabrieli Consort & Players, Маккриш, 2002. Бах. Страсти по Матфею. Хор «O Mensch, bewein dein Sünde groβ». Archiv 474 200–2. Track 1:29. 5:18–6:00
51 ▶ Бальбатр. Романс (1779). С виниловой пластинки, выпущенной в комплекте с переизданием Фуллера, 1979. Musical Box Society. 0–0:58
52 ▶ Эдди Саут, Стефан Грапелли (!), Джанго Рейнхардт, Поль Кордонье, Париж 1937. Бах. Концерт для двух скрипок (свинговая версия). The Chronological Eddie South. Classics Records 737. ASIN B000001NOI. Трек 2. 0:50–1:48
53 ▶ Скип Семпе, 2004. Куперен. Павана фа-диез минор. Alpha 066. Track 8. 0–1:05
54 ▶ Гленн Гульд (клавесин). Гендель. HWV 426. Sony Classical SMK 52 590. Трек 1. 0–0:48
55 ▶ Гленн Гульд (клавесин). Гендель. HWV 428. Sony Classical SMK 52 590. Трек 9. 0–0:57
56 ▶ Густав Леонхардт, 1991. Форкре. «La Morangis». Клавесин Сковронека, подписанный «Nicholas Lefébure, Rouen, 1755». Sony Vivarte SK 48 080. Трек 5. 0–0:51
57 ▶ Преподобный К. Л. Франклин. Проповедь «Pressing on», 1955. Universal Music Special MCAD-21145. Треки 1–2. 6:49–7:48
58 ▶ Ансамбль Il Giardino Armonico, Чечилия Бартоли, 1999. Вивальди. «Qual favellar?» Decca 289 466 569-2. Трек 4. 1:02–1:52
59 ▶ Ансамбль Les Arts Florissants, Корреа, Кристи, 1992. Рамо. Кастор и Поллукс. Акт II, сцены 1 и 2. Ария Поллукса «Nature, Amour» и речитатив. Трек 2:1. 0:21–1:20
60 ▶ Ансамбль Concentus Musicus, Сузе, Арнонкур, 1972. Рамо. Кастор и Поллукс.
Акт II, сцена 1. Ария Поллукса «Nature, Amour». Teldec 8.35048. 0:20–1:16
61 ▶ Ансамбль Concentus Musicus, Сузе, Арнонкур, 1972. Рамо. Кастор и Поллукс. Акт II, сцена 2. Речитатив Поллукса. Teldec, 8.35048. 0–0:29
62 ▶ Амстердамский барочный оркестр, Мертенс, Коопман, 2001. Бах. Кантата BWV 13. Часть 5. Antoine Marchand. 2:36–3:22
63 ▶ Оркестр Консертгебау, Дуриго, Менгельберг, 1939. Бах. Страсти по Матфею. Ария «Erbarme dich». Naxos 8.110880-82. Трек 2:14. 0–1:11
64 ▶ Амстердамский барочный оркестр, Прегардьен, Коопман, 1995. Бах. Кантата BWV 172. Часть 4. Antoine Marchand. Трек 23. 0–0:23
65 ▶ Леонхардт Консорт, ван Альтена, Леонхардт, 1987. Бах. Кантата BWV 172. Часть 4. Teldec. Трек 11. 0–0:56
66 ▶ Хейнс, Нэппер, Хаас, 1998. Куперен. Седьмой концерт. Часть 1. Atma ACD 2 2168. Трек 2 полностью.
67 ▶ Хейнс, Тэйлор, Нэппер, Пурье, 1998. Бах. Кантата BWV116. Часть 2. Atma ACD 2 2158. Трек 5. 0–1:01
68 ▶ Сьюзи Нэппер, 2005. Коретт. Соната ре минор из «Les délices de la solitude». Часть 3. Atma ACD 2 2307
69 ▶ Надина Маки Джексон, 2005. Коретт. Соната ре минор из «Les délices de la solitude». Часть 3. MSR Classics MS 1171
70 ▶ К. Хунтгебурт и В. Михель, 1982–1985. Симонетти. Соната II. Часть 3. Adagio ma non tanto. Mieroprint EM 5000. Трек 13. 0:47–1:35
71 ▶ Людгер Реми, 1992. Томезини. Clavierstuck 2. Анданте ре мажор. Mieroprint EM 5005. Трек 2. 0:51–1:52
72 ▶ Ensemble Caprice, Ребель, 2001. Мауте. Концерт под именем Саммартини. Часть 3. Atma ACD2 2273. Трек 10. 0–1:06
Введение
В случае старины есть две крайности: полное пренебрежение и сплошные догадки.
Роджер Норт. 1728
Высшим званием «академических» в музыке мы наделяем музыкантов во фраках, исполняющих музыку, которую называют «классической». Но поскольку наше общество огромное значение придает письменности, эти классические музыканты любопытным образом эволюционировали: теперь они так хорошо читают ноты, что их естественная способность импровизировать атрофировалась. У большинства из них нет другой возможности, кроме как исполнять записанную музыку (наизусть или по нотам).
Одержимость письменностью породила озабоченность «репертуаром», каноном великих произведений, а также фетишизм текста, не позволяющий исполнителям вносить даже малейшие изменения в «шедевры» прошлого. Есть немало исследователей, которые посвятили свою жизнь раскрытию «замысла композитора». Поэтому не удивительно, что классические музыканты почти не импровизируют. В сущности, лишь единицы из нас способны импровизировать. Мы даже записываем наши украшения и каденции (которые изначально возникли как специально выгороженные места, где можно было импровизировать).
Прошу понять меня правильно: как музыканты, мы сегодня не хуже музыкантов прошлого. Но наше образование стало чрезмерно специализированным, направленным на исполнение записанной музыки. Дерек Бейли коротко обобщил текущую ситуацию:
Одна из причин, почему стандартная система западного музыкального образования готовит не-импровизаторов (то есть не просто скрипачей, пианистов, виолончелистов и т. д., а именно не-импровизаторов, музыкантов, заведомо неспособных импровизировать), в том, что она не только учит, как играть на инструменте, она учит еще и тому, что сочинение музыки – отдельная от игры на инструменте деятельность. Учиться сочинять музыку – это отдельное занятие, совершенно независимое от игры на инструменте [12].
Разделение между сочинительством и исполнительством существовало не всегда. В доромантическую эпоху импровизация и сочинительство были обычной практикой любого музыканта. Во времена, когда новые произведения были постоянно востребованы, быть композитором не считалось чем-то особенным, сочинительство было просто частью производства музыки. Но даже если музыкант не всегда записывал свои импровизации, он должен был уметь сочинять музыку прямо во время исполнения. Не будь у него этой способности, он не мог бы играть музыку того времени.
Барочная нотация подобна стенографии, эта ее особенность известна среди профессионалов как «эскизная» (thin) запись. Барочные композиторы редко выписывали обозначения фразировки, динамики, штрихов, колебаний темпа или тонкостей ритма. Тем не менее такого рода элементы, безусловно, подразумевались в самом стиле игры, и исполнители пользовались ими как само собой разумеющимися. Эскизная запись вовсе не потому эскизная, что еще не была изобретена «полная» (thick). Она была такой намеренно и предполагала спонтанные действия исполнителей. Недостаточно было бы играть или петь только то, что записано в нотах, это не удовлетворило бы слушателей, и менее всего композитора. Всё равно как если бы джазовый саксофонист играл только тему, повторяя ее без вариаций! В эпоху барокко музыканту требовалось меньше письменной информации, он сочетал в себе импровизирующего джазмена и играющего по нотам классического музыканта. В любом случае ни основные украшения (agréments), ни более изощренные passaggi [13] не могли быть точно записаны, а когда они импровизировались, что-то в произведении каждый раз звучало немного по-другому. Это создавало особую среду, которую усиливали другие компоненты: репетиции были минимальными, руководитель играл в составе ансамбля, а средства (например, исполнительский стиль и инструменты) постоянно менялись.
Современных и доромантических музыкантов разделяет, подобно завесе, смена идеалов и образа мыслей, сдвиг парадигмы, который олицетворяют промышленная революция, произошедшая между 1760 и 1840 годом, и прежде всего Французская революция, начавшаяся в 1789 году:
Отсчитывать историю культуры XIX века с года начала Французской революции удобно и правильно, хотя ничто в истории не «начинается» в конкретный момент. Несмотря на то что саму революцию породили идеи и условия, предшествовавшие этой дате, очевидно, что в событиях 1789 года кристаллизовались и сконцентрировались в нечто видимое, мощное и необратимое множество надежд, страхов и устремлений… Свидетельств нового направления в мышлении и культуре великое множество [14].
Музыкальная революция, похоже, не была постепенной. Случился настоящий прорыв в истории. Значительные изменения в конструкции и техниках игры на всех видах музыкальных инструментов в начале эпохи романтизма не были медленной эволюцией; это был разрыв с прошлым, произошедший менее чем за два поколения. Но появление новых разновидностей инструментов стало знаком чего-то большего. Менялся мир.
Веками идеалы и критерии качества литературы, архитектуры и изобразительного искусства определялись примерами, восходящими к классической Античности. Максимум, к чему стремились художники и писатели, – подражать этим «классическим» моделям. Но в музыке таких примеров не сохранилось; обнаружено крайне мало данных о характере древнегреческой и древнеримской музыки. Романтики дерзнули создать собственные классические модели, прибегнув к утонченным представлениям о музыке как «автономном» и «абсолютном» искусстве. Музыка наконец возвысилась от ремесла до искусства; стала «классической». Композиторы превратились в героев с ореолом гениев. Воздвигли музыкальные пантеоны, и в гипсовых мастерских началось производство бюстов композиторов, уподобленных множеству древнеримских императоров, чье сходство с реальными композиторами было делом случая.
В основании канона классических произведений лежат бетховенские симфонии. Этот способ мышления, который я называю канонизмом, с самого начала движения романтизма стал его краеугольным камнем и представлял собой фундаментальный сдвиг в западной музыкальной культуре. Современное каноническое отношение к музыке выражают основанные в XIX веке и сохранившиеся доныне музыкальные институты: издательства, журналы, оркестры, оперные театры и консерватории. Символы канонизма – концертные залы XIX века с увековеченными на фризах именами «великих композиторов».
Классический канон – это репертуар XIX века, который мы все знаем, несомненно, это прекрасная музыка, которой большинство музыкантов в наши дни посвящают свои таланты. В таком контексте произведения композитора воспринимаются едва ли не как священное писание. «Парадигма музыки, состоящей из произведений великих композиторов прошлого, зафиксированных в нотной записи и препоносимых нынешним поколениям в исполнении без существенных новшеств и в сопровождении текстовых программ» [15] прекрасно характеризует классическую музыкальную сцену сегодня. Канонизм избирателен; вход во владения богоравных – великих композиторов – был фактически закрыт примерно со времен Первой мировой войны.
Несмотря на то что влияние канонизма по-прежнему достаточно велико, большинство музыкантов в наши дни вряд ли осознают его как концепцию. Тем не менее канонизм настолько распространился и вошел в привычку, что его роль не сводится к формированию основы репертуара для оркестровых прослушиваний: любой хороший молодой инструменталист знает, чего от него ждут при исполнении того или иного произведения, вплоть до направления смычка, динамических нюансов и мест для взятия дыхания.
Как следствие, каноническая идеология формирует исходные посылки у классически ориентированных музыкантов. Они включают в себя:
● пиетет перед композиторами, выражающийся в культе гения и оригинальности;
● почти священное благоговение перед музыкальными «сочинениями»;
● одержимость замыслом композитора;
● обычай слушания музыки как ритуала;
● привычка к повторному прослушиванию ограниченного круга произведений.
Канонизм – строго «классическая» вещь. Джазовых музыкантов не волнует «замысел» композитора, в роке не придают большого значения тому, кто «сочинил» произведение, поп-музыка не зацикливается на предписанном и неизменном репертуаре. Всё это не обременяло также и наших предшественников примерно до 1800 года. Барочные композиторы, в конце концов, не были творцами. Они были искусными мастерами, подобно строительным подрядчикам или жокеям на скачках в наши дни, более заинтересованными в мастерстве, чем величии. Так и партитуры, в которых была записана их музыка (а чаще набор инструментальных партий), не имели иного значения, кроме облегчения их текущей работы, которая заключалась в проведении концертов. В любом случае страницы с нотами, которые они раздавали, были неполными и совершенно бесполезными без музыкантов, знавших, как превратить их в музыку.
Современные музыканты-аутентисты тоже заколдованы канонизмом. Как правило, имея классическое образование, они нередко путают верность стилю с верностью герою-композитору. Вопреки собственной логике они иногда трактуют партитуру как нечто неприкосновенное, а значит неизменное. Они обычно игнорируют девяносто процентов исторического репертуара для своих инструментов, который пылится на библиотечных полках, предпочитая снова и снова слушать и играть одни и те же произведения (такие как «Мессия» и Рождественская оратория) гораздо чаще, чем им предназначалось некогда звучать. Они также нередко бездумно смешивают историческое исполнительство с «классической» музыкой (выступая в викторианских смокингах и фраках, ставших в настоящее время униформой романтических и современных симфонических оркестров) и играют в анахроничной среде (в специально построенных концертных залах, заполненных молча внимающей публикой). Всё это – порождения канонизма; ничто из этого не считалось необходимым до Нового времени.
Один из основных тезисов движения HIP – отрицание идеи прогресса в искусстве, которая всё еще держит многих из нас в (неосознанном) плену. История музыки, утверждают исполнители-аутентисты, это не история постепенного улучшения; или, словами Коллингвуда, «Бах не был несостоявшимся Бетховеном, а Афины – несостоявшимся Римом» [16]. Историю искусства можно рассматривать как разновидность дарвиновской эволюции только с одним важным условием: эволюция следует принципу необходимой адаптации к окружающей среде. Цели концерта Вивальди существенно отличались от целей концертов Моцарта, Бетховена или Паганини; сравнивать их имеет смысл только с учетом различия артистических задач. И самое главное: теория эволюции терпит крах, когда сопоставляется с ценностными суждениями. Среди музыкантов наиболее распространено представление о том, что искусство развивается непрерывно, достигая совершенства в настоящем. Из этого следует, что мир искусства сегодня должен быть лучшим из всех возможных миров, – вывод, с которым большинству людей трудно согласиться [17].
Чтобы понять все фундаментальные различия между романтической и предромантической музыкой, требуется время. Можно даже сказать, что работа современных музыкантов-аутентистов состоит в кропотливом осознании того, насколько звучание доромантического произведения может отличаться от всего, что они слышали прежде. И это осознание часто сопровождается эффектом, известным как «счастливая находка». «Счастливая находка» – это событие, когда мы непреднамеренно совершаем радостное и ценное открытие [18]. Подобно Колумбу, искавшему путь в Индию, но вместо нее случайно открывшему Америку.
Эффект счастливой находки прямо связан со стремлением к аутентичности. Он ставит нас перед вопросом – отнюдь не праздным, – действительно ли важно, что мы воспроизводим сочинение во всех деталях именно так, как оно было создано в свое время. Мой опыт вполне достоверный: часто причина непонятных практик проясняется лишь тогда, когда мы сами воспроизводим их в точности, порой в течение длительного времени. Можно сказать, что если стараться быть исторически последовательным, то настойчивость – как принцип музыкантства (musicking) – в конце концов проявит логику, которая не была очевидна сразу. За эксперимент «счастливая находка» обещает награды, хотя и не гарантирует их.
Сам Ричард Тарускин утверждает, что исторически последовательное мышление способно открыть…
…ум и слух [музыкантов. – Пер.] к новому опыту и дает возможность преодолеть привычные и, следовательно, неотрефлекcированные способы слушать музыку и размышлять о ней. <…> Цель не в том, чтобы копировать звуки прошлого, ведь если бы это было нашей целью, мы никогда бы не узнали, преуспели ли мы. Мы стремимся скорее к потрясению новизной, непосредственностью, к ощущению правоты, которое возникает, когда после бесчисленных разочарований и неудачных экспериментов мы понимаем, что добились совпадения исполнительского стиля с требованиями музыки. [19]
До революции романтизма музыка и вообще искусства основывались на ценностях и практиках, которые фундаментально отличаются от тех, что мы называем «современными». Величину зазора трудно оценить и зачастую нелегко увидеть. Эти различия рассматриваются подробнее в последующих главах, но здесь я хочу дать некоторое представление о них, чтобы показать, что сквозь завесу романтизма, которая висит между ними и нами, смутно проступает альтернативная система, другой этос. Это был этос действующий, и, хотя он не нужен нам целиком, как не нужны экономика и формы правления той эпохи, мы можем извлечь из него уроки и черпать вдохновение для нашего времени. По крайней мере, знание альтернативной системы ценностей поможет нам лучше понять собственную.
По словам Уолтера Онга, «до современной технологической эпохи, которая фактически началась с промышленной революции и романтизма, западная культура в своих интеллектуальных и академических проявлениях может быть с полным основанием описана как риторическая культура» [20]. О риторике как системе публичного выступления и убеждения, изобретенной древними греками, развитой римлянами и с энтузиазмом возрожденной в эпоху Возрождения, говорили и спорили практически все, кто писал о музыке примерно до 1800 года.
Риторическая музыка имела своей главной целью обозначать и вызывать эмоции – аффекты, или страсти, – которые разделялись всеми, и публикой, и исполнителями. Каноническая музыка, напротив, была, как правило, в некотором смысле автобиографична, она выражала глубинные чувства художника-композитора: очищающие или просветляющие, но прежде всего уединенные и индивидуальные. Другим отличием был сам процесс исполнения, при котором барочному композитору лучше было быть живым, потому что, только играя, он мог представить собственную музыку наилучшим образом, тогда как романтическому художнику-композитору, наоборот, лучше было быть мертвым, поскольку таким образом было легче добиться признания своей гениальности. Еще одно отличие заключалось в том, что риторическая музыка была временной, как сегодняшнее кино – оценили и забыли, – каноническая же музыка вечная и непреходящая. Риторическая музыка была скоротечной, писалась по случаю, ее репертуар постоянно менялся. Каноническая музыка по определению неизменна, повторяема и общепризнана.
Утвердившийся канонизм вытеснил риторику, поставив ее едва ли не на один уровень с дурным вкусом; «риторический» в наши дни стал означать нечто «напыщенное». Неоспоримое господство идеи музыкального канона мешает нам сегодня представить себе, что в свое время принципы риторики были базовыми для музыкантов.
Мы не слишком задумываемся о том, что на самом деле эти старые пьесы были написаны не для нас. Никто тогда не знал, какими мы станем, на каких инструментах будем играть или чего ожидать от нашей музыки. В сущности, они даже не знали, что мы будем играть их сочинения. Следовательно, мы должны немного адаптироваться, приспособиться к их музыке.
И здесь мы подступаем к вопросу об аутентичности, потому что существует несколько подходов. Первый можно сравнить с «канадско-китайским» рестораном, который, пусть его рецепты (а то и шеф-повар) родом из Китая, едва ли удивит палитрой вкусов канадца, знающего, «как там у них». Это как если бы симфонический оркестр играл, например, «Времена года» Вивальди, вдохновляясь культурой, отдаленной от нас почти на триста лет, приноравливая ее к привычному звучанию симфонического оркестра. (Я не говорю «современного оркестра», потому что инструменты, на которых сегодня играют, ни в коем случае не современные; мы вернемся к этому позже.)
Но есть и другой подход к китайской кухне за пределами Китая. Некоторые люди ищут еду, не адаптированную ни к чьим вкусам; то, что мы можем назвать «аутентичной» китайской едой. В таких местах меню написаны исключительно по-китайски. Чтобы научиться ценить иную кухню, может потребоваться время, но опыту свойственно расширяться, возможно, более чем в одном направлении (!).
Для современных симфонических музыкантов, считает Карл Дальхаус, «музыка прошлого принадлежит настоящему как музыка, а не как документальное свидетельство» [21]. Джеймс Паракилас назвал это «музыкой как традицией»:
Классические исполнители представляют музыку как традицию, соединяя прошлое с настоящим. <…> Публика, слушающая музыку как традицию, воспринимает ее как нечто ей принадлежащее. <…> Классические композиторы, какими бы живыми и теплыми ни были их образы, говорят о вечном и универсальном. Они обращаются к современным слушателям, поскольку говорят с поколениями. [22]
В этой хроноцентричной парадигме время стоит на месте. Симфонии немца, рожденного в 1770 году [23], становятся современными. И поскольку его симфонии никогда не переставали исполнять, мы делаем вывод, что имеем дело с неизменным исполнительским стилем. Однако даже поверхностное знакомство с записями начала XX века показывает, что сохранять исполнительский стиль – то же, что пытаться удержать воду в ладони. Это прекрасная иллюзия – думать о современных симфонических концертах как части непрерывной традиции, но с исторической точки зрения нет большой разницы между симфоническими оркестрами и концертами «старинной музыки». И те и другие имеют дело с утерянными традициями, разница лишь в том, как они их мыслят.
На первый взгляд такое движение, как HIP (исторически информированное исполнительство), которое активно старается соединить историческую осведомленность с исторической музыкой, кажется идеальным примером канонизма – почитания мертвых композиторов. Но в том и состоит парадокс движения HIP, что оно вдохновляется прошлым, но не претендует, в отличие от канонизма, на то, чтобы быть его продолжением. HIP начинается в настоящем и заканчивается в настоящем. По мнению Коллингвуда, «революционер только тогда может считать свою революцию прогрессом, когда он вместе с тем является и историком, то есть человеком, который действительно воспроизводит в собственной исторической мысли жизнь, которую он тем не менее отвергает» [24]. HIP придает большое значение историческому измерению, оно обращает внимание на глубокие различия в музыке до и после 1800 года – в ее идеологии, ценностях и исполнительской практике. И поскольку HIP постепенно осваивает доканоническую, риторическую практику, оно сознательно отдаляется от ценностей и установок канонизма. Симфонический музыкант, исполняющий Брамса, и барочный музыкант, играющий Баха, – оба играют в стилях, устные традиции которых утеряны, но отличаются они друг от друга как «моргающий от подмигивающего», их личным восприятием того, что они делают по отношению к истории.
Более всего аутентизм подобен заявлению о намерениях. Абсолютно точное историческое исполнение, по всей видимости, невозможно. Во всяком случае, узнать, насколько оно удалось, нельзя. Но, собственно, цель не в этом. К интересным результатам приводит сама попытка быть исторически точным, то есть аутентичным.
Было время, когда «аутентичные» записи продавались, как «натуральные» помидоры сегодня. Музыканты обычно не составляли тексты в буклетах к своим записям, и когда там их исполнение описывалось как аутентичное, хотя на самом деле было лишь попыткой быть аутентичным, разница выглядела пустяковой.
До 1980-х годов движение HIP еще не было признано настолько, чтобы привлекать к себе серьезное внимание или благожелательную критику. Но в том же десятилетии Ричард Тарускин начал публиковать свои критические статьи и обзоры. Он блестяще сформулировал природу модернизма и его угрозы для HIP, оказав тем самым большую услугу музыке [25]. Своими убедительными и остроумными статьями Тарускин также вставил немало палок в колеса самому движению HIP, поставив под сомнение абсолютную достоверность исторических данных и мотивы исполнителей. К сожалению, благодаря его трудам аутентизм оказался заключенным в пугающие кавычки, что бытует и в наши дни. «Аутентизм» даже стали называть «зловещей теорией» и «наглой претензией». «Аутентичность» стала заклятием и какое-то время служила своего рода громоотводом для всех, кто был так или иначе недоволен этим движением.
Тем не менее идея, которую символизирует это слово, не собирается исчезать. Оно и понятно: аутентичность проста и логична, и (как мы видели) составляет сущность и средоточие концепции, именуемой HIP.
Тарускин возражал против моральных и этических обертонов в стремлении музыкантов-аутентистов использовать «инструменты или стили игры, которые исторически соответствуют исполняемой музыке» на том основании, что они обесценивают другие подходы к исполнительству. Заклиная «оскорбительное противопоставление», он спрашивал: кто же хочет пользоваться неаутентичными инструментами или стилями? [26]
Я не вижу здесь проблемы. Действительно, кто? Конечно, оценочное суждение присутствует, но ведь никто никого не заставляет менять свои инструменты или стиль игры. Какое бы слово мы ни использовали для исторически соответствующих практик, я не понимаю, почему выявление и признание исторических изменений стиля и инструментов нуждается в защите.
Мне кажется, если что и нуждается в защите и с логической и эстетической точки зрения, так это старый традиционный подход, хроноцентризм, описанный в первой главе, который настаивает на едином исполнительском стиле для музыки всех эпох и беспечно игнорирует различия музыкальных стилей и инструментов. Как-то мой коллега в шутку допытывался у меня, существуют ли приемлемые термины или аббревиатуры для различных форм «не-HIP» музицирования. Он предложил следующие варианты:
Исторически неосведомленное исполнение? Исполнение по диким догадкам? Угодно всё, что кажется верным? Что делал мой герой, то и верно? Не сделал домашнюю работу, буду играть как получится? Как пойдет? При чем тут история? Что бы ни делали в моей любимой записи, я должен делать так же? Только факты, мадам? Как делал учитель учителя учителя учителя моего учителя, потому что он был Бетховен? ОК, я немного увлекся, но все эти типы исполнения действительно существуют, даже если для них нет подходящих ярлыков. [27]
При всей шутливости этого списка, он довольно точно отражает причины, по которым не следует играть аутентично.
Давайте перевернем анахронизм и представим один из фортепианных концертов Брамса, исполняемый на клавесине. Идея абсурдная, но не более, чем исполнение баховских клавесинных концертов на современном рояле [28].
Как стало понятно нынешнему поколению, наша музыка – какая угодно, только не «старинная». В свое время была причина так ее называть: некогда «старинная музыка» отличалась от «нормальной», часто отличалась намеренно. Мы описываем неизвестное, сравнивая его с известным. Например, была обычная флейта Бёма, потом появились разновидности исторических флейт, такие как «барочная флейта», «ренессансная флейта» и так далее. То же самое было с «современным фаготом» и «барочным фаготом», «барочными ударными» и даже – что совершенно невероятно, если вдуматься, – с «барочной скрипкой»! Скрипке, архетипическому объекту и символу XVII века, было дано имя, подразумевавшее, что современная настройка струн, применяемая в симфонических оркестрах, представляет собой норму, просто «скрипку». Потом был клавесин, который, если бы не имел отдельного названия, был бы «барочным фортепиано». Аналогично и исторические исполнительские стили рассматривались как исключения и преподавались в специальном классе под названием «исполнительские практики», где можно было узнать обо всей этой орнаментации и других странных приемах игры, выходивших за рамки традиционного мейнстрима.
Но мейнстрим постоянно меняется, и эти «старинные» инструменты и «старинные» стили игры больше не кажутся таким уж исключительными или экзотическими. Теперь они уже скорее «новые», чем «старинные». Есть традиция, хотя и молодая, которая придает логику их существованию. Об этом свидетельствует то, что еще недавно, в 1980-е годы, записи часто рекламировались как сделанные на «исторических инструментах»; теперь редко встретишь такую надпись на CD. Эта практика стала обычной и не требует особого обозначения.
Итак, если «старинная музыка» больше не старинная, давайте подберем ей более точное название. Таким названием должна бы быть «современная музыка», поскольку это явление относительно недавнее. Но этот термин уже занят. На самом деле идеей, действительно передающей дух эпохи, которую мы называем «старинной», принципом, который мотивировал художников, интеллектуалов и музыкантов того времени, была риторика, искусство общения. Как я покажу в последующих главах, музыка была таким выдающимся примером прикладной риторики, что логично было бы именно риторику называть основной парадигмой музыки, ее операционной системой. Риторика в этом случае особенно уместна, поскольку она была системой, презираемой и игнорируемой романтиками. Таким образом, риторическая музыка выражает сущность музыкального духа до революции романтизма.
Итак, в начале этой книги мы свидетельствуем о маленьком конце «старинной музыки». С этого момента я буду называть ее новым именем – риторической музыкой.
Музыкантство – слово, придуманное очень интересным автором, Кристофером Смоллом. Он имел в виду, что музыка – это не вещь, а действие, которое включает в себя «всю музыкальную деятельность, от сочинения до исполнения, прослушивания плеера и пения под душем, даже уборка после концерта – тоже своего рода музыкантство».
Принимая определение Смолла, я понимаю музыкантство как мультидисциплинарный термин, который помогает мне выстроить собственную концепцию взаимосвязей в риторической музыкальной деятельности, куда входит исполнение, изготовление инструментов, редактирование музыки или обеспечение к ней доступа для музыкантов, обучение музыкальному исполнительству и музыкальной истории, изучение истории музыки, сочинение новых произведений и анализ существующих, и т. д. Всё это суть исторические формы музыкантства, и общую динамику им придает чувство стиля. Ко всем этим видам деятельности часто применяются – более или менее последовательно – одни и те же принципы и ценности.
Размышляя об именах вещей, Конфуций указывал, что, пока термины четко не определены, осмысленное обсуждение невозможно. Так что, вероятно, стоит потратить на них немного времени.
Как бы мы ни старались, нельзя узнать, насколько точно воссоздают наши современные реконструкции оригинальный репертуар и музыкальные практики до 1800 года. Поэтому, честно говоря, мы не можем давать одинаковые имена оригиналу и реконструкции. Таким образом, современная копия старинного оригинального инструмента есть инструмент эпохи, а современный музыкант, чье чувство стиля основывается на старом оригинальном стиле, – это «исторический исполнитель». Я использую термин «стиль эпохи» в общем смысле для бесчисленных стилей, объединенных лишь тем фактом, что все они должны быть восстановлены из утерянных оригиналов.
Стиль можно понимать двояко: романтизм, например, ассоциируется с романтическим исполнительским протоколом. Последний – это исполнительские техники и конвенции, манера или набор средств, в соответствии с которыми исполняется произведение и которые однозначно определяются как стиль. С другой стороны, стиль – общее отношение или позиция, имеющие место во всех видах искусства, включая музыку; это идеи, которые считаются само собой разумеющимися: философия, художественные концепции и мотивы, иначе говоря – его идеология. Классические музыканты играют, например, в современном стиле, не имея и малейшего представления о модернизме или о том, чем он отличается от романтизма. Я обычно выделяю эти два аспекта: исполнительский протокол и идеологию. Кажется странным, что оба эти аспекта любого стиля не соотносят друг с другом напрямую. Скажем, не усматривают причинную связь между портаменто и романтизмом.
В эпохе риторики мое внимание в первую очередь сосредоточено на музыке XVII и XVIII веков по двум причинам. Во-первых, это эпоха, которую я изучал как исполнитель. Во-вторых, мотивирующие принципы музыки этой эпохи, барокко, изначально революционные, почти полностью были уничтожены, когда их вытеснили, так что их возрождение снова кажется революционным.
Вот некоторые термины, которые я часто использую.
● Аффект (passion) – страсть; дух; настроение; психическое состояние; чувство; эмоциональная агогика: ритмическая свобода для выявления относительной важности нот в мелодии.
● Аутентичный – исторически точный и достоверный.
● Декламация (Vortrag) – игра или пение в страстной ораторской манере; выражение сильных чувств, адресованных к страстям слушателей. См. также красноречивый стиль.
● Длинная фраза (фраза с кульминацией) – фраза, разработанная в начале XIX века; часто исполняется на одном дыхании или смычке, начинается тихо, строится в направлении «цели» или «кульминации», затем затихает.
● Подача – преподнесение; эффектное, действенное исполнение; сравните с декламацией.
● Жестовая фразировка: основана на жестах и фигурах, а не на всеохватывающей протяженной линии.
● Идеология – философия, художественные предпосылки и особенности стиля, в отличие от исполнительского протокола (манеры, техник и правил, используемых при исполнении произведений).
● Иерархия долей – разница между сильными и слабыми долями такта; «хорошие» и «плохие» ноты.
● Изобретение/инвенция – основная композиторская тематическая идея как для целого произведения, так и для самого мелкого жеста в нем; первая стадия подготовки речи или композиции: вдохновение и аргумент.
● Исполнительская практика – распространенная практика; фактическое подтверждение того, какая музыка и каким образом исполнялась; практические стилистические условности реального исполнения.
● Историческая (Period) композиция – современное произведение, убедительно написанное в стиле одного из периодов прошлого.
● Исторический (Period) – подразумевает современное подражание определенному историческому периоду (как в случае «исторической мебели» или «исторических костюмов»). В этой книге обычно означает музыкальный стиль XVII и XVIII веков. Противоположен «оригинальному», старинному.
● Исторически вдохновленное/информированное/осведомленное исполнительство (HIP) – ответная реакция на движения романтизма и модерна. Другие названия: аутентичное движение, старинная музыка, историческое исполнительство, вторая практика. Противоположно оригинальному исполнению.
● Исторический (Period) инструмент – современный написанию исполняемой музыки.
● Исторический (Period) исполнитель – то же, что исполнитель-аутентист.
● Исторический (Period) стиль – стиль, более не передаваемый через устную традицию, требующий обращения к письменным источникам.
● Каноническая музыка – то же, что романтическая музыка.
● Классический период – примерно 1770–1800 годы.
● Красноречивый стиль – исполнительский стиль эпохи барокко, яркий, проникновенный и выразительный; игра или пение в страстной ораторской манере. Основывается на декламации и жестовой фразировке. Противоположен здесь тесному стилю.
● Музыкальная речь (Klangrede) – термин, введенный Иоганом Маттезоном.
● Музыкальный жест – обычная фигура; короткая последовательность нот; музыкальный блок, сегмент или раздел фразы; минимальная единица музыкального смысла, на которую может быть разделена мелодическая линия.
● Музыкантство (musicking) – неологизм Кристофера Смолла. Подразумевает «всю музыкальную деятельность, от сочинения до исполнения, слушания плеера и пения под душем – даже уборка после концерта является своего рода музыкантством» [29].
● Один голос на партию (one voice per part, OVPP) – способ исполнения барочной хоровой музыки, применяемый в произведениях Баха.
● Плюрализм – осознание исторического развития музыки и происходивших изменений стиля. Противоположен здесь хроноцентризму.
● Революция романтизма – эстетическая революция; великий раздел или культурный поворот, образованный промышленной революцией, примерно совпадает по времени с Великой французской революцией (1789) и Третьей симфонией Бетховена (1803).
● Реплика – копия, точная во всех деталях; клон.
● Риторическая музыка – музыка, созданная во времена, когда музыкальная риторика ценилась и использовалась, начиная с Возрождения и до конца XVIII века; отвергнута революцией романтизма.
● Романтизм – музыкальная идеология XIX и XX веков; не путать с романтическим стилем.
● Романтическая музыка – музыка примерно с 1800 года и далее (включая большинство современной музыки).
● Рубато (tempo rubato) – выразительное отклонение в темпе.
● Старинная музыка – см.: HIP, исторический стиль; риторическая музыка (все правомерны одинаково).
● Счастливая находка (serendipity) – способность случайно делать счастливые и полезные открытия.
● Тесный [30] стиль – форма исторического стиля, характеризуемая эмоциональной отстраненностью и нехваткой выразительности; стиль нынешнего исторического периода.
● Украшения (agréments) – обязательные украшения; мелкая орнаментика, такая как апподжиатуры, трели и морденты, обычно отмеченные в нотах специальными знаками. Ср. passaggi.
● Хроноцентризм – представление о том, что чье-либо собственное время или период важнее других; эквивалент пространственной концепции этноцентризма. В данном случае противоположен плюрализму.
● Фигура – особый, узнаваемый мотив или жест.
● Фраза с кульминацией – то же, что длинная фраза.
● Эпоха романтизма – период с 1800 года и далее, с доминированием эстетических ценностей романтизма.
● Passaggi – сложные импровизации или диминуции, свободная орнаментация; колоратуры; дополнительные вариации; пассажи (Гальярд), вариации (Нойман); внетемповые (extempore) вариации (Кванц).
I
Исполнительские стили
Глава 1
Говоря иначе, мы говорим иное
Разными способами исполнения можно заставить [музыкальные. – Б. Х.] пассажи звучать настолько по-разному, что они будут едва узнаваемыми.
Карл Филипп Эмануэль Бах. Versuch [31]
Известны слова Коко Шанель: «La mode, c’est ce qui se démode» [32]. Перемены стиля особенно заметны в одежде. Каждый сезон приносит новые идеи, а сами сезоны слагаются в «эпохи». В мужской моде, например, на одном конце есть ультраконсервативный фрак и белая бабочка, стиль одежды, практически идентичный вечернему костюму вековой давности. Далее гамму продолжает деловой костюм, который меняется в деталях, но в своей основе стабильно остается тем же по меньшей мере последние сто лет. На другом конце находится весьма изменчивая повседневная (casual) мода, скажем, одежда выходного дня, которая меняется каждый сезон. В музыке тоже есть параллельные категории: на консервативном конце – музыка для свадеб, похорон и большинства религиозных обрядов, в середине – относительно устойчивая «каноническая» музыка, и на неформальной стороне – популярная музыка, очень изменчивая и постоянно меняющаяся.
Кристофер Смолл пишет о похожей ситуации в театре и кино:
Недавно я снова смотрел фильм Лоуренса Оливье «Генрих V» (1944) по пьесе Шекспира. Для тех из нас, кто увидел его когда-то впервые, казалось, что Оливье нашел способ по-шекспировски и говорить, резонируя со звуками и ритмами повседневной речи, и действовать, прибегая к языку мимики и жестов, который представлялся совершенно естественным и спонтанным. Но пятьдесят лет спустя этот фильм кажется таким же экстравагантно напыщенным, почти слащавым, как старые пленки с записями знаменитых викторианских актеров, которые мы находим уморительными. Это не вина Оливье; просто за полвека изменились сценические условности. Не существует естественного способа говорить по-шекспировски. [33]
Раньше, до Второй мировой войны, исполнительский стиль в романтической музыке «выходил из моды» очень медленно. В те дни господствовал только один исполнительский протокол, один стиль, который «годился для всего» и использовался для самых разных жанров музыки. Лишь в популярной музыке стили развивались и угасали в течение года, а то и быстрее.
Но так было не всегда. До революции романтизма концертная музыка не отличалась большой устойчивостью.
Эпоху барокко называют «праздником однодневки» [34], потому что композиторы-исполнители XVIII века, подобно современным дизайнерам одежды, должны были всё время производить новую музыку.
● В 1770-х годах, например, Бёрни писал, что «жизнь музыкальных сочинений в Италии столь коротка, столь сильна страсть к новизне, что из-за нескольких необходимых копий не стоит тратиться на гравировку и печатный станок» [35].
● Фон Уффенбах в 1716 году удивлялся тому, что оперы Люлли пользовались успехом, несмотря на их почтенный возраст (Люлли умер в 1687 году, то есть прошло двадцать девять лет – всё равно как сегодня носить брюки клёш и футболки в стиле тай-дай).
● Иоганн Себастьян Бах в своем письме к Лейпцигскому городскому совету в 1730 году писал: «Положение музыки сегодня находится совсем в иных условиях, нежели ранее; искусство поднялось весьма сильно, и, удивления достойно, вкус изменился, поскольку и музыка в своем прежнем виде для нашего уха более не звучит…»
● Иоганн Маттезон не мог понять, почему в его время (1739) всё еще восхищаются музыкой Корелли, бóльшая часть которой была опубликована в 1680–1690-х годах, полвека назад [36].
● Кроме того, Маттезон, описывая разные виды основных украшений, отмечает, что «наши ученые музыканты в прошлом слагали целые книги <…> ни о чем ином, как о вокальных орнаментах <…> которые, однако, никак не связаны с вышеупомянутыми и которые не следует с ними путать <…> Всё меняется почти ежегодно, и старые украшения выходят из моды, изменяются или даже уступают место более современным» [37].
● Существует даже документ об увольнении кантора во Фленсбурге в 1687 году за то, что он «неоднократно исполнял одни и те же пьесы, не представляя новых» [38].
Роджер Норт упоминает в 1728 году о «некоем мистере Джоне Дженкинсе, чьи многочисленные музыкальные сочинения, в свое время почитаемые более других, ныне находятся в крайнем небрежении. Возьму на себя смелость кратко рассказать об этом особенном мастере, с которым мне посчастливилось быть близко знакомым и дружить [!]» [39].
В 1730-х слушавшие произведения Пёрселла (умершего в 1695 году) были склонны считать его музыку «церковной», тогда как музыка Генделя некоторым слушателям конца XVIII века – через два поколения после его золотой поры – казалась слишком ученой и была представлена лишь в отрывках [40].
Чарльз Ависон дает нам ключ к тому, что думали английские музыканты середины XVIII века о музыке Елизаветинской эпохи, когда, по его словам, «усидчивые гении» обременяли «искусство сумбуром частей, которые, подобно многочисленным и пустяковым украшениям в готической архитектуре, не приносили никакого другого удовольствия, кроме изумления перед терпением и дотошностью художника» [41].
Нам трудно представить, насколько велика была потребность людей в новизне, в музыке, которую они никогда прежде не слышали. Публика выражала радость и одобрение, когда композитору особенно удавалось проведение темы, точь-в-точь как современная рок-аудитория. Спонтанные аплодисменты между частями или прямо во время исполнения были обычным делом. Кажется, всё обстояло с точностью до наоборот в сравнении с нынешней классической аудиторией. Тогда интересовались только новым, теперь, похоже, только тем, что известно [42].
Сегодня люди считают, например, «Весну священную» Стравинского «современной» музыкой, хотя ее премьера состоялась в… 1913 году. Таким образом, сегодняшнее представление о современной музыке может включать в себя произведения почти столетней давности. Напротив, в Англии конца XVIII века музыкальные произведения, которым перевалило за двадцать лет, исполнялись в серии, известной как antient music [43], «старинная музыка».
Показательно мнение Чарльза Бёрни о Себастьяне Бахе, умершем меньше чем за поколение до того, как тот написал свою книгу в 1773 году. Старый Бах казался Бёрни фигурой из далекого прошлого, из «готического периода седых контрапунктистов» [44]. Бёрни, высоко ценивший сына Баха, Эмануэля, писал:
Как сложился его стиль, где он обрел свой вкус и утонченность, проследить трудно; несомненно, он не унаследовал и не перенял их от своего отца, который был его единственным учителем; ибо этот почтенный музыкант, хоть и несравненный по учености и изобретательности, считал столь необходимым крепко держаться за гармонию, что ему неизменно приходилось жертвовать мелодией и экспрессией. [45]
Эти примеры показывают, как быстро менялся стиль в XVIII веке.
Что касается исполнительских стилей, вся эта нестабильность прекратилась, условно говоря, в начале XIX века, когда произошел крупный эстетический сдвиг. С того времени музыканты намеренно пытались использовать один и тот же общий стиль исполнения – романтический. По крайней мере, они старались, и, думаю, у них получалось. Это как если бы сейчас, в начале XXI века, люди всё еще носили одежду в стиле, популярном два столетия назад (на самом деле, хотя мы и сближаем стили в одежде и музыке, это совсем не одно и то же). Эта очень мощная историческая традиция подкрепляется общей педагогической родословной, о чем свидетельствуют резюме музыкантов и учебные курсы консерваторий: музыканты часто упоминают не только своих учителей, но и, если они достаточно известны, исполнительскую «школу», к которой они принадлежат. Именно на этом, восходящем к XIX веку, наследии они основывают свой авторитет и влияние в качестве исполнителей и педагогов.
Следующий сдвиг произошел в 1960-е годы: музыку стали исполнять в подчеркнуто разных стилях. На пространственной оси возникли открытия музыкальной этнографии, которые позволяли понять другие, существующие ныне музыкальные культуры, а также сравнить себя с ними. На временнóй оси появились стили и инструменты, претендовавшие на свою историческую точность. Сдвиг в 1960-х годах был настолько значительным, что даже музыканты, решительно его проигнорировавшие, автоматически причислялись к играющим в стиле, который мы по умолчанию называем «современным».
Несколько лет назад, прогуливаясь по каналу Кловениерсбургвал, я набрел на красивые ворота, ведущие в одно из зданий Амстердамского университета. Надпись над входом гласила: «Wie hetzelfde anders zegt, zegt iets anders», что значит: «Сказать иначе – всё равно что сказать иное». Применительно к музыке это можно перефразировать так: «пьеса, исполненная иначе, – другая пьеса», или, развивая эту мысль, «исполнительский стиль может быть важнее нот». Пожалуй, на этой идее основывается исторический стиль в исполнительстве XX века.
Тезис о том, что «пьеса, исполненная иначе, – другая пьеса», можно проиллюстрировать, всего лишь изменив темп:
1 ▶ Амстердамский барочный оркестр, Коопман, 1996. Бах. Кантата BWV 207a. Часть 1
2 ▶ Musica Antiqua Köln, Гёбель, 1996. Бах. Кантата BWV 207. Часть 1
Как утверждает Кристофер Смолл и другие музыковеды, музыка – не вещь, а действия, совершаемые людьми [46]. Обычно мы представляем себе произведение в виде текста, потому что у него есть фиксированная, устойчивая форма. Мы говорим о «музыке» на пюпитре. Но ноты на странице еще не произведение; на самом деле это вообще не музыка. Ноты – просто рецепт, которому должен следовать исполнитель, своего рода поваренная книга. Между рецептом и готовым блюдом должно быть действие, и пропустить его – всё равно что пытаться съесть поваренную книгу. Разные теоретики охотно это оспорят, но для действительно музыкантствующих, для тех, кто слушает или играет музыку, само собой разумеется, что произведение обретает свое лицо лишь в исполнении. Музыкальное значение возникает в восприятии, в момент, когда пьесу играют и слышат.
Арнонкур вспоминал, как однажды пошел слушать Монтеверди, а услышал Вагнера. Во времена Монтеверди репертуар, который можно было услышать, состоял из музыки, написанной современниками, – канона старого репертуара не существовало. Сейчас на слуху намного больше стилей: музыкальные драмы Вагнера и оперы Пуччини, к примеру. Так что сегодня, в отличие от времен 350-летней давности, вполне можно сделать из оперы Монтеверди музыку XIX или XX века – посредством аранжировки или инструментовки [47]. Есть и другие способы «модернизировать» оперы Монтеверди – с помощью фразировки, артикуляции, вибрато или современного вокального стиля, не слишком озабоченного передачей смысла текста.
Но и не имея за спиной музыки прошлого, барочные музыканты могли опираться на многие исполнительские стили и таким образом придавать музыке разный характер. Когда произведение каждый раз исполняют по-разному, его идентичность определяется тем, как его играют. Это как шутка, которая может варьироваться от рассказчика к рассказчику. Другими словами, в музыкальном исполнении как есть также и что. Франческо Джеминиани в 1751 году в своем «Искусстве игры на скрипке» писал: «…даже в обычной речи разная интонация придает одному и тому же слову разный смысл». Вот простой пример того, как один и тот же вопрос меняет свой смысл в зависимости от расставленных акцентов: «Как это можно назвать любовью?», «Как? Это можно назвать любовью?», «Как это можно назвать – любовью?» [48].
Что касается меня, я помню времена, когда, слушая неизвестную мне запись, я, как правило, мог ее идентифицировать, то есть определить автора музыки. Но несколько лет назад я понял, что утратил эту способность. Теперь я слышу в первую очередь исполнение, для меня «Мессия» Генделя может звучать как Моцарт или как Малер, потому что исполняется в стиле, который ассоциируется с этими композиторами. Чтобы проиллюстрировать эту мысль, предлагаю послушать следующий трек и, не проверяя, что это за произведение, угадать композитора.
3 ▶ Неизвестный оркестр, Стоковский, 1957. Бах. Духовная песня «Komm, süsser Tod», BWV 478 (обработка Стоковского)
Звучит как Сибелиус, но не совсем. А могли бы вы предположить, что это Бах? [49]
«Гендель в историческом исполнении, – считает Джеймс Паракилас, – звучит скорее как наследник Пёрселла, нежели как предшественник Мендельсона. Традиционная же музыка [то есть исполнительский стиль. – Б. Х.], напротив, притягивает наиболее ранние работы в своей традиции к более поздним» [50].
Таким образом, с течением времени лицо произведения через исполнение постепенно меняется. Хосе Боуэн, основываясь на трех десятках записей, сделанных во второй половине XX века, показал, как Шестая симфония Малера мало-помалу удлиняется. Исполнение этого произведения стало очевидно медленнее. Это наглядный пример того, как исполнительская традиция изменила наше представление об идентичности произведения. «Традиция укрепляется через воспроизведение: ноты, которые перестают играть, пропадают из мелодии (так портаменто перестало быть необходимым в скрипичном концерте Брамса)» [51].
Разумеется, то, что исполненное иначе произведение – это другое произведение, более верно для одних пьес, чем для других. Симфонии Бетховена, например, настолько известны, что отличия при их исполнении довольно поверхностны. Но гамбовые сюиты Маре могут звучать очень по-разному в зависимости от исполнителя. Сам Маре считал, что «превосходнейшие пьесы [теряют. – Б. Х.] всё свое очарование, если играть их ненадлежащим образом» [52].
Маттезон в 1739 году писал:
Те, кто так и не узнал, каким хотел услышать свое произведение композитор, вряд ли сыграют его хорошо. Действительно, они зачастую лишают произведение его истинной силы и изящества настолько, что, находись композитор среди слушателей, он с трудом бы узнал собственную музыку. [53]
Один из соавторов Энциклопедии Дидро, живший в Германии Фридрих де Кастильон, сообщал, что Иоганн Хассе «едва узнавал свои арии, когда французы исполняли их в Париже» [54]. Кастильон пришел к выводу, что именно музыкальные акценты делали произведение, выразительное для немцев, невыразительным для французов. Полагаю, что тому были и иные причины.
Кванц отмечал: «Хорошее впечатление от музыкальной пьесы зависит от исполнителя почти в той же мере, что и от композитора. Наилучшее сочинение можно испортить скверным исполнением, а достойное исполнение может улучшить даже весьма посредственное сочинение» [55].
Вот что Арнонкур пишет о старой традиционной инструментовке [56] «Страстей по Матфею»: «<…> струнная группа покрывает всё словно „звуковым ковром“. Уже первый хор с его сложной инструментовкой тонет в „романтически-жирном“ звучании струнных. Кажется, что слышишь Брамса <…>» [57].
Сейчас в воздухе витает идея, будто Бах даже не использовал хор и что OVPP (один голос на партию) позволяет лучше слышать оркестровые партии без форсирования. Безусловно, наши представления об этих «Страстях» радикально изменились с 1960-х годов, и то, что мы слышим сегодня, – это, в сущности, другое произведение.
Музыкальный словарь Гроува (издание 2001 года) среди прочих определений импровизации предлагает и такое: «…создание окончательной формы музыкального произведения во время его исполнения». Но я не припомню музыки, которая не соответствовала бы этому определению. Вероятно, тот, кто написал эти слова, считал, подобно многим нынешним теоретикам, что пьеса может обрести свою окончательную форму и без исполнения. Удивительно, что кто-то может перепутать лист бумаги с музыкой, но именно это происходит, когда вы становитесь слишком начитанными. Конечно, партитура – важный этап на пути к музыке, но ее роль сводится лишь к кодированию потенциальных исполненных версий произведения. И, как я покажу позже, партитуры отнюдь не точны, поскольку не все параметры исполнения могут быть обозначены.
На концертах новой музыки, отмечает Паракилас, часто сложно отделить исполнение от сочинения. «Мы видим это в обычном ритуале после окончания пьесы, когда исполнитель на сцене и артист-композитор где-то среди публики любезно пытаются простиранием рук или хлопаньем в ладоши перенаправить аплодисменты аудитории друг другу» [58]. Такая двусмысленность, конечно, проистекает от незнания произведения. Другой пример, который приводит Паракилас, – произведение, которое пока играет только один музыкант:
Пришедшие послушать симфонию Бетховена могут сравнить исполнение, которое они слышат, со многими другими, запечатленными в их памяти. <…> В годы, когда Джон Киркпатрик был единственным пианистом, исполнявшим сонату «Конкорд» [Чарльза Айвза. – Б. Х.