Отцы ваши – где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить? бесплатное чтение
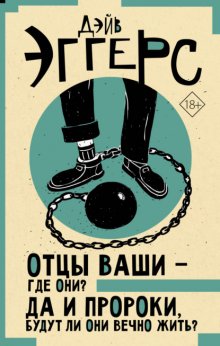
Dave Eggers
YOUR FATHERS, WHERE ARE THEY? AND THE PROPHETS, THEY LIVE FOREVER?
Печатается с разрешения автора и литературного агентства The Wylie Agency (UK), Ltd.
© Dave Eggers, 2014
© Перевод. М. Немцов, 2019
© Издание на русском языке AST Publishers, 2023
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
Строение 52
– Мне удалось. Вы и впрямь тут. Астронавт. Иисусе.
– Кто это?
– У вас, наверное, голова болит. От хлороформа.
– Что? Где я? Что это за место? Ты кто, нахер, такой?
– Вы меня не узнаёте?
– Что? Нет. Что это?
– Это? Это цепь. Она приделана вот к этой свае. Не тяните.
– Ох бля. Ох бля.
– Я говорил, не тяните. И должен вам сразу сказать, до чего мне жаль, что вы здесь при таких обстоятельствах.
– Ты кто такой?
– Мы знакомы, Кев. Уже давно. И мне вас сюда вот так привозить не хотелось. То есть, я б лучше по пиву с вами зацепил как-нибудь, но вы не ответили ни на одно мое письмо, а потом я узнал, что вы через городок проезжать будете, ну и… Правда, не дергайте ее. Ногу себе повредите.
– Нахер я здесь?
– Вы здесь потому, что я вас сюда привез.
– Ты это сделал? Ты приковал меня цепью к свае?
– Здоровская штука, правда? Не знаю только, стоит ли называть ее сваей. Чем бы ни была, она невероятно крепкая. Тут все ими оборудовано. Была военная база, поэтому везде такие чудны́е фиготени. Эта штука, к которой вы прикованы, способна выдержать десять тысяч фунтов, и почти во всех строениях такие есть. Хватит тянуть.
– Помогите!
– Не орите. Тут на много миль никого. А сразу за горкой океан, поэтому за волнами и ветром тут хоть из пушки стреляй, ничего не слышно. Но из пушек здесь больше не стреляют.
– Помогите!
– Иисусе. Хватит. Слишком уж громко. Тут повсюду цемент, дядя. Слышите, какое эхо?
– На помощь! На помощь!
– Я прикидывал, что вы станете орать, поэтому если начнете сейчас, так мне и скажите. Я не могу здесь оставаться, пока вы этим занимаетесь.
– Помогите!
– Мое уважение к вам стремительно падает.
– Помогите! На помощь! Помогите! Эй…
– Ладно. Господи ты боже мой. Вернусь, когда закончите.
– Закончили?
– Иди нахуй.
– Знаете, никогда раньше не слышал, чтоб вы матерились. Главным образом, это про вас я и помню – вы никогда не матерились. Вы были такой серьезный парень, такой аккуратный, тщательный и порядочный. А с этой стрижкой ежиком и в форме вашей – короткий рукав, пуговицы в ряд – вы были прям пережиток. Наверное, так и надо, если хотите стать астронавтом, – приходится таким вот подтянутым быть. С такой вот чистотой.
– Я тебя не знаю.
– Что? Нет, знаете. Вы не помните?
– Нет. Я никого, как ты, не знаю.
– Хватит. Возьмите и подумайте. Кто я?
– Нет.
– Вы прикованы цепью к свае. Могли б и догадаться. Откуда мы друг друга знаем?
– Пошел ты нахуй.
– Нет.
– Помогите!
– Не стоит. Разве не слышите, до чего тут все громко? Слышите эхо?
– Помогите! Помогите!
– До чего ж вы меня огорчаете, Кев.
– На помощь! На помощь! Помогите!
– Ладно. Я пошел, пока вы не очухаетесь.
– Теперь-то всё? Там по ночам холодно снаружи. Ветер на горку залетает, а Тихий океан… не знаю. Начинает кусаться. Как солнышко выйдет, так почти благодать, но как только температура падает, Арктика наступает довольно скоро. Вы, должно быть, охрипли. Воды хотите?
–
– Я бутылку здесь поставлю. Попьете, когда захочется. Я для этого левую руку вам оставил свободной. Мы здесь пробудем сколько-то, поэтому просто знайте, что я пригляжу, чтобы вы ели и у вас было все, что вам еще понадобится. У меня и одеяла в фургоне есть.
– Как ты меня сюда притащил? Ты тот парень, что диван перевозил?
– Это я, да. Видел такой трюк в кино. Поверить не могу, что он удался. Вы помогли мне внести диван в фургон, и я оглушил вас электрошокером, а потом дал хлороформу и привез сюда. Хотите послушать, как все было? Довольно невероятно.
– Нет.
– Поставить машину близко у этого строения, где мы, вообще-то нельзя, поэтому я вас выволок из фургона вон на ту тележку – ее снаружи видно. Она уже там стояла, и работает превосходно до сих пор. Я б на этой штуке и слона перевез. В общем, погрузил я вас на тележку, потом протащил четверть мили от парковки до этого строения. Честно говоря, я до сих пор просто обалделый оттого, что все удалось. Вы тяжелее меня фунтов на тридцать, что ли, и определенно в лучшей форме, чем мне удастся когда-нибудь добиться. Но все равно получилось. Вы, блядь, астронавт – и вот теперь вы тут. Отличный какой день.
– Ты псих.
– Нет-нет. Не он. Перво-наперво, извините. Никогда не думал, что вытворю что-то подобное, но из-за всего недавнего это стало необходимым. Я в жизни никому никак не вредил, и вам не поврежу. Я б никогда вам не мог навредить, Кев. Хочу, чтоб вы это понимали. Поэтому вам совсем незачем вырываться или как-то. Завтра я вас отпущу – после того, как мы немного поговорим.
– Ты, нахуй, и в самом деле чокнутый.
– В самом деле нет. Вот правда. Давайте вы прекратите это повторять, потому что я не такой. Я человек нравственный – и человек принципиальный.
– Пошел нахуй.
– И это тоже хватит повторять. Вы мне не нравитесь, когда материтесь. Давайте вернемся к тому, чтобы вспомнить меня. Удалось?
– Нет.
– Кев, хватит. Только посмотрите на меня. Чем скорее мы с этим покончим, тем скорее я смогу вас отпустить.
– Ты меня отпустишь, и я тебя убью.
– Эй. Эгей. Ну вот чего ради такое говорить? Совершенно без толку же. Вы себя задержали на много часов. Может, и больше. Я планировал вас отпустить сегодня вечером, попозже. Может, завтра, самое позднее. А теперь вы меня напугали. Я вовсе не представлял себе вас как свирепого типа. Господи, Кев, вы же астронавт! Незачем угрожать людям налево и направо.
– Ты приковал меня цепью к свае.
– И все равно. То, что я с вами сделал, было последовательно и без насилия. Цель оправдывала средства. Мне хотелось с вами поговорить, а вы не отвечали на мои письма, поэтому я решил, что выбора у меня нет. Вот прям не на шутку приношу свои извинения, что пришлось вот так. Я в странном месте побывал недавно. У меня так голова болела, что спать не мог. Гадство, как давило! Вопросы перли один на другой и душили меня по ночам. У вас так когда-нибудь было, что вы себе лежите, а вопросы – виперы такие, обертываются вам вокруг горла?
– Ты, блядь, совсем псих.
– Знаете что, Кев? Я нет. Но вынужден сказать, как только я произнес виперы, тут же понял, что зря. Такой, как вы, услышит это слово, его конкретность – и сразу считает, будто я какой-то одержимый чудик.
– А ты нет.
– Видите, еще и сарказм. Что-то новенькое. Помню вас таким искренним. Я про себя этим восхищался. А эти новые колючки мне не нравятся. Теперь послушайте, я думаю, вам видно, что я полностью в своем уме.
– Невзирая на то, ты меня похитил и привез сюда.
– Именно потому, что я вас сюда привез – успешно. Я составил план, выполнил его и привез астронавта на заброшенную военную базу в ста десяти милях от того места, откуда вас выкрал. Стало быть, я человек вполне дееспособный, верно?
–
– Кев. Вы работаете на правительство, так?
– Я работаю в НАСА.
– А это правительственное учреждение. И каждый день правительство привозит какого-нибудь вражеского бойца в какое-нибудь засекреченное место, чтобы его там допросить, правда? Что ж не так со мной, если я делаю то же самое?
– Так я вражеский боец, значит.
– Нет. Возможно, сравнение было скверное.
– Дружок, ты просидишь в тюрьме весь остаток своей жизни.
– Не думаю. Ловят только тупых.
– А ты блистательный преступный гений.
– Нет. Нет, Кев. Я никогда в жизни не делал ничего незаконного. Поразительно, да? Честно, не делал. Великие преступления совершают новички. Я вижу, вы озираетесь. Здоровское это место, да? Клево же, что мы в самом деле на военной базе? Узнаёте это барахло? Оглядитесь. Тут был какой-то артиллерийский склад. Думаю, они прикрепляли пушки или что там еще к этим сваям, чтоб те могли ездить взад-вперед и гасить отдачу. Вообще-то я не уверен, но зачем еще тут эти сваи?
– Я тебя, нахуй, порешу. Но легавые порешат тебя первыми.
– Кев, такого не произойдет.
– Тебе не кажется, что уже началась массированная облава – выяснить, что со мной стало?
– Не льстите себе. Вы ж никогда себе не льстили. Вы были из тех, кто знает, что умен, силен, и впереди великие свершения, но к тому же вы знали, что пользы не будет, если это рекламировать всему миру. Поэтому на вас работала милая такая публичная скромность. Мне это нравилось. Я понимал весь этот ваш гамбит, но мне он нравился, и я его уважал. Поэтому не портите его выпендрежем «я астронавт».
– Лады. Но ты все равно труп. Меня найдут через сутки.
– Нет, не найдут. Я отправил трем людям сообщения с вашего телефона, всем написал, что вы в разных местах. Одному из ваших коллег в НАСА сказал, что у вас родственник умер. А вашим родителям – что вы на тренировочном задании. Слава богу, изобрели СМС – можно идеально притворяться вами. Потом я выключил ваш телефон и выбросил его.
– Ты сотню всяких мелочей не учел.
– Возможно. А может, и нет. Так вам интересно, где вы находитесь? Всю эту базу вывели из эксплуатации, и она разваливается. Никто не знает, что с нею делать, поэтому она тут торчит себе и гниет на земле стоимостью миллиард долларов. Вам отсюда не видно, но до океана где-то полмили вниз по склону. Вид отсюда невероятный. Но на всем участке – лишь эти старые ветшающие постройки. Их тут сотни, и еще двадцать таких же, как вот эта, стоят в ряд. Думаю, эту использовали для испытаний химического оружия. Рядом тут одна, где обучали методам допроса. В тех, как эта, – везде сваи, на которые можно разное цеплять. Что вы на меня так смотрите? Это означает, что вы меня узнали?
– Нет.
– Да, узнали.
– Не узнал. Ты ебаный полоумный, а я тебе сказал, что с полоумными не знаюсь. Такая вот у меня заколдованная жизнь.
– Кев. Мне в самом деле уже хочется приступить. Поэтому мы либо приступим так, как, надеюсь, мы можем приступить, начнем беседовать, либо я тыкаю в вас электрошокером, чтоб немножко приструнить, и мы начинаем после этого. Отчего же просто со мной не поговорить? Давайте отнесемся к этому по-мужски. Перед нами стоит задача, так чего б нам ее не решить. Вы всегда деловой такой были, все обеспечивали, двигались дальше. На такую действенность с вашей стороны я и рассчитываю. Итак, откуда я? Откуда вы меня знаете?
– Не знаю. Я никогда не сидел в тюрьме. Видимо, ты откуда-то сбежал.
– Кев, видите вот этот электрошокер? Если предпочтете со мной не разговаривать, я вас оглушу. Если станете орать и звать на помощь, я выйду из здания, пока не заткнетесь, потом вернусь и вас оглушу. Гораздо лучше будет, если мы просто побеседуем.
– И потом что? Ты меня убьешь.
– Я б не мог вас убить. Я никогда никого не убивал.
– Но если я кому-нибудь об этом расскажу, ты сядешь на десять, на двадцать лет. Похитить астронавта?
– Это моя забота, не ваша. Очевидно, что сейчас вы прикованы к свае, поэтому превосходство на моей стороне в смысле того, когда вас кто-нибудь найдет и насколько далеко буду я к тому времени, когда вас найдут. Кев, я не намерен быть паскудой, но давайте уже приступим? Очевидно же, что я все это учел. Привез вас в такую даль, мне удалось вас приковать. В смысле, я не идиот. Я какое-то время все это планировал. Там мы можем начать?
– И если я с тобой поговорю, ты меня отпустишь?
– Я не причиню вам вреда. Со временем вас спасут. Я уеду, отправлю кое-кому сообщение, скажу, где вы, они приедут и вас найдут. К тому времени я уже буду в пути. Поэтому еще разок, пока я не рассердился. Откуда мы друг друга знаем?
– По колледжу.
– А. Ну вот. Колледж. Вы помните мое имя?
– Нет.
– Кев, ладно вам.
– Не знаю.
– Но вы поняли, что я из колледжа.
– Я этого не знал. Я угадал.
– Ладно вам. Думайте.
– Боб?
– Сами знаете, что звать меня не Боб. Никого так не зовут.
– Херолд?
– Херолд? А, понял. Это вы меня хером обзываете. Послушайте. Мне хочется думать, что вы славный парень, поэтому просто скажите, что помните мое имя.
– Ладно. Я тебя помню.
– Хорошо. И зовут меня…
– Стив.
– Нет.
– Боб.
– Опять Боб? Серьезно?
– Роб? Дэнни?
– Вы действительно не знаете! Ладно, давайте разберем по косточкам, медленно. Я был студентом или аспирантом?
– Студентом.
– Спасибо. Я учился на три года младше. Не наводит на мысли?
– Нет.
– Припоминайте «Введение в авиационно-космическую технику». Вы ассистировали преподавателю.
– В том потоке было сто двадцать учащихся.
– Но подумайте. Я часто задерживался после занятий. Задавал вам вопросы про путешествия во времени.
– «Тимберленды» еще носил?
– Ага. Вот, пожалуйста. И зовут меня…
– Гас.
– Тепло! Томас.
– Томас? Конечно, я помню. Ты был незабываем. Так скажи мне, Томас, какого хуя ты приковал меня цепью к свае?
– Кев, вы знали, что сегодня умер Нил Армстронг?[1]
– Да, я это знал.
– Как это на вас подействовало?
– Как это на меня подействовало?
– Да, как это на вас подействовало?
– Не знаю. Мне грустно стало. Он был великий человек.
– На Луну слетал.
– Так и есть.
– А вы не полетите на Луну.
– Нет. Чего ради мне лететь на Луну?
– Потому что вы астронавт.
– Астронавты не летают на Луну.
– Уже не летают.
– Нет.
– Ну да. И каково это вам, Кев?
– Иисусе.
– У меня электрошокер, Кев. Лучше вам отвечать на мои вопросы.
– Мне дела не было до полетов на Луну. Это уже сорок лет не приоритет в НАСА.
– Вы хотели полетать на «Шаттле».
– Да.
– Спорим, вам интересно, откуда я это узнал.
– Нет, не интересно.
– Вам не любопытно?
– Каждому астронавту хочется полетать на «Шаттле».
– Еще бы, но я знаю, как долго этого хотелось вам. Как-то раз вы мне сказали, что полетите на «Шаттле». Помните?
– Нет.
– Вероятно, вы это много кому говорили. Но я это очень хорошо запомнил. Таким ровным голосом, вы были так уверены. Вы меня вдохновили. Спросили меня, что я намерен делать в жизни. Думаю, спросили вы меня лишь для того, чтобы самому на этот вопрос ответить. Поэтому я сказал что-то насчет службы в полиции или работе в ФБР, или еще о чем-то, и вы помните, что вы мне ответили? Это было прямо возле Корпуса Мура. Стоял свежий осенний денек.
– Я сказал, что хочу полетать на «Шаттле».
– Именно! Вы действительно помните или просто потакаете мне?
– Не знаю.
– Кев, вот правда вам лучше отнестись к этому всерьез. Я же к этому всерьез подхожу. У меня хуева туча хлопот была с тем, чтобы вас сюда доставить, поэтому вы поймите, я не шучу. Теперь со всей, блядь, серьезностью: помните тот день, когда посмотрели мне в глаза и сказали, что абсолютно уверены – вы полетите на «Шаттле»?
– Да. Помню.
– Хорошо. И теперь вы где?
– Я на военной базе, прикован к свае.
– Хорошо. Это вы хорошо сказали. Но вы понимаете, о чем я. Я в том смысле, где вы теперь по жизни? Уж точно, блин, не на «Шаттле».
– «Шаттл» вывели из эксплуатации.
– Ну да. Через год после того, как вы стали астронавтом.
– Ты слишком много обо мне знаешь.
– Конечно же, я о вас знаю! Мы все знали. Вы стали астронавтом! Вам это действительно удалось. Вы сами не понимали, до чего внимательно люди за вами наблюдают, правда же, Кев? Тот маленький колледж, где мы учились, сколько там, пять тысяч человек, и большинство – идиоты, кроме вас и меня? И в итоге вы поступили в МТИ[2], защитили магистерскую по авиационно-космической технике, и во флоте тоже послужили? То есть, вы, блядь, были мой герой, дядя. Все, что собирались сделать, вы делали. Невероятно. Вы были единственным выполненным обещанием за всю эту жизнь. Знаете, как редко выполняются обещания? Выполненное обещание – оно как белый кит, дядя! Но когда стали астронавтом, вы обещание выполнили, здоровенное, блядь, обещание, и у меня возникло чувство, что отныне любое обещание будет выполняться. Что все обещания можно выполнить – и следует выполнять.
– Рад, что ты к этому так относишься.
– А потом они отняли у вас «Шаттл». И я подумал: а, ну вот опять. Поматросили и бросили. Неизбежный крах всего, что казалось прочным. Нарушение всех треклятых обещаний на Земле до последнего. Но какое-то время вы были богом. Вы обещали стать астронавтом – и стали. Просто одно, другое, пятое, десятое, кроме того единственного года, о котором я у вас потом спрошу. Мне кое-что известно про тот год.
– Иисусе. Знаешь, я все время думаю, что сейчас проснусь. То есть, я знаю, это страшный сон, но такой, где никак не проснуться.
– Кев, вы сейчас сами с собой говорите?
– Да ебись ты.
– Кев, я правда не шучу насчет матерщины. Прекратите. Мне не нравится ее от вас слышать. Очень не нравится, и этого я не потерплю. Более того, сделаю все, что в моих силах, чтоб вы больше не матерились.
– Пошел нахуй.
– Кев. Последнее предупреждение. Я честно не шучу. Вы уже должны были понять, что кое-какая решимость во мне имеется. Если намерен что-то сделать, я это делаю, совсем как вы. Я вас сюда привез, у меня здесь электрошокер, и я уверен, что сумею найти здесь вокруг еще какие-нибудь инструменты, которые окажутся неприятны. И то, что я в жизни не делал ничего насильственного, вам отнюдь не поможет. Я стану действовать неряшливо, наделаю ошибок, каких бы не допустил человек опытнее.
– Ты сказал, что вечером меня отпустишь.
– Я вас отпущу, как только смогу. Как только удовлетворюсь.
– Ладно. Поехали.
– Правда?
– Ну. Давай приступим.
– Хорошо. Знаете, я человек нравственный.
– Ну разумеется.
– Так и есть. Я человек принципиальный, как и вы сами.
– Ну да.
– Хорошо. Знаете, вот теперь наконец-то, наконец, я вижу ровно того парня, который закончил МТИ и послужил на флоте, и побывал во всяких академиях, и стал астронавтом. Вот как вы этого добились. Поставили себе цель и достигли ее. И тут всё точно так же. Я вам задал параметры, и вы теперь будете в них работать, выполнять план и переходить к следующей ступени. Вот это в вас мне и нравится. Вы до сих пор мой герой.
– Рад. Давай тогда приступим.
– Но из штанов выпрыгивать не надо. Разворачиваться все должно естественно. Не хочу ничего делать только ради галочки.
– Ну да.
– Ваши ответы должны быть правдивы. От вопросов даже может быть больно. Если я решу, будто вы какой-нибудь ерундой политически уклоняетесь от ответа, вы останетесь здесь, покуда я не получу прямых, возможно, и болезненных ответов, ладно?
– Я понимаю.
– Ладно, хорошо. Значит, мы сейчас несколько минут будем перебирать то-се. Про ваш путь я читал, но мне нужно услышать это от вас самого. Готовы?
– Да.
– Все четыре года в колледже вы играли в бейсбольной команде, и у вас по-прежнему результат 4:0. Верно?
– Да.
– Как вам это, блин, удалось?
– Я никуда не ходил. В колледж я поступил, чтоб выучиться и перейти на следующую ступень.
– Когда вы поняли, какова следующая ступень?
– Перед тем, как пошел в колледж.
– Значит, перед тем, как поступить в колледж, вы уже знали, что будете делать после?
– Конечно.
– В каком это смысле – конечно? Никто так не мыслит.
– Так мыслят многие. У меня не было выбора. В ту секунду, когда я поступил в колледж, меня уже опережали двадцать тысяч других желающих стать астронавтами.
– Как?
– Может, они поступили в колледж получше. Может, входили в тот демографический срез, который плохо представлен в НАСА. Может, у них не было астмы в детстве. Может, у них имелись связи получше.
– У вас правда была астма?
– До двенадцати лет.
– А потом что?
– Потом не стало.
– Не думал, что так бывает.
– Бывает.
– У вас был железно диагноз «астма», с ингалятором и прочим?
– Да.
– А потом ни ингалятора, ни астмы?
– Вообще.
– Видите, вы бог! Просто обожаю.
– Иногда случается. У многих молодых людей симптомы исчезают со сменой диеты или переменой климата.
– И вот опять вы заговорили, как астронавт. Спасибо. «Молодые люди, смена диеты». Астронавт бы так и сказал. Он бы не говорил «пацаны» и он бы сделал то, что и вы – а именно, превратил свою личную историю в что-то эдакое про Молодежь Америки. Обожаю. Хорошо излагаете. Вас как-то особо учили в НАСА связям с общественностью?
– До такого я еще не дошел.
– Ладно, постойте. Придержите эту мысль. Мы туда еще доберемся. Но сначала я хочу вернуться. Побеседуем о ступенях. Вы знали, что пошли в студенты для того, чтобы получить степень инженера. Инженером по… По какой технике инженером?
– По авиационно-космической.
– И еще вы вдруг принимающий в бейсбольной команде. Как это, блин, случилось?
– Играл в старших классах, просто пришел в команду.
– Так вы не на спортивной стипендии были?
– Я был на частичной академической стипендии.
– Не может быть!
– Да.
– Видите, я так рад, что мы это сделали. Так рад, что привез вас сюда, потому что моя вера в человечество уже отчасти восстановилась. Вот вы играли в бейсбольной команде, а я все это время считал, что в колледж вы поступили по бейсбольной стипендии, и потому все четыре года играли, хотя настоящим приоритетом у вас были оценки и переход на следующую ступень. А теперь выясняется, что принимающий в блядской бейсбольной команде учился по академической стипендии! Это идеально. Поразительно.
– Ну, я не так хорошо играл, чтоб на бейсболе выезжать полностью.
– Но вы играли! Я смотрел, как вы играете. Начали вы наш старший курс, когда тот другой парень, как его…
– Джулиан Гонзалес.
– Точно, когда он перевелся, вы играли все игры. И по-прежнему держали 4:0. То есть, вся остальная команда же думала, что вы какой-то урод?
– Думала.
– Почему, из-за того, что вы по вечерам никуда не ходили, не портили девчонок и все такое?
– По сути да.
– Но потом девчонку вы все же попортили!
– Что?
– Ох блин. Извините. Я не хотел так сразу в это прыгать. Но мне известно про Дженнифер и про это, знаете.
– Что?
– Мы до этого позже доберемся.
– Иди нахуй.
– Я вас предупреждал, что может стать неловко.
– Хватит с меня.
– Ладно, послушайте. Извините меня. У нас там все хорошенько стряпалось. Прошу вас, я Дженнифер больше поминать не стану. Все равно мне обо всем этом известно. Я тут поспрашивал и, мне кажется, всю историю собрал.
– Какую историю ты собрал, засранец?
– Не ебите мне мозги, Кев! Вы только что допустили две оплошности. Угрожали мне и опять выматерились.
– Я тебе не угрожал, но собираюсь. Я тебе башку, нахуй, оторву.
– Видите, это так разочаровывает. Вас это вперед не пускало – ваш норов? Да не дергайте вы эту цепь.
– Я бешусь, если меня приковывают и расспрашивают о подружке столетней давности.
– Спорим, вы часто беситесь. Особенно теперь. Ага, вам сейчас есть много на что беситься. Да и мне тоже. Это нормально. Это можно понять. Видите, вот еще почему мы с вами похожи. Оба выполняем свои планы и у обоих в головах крутятся тяжелые маховики, какие грозят сокрушить нам черепа.
– Ох господи, ну ты и псих! Ё-мое.
– Скажете это еще раз, Кев, и я вас контужу. Не потому что мне хочется, а из-за того, что вы меня обзываете психом, и это так предсказуемо и так скучно. Назвать похитителя психом, тыры-пыры – это скучно. Вы меня обозвали психом уже раз двадцать, и положения вашего это не улучшило. А я начинаю уставать от того, что вы меня отвлекаете. Мне просто хочется со всем этим покончить и не делать вам больно, ладно?
–
– Ладно, вернемся к нашему сюжету. После колледжа вы потеряли год, а затем пошли в МТИ. Там так же было – вы тоже знали, что вам там предстоит сделать?
– Я получал магистерскую степень по аэрокосмической технике. Само собой, я знал, что я там должен делать. Это ж не по плетению корзин степень.
– Ладно, прекрасно. Стало быть, МТИ – это сколько, два года?
– Три.
– Ух ты, вы учитесь уже семь лет. А знаете, что я делал после вуза?
– Нет.
– Мой дядя заставил меня работать на своей фабрике. Можете себе вообразить такое? У меня диплом колледжа, а он меня вынуждает вкалывать в цеху, рядом с толпой теток из Восточной Европы. Ну не пиздец ли?
– Не знаю, Дон.
– Томас.
– Извини. Томас.
– Постойте. Вы помните моего друга Дона?
– Нет.
– Мне кажется, можете. Так чудно́, что вы сказали «Дон». Дон был величайшим вашим поклонником. Помните его? Обычно он со мной ходил. Учился в одной школе с вами и со мной.
– Я его не помню.
– Пару лет как минимум. Из вьетнамских американцев? Прямо-таки симпатичный парень?
– Не знаю, Томас. Это было давно.
– Но он же всегда ходил со мной. Ведь вы не просто так его имя назвали. Вряд ли это совпадение.
– Думаю, это совпадение. Извини.
– Господи, вот чудно́-то. Дон в последнее время из головы у меня нейдет. Он умер, вы в курсе?
– Нет, не в курсе. Я не знал Дона. Но мне жаль, что он умер.
– Это уже какое-то время назад произошло. Господи, года два или около того. Такая дичь, потому что я клянусь, Дон по-настоящему вами восхищался. То есть, ему больше хотелось в НАСА, чем даже мне. На уроках много о вас меня расспрашивал – когда я выяснил, что вы пытаетесь попасть на «Шаттл». И после уроков тоже. Вообще-то как раз он мне про вас все время напоминал. Мы всегда с ним об этом говорили. Он знал, когда вы пошли на флот. Я звонил, бывало, или он звонил, и мы с ним разговаривали, и рано или поздно один из нас обычно говорил: эй, а как у Кева Пачорека дела? Знаете, просто проверить. Думаю, ему самому бы очень хотелось стать астронавтом. Но американских астронавтов-вьетнамцев не бывает, верно?
– Азиаты-астронавты есть.
– Но тогда еще ни одного не было, верно? Никого похожего на Дона. И дома у него не все стабильно было. По-моему, тут нужно быть из какой-то крепкой семьи, верно?
– У меня родители развелись.
– А, ну да. Я это знал.
– Послушай, мне жаль, что я упомянул его имя. Это случайно вышло. И мне действительно жаль, что он умер молодым.
– Это ничего. Ага. То есть – нормально. Но я убежден, что причина есть. Вы не помните его лицо? У него такие темные глаза были, такая широкая белозубая улыбка? Господи, вот дичь-то. Я… Я сейчас на секунду наружу отскочу.
– Извините, что пришлось. Дрянь, вот же холодина снаружи. Ветер с океана насквозь продувает. И недостаток влажности. Тут в воздухе нет ничего, в нем ничего не держится, ни тепло, ни вода, ни вес. Это просто такой набор стальных лезвий, он бурлит над океаном и задувает на утесы, через горки дует. Там, где вы росли, все было не так, Кев, верно? То есть, влажность там имелась. Вам не нужно было нестись и хватать зимнюю куртку, едва скрывается солнце.
– Так я понимаю, ты сам где-то здесь живешь?
– Я не могу рассказывать о том, где живу, верно, Кев? Нам правда нужно вернуться к вашей истории. Извините, что мне прогуляться пришлось. Просто потребовалось какое-то время, чтоб кое-что прикинуть, и, кажется, у меня получилось. Так вы говорили, что после МТИ – что?
– Я пошел во флот.
– Кем?
– Энсином.
– И это где было?
– В Пенсэколе.
– Вы там на самолетах летали или что?
– Да, я служил в Учебном командовании морской авиации.
– Но сами летали, верно?
– Через несколько лет я перевелся в Школу летчиков-испытателей в Патаксент-Ривер[3].
– Это Мэриленд. Ну да. Я это знал. Так вы испытывали самолеты, значит? Летали?
– Я летал на «Эф-18»-ых и «Кей-Си-130»-ых.
– Это что, реактивные истребители?
– Да, «Эф-18» – двухмоторный тактический самолет. «Кей-Си-130» – самолет-заправщик, обеспечивает дозаправку в полете.
– Вот опять вы заговорили своим голосом. Весь этот жаргон посыпался из вас так бегло и уверенно. Вы никогда не сомневались ни в себе, ни в этих числах, теориях или уравнениях. Таким же вы были и ассистентом преподавателя. Помните профессора на том потоке?
– Шмидт.
– Точно. Помните, как он трусцой в класс вбегал? Он носил на занятия тренировочный костюм, вскакивал и бродил по всему кабинету. Думаю, у него в жизни было много неприятностей, верно?
– Не знаю.
– Значит, да. А материал он излагал неплохо, но, казалось, сомневается, есть ли во всем этом смысл. По-моему, научное сообщество ему не нравилось. Сам он никакими значительными исследованиями не занимался, правда?
– Да он уже умер. Не понимаю, в чем смысл разбираться с состоянием его ума на тех занятиях.
– Думаю, ему было очень грустно. Он говорил об утрате жены так, будто у него ее отняла какая-то армия теней, которую за это следует призвать к ответу. Но то был рак, верно?
– Видимо, да.
– Но ей же, должно быть, лет шестьдесят было, как ему, верно? Доходишь до шестидесяти – и все ставки аннулированы. Постойте, а вы разве какое-то время в Пакистане не служили?
– После Монтерея. Какое-то время я учился в Военном институте иностранных языков.
– Чему? Арабскому?
– Урду.
– Так вы говорите на урду.
– Говорю. Не так хорошо, как раньше.
– Видите, у меня мозги вскипают. Принимающий в бейсбольной команде, 4.0. МТИ по технике. Еще вы говорите на урду и стали астронавтом в НАСА. А теперь агентство лишили финансирования.
– Его не лишили финансирования. Средства пошли на другое.
– На маленьких роботов. На «УОЛЛ-И»[4], которые тарахтят по Марсу.
– Это по-настоящему ценно.
– Кев, ладно вам. Вы же знаете, что вас это бесит.
– Меня не бесит. Я знал, во что влезаю.
– Неужели? Вы действительно думали в 1998-м, когда говорили, что хотите полетать на «Шаттле», что двенадцать лет спустя всю эту программу прикончат? Что челноки будут выставлять напоказ по всей стране, как каких-нибудь дохлых животных?
– Людям это нравилось.
– Это тошнотворно. Вместо того, чтобы действительно куда-то запускать «Шаттл», они возили его на «747»-м. Просто насмешка. Лишь бы до всех дошло, что все это больше не работает, что наш величайший триумф техники нужно возить на закорках какого-то другого самолета. Убожество.
– То просто было представление, Томас. Не из-за чего тут расстраиваться.
– Ну а я расстроен. Почему мы теперь не на Луне?
– В данный момент?
– Что сталось с колонией на Луне? Знаете же, это возможно. Я слышал, как вы говорили о ней в каком-то интервью.
– Ну, возможно, да. Но дорого стоит, а у нас нет таких денег.
– Есть, конечно.
– Кто сказал?
– У нас есть деньги.
– Откуда у нас есть деньги?
– Мы только что потратили пять триллионов долларов на бессмысленные войны. Это могло пойти на Луну. Или Марс. Или на «Шаттл». Или на такое, что каким-нибудь чертовым образом нас вдохновило. Сколько времени прошло с тех пор, как мы, блядь, сделали хоть что-то, что кого-нибудь вдохновило б?
– Мы избрали черного президента.
– Прекрасно. Это было хорошо. Но как нация, как ебаный мир? Когда мы сделали что-то, хоть отдаленно напоминающее «Шаттл» – или «Аполлон»?
– Космическая станция.
– Международная космическая станция? Да вы смеетесь? Мне эта дрянь никогда не нравилась. Парит там беспомощная, как воздушный змей в космосе.
– Значит, ты не соображаешь, о чем говоришь. С МКС поступает масса полезных данных.
– Я знаю, вам нужно тут партийную линию гнуть. Это ничего. Мы оба знаем, что это говно насранное. МКС – отстой, и вам это известно. Это коробчатый змей в космосе. Так вы туда сейчас направляетесь? Я про это слыхал. Вы туда полетите?
– Пока что очень на это рассчитываю.
– Но вам придется сесть на русскую ракету, чтобы туда добраться.
– Похоже на то.
– Теперь мы вынуждены покупать билеты на русские ракеты! Ну какой же это пиздец! Можете себе вообразить? Что это за вывернутый переебанный мир, а? Мы начинаем космическую гонку, потому что русские наносят первый удар своим «Спутником». Десять лет конкуренция подхлестывает весь этот процесс. Мы первыми добираемся до Луны, затем вновь и вновь возвращаемся, и все время что-то изобретаем, к чему-то тянемся, и это прекрасно, верно? Это прямо совпадает с лучшими годами из последних пятидесяти.
– Насчет этого не знаю.
– Ну, как угодно. Все получилось. А теперь мы все это убиваем и платим русским за заднее сиденье в их ракетах. Невозможно сочинить более тошнотного конца ко всей этой истории. Отчего это у русских есть деньги на ракеты, а у нас нет?
– У них другие приоритеты.
– У них, значит, правильные приоритеты.
– Каких слов ты от меня хочешь?
– Я хочу, чтоб вас это бесило.
– Ничего не могу тут поделать. И я не стану ради тебя поливать грязью НАСА, вот так вот прикованный.
– Я и не рассчитываю, что вы станете поливать НАСА грязью. Но взгляните на нас, вот на этом обширном участке земли стоимостью миллиард долларов. Вам не видно, но пейзаж отсюда открывается невероятный. Это тридцать тысяч акров Тихоокеанского побережья. Продать часть этой земли – и можно оплатить лунную колонию.
– На такие деньги даже гальюн на Луне не купишь.
– Но можно начать.
– Маловероятно.
– Знаете что? Секундочку. Сколько сейчас времени?
–
– Вам небось трудно глянуть. Думаю, время у меня есть. Погодите секундочку. Вообще-то годить вам придется сколько-то. Может, часиков семь или около того. Кажется, у меня получится. И вот вам еды. Я больше ничего не привез. И немного молока. Любите молоко?
– Ты куда это?
– Я знаю, молоко вы любите. Вы пили его на занятиях. Помните? Иисусе, вы были такой чистый, словно какой-то, блядь, единорог.
– Ты куда?
– У меня есть мысль. Вы мне мысль подали.
Строение 53
– Перво-наперво, сэр, я хочу извиниться. Мне не хотелось вас сюда привозить, но я правда не сумел придумать, как без этого обойтись.
– Ты кто такой?
– Мы разок встречались, но не знаю, помните ли вы. Но кто я такой, большой роли не играет. Я просто хочу извиниться за то, что вас сюда привез. У меня не было никакого намерения это делать, но затем обстоятельства сложились так, что пришлось. У меня тут по соседству астронавт, и он рассказал о том, что произошло с ним и с «Шаттлом», и мы беседовали про Луну и колонии на ней, и о приоритетах правительства, а потом у меня возникла эта мысль, что некоторые нужные нам ответы может дать кто-нибудь вроде вас. А я знал, что вы после отставки где-то здесь живете, поэтому пришлось съездить за вами и вас сюда привезти.
– Твою дивизию.
– Еще раз – мне очень жаль.
– Ты намерен мне навредить?
– Спасибо, что спросили, сэр. Не может не радовать, что вредить вам я не планирую. Кандалы эти – простая формальность. Не то чтоб я думал, будто вы опасны или как-то – с вашей-то инвалидностью. Но мне пришлось приковать астронавта, потому что он бы мог меня убить, если б захотел, а потом безопаснее всего показалось и вас приковать, а сваи тут в каждом строении, и у меня целый ящик наручников, поэтому все получилось довольно удобно.
– Мне все это непонятно.
– Ну, от хлороформа в голове у вас еще какое-то время немного не прояснится. Но я просто хочу сказать, что для меня это большая честь – что вы здесь. Я уважаю вашу службу стране, и как солдата, и как конгрессмена. Поэтому я вам дал диван. Тут повсюду диваны стоят, их просто выбрасывают на улицу, словно всех кругом ограбили. Достаточно ли вам удобно?
– Ты меня как, к черту, сюда привез?
– Сэр, не хочу показаться невежливым, но как человек вашего возраста и с вашими, ну, недостающими членами вы оказались намного легче моего астронавта.
– Погоди-ка – что, сынок? У тебя тут астронавт?
– Так точно, сэр. Об этом я уже упомянул. С ним все прекрасно. Я не причинил вреда астронавту и не причиню вреда вам.
– Парнишка, ты вполне приличным пареньком смотришься. Ты отдаешь себе отчет, насколько это серьезно?
– Отдаю, сэр. Правда отдаю. Я не отношусь к этому легкомысленно. Но, как уже сказал, я не думал, что у меня есть выбор, потому и привез сюда астронавта, а пока беседовал с ним, возникли все эти вопросы, и на столько из них ответы может предоставить лишь кто-то вроде вас.
– Как это, сынок? Вопросы?
– Ну, как конгрессмен…
– Я больше не в должности, ты же отдаешь себе отчет.
– Знаю, сэр. Но в должности вы пробыли довольно долго, и я уверен, что опыт в некоторых интересующих меня вопросах у вас имеется.
– И ты меня сюда привез, чтоб я на них ответил? Ты когда-нибудь слыхал про телефоны, или электронную почту, или всякое прочее?
– Ну, конечно же, но это могло бы затянуться. А после того, как я взял астронавта, – прикинул, что у меня есть лишь определенное окно, прежде чем меня поймают или найдут, или со мной что-то еще случится, потому и решил, что с таким же успехом разберусь во всем одним махом.
– И еще раз – почему я?
– Да, сэр, это резонный вопрос. Повторюсь: как только мы с астронавтом начали беседовать, у меня где-то в голове зашевелилось, что небось конгрессмену Дикинсону будет что об этом сказать. Я знал, что на покой вы ушли в эти места, а учитывая, что вы в отставке, я прикинул, что охраны у вас больше нет.
– Поэтому меня можно похитить.
– Ну, да. Опять – я прошу прощения. Мне очень не нравится слово похитить.
– Ты тот парень, что пришел ко мне телефонную проводку менять?
– Ага, мне просто нужно было проникнуть в дом – и, знаете, все получилось. Я так и прикидывал, что окажется не очень трудно, учитывая, что вы в кресле-каталке. Я надеялся, что больше никого в доме не будет. Подождал немного, пока… Это ваша дочь была?
– Жена.
– Ох, простите. Очень молоденькая. Ладно, хорошо. Поздравляю. Это очень хорошо. Это славно. В общем, пришлось дождаться, пока она уйдет. Вы с нею сколько уже вместе?
– Сынок, ты совсем того.
– Вообще-то нет.
– Еще как да. Но когда ты в тот день появился, то показался мне славным приличным пареньком. О «49-никах»[5] поговорили.
– У них сейчас по-настоящему хороший год, верно? И я на самом деле приличный парень. Просто мне сейчас туговато. От этих головных болей у меня вся жизнь наперекосяк, а потолок, похоже, опускается на меня с каждым днем все ниже. Но только вчера, с астронавтом, у меня возникло ощущение, будто я на грани чего-то. Легче дышать стало. И я знаю, что вы мне поможете даже больше. Ну как, приступим?
– К чему приступим, сынок?
– У меня просто есть несколько вопросов. Как только я их задам, вы свободны. Особенно если ответите на них честно. А я знаю, что ответите: прямотой и цельностью в вас я восхищался с самого начала. И опять-таки – я склоняю голову перед вашей службой этой стране. Понятно же, какая большая это была жертва – потерять две конечности во Вьетнаме.
– Сынок, я вижу, что у тебя сумбур в голове, и хочу тебе помочь. В свое время я повидал таких молодых людей, как ты, особенно когда меня перевели обратно в Штаты, поэтому мне известно, откуда ты такой взялся. Вот правда. Уж кто-кто, а я понимаю, что творится в голове у юноши, если черепушка у него привинчена на один оборот туже, чем нужно. Но для протокола хочу сказать вот что: я считаю твои действия постыдными и чудны́ми, поэтому лучше всего тебе сейчас сократить потери и выйти из боя.
– Не-а, лучше не буду.
– Если сейчас же двинешь отсюда и сообщишь властям, где мы находимся, я лично прослежу за тем, чтобы к тебе отнеслись с некоторым состраданием. Оказали тебе какую-то помощь.
– Да поймите: вы и есть нужная мне помощь. Если пойдете мне навстречу, этим и поможете. Ни лекарства, ни терапия мне не нужны. Мне нужно, чтобы ответили на мои вопросы.
– Что за вопросы, сынок?
– Вовсе не сложные. Всякое основное. Вам будут известны ответы.
–
– Так мы готовы?
– Черт.
– Здорово.
– Лишь бы только с этим покончить.
– Ладно. Ладно. Мой первый вопрос – и главный – таков: Почему мой друган Кев Пачорек не в космосе?
– Прошу прощения?
– Он астронавт. Парень по соседству.
– Ты похитил своего другана?
– С этим мы уже разобрались. Он в курсе.
– Чего это?
– Мы с ним знакомы пятнадцать лет. Понимаем друг друга. И когда мы еще учились с ним в колледже, он посмотрел мне в глаза и сказал: однажды я полечу на «Шаттле». В то время я подумал: херня, ничего у него не выйдет. Но потом он подбирался к этой цели все ближе. Сметал любую преграду. Он, блядь, просто Иисус был. Ходил по воде, воду в вино превращал, всё на свете. Делал все, что б ему ни велели делать. Пошел служить во флот. МТИ, аспирантуры, степени. Он на урду говорит, мать его. А все потому, что хотел полетать на «Шаттле» – или, может, в лунную колонию попасть. А потом, двенадцать лет спустя, становится астронавтом – и через несколько месяцев убивают «Шаттл», отзывают финансирование у всего, чем занимается НАСА, и потому он в итоге стоит в очереди, надеясь, что, может, русские покатают его на какой-нибудь своей сраной ракете до какой-то говенной Космической Станции, где полно всяких слабаков.
– Сынок, ты правда похитил меня, чтобы поговорить про космический челнок?
– Главным образом – да.
– Иисусе.
– Кев сказал, что собирался в астронавты – и делал все, о чем его просили, чтоб им стать. Но теперь это ничего не значит. Кажется, такое вот хуже некуда – сказать поколению-другому, что финишная черта вот, чтобы добраться до нее, нужно то, сё, пятое, десятое, а потом, как только мы к ней уже подбираемся, взять и отодвинуть ее.
– Так, сынок, чтобы я понял. Ты утверждаешь, что это сделал я – лично я отодвинул финишную черту?
– Я думаю, вы имели возможность удержать ее на месте.
– Ты же видишь, как я тут сижу перед тобой, не так ли? Видишь человека, которому недостает двух главных конечностей? Ты считаешь, что человек, которому не достает двух главных конечностей и большого пальца, все они утрачены в какой-то сраной войне на чужой территории, – деталь аппарата, о каком ты толкуешь? Считаешь, я – враг?
– Ну а почему вы сидели в Конгрессе, если не были деталью аппарата?
– Я был в аппарате для того, чтобы попытаться починить этот аппарат, балбес! Зачем, к чертовой матери, по твоему мнению, от демократов в Сенате и Палате сидело с полдюжины ветеранов Вьетнама? Кто-то же должен там дельное говорить.
– А как это произошло, кстати? Я знаю, что мне положено это знать, но я не знаю.
– Как что произошло?
– Что случилось у вас с рукой и ногой? Простите за неделикатность.
– Не думаю, сынок, что тебе грозит такая опасность – что тебя вдруг перепутают с тонким или деликатным человеком. Прежде чем рассказывать, спрошу-ка – тебе не пришло в голову захватить сюда мои лекарства? Мне они нужны для культей и от аритмии.
– Я захватил все, что смог. У меня не очень много времени было. Они в спортивной сумке у вас за спиной. Еще я взял бутылку, что стояла у вашей кровати. Что мне было удивительно: у вас в изголовье бутылка джина. Похоже на какое-то клише – стареющий ветеран пьет на сон грядущий.
– Вот теперь ты и впрямь неделикатен. Это, к чертовой матери, совершенно не твое собачье дело, сопляк. И просто оттого, что у кровати стоит бутылка, это не значит, что там какая-то долгая привычка или ритуал.
– Прекрасно.
– Не знаю, с чего мне перед тобой отчитываться.
– Вы правы. Незачем. Вы здесь не для этого. Да и в любом случае я бы понял, если б вам нужно было помогать себе заснуть. Мне не пришлось переживать того, что выпало вам, я по сравнению с вами вообще нихуя в жизни не видел, и мне каждую ночь нужно одиннадцать часов, чтобы поспать шесть-семь. Поэтому не мне судить.
– Спасибо. Это утешает.
– Всегда пожалуйста.
– Сынок, у тебя в голове это определяется как мужская дружба?
– Видите, вы такой высокомерный, а мне совсем не хотелось, чтобы вы так ко мне относились. Считаете, я хуже вас потому, что нигде не воевал? Потому что меня не призвали, а вырос я в мирное время, и мне никогда не приходилось бороться так, как вам?
– Нет. Не считаю.
– Я считаю.
– Ты?
– Да. Я вырос рядом с этой базой, сэр, и мой отец работал на ней подрядчиком. И я вполне уверен, что из меня бы получилось кое-что получше, и все, кого я знаю, получились бы лучше, окажись мы участниками какой-нибудь вселенской борьбы, участвуй мы в каком-то деле масштабнее нас самих.
– И ты считаешь, таким был Вьетнам?
– Ну нет, не обязательно.
– Так о чем же ты, к черту, болтаешь тогда? Тебе известно, до чего ебануты были многие из тех, кто вернулся из Вьетнама? Тебе до хрена повезло, что твоему папаше не пришлось воевать. Тебе хотелось в этом участвовать?
– Нет. Нет, не именно в том конфликте. Но я просто имел в виду…
– Тебе хотелось бы поучаствовать в какой-нибудь чудесной видеоигре с ясной нравственной целью.
– Или в чем-нибудь другом. В чем-то таком, что сведет всех вместе единством цели и какой-то общей жертвой.
– Сынок, судя лишь по тому, что ты похищаешь людей и приковываешь их к сваям, я знал, что у тебя в голове сумбур. Но в действительности у тебя мозги сбоят. То ты жалуешься на своего дружка-астронавта, которому не дали покататься на клевом космическом корабле, а через минуту уже жалеешь, что тебя не загребли в армию. В смысле, тут ничего не сходится, сынок. Что именно довело тебя до этой ручки?
– Не знаю. Вообще-то, наверное, знаю. Все потому, что со мной ничего не происходило. И я думаю, это ваш недочет. Вы должны были найти мне какую-то цель.
– Кто должен?
– Правительство. Государство. Кто угодно, я не знаю. Почему вы не сказали мне, чем заняться? Вам-то говорили, что делать, и вы шли и воевали, и жертвовали собой, а потом возвращались, и у вас была миссия…
– Парнишка, да тебе известно, как я свои конечности потерял?
– Вот зачем я у вас это и спрашивал уже. Наверное, вы спасали чужие жизни. Вас наградили Бронзовой звездой и…
– Нет. Ничьих жизней я не спасал. Я обедал.
– Что? Да ладно.
– Я потерял конечности потому, что обедал рядом с ушлепком, который на себе гранаты не закрепил.
– Не может такого быть.
– Слушай. Я сидел один, обедал. А этого парня только что перевели из Миссисипи, он такой пентюх был, энергии хоть отбавляй. Считал, что мы с ним друзья, потому и ринулся на меня, изображая лося. Обычная молодежная дурь. У него с ремня слетела граната, чека выскочила, подкатилась прямо ко мне и оказалась у самых ног. Я успел лишь голову повернуть, пока не взорвалась. Вот то и стало мгновеньем единства цели и общей жертвы, которое разлучило меня с конечностями.
– Тоска.
– Да, тоска. Поэтому, когда вернулся, я стал пытаться немного ставить на место мозги тем, кто считал, будто отправиться в какую-нибудь страну на другом краю света, чтобы навязать им свою волю, – миленькая затея, а главная незадача с такими вот миленькими затеями в том, что подобные планы осуществляют компании девятнадцатилетних сопляков, которые и шнурки-то себе толком завязать не умеют, зато считают, будто очень весело бегать и дурачиться с гранатами, плохо закрепленными на ремнях. На войнах молодежь оказывается в непосредственной близости от гранат, огнестрельного оружия и прочей многочисленной всячины, какую они найдут способ расхерачить. В наши дни люди на войне убивают себя гораздо чаще, чем их убивает кто-то другой.
– Наверное.
– Ты понимаешь разницу, сынок?
– Думаю, да.
– Потому что смотрю я на тебя – и книжку спичек бы тебе не доверил. Потому что голова у тебя и впрямь садовая, парнишка. А сейчас в пустыне сотня тысяч таких же, как ты, и совсем не удивительно, что они убивают гражданских, насилуют женщин-военнослужащих и стреляют себе по ногам. Я не намерен чернить репутацию этих юношей и девушек, поскольку знаю, что большинство из них – соль земли, – но толкую я о том, что их следует оберегать и не подпускать к опасным вещам. Молодых людей нужно держать подальше от оружия, бомб, женщин, машин, крепкого спиртного и тяжелой техники. Будь моя воля, их бы криогенно замораживали до того времени, пока мы не станем уверены, что они сумеют перейти через дорогу и попутно ничего не проебать. Большинству из тех, с кем я служил, было по девятнадцать. Я более-менее уверен, что в девятнадцать ты не способен запарковаться параллельно.
– А вы знаете, что мы однажды встречались? Мне тогда было пятнадцать. Помните Штат Мальчиков?[6]
– Конечно. Я голосовал за продление их финансирования каждый год, когда они обращались за этим.
– Я ездил.
– Ты ездил в Штат Мальчиков?
– В Сакраменто. В 1994-м. Занимался всем, что делали в Штате Мальчиков, – следил за законотворчеством, учился демократии, видел выступления некоторых политиков. Даже баллотировался на вице-губернатора в их игровых выборах.
– И как?
– Проиграл. Меня попросили снять кандидатуру.
– Почему?
– Неважно. Вероятно, были правы.
– Что ты натворил?
– Там нужно было сочинение сдать, и я подумал, что хорошо бы подписать мое кровью. Как Томас Пейн.
– По-моему, Томас Пейн… Ладно[7]. Им это не понравилось?
– Наверное нет. Они достаточно любезно держались после того, как я объяснился. Но меня попросили на выход.
– Вижу, ты любишь широкие жесты.
– Иногда. Видимо, так. Но так мы с вами и познакомились.
– В Сакраменто?
– Нет, но через Штат Мальчиков. В Марвью проходил парад Четвертого июля, и вы ехали в открытом кабриолете. Не знаю, что вы тут делали, но оказались в одной машине со мной. То была какая-то старая винтажная машина, и представители местного Штата Мальчиков за тот год ехали в ней с вами. Вы в тот год были экзотикой, потому что приехали аж из Вайоминга. Помните?
– Ну да, видимо. В смысле, за много лет мне выпало участвовать в паре сотен парадов, поэтому не знаю…
– Но никто никогда не приезжает в Марвью. О нас просто забыли. Люди видят эту раскуроченную военную базу и решают, будто все вокруг отравлено и мертво. Не знаю. Может, так и есть. Иногда так и бывает.
– Помню, день был солнечный.
– Я вас люблю за это, сэр. Иногда тут бывало солнечно. В самом деле так и было. Тут всегда был какой-то образчик культурного многообразия, крепкий средний класс и все такое, а потом база закрылась, и все после этого просело на несколько делений. Как со стероидами, верно? Вы бывали знакомы с кем-нибудь на роидах?
– Видимо.
– Они делаются огромными, и мускулатура у них сияет, верно? Но когда прекращают, все это обтекает, как жидкая грязь. Покатые плечи, пузо. Сиськи провисают.
– Допустим.
– Но вы были правы. Тот день на параде был солнечный. И я сидел рядом с вами, и еще один пацан. Мы несколько часов ездили вместе по Марвью. Я даже помогал вам садиться в машину и выходить из нее. Вы уронили рожок мороженого, который вам кто-то принес, и я вам помог почиститься, вытер вам рубашку и штаны, и…
– Допустим. Я тебя помню.
– Значит, вы помните, что́ вы мне в тот день сказали?
– Нет, сынок. Сомневаюсь.
– Вы сказали, что надо играть по правилам.
– Допустим. Я такое многим говорил.
– И я так и делал. И что со мной стало?
– Так это формула как-то подвела? Что ты не достиг того, на что рассчитывал? И что твой астронавт не на «Шаттле»? Это как-то ставит под сомнение всю структуру?
– Да, сэр, таков мой тезис.
– Ну, должен сказать, несуразный это тезис. Все равно что утверждать, будто если проиграл какой-то футбольный матч, сам спорт ущербный. Сынок, не всякому удается выиграть. Некоторые играют скверно. Кое-кто бросает. Кто-то даже в схему игры не смотрит. А какие-то люди рассчитывают, что в зачетную зону их внесет вся остальная команда.
– Нет. Я утверждаю то, что вы передвинули зачетную зону. И траву на поле превратили в грязь.
– Я не знаю, что на все это ответить.
– Вы поменяли правила.
– Мы не меняли правил.
– Все просто кажется беспорядочным.
– Ты считаешь, что все стало беспорядочнее, чем… когда? В дни, блядь, Дикого Запада? Тогда все было изумительно организовано, парнишка? Когда люди спали на сене и жрали белочек?
– Нет. Но во времена постиндустриального…
– Пост-, к дьяволу, чего? Когда нужно было месяц копить на радиоприемник? Когда канализация в доме служила признаком того, что ты достиг? Господи боже, сынок, худшее, что для вас, мудачье молодое, сделали ваши предшественники, – они преуспели. Мы всё так облегчили, что вы бросаетесь рыдать, когда у вас камешек на тропинке возникает.
– Ладно, тогда хотя бы вот что скажите мне: всё это те же деньги?
– Что «это те же деньги»?
– Деньги, какие могли бы спасти «Шаттл», и деньги, которые мы шлем в случайные страны, пускаем на то, чтобы переделать неизменные страны в тысячах миль от нас.
– Те же самые ли это деньги?
– Ну да, те же? То есть, вы, ребята, жалуетесь на то, что нет денег на школы, на здравоохранение, что все разрушено, и у нас правительство прекращает действовать, и еще что не, блин, а потом глядь – и вы тратите 150 миллионов на кондиционирование воздуха в Ираке.
– Слушай, ты тут проповедуешь обращенным.
– Не желаю я проповедовать. Я спрашиваю. Я не знаю, как оно устроено. Откуда деньги поступают? Вы, ребята, воюете за пенни на «Улице Сезам»[8], а потом кто-то поддерживает сделку, чтоб вывалить триллион долларов в пустыню.
– Так ты спрашиваешь, откуда поступают деньги, которые финансируют войны?
– Да.
– Сам умный, чтобы такое понимать. Мы эти деньги создаем. Это не обычная часть годового бюджета. Строки на войну в бюджете нет.
– Значит правда, что мы, по сути, занимаем деньги у китайцев, чтобы эти войны финансировать?
– Ох блин. Нет. Но мы создаем и продаем облигации, и люди здесь и где угодно, например, в Китае, видят в этих облигациях хорошее капиталовложение. И, несомненно, китайцам нравится сознавать, какой рычаг у них в руках – держать столько американского долга.
– Но мы б не могли разве просто продавать облигации, чтобы оплачивать социальное страхование, образование для всех, колледжи для всех? То есть, все заламывают руки насчет сокращения или спасения какой-нибудь микроскопической правительственной программы, и Где, о где же мы возьмем деньги? – но затем мы оглядываемся, а там миллиард долларов на афганских боевиков. То есть, понятно, что я дурак, раз такого не понимаю, но я не понимаю.
– Беда со всем тем, о чем ты толкуешь, с образованием и всяким яким, в том, что эти проблемы – хронические, в отличие от проблем острых. Мы финансируем то, что срочно, вокруг чего все могут митинговать или о чем более-менее соглашаться. А о том, что нужно финансировать войска, размещенные за границей, все сходятся во мнении. Сперва даешь деньги кое-каким советникам, затем дюйм за дюймом продвигаешь их к более активному участию, и вот уж никто не желает быть тем, кто отказывает в бронежилетах нашей молодежи в военной форме. Поэтому мы изыскиваем средства. Продаем облигации, занимаем деньги. Но наберем ли мы такой же разгон, чтобы занять у Китая денег на оплату реформы национального образования? Нет. Это не острая проблема. Если завтра случится вторжение инопланетян, и единственный способ их победить – это финансировать «Рывок вперед»[9], – то, конечно, мы б нашли такие деньги.
– Значит, дело не в возможности, а в желании?
– Что-что?
– В желании.
– Конечно. Все сводится к желанию.
– Моя мама всегда так говорила.
– Ну, она была права.
– Не часто.
– Сынок, ты меня сюда привез о твоей маме разговаривать?
– Но вы разве не думаете, что для таких людей, как я, должен существовать план, для парней, о которых вы говорили, о ветеранах, у кого мозги сбоят?
– Что за план?
– Вы не думаете…
– Что, сынок?
– Вы не думаете, что в огромном большинстве своем хаос в мире вызван относительно небольшой группой разочарованных мужиков?
–
–
– Не знаю. Возможно.
– Мужиков, кому не досталось работы, которую они надеялись получить. Тех, кому не дали повышения, на какое они рассчитывали. Тех, кого сбросили в джунгли или пустыню, а они ждали видеоигру, и достались им обыденность, распущенность и друзья, что мрут, как животные. Этих мужиков нельзя оставлять так, чтобы они якшались с остальным обществом. Вечно случается что-то плохое.
– Что-то плохое вроде вот такого. Вроде того, что ты меня сюда привез. Согласен.
– Когда я вижу эти бойни в торговых центрах или конторах, я думаю: как вдоль Озера Божья иду я.
– Милость Божия.
– Что такое?
– Там «Кабы не милость Божия, шел бы так и я»[10].
– Нет. Там «вдоль Озера Божья».
– Там «милость Божья».
– Не может быть.
– Сынок. Так есть.
– У меня всегда в уме была эта картинка – Озеро Божье. И ты мимо него идешь.
– Нет никакого Озера Божья.
– Такое громадное подземное озеро, и оно было темным, и прохладным, и мирным, и можно было спуститься и поплавать в нем, и тебе все простится.
– Не знаю, что тебе сказать, сынок. Я преподавал Библию тридцать восемь лет, и в этой книге нет никакого Озера Божья. Есть Озеро Огненное[11], но мне кажется, ты не его себе представлял.
– Видите, даже это.
– Даже что?
– Даже это – знак, что мир злоупотребляет такими, как я. Не знать разницы между Озером Божьим и Озером Огненным – как так вышло?
– Не уверен, что это недопонимание – симптом общественного неуспеха. У тебя озера перепутались.
– Но это симптом. Мы с вами читали одни и те же книжки и слушали одни и те же проповеди, а смысл из них извлекли разный. Это должно быть свидетельством какой-то серьезной проблемы, верно? То есть, меня не следовало бы оставлять жить с остальным обществом. Столько дней бывало, когда я смотрел на все это и хотел, чтобы оно стерлось, чтоб сгорело оно.
– Похоже, с тобой случилось что-то радикализирующее, сынок. Тебя в детстве били – или что-нибудь такое?
– Нет, сэр.
– Увидел что-то ужасное, что тебя изменило?
– Помните другого парня с нами в машине в тот день?
– Нет, не могу сказать, что припоминаю.
– Не помните? В нашем городке такой пацан – невидаль. Наполовину вьетнамец. Дон Бань. Помните такого пацана?
– Извини, нет. Он твой друг?
– Он уже умер.
– Мне жаль это слышать.
– Его застрелили.
– Он был солдатом?
– Нет. Прямо у него на заднем дворе.
– Прости, сынок. Это слишком рано. Мне очень жаль, правда.
– Я не говорю, что это был для меня какой-то радикализирующий миг. У меня такое чувство, что и до этого у меня водились довольно апокалиптические мысли.
– У большинства молодежи так.
– Я пытался объяснить эти мысли людям, но они пугаются. Не понимают. Или делают вид, будто не понимают.
– Ну-ка, ну-ка.
– Короче, каждый день примерно по полдня я среди людей в городе и представляю, как рукой обмахиваю весь город, стираю его начисто. Как будто это модель, построенная на ломберном столике, и можно просто смахнуть все на пол. Так?
– Так.
– Хотите еще послушать?
– Конечно.
– Иду по какой-нибудь людной улице – и начинаю закипать внутри, и рисую себе, как я всех этих людей раздвигаю, словно Моисей Красное море. Знаете, люди исчезают, здания растворяются, и когда все сделано, остается это пустое пространство, и в нем спокойнее, и нет всех этих людей и их грязных мыслей, идиотской болтовни и мнений. И такое видение на самом деле внушает мне покой. Когда я представляю пейзаж голым, свободным от всякого человеческого шума и мерзости, мне удается расслабиться.
– Может, тебе стоит жить в деревне.
– Не смешно. То есть, это не решение. Мне просто хотелось бы лучше функционировать в комнатах, в зданиях, в очереди в гастрономе. И иногда получается. Но порой это меня так, блядь, напрягает. Нужно вырваться, немного поездить, добраться как можно скорее до океана.
– Сынок, я понял, что не знаю, как тебя зовут.
– Томас.
– Томас, все, что ты говоришь, – не беспрецедентно. Есть и другие, как ты. Миллионы мужчин, как ты. Сколько-то женщин в придачу. И я думаю, это результат того, что ты подготовлен к жизни, какой не существует. Тебя создали для иного мира. Как хищник без добычи.
– Так чего не найти нам место?
– То есть?
– Найти нам место.
– Кто должен?
– Вы, правительство. Вам лучше всех должно быть известно, что нам нужен план. Вы должны были послать нас куда-нибудь и дать нам задание.
– Но не на войну.
– Нет. Наверное.
– Так что тогда?
– Может, канал рыть.
– Ты хочешь рыть канал?
– Не знаю.
– Нет, у меня не сложилось впечатление, что хочешь.
– Но вам нужно приложить эту энергию к делу. Она во мне копится – и копится в миллионах таких, как я. Я себя чувствую как надо, только когда я еду в машине или, бывает, когда дерусь.
– Так ты боксом занимаешься?
– Нет.
– О. Дай мне на руки твои посмотреть.
– Сейчас они раскурочены.
– Это уж точно. Сынок, ты с кем дерешься?
– Не знаю. С людьми.
– Выигрываешь?
– Что выигрываю?
– Эти драки.
– Нет. Скорее нет.
– Томас, ты же сам знаешь, что мы не можем собрать всех смятенных молодых людей и послать их в какую-нибудь даль. Если б я даже согласился с тобой, а я с тобой согласен – хотя бы отчасти. То есть, именно поэтому столько солдат остается в армии и почему столько заключенных в итоге возвращается в тюрьму. Не по нутру им приличное общество. Им скучно, и они себя ощущают в клетке.
– Но тут нет зримого плана, сэр.
– Какого плана?
– Любого плана. То есть, разве вся Австралия не для этого была? Некая колония заключенных. Такое мы б могли устроить на Луне. Мне вообще хотелось бы съебаться с этой планеты и отправиться на следующую, но этого никак не устроить. И Дону тоже. Ему не место было в порядочном обществе после того, что с ним произошло.
– Я не понимаю. После того, как он умер?
– Нет, раньше. Я всегда чуял, что произойдет. Я знал: случится что-то, только не знал, что. То есть, тогда-то мне замысел всего этого впервые в голову и пришел. Мы, бывало, колобродили тут на базе. Катались через эти постройки на великах, а когда стали старше, сидели здесь и пили, и когда Дон немного перебирал, а он пару раз на просушку попадал, я, бывало, думал: типа, если б я мог его просто приковать внутри одной такой постройки на некоторое время, типа, чтоб он в безопасности побыл, чтобы просох, то, возможно, и выкарабкался бы.
– Ладно. Это я понимаю. Правда понимаю.
– Но он же вечно болтался где-то там. В мире снаружи. Делал не то, никогда не занимался тем, что я ему велел. Я-то всегда знал, чем ему нужно заниматься, и готовил ему пошаговую инструкцию, даже записывал ему эту хрень. Я план составлял! На два года, на пять. А он даже не пытался. Я не мог заставить его ничего делать. Не мог держать его на просушке. Не мог его запереть. Знаете, однажды я его в тюрьме на месяц бросил, залог вносить не стал, поскольку решил, что это принесет ему пользу? Тюрьма – самое надежное место.
– Иногда так оно и есть.
– Уверен, он был бы жив до сих пор, если б я раньше об этом подумал, привез бы его сюда и просто запер здесь в какой-нибудь постройке, пока он бы не пришел, блин, в себя.
– Это я тоже понимаю. Знакомая для меня территория.
– Я просто злюсь на себя, что не придумал это раньше.
– Приковать дружка своего к свае.
– Ну да.
– Но ты же понимаешь, что это не долговременное решение.
– А что тогда?
– Не знаю. Реабилитация? Терапия?
– Ладно вам. Это несерьезно.
–
– Ну правда, почему у нас нет какого-нибудь плана для таких людей? Наверное, главный план правительства – их всех запирать, и мне ясно стремление держать их отдельно от воспитанного общества. Это я понимаю. Но есть же парни, как я и Дон, кто на самом деле ничего плохого не совершил, и есть солдаты, вроде тех, с кем вы бок о бок воевали, – они возвращаются с этими ужасными затеями и убойными навыками, и никому из нас места не находится. Мы полазали по глухомани и попробовали сырое мясо, а теперь не способны сидеть за столом и пользоваться приборами. Нам должно где-то быть место. Вот такое на самом деле помогло бы. Тут 28 000 акров, граничит с океаном. Почва достаточно плодородная. То есть, отведите эту землю людям вроде нас, и спорить готов – преступность в этой стране сократится вполовину.
– Где мы, ты сказал?
– Этого я не могу вам сообщить.
– Томас, какая разница?
– Ладно. Мы в Форте-Орд.
– Форт-Орд? Это возле Монтерея?[12]
– Вы бы все равно вычислили, сэр. На побережье Калифорнии только одна база таких масштабов.
– Блин. Я здесь в учебке был. Тебе известно, что это место открыто для публики? При первом свете сюда туристы с рюкзаками придут.
– Видите, как это грустно.
– Что именно?
– Что вы не знаете: это место закрыто. Его заперли на все обозримое будущее. Бюджет срезали. Ворота с трассы заперты. Я просто замок отчикал болторезом и новый поставил.
– И в урезывании бюджета тоже я виноват.
– Ни у кого не было ни на что плана. Думаю, вот это как раз и сокрушает, от этого мы все с ума сходим. Мы все думаем, что управляет кто-то очень умный, тратит деньги, составляет планы для наших школ, парков, вообще всего. А оказывается, что там такие парни, как вы, которые такие же парни, как я. Ни у кого, блядь, ни малейшего понятия.
– Так мы тут одни?
– Я тут много дней ни души не видел.
– Прекрасное местечко.
– Вы, вероятно, хрустальную травку там не видели, а она повсюду, десятка расцветок. Смотрятся так, будто везде дурацкой радугой наблевали. И свет здесь такой белый, такой невесомый и белый. Что-то во мне хочет остаться тут навсегда.
– Но чем дольше ты нас тут держишь, сынок, тем вероятнее ты здесь умрешь.
– В смысле, они меня тут убьют.
– Сынок, ты же должен понимать, что такова отчетливая возможность.
– Я знаю.
– И она все больше растет.
– Ага, знаю.
– Чем дольше ты нас тут держишь, тем больше это становится почти определенностью. Они тебя точно найдут. Это, к черту, как пить дать. Затем они устроят облаву. И поскольку тут никто не смотрит, в глуши этой, черт, какой-нибудь снайпер просто потехи ради может отстрелить тебе башку.
– Я знаю, знаю.
– Вообще говоря, я знаю, что так оно все и произойдет. Я правда не считаю, что тебя станут брать живым.
– Ну да, наверное. Но тут для меня на самом деле многое проясняется. Такое чувство, что это мне действительно помогает. Мне жаль, что в таких обстоятельствах, но я должен сказать, что пока что все было очень полезно.
– Я не знаю, что тебе на это сказать.
– Поначалу должен был быть один Кев, но теперь, раз вы здесь вдвоем, разница очень существенная.
– Еще раз, кто этот Кев?
– Астронавт. Я подумал, что мне просто нужно с ним поговорить. Но потом все дошло до такой точки, где у меня возникли вопросы к вам, и ваши ответы меня действительно просветили.
– Допустим.
– И я не хочу выглядеть грубым, но теперь мне нужно ненадолго выйти. Пока мы беседовали, я думал о том, что здесь нужно быть кое-кому еще. Кажется, нужно его привезти, пока есть время.
– Сынок, не вези сюда, пожалуйста, больше никого.
– Всего одного этого парня. Думаю, вы бы поняли, если б узнали, кто это.
– Нет, не понял бы. Незачем везти сюда кого-то еще. Пожалуйста, просто отпусти нас, сам сдайся, и я смогу сказать полиции, что ты достаточно приличный молодой человек. Обещаю ратовать за лучший исход. Думаю, тебе нужно помочь.
– Я знаю, что нужно. Дело просто в том, как именно помочь. Вернусь через некоторое время. Вот ваши пилюли. Вам вода для них нужна?
– Да.
– Ладно, я ее вот тут поставлю. И вот злаковые батончики. Вы же, наверное, есть хотите. Я скоро вернусь.
– Сынок.
– Мне надо. Но еще раз – просто хочу сказать, до чего мне жаль, что вы здесь оказались в таких обстоятельствах. Я вас уважаю дальше ехать некуда, и я правда вам пока очень благодарен за вашу доброту.
– Сынок.
– Скоро увидимся.
Строение 54
– Вам известно, зачем вы здесь?
– Нет. Где я?
– Этого я вам не скажу.
– Как вы меня сюда доставили?
– Это было нетрудно. Дождался, пока вы вторсырье пойдете выносить.
– О боже мой.
– Вы прицеплены к этой свае и останетесь здесь, пока мы не закончим.
– Не делайте мне больно.
– И не планирую. Это показание под присягой.
– Показание под присягой.
– Мне кажется, вам известно, в чем тут дело.
– Не известно. Вы кто?
– Могли б догадаться, наверное.
– Хотите, чтоб я угадывал?
– Я хочу, чтобы вы догадались, почему вы здесь. Ни астронавту, ни конгрессмену неоткуда было знать, почему их сюда привезли, а вот у вас какое-то представление очень может быть. Вообще-то я думаю, вы уже знаете.
– Не знаю.
– Но нет же, знаете.
– Сэр, я не понимаю, чего вы хотите.
– Сэр? Ух ты, мне нравится. Мне нравится, что вы меня сэром зовете. Спасибо. Это вообще-то помогает мне вас увидеть в более благоприятном свете. Итак, вы меня помните?
– Нет, не помню. У меня голова очень болит. И я так далеко не вижу.
– Это ваши? Я нашел их у себя в сумке и не понимаю, чьи они. Когда я вас знал, вы не носили очков.
– Вы были учеником?
– Да. Я учился у вас. В шестом классе. А я только что у вас в глазах что-то заметил. Какой-то проблеск страха. Итак, вы знаете, почему я здесь и почему вы здесь?
– Нет. Ничего я не знаю.
– Ладно, вы опять дерзите. Я про вас такое слыхал. Говорили, что вы хороши. Прошли испытания на детекторе лжи и прочее. А штука в том, что вы и впрямь можете быть невиновны. Никто наверняка не знает. Именно поэтому вы здесь.
–
– Вот вы не разговариваете. Чудно́ ли вам быть прикованным к свае?
–
– Вам правда нужно ответить. Мне пока не пришлось воспользоваться электрошокером, но к вам я его применю. Вы первый, на ком я буду не прочь его испытать.
– Сэр, что вы намерены со мной делать?
– Опять, обожаю я это сэр. Мне правда нравится. Но, должен сказать, от покаянного тона вы кажетесь более виноватым. Вам бы следовало об этом задуматься.
– Прошу вас, вы мне скажете, что вы намерены со мной делать?
– В мои планы входит задавать вам вопросы, а вам на них отвечать.
– Ладно. А потом что?
– А потом я вас отпущу.
– Вы меня отпустите?
– Вас, астронавта и всех остальных отпустят. У меня тут в трех зданиях отсюда настоящий астронавт. Уважаемый человек. И у меня есть бывший конгрессмен. Он-то и подал мне мысль вас найти – хотя бы косвенно. Он тоже уважаемый человек. А вот вы – не знаю. Ну, знаю вообще-то. Вы – человек не уважаемый. Уж это-то мне известно. В лучшем случае, вы жалки и с приветом. Может, просто одиноки. Но мне сдается, вы больше, чем просто это. Я думаю, вы чудовище. Теперь понимаете, зачем вы здесь?
– Мне кажется, надо это просто объяснить. Я не хочу гадать.
– Вы не хотите гадать. Ладно. Вы только что загнали себя в угол. Это значит, что другие кошмарные дела вы тоже творили. Вы натворили столько кошмарных дел, что сами не знаете, о каком из них сейчас речь. Вот что вы мне сейчас открыли. Сказали, дескать, не помните, что вы со мной сделали. Значит, преступлений могло быть сколько хочешь.
– Я этого не говорил.
– Вам и не нужно было.
– Прошу вас. Давайте тут поконкретнее. Я вас не помню, но верю, что вы учились у меня в Средней школе Мивок. Вы были из тех, кто подал на меня жалобу?
– А, вы вдруг о деле заговорили. Хорошо. Вы признаете, что на вас подали жалобу.
– Жалоб было семь. Ничего не доказали.
– Но вы оставили преподавание.
– Да. В тех условиях оставаться было невозможно.
– В условиях, которые вы же сами и создали.
– До суда дело не дошло и никакого слушания не было.
– Боже, да вы как будто все отрепетировали. Видимо, пришлось. Доведись вам беседовать с двоюродным родичем или племянником, и спроси они у вас, почему вы бросили преподавать, нужно будет только отбарабанить эту дрянь про «якобы» и «не было слушания», все вот это вот. Что вы своим родителям сказали?
– Отец у меня умер. А моя мать знает правду.
– «Моя мать знает правду»! Ничего себе. Это откровенное замечание. Какова же правда, мистер Хэнсен?
– Правда о чем?
– Да! Вы гений! Знаете, как вернуть вопрос мне, убедиться, что вы ничего слишком широкого не скажете. Вы не хотите говорить, к примеру, что не собирались щупать того пацана в туалете, потому что, возможно, я не знаю про того пацана в туалете. Как это весело, мистер Хэнсен! С вами веселее, чем с остальными. Не нужно с этим спешить. Надо мне постараться помедленней. Ладно, давайте поглядим. Помните конец восьмидесятых, мистер Хэнсен?
– Да, я помню конец восьмидесятых.
– Следите за манерами, мистер Хэнсен. Вы прикованы к свае. От вас до ближайшего шоссе десять миль. Я могу проломить вам голову, и вас никогда не найдут. Вам это известно.
– Да.
– И вы и впрямь первый во всем этом процессе, кому я действительно сделал бы неприятно. Наверное, вам ясно, что терять мне особенно нечего, верно?
– Да. Я это улавливаю.
– «Я это улавливаю». Здорово как. Да. Я тут многим рискую. Что у меня здесь вы, и астронавт, и все остальные. Но боже мой, пока что оно того стоило. Я так много узнал. Как будто все детальки сходятся. Пинаю я себя лишь за то, что не сделал этого раньше. Надо было раньше вас сюда привезти. Двадцать лет назад. Вам не место среди людей, как и мне среди них не место.
– Наверное, вас наблюдает кто-нибудь? Профессионально?
– Не надо так со мной разговаривать. Вы же понимаете, что я по делу говорю. Я тут выкинул некий финт, но я вполне рационален. Вы это знаете. У вас диплом бакалавра по психологии. Но, наверное, это никогда ничего не значит.
– Нет. Не в моем случае.
– Ну потеха же какая – студенты, которые защищаются по психологии, а? Да их половина в каждом колледже, этих выпускников-психов. У них нет ни малейшего понятия о том, зачем они изучают психологию. Это как специализироваться по лицам – или по людям. «Я специалист по вопросам о людях с вариантами ответов».
– Точно.
– Видите, у вас по-прежнему эта манера. В вас есть что-то подобострастное, вы в курсе?
–
– Вы всегда таким были? Не могу вспомнить.
– Не знаю.
– Вам бы подавать себя более привлекательным, а не менее, вы не считаете?
– Полагаю, что да.
– Даже выражаетесь вы подобострастно. «Полагаю, что да». Ну кто так разговаривает?
– Ничего не могу сделать с тем, как говорю.
– Можете, конечно. Так, хватит уже лебезить.
– Я приложу усилия.
– Теперь и вот это еще: «Я приложу усилия». На самом деле надо было сказать: «Попробую». Покороче говорите. Будете говорить короче – хоть станете похожи на нормального человека.
– Ладно.
– Вы из тех мудаков, кто в одновременно ударение ставят на первом е?
– Нет.
– Неубедительно прозвучало. Могу спорить, что да. Знаете, кто говорит одновре́менно? Мудаки.
– Сэр, я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы вам помочь. Зачем вы меня сюда привезли?
– Но как же я могу удивляться тому, что вы мудак? Я вас сюда привез именно потому, что вы мудак.
– Так вы были одним из жалобщиков?
– Нет.
– Но учились у меня в классе?
– Да. Помните меня?
– Может, получится вспомнить, если вы мне имя свое сообщите.
– Нет, мудак. Но я помню вас как прикольного учителя. Такова была ваша цель – казаться клевым, прикольным?
– Не знаю.
– Вы одевались, как мы. Или хотя бы пытались одеваться молодежно. Помню, вы носили джинсы «Джордаш». Помните, как носили джинсы «Джордаш»?
– Не знаю.
– Вы носите джинсы «Джордаш» и не помните? Такое не забывается. Это полная приверженность. Их придумали для женщин, поэтому когда такие надевал мужчина, там было все полный вперед. Штаны без полумер. Это важное жизненное решение, какое вряд ли забудешь. Теперь скажите мне, носили ли вы джинсы «Джордаш».
– Полагаю, носил.
– Видите, откуда выползает такой червяк, как вы? Сперва носите джинсы «Джордаш». Потом отрицаете это. А потом, когда это признаёте, говорите: «Полагаю, носил».
– Сэр, какое отношение это имеет к чему бы то ни было?
– Оно ко всему имеет все отношение. Вы пытались втереться. Старались разжиться нашим доверием. Вы пытались казаться таким же, как мы, нашего возраста, безвредным, клевым.
– Мне про это ничего не известно.
– Чтоб можно было сидеть с детьми.
–
– Так?
–
– Помните, как вы сидели с Доном Банем?
– Да.
– Хорошо. Это было хорошо. Прямой ответ. Вы оставались на ночь.
– Да.
– Когда их родители уезжали на неделю или как-то, вы оставались с малышней, кормили всех, подтыкали одеяло на ночь, оставались ночевать сами. Помните?
– Да.
– Как звали детей Баней?
– Дон, Джон, Кристина, Анжелика.
– Значит, вы их помните.
– Конечно, помню.
– Забавно, до чего у вас память избирательная.
–
– Помните, как я тоже приходил, пока вы их пасли?
– Нет.
– Вам нравилось бороться. Помню, я зашел как-то вечером, вхожу в цоколь, а вы там боретесь с Доном и Джоном. Все потные.
–
– Так почему борьба, мистер Хэнсен?
– Мы были одеты?
– Что?
– Были мы одеты?
– Да. Были. А что?
– Я просто хочу придерживаться того, что произошло и что вы видели. Если мы в это пустимся, я хочу держаться фактов, а не домыслов и намеков.
– Уму непостижимо. Вы перешли в наступление.
– Я стараюсь, чтоб мы не отступали от фактов.
– Хорошо. Хорошо, уебок. Я тоже хочу не отступать от фактов. Хорошо.
– Так позвольте мне задать вам вопрос.
– Вы собираетесь у меня спрашивать?
– Можно мне?
– Можно ли вам? Мать вашу, можно ли? Блядь, да, валяйте.
– Ваш отец с вами когда-нибудь боролся?
– Вы не были их отцом.
– Но ваш отец боролся с вами?
– Да. Вероятно. Я нечасто его видел после шести лет.
– А где был отец Баней?
– Я не знаю.
– Его не было. В их жизни я был главным мужским присутствием.
– А потому думали: этой бедной безотцовщине нужен взрослый мужчина, чтобы ходил с ним в цоколь потеть и бороться.
– Я делал все, что сделал бы родитель. Когда мне доверяли заботу о них, я их кормил, готовил к школе, следил, чтобы зубы чистили. И мы играли во всевозможные игры, включая простое баловство.
– Знаете, что? Вам не следует так говорить. Баловство подразумевает то, на что вы не желаете намекать. Вы кажетесь виновным, употребляя такие слова.
– Томас, а что, по-вашему, я там делал?
– Постойте. Теперь вы знаете, как меня зовут?
– Я пошарил в уме и отыскал вас.
– Ох блин. Вы жуть наводите. Как вы это произнесли. «Я вас отыскал». Знаете, какой вы, если вас послушать? Не хочу, чтоб вы меня по имени называли.
– Прекрасно. Но все равно – что, по-вашему, я там делал?
– То же, что утверждали те, кто подавал жалобы.
– А вы сами эти жалобы читали, Томас?
– Я велел вам не звать меня по имени.
– Извините. Вы читали жалобы?
– Я читал о них.
– И что, по-вашему, в них говорилось?
– Что вы щупали детей. Что вы к детям пристаете.
– Вы в самом деле считаете, что в жалобах это говорилось?
– Да.
– А если там говорилось так, они меня просто взяли и выпустили на свободу? Без обвинений? Без срока в тюрьме?
– То было другое время.
– Может, оно и другое, но если бы меня обвинили в приставании к детям, мне бы не дали просто так уйти в отставку и жить в соседнем городке.
– Так почему вы бросили преподавать?
– Мне пришлось. Инсинуации всех отвлекали.
– Так вы ушли по собственному желанию? Чтобы никого не отвлекать?
– Все верно.
– Никто не просил вас бросать?
– Никто. Но мы все это обсудили, и я первым высказался за то, что, возможно, мне стоит подать в отставку.
– Вы сами эту тему подняли.
– Полагаю, да.
– Вы «полагаете, да». Хэнсен, ваши уста продолжают допускать ошибки. Но ладно. Я хочу ко всему этому вернуться. Но давайте сначала вот где прогуляемся. Вы помните, как я к вам домой приходил?
– Нет.
– Господи. Как же мне хочется вас ударить.
– Я не помню. А вы приходили ко мне домой?
– Приходил.
– Ладно.
– Это не ладно, мистер Хэнсен. Что это за хуйня – «математическая вечеринка»?
–
– Вот видите. Теперь вы испугались. Ебаный вы больной уебок.
– Хватит. Не забегайте вперед.
– Это я вперед забегаю?
– Простите мне мой тон. Но вы сами сказали, что будем держаться фактов и того, что происходило, и того, что видели лично вы.
– Точно. Был 1989 год. Мне одиннадцать. Я был с Доном Банем и Питером Фрэнсисом. Помните, как вы пригласили нас к себе домой на «математическую вечеринку»?
– Да.
– Да?
– Да.
– Ну, блин. Это поразительно. Вы сказали да! Потрясающе. Ну, вы впервые продемонстрировали хоть какой-то хребет. Вы это помните.
– Я это помню. Но не припоминаю, чтобы конкретно вы бывали у меня дома.
– Ладно, прекрасно. Но что это за хуйня, математическая вечеринка, мистер Хэнсен?
– Я вас, детвору, кормил, и мы делали домашнюю работу по математике.
– Правда? И всё?
– Такова была первостепенная цель.
– Ну вот опять вы врете. Это была первостепенная цель? Такова была первостепенная цель? Не ебите мне мозги. Вы утверждаете, что ваш великий замысел сводился к тому, чтобы приглашать к себе шестиклассников и учить нас математике? Что этого нельзя было делать после уроков или в классе, или хоть как-то плюс-минус пристойно? Что это обязательно должно было происходить у вас дома, вечером и непременно с ночевкой? Таков был ваш великий замысел? Первостепенной целью была математика?
– Да. Я преподавал математику, и это был способ подтянуть некоторых учеников в понятиях, которых они не усваивали.
– Зачем мы оставались у вас ночевать, мистер Хэнсен?
– Не знаю. Вероятно, потому, что всем вам это нравилось.
– Сколько кроватей было в том доме, мистер Хэнсен?
– В доме, где я жил тогда?
– Да.
– Не знаю.
– Я сейчас вас в голову пну.
– Три.
– Хорошо. Вы помните, где мы все спали в ту ночь?
– Нет.
– Не вынуждайте меня вставать.
– Я допускаю, что вы расстроены потому, что спали у меня в постели.
– Какого хуя, мистер Хэнсен, мы спали у вас в постели?
– Не знаю. Предполагаю, мы уснули, пока смотрели кино. Вот почему, на самом деле, вам, детворе, нравилось приходить ко мне – я разрешал вам смотреть страшное кино.
– Мне не нравилось страшное кино.
– Ну, тогда я не знаю, зачем вы приходили. Зачем вы приходили?
– Я приходил, потому что моя чокнутая мамаша услышала, что туда идет Дон, и подумала, будто вы поможете мне с математикой. Она решила, что это какая-то честь – прийти на вашу ебаную математическую вечеринку. Вы нас насиловали, больной уебок?
– Нет.
– Мистер Хэнсен, я тут еще никому не сделал больно. Но вы изо всех сил доказываете, что мне следует пнуть вас в голову.
– Я вам не вредил. Я вас даже не раздевал – никого из вас.
– Вы нас не раздевали.
– Нет. Честное слово вам даю. Не раздевал.
– Ладно. Мне хочется на секунду отложить это в сторонку. Мы еще вернемся к одежде. Сперва я хочу вернуться к кроватям. Дон мне рассказывал, что ходил к вам на четыре математические вечеринки. И каждый раз он помнил, как его несут сначала к вам на кровать, а потом на другую, где он и просыпался. Почему вы его так перемещали?
– Он, вероятно, что-то не то помнит. Детвора обычно засыпала у меня на кровати.
– Пока смотрела кино.
– Ну да. А потом я их переносил в гостевую комнату.
– Ну, это кажется однозначно невинным.
– Я знаю, что невинным это не кажется.
– А каким, вы считаете, оно кажется?
– Думаю, это кажется неподобающим.
– Вы знали, что это и тогда казалось неподобающим?
– Да.
– Так зачем вы это делали?
– Зачем я приглашал вас на кино?
– Да.
– Мне было одиноко.
– И всё?
– Томас, вы планируете причинить мне вред?
– Нет. Не знаю. Может быть. Я колеблюсь между тем, что хочу причинить вам вред, и тем, что мне вас жаль. А что?
– Томас, если вы дадите мне слово, что не сделаете мне больно, я готов изложить вам все подробности той ночи, которую вы провели у меня дома. Мне понятно, почему вам хочется выяснить, что именно тогда произошло. Я готов это сделать. Но не сделаю, если вы убьете меня невзирая.
– Это не слово. Уж вы-то должны знать. Вы же учитель.
– Что не слово?
– Невзирая. Это как говорить одновре́менно. Думаете, что кажетесь умнее, но кажетесь вы глупее. Лучше б выбирали обычные слова. Не выделывайтесь.
– Ладно. Извините.
– Не извиняйтесь. Просто будьте умнее. Вы хотите знать, гарантирую ли я вашу безопасность. Ну-ка, поглядим. Вынужден сказать… нет. Я ничего не могу гарантировать. Я вам этого не должен.
– Томас, я вам зла не причинял. И Дону вреда не нанес.
– Я вам не верю. И не называйте меня по имени.
– Ладно. Тогда зачем вы меня сюда привезли?
– В каком это смысле?
– Вы потратили много сил на то, чтоб меня сюда доставить. Но отказываетесь от моего предложения заполнить пробелы в вашей памяти. Я хочу, чтобы вы с этим примирились. Вы не первый бывший мой ученик, кто приходит ко мне, чтобы выяснить про те ночи.
– И что вы им рассказывали?
– То же, что рассказываю и вам. То, что я делал, было неподобающе, но не происходило ничего ужасного. Вас не насиловали.
– Видите, как раз вот этого я и не понимаю. Зачем рисковать своей работой и попаданием в тюрьму, и всем прочим – и водить к себе домой мальчиков, если вы не собирались нас насиловать?
– Я же вам сказал. Мне было одиноко. И там были не только мальчики.
– Девочек вы тоже водили?
– Томас, мне нужно ваше заверение в том, что вы не причините мне вреда и отпустите меня. У меня в жизни есть люди, которые на меня рассчитывают и кому я нужен. Со мной живет моя мать. Ей девяносто один год. Я ее кормлю. Мне сдается, сейчас перевалило за полдень, и она уже волнуется, где я.
– Знаете, мистер Хэнсен, вы только что допустили тактическую ошибку. Вы все переебали – вы ебали мозги скольким-то детям, которых вверяли вашей заботе, а теперь чего-то от меня требуете.
– Я не хотел, чтобы получилось как требование. Я лишь пытался дать вам представление о других людях в моей жизни. У вас был опыт общения со мной двадцать лет назад, но с тех пор много воды утекло.
– Ладно, я понимаю: это вы пытались себя очеловечить. Мне ясно. Если рассказать мне про вашу древнюю мать, предположительно будет труднее причинить вам вред или убить вас. Только в данном случае это глупо. Я уже знаю, что вы человек. И знаю, что вы чудовище. И теперь еще я знаю, что у вас девяностооднолетняя мать, которая, как известно нам обоим, прожила долгую жизнь и, кроме того, вырастила извращенца. Поэтому сочувствие меня не переполняет.
– Вы не гарантируете моей безопасности.
– Нет. Но скажу, что если вы мне все расскажете, и если рассказанное вами покажется достоверным, то я с большей вероятностью оставлю вас в покое, нежели если вы будете мне и дальше рассказывать про свою девяностооднолетнюю мать, которая вырастила педераста.
– Я не педераст.
– Вы приглашали мальчиков к себе ночевать – и вы не педераст?
– Я действовал неподобающе, я это знаю. Но у всего есть степени.
– Вы такой больной.
– Томас. Вы умный парень. И с учетом того, что вы приковали меня к свае, я знаю, что вы понимаете про нравственные выборы, что слегка в стороне от проторенных троп. Поэтому я надеюсь, вы поймете и то, что́ я имею в виду, когда говорю, что на свете изрядно серого. Не самое расхожее мнение, конечно же, но почти весь мир – серая зона. Я знаю, что если мужчина разок тронул мальчика за попу, на него могут повесить ярлык педофила навсегда, но это одновременно несправедливо. Мы утратили чуткость к оттенкам.
– Мы утратили чуткость к оттенкам? Мы утратили чуткость к оттенкам? Так вы об оттенках побеседовать желаете? Какое отношение эта хуйня имеет к оттенкам?
– Вы привезли меня сюда, поскольку допускаете, что, если я приглашал к себе ночевать мальчиков, я их насиловал. Но я этого не делал.
– Так зачем тогда звать их к себе домой? Я вот во что не врубаюсь.
– Томас, скажите мне кое-что. Вы женатый человек?
– Нет.
– Вы натурал?
– Да.
– Вы приводили женщин к себе в квартиру?
– Да.
– Вы с каждой из них занимались сексом?
– Что? Нет.
– Тогда зачем приглашать их домой?
– Дурацкая аналогия.
– Кто-нибудь когда-нибудь ставил под сомнения ваши намерения?
– Вы о чем это?
– Когда вы приводили их к себе домой, кто-нибудь когда-нибудь не понимал ваших намерений? Кто-нибудь когда-нибудь думал, что вы намерены совершить над ними насилие?
– Нет.
– Я так и предполагал.
– Идите нахуй.
– Но вы бы могли. Таково могло быть ваше намерение.
– Нет. Не могло.
– Но, возможно, что-то идет не так. Может, вы приводили к себе в квартиру двадцать женщин и, скажем, каждая встреча проходила безопасно и по взаимному согласию.
– Да. Все они были такими.
– Но что если двадцать первая встреча – нет? Что если при той единственной встрече вы оба были пьяны, и насчет взаимного согласия случилось недопонимание? А потом она вас обвинила в изнасиловании на свидании. Если вас арестовали, или судили, или просто обвинили в этом, тут же кажутся сомнительными и все прочие встречи, те двадцать, верно? Кто знает, каковы были ваши намерения. Может, вы всех тех женщин насиловали. Или, допустим, пытались. Для мира снаружи и для всех женщин, с кем в отношениях у вас было взаимное согласие, ваши намерения вдруг становятся неясны, даже задним числом. Для всех вдруг вы способны на что-то ужасное.
– Невозможно.
– Да конечно же возможно. Одного обвинения хватит, чтобы бросить тень на всю вашу натуру. Так обычно и бывает. Девяносто процентов тут – обвинение. Обвинением кто угодно может погубить кого угодно. И люди с удовольствием списывают человека со счетов, сваливают кого-то в кучу развращенных недолюдей. На одну личность меньше. Людей слишком много, мир чересчур люден. Нам дышать нечем, верно? А если некоторых сметем, дышать станет вольготнее. Каждый человек, кого мы выбрасываем, наполняет нам легкие свежим воздухом.
– Вы отвлеклись от темы.
– Не думаю. Вам бы понимать, что и вы сами жертва подобного мышления. Вы обо мне что-то услышали и привезли меня сюда, полностью рассчитывая, что я буду соответствовать вашему представлению о такой выброшенной личности. Но я не выброшенная личность, верно?
– Я пока не знаю.
– Но мы друг друга не ценим, правда же? Людей чересчур много. Слишком много людей в любом данном городе, в любой данной стране. Само собой, и на этой планете слишком много народу, поэтому нам так не терпится выкинуть их как можно больше. Дай нам любой повод – и мы их сотрем.
–
– А если на Земле нас останется всего десять? Что если было бы всего десять человек, из кого выбирать, кто должен помочь заново отстроить цивилизацию после какого-нибудь апокалипсиса?
– Ох господи. Вы к чему клоните?
– Клоню я вот к чему: если бы на Земле осталось десять человек, вы б наверняка не решили, будто я необязателен. Если я боролся с Доном и приглашал детвору к себе домой, вы б нипочем не решили, будто преступления эти настолько непростительны, что меня нужно услать. Я бы все равно пригодился. Вы б со мной поговорили, во всем бы разобрались. Но раз у нас столько людей, никакая личность столько не стоит. Можно выкашивать людей целыми грядками, будто они сорняки. И мы обычно так и поступаем – отталкиваясь от подозрения, косвенных намеков, паранойи. Целые классы людей. Включая и тех, кто смутно связан с педофилией. Их не судят по справедливости, их усылают прочь, а когда они пытаются вернуться, им даже жить нельзя. Они обитают под мостами, в палатках, сбившись вместе.
– Я не знаю, какое отношение это имеет к вам и мальчикам.
– Я не насильник. Вы предполагаете, что всех, кого приводил к себе домой, я намеревался насиловать. Но дело обстояло не так. Точно так же, как не так обстояло дело с вашим намерением заняться сексом с каждой женщиной, кто когда-либо входила к вам в дом. Улики у вас косвенные.
– Но зачем таскать детей к себе домой? Почему не встречаться с ними просто после школы?
– Почему вы не встречаетесь с каждой женщиной, скажем, в парке?
– Потому что я могу хотеть какой-то уединенности.
– Мне тоже уединенности можно?
– Не с детьми.
– Позволительно ли любому взрослому оставаться наедине с любым ребенком?
– Да. Слушайте. Вы доказали то, что собирались там доказывать. И мне наплевать. Теперь вам придется рассказать мне про игру в портного.
– Во что игру?
– Видите? У вас лицо только что напряглось. Вы не думали, что я вспомню. Помните ту мерную ленту?
– Да. Игра в портного тоже была неподобающа.
– Расскажите, что происходило.
– У меня была рулетка, и мы меряли друг другу руки, ноги и плечи.
– Вам не кажется, что это болезнь?
– Это неподобающе.
– Я до сих пор терпеть не могу, если кто-то присаживается со мной рядом на корточки, – сразу вспоминаю, как вы подносите рулетку к моей ноге. Когда люди невдалеке от меня становятся на одно колено, чтобы шнурок себе завязать, я думаю о вас.
– Я не мог быть в этом виноват.
– Да конечно же виноваты в этом вы! Считаете, у меня с этим были трудности до этой вашей блядской игры в портного?
– Ладно, извините меня.
– И все? Вы извиняетесь?
– Я извиняюсь, но скажите мне вот что: я вас трогал?
– Понятия не имею. Допускаю, что да.
– Но вот вы опять за старое. Ваш ум заполняет бреши тем, чего не было. Вы заполняете пробелы тем, что, по вашему допущению, было моими намерениями. Но я вас, детвору, никогда не трогал.
– А хотели, чтобы мы трогали вас.
– И это неправда.
– Вы заставляли нас измерять вам внутренний шов штанины, уебок. Зачем вы заставляли нас измерять вам внутренний шов, если не хотели, чтобы мы трогали вам хер?
– Вы помните, как трогали меня там?
– Нет, но допускаю, что все мы это делали. Помню, я поднял голову, а вы смотрели в потолок, как будто едва сдерживаетесь. Вы собирались спустить.
– Томас, я признаю: когда вы измеряли мне внутренний шов, я немного возбудился, но на самом деле не заставлял никого из вас меня трогать. Я не трогал вас, и вы не трогали меня. Все это в высшей степени неподобающе, да, в этом не может быть сомнений. Но я отчетливо осознавал законность и никаких законов не нарушал. То не было изнасилование. То не была угроза насилия. Я вел себя неподобающе, и потому меня попросили подать в отставку, что я и сделал. И это было соответствующее наказание. Не место мне в школе, было решено, что я должен уйти, и я ушел.
– Поэтому вы отправились этим заниматься в другом месте.
– Нет, не отправился. Прекратили бы вы скакать. Я вам не часть масштабного сюжета. Я – это я. Я – одна личность, и моя история совершенно неповторима. Я не подчиняюсь никакому установленному образу действий. Я не священник, которого тасуют от церкви к церкви, или какой там еще сюжет пустил корни у вас в уме. Меня попросили уйти в отставку, и я ушел – с облегчением.
– Вам стало легче?
– Стало. Оставаться среди всех вас было слишком уж большим соблазном. Но как только я ушел, соблазны пропали.
– Вот в это и впрямь трудно поверить.
– Но вы обязаны в это поверить. Я прикован к свае и говорю вам правду.
– Но она сопротивляется понятиям. Она противоречит всей известной патологии. Педераст, который взял и перевоспитался? Такое невозможно.
– Томас, вам известно что-нибудь о психологии зависимости?
– Нет.
– Так вот, этот разговор мне напоминает то время, что я посещал АА[13]. Какое-то время, вероятно – пытаясь справиться с собственными наклонностями, я порой слишком много пил. И мои друзья из АА были убеждены, что я алкоголик. Водили меня на свои собрания и настаивали, чтобы я навсегда завязал. Но алкоголиком я не был. Этого принять они не могли – что даже хотя я иногда употреблял алкоголь, чтобы справиться, это не означало, что я отпустил вожжи или что алкоголь препятствует мне или меняет мой жизненный путь.
– Я не понимаю, какое отношение это имеет к вам и вашим склонностям к мальчикам.
– Суть в том, что это сходно поляризовано. Мышление с такими же недостатками, и люди от этого сходят с ума. Скажите мне, у вас есть друзья-алкоголики?
– Да.
– Они все одинаковы?
– Нет.
– Все они уходят в трехдневные запои и пьяными давят людей насмерть своими машинами?
– Нет.
– Все они теряют работу и семьи, потому что не могут бросить пить? Потому что пьют они двадцать четыре часа в сутки?
– Нет.
– Так вы уверены, что у них всех одна болезнь?
– Я не знаю.
– Если б я пришел на собрание АА и намекнул, что у меня «проблема» с алкоголем, но я не алкоголик, меня б выгнали из здания. И все ж, возможно, небольшая проблема у меня есть. Может, дважды в год я немного и перебираю, чего бы не стоило делать, и говорю такое, о чем впоследствии жалею. Может, раз-два в год я отключаюсь, один, дома, выпив слишком много «манхэттенов». Раз в год я еду домой сам, когда следовало бы взять такси. Алкоголик ли я? Многие бы ответили – да. Многие сказали бы, что либо да, либо нет. Они вспоминают эту бородатую шутку: Нельзя быть немножко беременной. Знаете такую?
– Да.
– С нее стряхивают пыль всякий раз, когда нежелательны оттенки.
– Как с вами.
– Точно. Я не алкоголик и я не насильник. Я несовершенная личность, забредшая на территорию, где может быть очень опасно, но затем я вновь вернулся на менее спорную стезю. Можете называть меня больным человеком. Я болен. Можете сказать, что я вытворил такое, чего мне делать не следовало. Но я не насильник и не педераст. И я никогда не дотрагивался ни до какой обнаженной части тела ни одного ребенка – да и не просил их трогать какие бы то ни было мои обнаженные части тела.
– Но вы стольким людям мозги посворачивали.
– Правда?
– Конечно, да.
– Можно привести вам следствие?
– Можно ли привести мне следствие?
– Да.
– Конечно. Приведите мне следствие, больной вы уебок.
– В детстве я рос на улице, и там у нас был один дом, весь в зелени. Из-за всех деревьев и плюща самого дома видно не было. Но дом этот был известен среди всех нас, детворы, тем, что туда можно было прийти и получить конфетку. Просто постучаться в дверь, и внутрь тебя пригласит эта женщина в возрасте, и ты там выберешь конфетку из вазы. Вот это сегодня показалось бы дико неподобающим, верно?
– Да.
– Кому бы я ни рассказывал это – не раз и не два за много лет, – история всегда вызывала отвращение. Люди допускают, что любой ребенок, входивший в тот дом, становился жертвой, а у женщины имелся какой-то тайный мотив. Что где-то установлены камеры, что, приглашая нас, она преследовала какую-то мерзостную цель. Все это вправляется в сюжет, который нынче так укоренился, что вытеснил все остальные возможности. Вот дом, окутанный зеленью, с пряничным своим видом. И сразу предполагаешь, что внутри творится всякое темное и ужасное. Но не творилось ничего такого.
– Откуда вы знаете?
– Потому что оно никогда не творилось. Я разговаривал с дюжиной других людей, кто знал этот дом и заходил в него, и ни с кем из них ничего такого никогда не случалось. Даме просто хотелось, чтобы каждый день был Днем всех святых. Она была одинока. Но сегодня мы б нипочем не стали с этим считаться. Мы навешиваем ярлыки на все так шустро и бесповоротно, что ни на какие оттенки никогда не остается места. Позвольте мне постулировать, что свертывание мозгов, о котором вы говорите, происходит снаружи, а не изнутри. То есть, те, кто желает всё именовать, разметать все по категориям и клеить на все ярлыки, замели ваш опыт в ту же категорию, что и тех детей, кого действительно изнасиловали, тех, кого завлекали в души и толкали к стенке, а им в прямую кишку не раз и не два загонялся пенис взрослого мужчины.
– Видите, лишь то, что вы способны так говорить…
– Томас, это важно. Играть в портного полностью одетым – то же самое, что пенис, засунутый вам в двенадцатилетнюю прямую кишку?
– Видите, вы больной. Только больной уебок мог бы такое сказать.
– Я стараюсь прояснить разницу между тем, что делал я, и тем, что делает настоящий насильник. Я вас, мальчики, даже раздеть не мог. Неужто из этого неясно, что я – не такое же чудовище?
– Возможно, вы иное чудовище. Но чудовище все равно.
– Этого я не потерплю. Вы пришли ко мне в дом. Дон пришел ко мне в дом. Мы смотрели кино. Мы играли в портного. Потом вы уснули у меня на кровати. Проснулись и пошли домой. Это дело рук чудовища?
– Абсолютно. Мы вам доверяли, а у вас были на нас иные виды. Вы нас использовали.
– А как вы назовете то, что вы делали со мной?
– Тут я вопросы задаю. Вы навредили мне, и это минимальнейшая вообразимая расплата.
– Как насчет астронавта? Вы его похитили, чтобы задавать вопросы. Но он вам ничего не сделал.
– Вы за астронавта не беспокойтесь. Астронавту я не причинил вреда. Вы единственный, про кого я вообще думал, чтобы сделать больно.
– Вы причините вред тому, кто сам никому не вредил.
– Это блядское безумие.
– Я не делал ничего – только воображал их.
– Так вы признаете, что сексуально возбуждались от детей?
– Конечно, возбуждался. Вы разве не видите женщину на улице, а потом не мастурбируете, думая о ней?
–
– Ну вот и я то же самое делаю. Мои фантазии могут быть больными, но иначе у меня не получается. Механизм моего сознания таков, каков уж есть. И оно у меня извращено; общественно это неприемлемо. Но я знаю, что трогать ребенка, осуществлять эти желания – неправильно, и я ничего незаконного не совершал.
– Вы не покупаете детскую порнографию.
– Уже нет.
– Уже нет?
– Когда я был моложе – покупал. Но я осознал, как это влияет на самих детей, поэтому прекратил. В последний раз изображение обнаженного ребенка я видел в 1983 году.
– Поэтому с той поры вы просто видите мальчика на улице – а потом воображаете его голым?
– Не вполне.
– Так а что вполне?
– Такой уровень подробностей не полезен, правда?
– Такой уровень подробностей и есть причина, почему вы здесь.
– Ладно. Я думаю о том, как этот мальчик измеряет мой внутренний шов.
– О господи. И сколько же лет этому мальчику?
– Столько же, сколько было вам. Одиннадцать, двенадцать. Потому-то мы в это и играли.
– Чтобы вы накопили себе таких образов, а потом мастурбировали.
– Да.
– И столько лет прошло, а вы все еще думаете о том, как Дон Бань измеряет вам внутренний шов?
– Не столько он. Слушайте, я знаю, это тошнотворно. Я бы сам хотел, чтобы мозг у меня работал иначе. Я знаю, это неправильно, это считается болезнью. Но ничего из этого не простирается дальше моей собственной головы, Томас. Я вам клянусь.
– Так значит, так? Двадцать лет вы просто думаете про то, как мальчики измеряют вам внутренний шов? И никакие действия не предпринимаются?
– Вот именно. Слушайте. Мне жаль, что вы приходили ко мне домой. И что Дон приходил ко мне домой, и все остальные. Я никогда не сумею исправить того, что я действовал неподобающе и неким манером оставил у вас, детворы, шрамы. Но, опять-таки, есть пределы той вине, которую я могу признать за что угодно, произошедшее потом у вас в жизни.
– Но почему Дон?
– Дон был из определенной семьи. Вы должны понимать, что те, кто стремится сближаться с мальчиками, выискивает таких, кому не хватает родителей, или они невнимательны, или у кого имеются некие слепые пятна.
– Поэтому мама Дона считала, что это какая-то большая честь – что вы их приглашаете к себе домой.
– Да. Она мне доверяла и дорожила моим наставничеством.
– Вашим наставничеством. Гадство.
– Опять же, вы сочтете это неприемлемо запутанным, но я много сотен часов провел с Доном и его братом, и почти все это время – в роли родителя. Я им готовил, помогал делать домашнее задание, я о них заботился. Я был мужской фигурой у них в жизни, где другой такой не было.
– Мужской фигурой, которая мастурбирует, думая о том, как они измеряют вам внутренний шов.
– Да.
– Вы правы. Это неприемлемо запутанно. Так, значит, постойте – я тоже был одним из тех пацанов? С отсутствующими родителями, у кого слепые пятна?
– Не знаю.
– Да знаете вы. Не переживайте, что мою маму оскорбите.
– Я не помню вашу маму, но допускаю, что в то время у меня имелось ощущение, что семья у вас не такая крепкая, как у других.
– Значит, я был мишенью. Вы список составляли или как-то?
– Список?
– Мишеней. Пацанов, которых определяли как возможных участников ночевок.
– Да.
– Да? Вы сказали «да»?
– Поскольку это было так давно и потому, что я хочу быть с вами совершенно откровенным, и потому, что эту часть жизни я отбросил и за нее мне только стыдно, я и дальше буду с вами честен. Каждый год я составлял список новых шестиклассников, которых определял как потенциальных гостей у себя в доме.
– На основании лишь ситуации с родителями?
– Этого – и роста, цвета волос, внешности.
– Какой внешности?
– В список не включались слишком высокие мальчики или слишком уж развитые. Мне нравились длинные волосы. Таковы были физические параметры, а потом я сверял их с родительскими факторами.
– И это выливалось в список из скольких каждый год?
– Может, восемь-десять детишек.
– И их вы к себе приглашали.
– Да.
– А приходило в итоге сколько?
– Может, трое-четверо.
– И этого хватало?
– Да. А из этих троих-четверых могло получиться сойтись поближе с одним.
– С одним вроде Дона.
– Верно.
– И когда вы начали с ними оставаться?
– Несколько месяцев спустя. Мама Дона уезжала во Вьетнам повидаться с родней и попросила меня присмотреть за детьми.
– Повезло ж вам.
– Да.
– И я тоже был у вас в списке.
– Допускаю, что да.
– Но до следующего уровня почему-то не дорос.
– Ну, предположительно ваши родители…
– Там была только мама.
– Либо ваша мама что-то заподозрила в этих ночевках, либо вы сами. Вы говорили, что приходили всего раз?
– Да.
– Это обычно значило, что кто-то почуял неладное.
– Вас когда-нибудь отчитывали? Любой отец, который бы это обнаружил, вас бы просто убил на месте.
– Нет, не всегда. Некоторые отцы полностью одобряли.
– Господи.
– Но да, проще было, если в кадре отцы не присутствовали.
– Но если кто-то начинал эти ночевки подозревать и этот пацан изымался из обращения?
– Да. Может, в вашем случае ваша мама…
– Не мама. Она совершенно в это не лезла.
– Ну, тогда, может, вы сами.
– Не знаю. Вот бы вспомнить.
– Видите? То, что вы не можете вспомнить, доказывает, что урон вам был нанесен минимальный.
– Вы не вправе делать такие допущения.
–
– Так вы считаете, с моей мамой что-то было не так?
– В смысле, простите?
– Мы меня пометили из-за моей мамы?
– Понятия не имею. Я лишь утверждаю, что обычно чего-то недоставало дома, и это позволяло мне определенную степень доступа.
– Ладно. Ладно.
– Я рассказал вам все, что мог.
– Ваша откровенность помогла вашему здесь положению.
– Так вы меня теперь освободите?
– Нет.
Строение 55
– Знаешь, кто у меня тут по соседству?
– Где я?
– В военной казарме. Знаешь, кто у меня тут по соседству? Ни за что не угадаешь.
– О господи.
– Тш-ш. Угадай.
– Томас, что ты со мной сделал?
– Ты пристегнута к этой вот свае, но все хорошо. Чтоб тебе же было безопасней.
– Ох господи ты боже мой. Томас, ты ума лишился.
– Знаешь, что тут забавно? Для тебя мне даже хлороформ не понадобился. Ты так и не пришла в себя. На чем ты, блин, сидишь? Там же не может быть один «Паксил» с вином. Наверняка же подмешиваешь что-то еще.
– Томас, не делай того, что ты, я думаю, собираешься сделать.
– А что, ты думаешь, я собираюсь сделать?
– Не скажу.
– Думаешь, я планирую тебя убить или типа того?
– Не знаю. Не понимаю, зачем я здесь. Как ты меня сюда привез?
– Не помнишь?
– Не знаю, помню или нет.
– Конечно, не помнишь. Ты была в отключке, когда я доехал домой. Легче легкого получилось. Я положил тебя в фургон, а потом на тележку – и всё.
– О господи.
– Хватит. Не стони так.
– О господи, о господи.
– Перестань уже. Пожалуйста.
– Уму непостижимо.
– Постигай – и давай уже приступим.
– Томас, зачем ты это вытворяешь?
– Я знаю, кажется немного чересчур. Извини меня. Мне правда жаль.
– Господи боже.
– Но ты же знаешь, я человек принципиальный.
– О боже.
– А это – лучший способ кое с чем разобраться.
– Ох, Томас. Прошу тебя.
– Прекрати. Хватит нюни распускать.
– Я на цепи тут сижу, как собака!
– Я всех одинаково приковал.
– Томас, вот как ты относишься к собственной матери? Серьезно, как ты меня сюда привез?
– Я способен на многое из того, о чем ты даже не догадываешься.
– Вроде похищения.
– Мам, я умею делать всякое необычайное. Сюда я привез астронавта. Он до сих пор тут. Я сделал это сам. Ты четвертая, кого я сюда привез. Знаешь Мэка Дикинсона, конгрессмена? Он тоже тут.
– Ох, нет. Нет.
– Видишь, ты никогда не отдаешь мне должного.
– Томас, ты совсем сбрендил. Тебя поймают и посадят в тюрьму на всю жизнь. Ты для этого в доме был? Я слышала, как ты крадешься, решила, что просто берешь что-то из гаража. Я видела твою машину.
– А потом что? Отключилась? Это лучше всего. Итог всему.
– Томас, зачем ты это сделал?
– Пришлось. Мне голову тисками сжало, а теперь ей легче.
– Виню себя.
– В кои-то веки, да.
– Это что значит?
– Поразительно слышать, как ты признаешь вину хоть за что-то.
– Вроде чего?
– Вроде чего? Вроде чего? Ну вот, пожалуйста. Опять сплошная несознанка в бедствии. Как тебе это удается?
– Ой. Чтоб тебя, Томас.
– Не стоит тебе за это тянуть.
– Томас, видишь, что она делает?
– Так ты не двигайся. От движения они туже ощущаются. Лучше всего получается, если просто сидишь на одном месте. Особенно в твоем возрасте.
– Ты глянь на мою лодыжку! Она уже лиловая.
– Она не лиловая.
– Томас, лучше всего будет, если ты просто разомкнешь всю эту дрянь, и мы сможем сесть и поговорить.
– Угадай, кто у меня по соседству.
– Нет, не стану. Не хочу я этого знать. Астронавт. Конгрессмен. Ты мне сам сказал.
– Да, эти ребята у меня. Но угадай, кто еще?
– Я не знаю, Томас. Меня тошнит от мысли, что ты похитил всех этих людей. Уму непостижимо, что мой сын так поступает.
– Ты себя ведешь так, будто не имеешь с этим ничего общего.
– Ты хочешь сказать, будто что-то в том, как я тебя воспитала, превратило тебя в похитителя людей? Чепуха какая.
– Чепуха? Мам, да все, что ты делала, привело меня вот сюда.
– Видишь, ты уже родился готовым обвинять других в собственных ошибках.
– Нет, мам. Нет.
– Томас, это правда. Мне всегда так казалось. Я знала, что у тебя вывих в мозгах. Всегда. Ты родился с вывихом в мозгах. Ты ребенком был с вывихом, подростком был с вывихом.
– Ну, значит, это славное совпадение, потому что в соседней казарме у меня пережиток того времени.
– Кто?
– Припомни шестой класс.
– Понятия не имею. Не мистер Хэнсен же.
– Я знал, что ты знаешь.
– Ты похитил мистера Хэнсена.
– С ним вышло легче, чем с астронавтом. Почти легче, чем с конгрессменом. Он такой податливый. Слабак.
– Сын, я надеюсь, ты не причинил этому человеку ущерба. Тебя убьют, если ты что-то сделал с Дикинсоном.
– Конечно, ничего я не делал. Он уважаемый человек. Как я, как Кев. Ты вообще не понимаешь смысла всего этого.
– Так и есть, Томас. Не понимаю.
– Значит, ты помнишь, как посылала меня домой к мистеру Хэнсену?
– Я знала, что ты там. Не помню, чтобы посылала тебя туда. Так, Томас, выпусти меня из этого.
– Конечно, ты меня туда посылала.
– Все твои друзья туда ходили. Томас, сними, пожалуйста, с меня эти наручники.
– Все мои друзья? Вряд ли. Ходил Дон Бань. Он единственный нормальный пацан, про кого я помню, чтоб он туда ходил, да и ходил он туда потому, что его мама не говорила по-английски и считала, что так у Дона будут оценки получше. Ты знаешь, что мистер Хэнсен выбирал пацанов, у кого нет родителей, или кому чего-то другого не хватает?
– Не знаю, откуда в тебе столько злости.
– А ты считаешь, мне не на что злиться? Мам, какой родитель позволяет своему сыну заниматься «математикой с ночевкой»? Не кажется ли это безответственным?
– В то время не казалось. Ты умолял меня тебя отпустить. Ты меня умолял.
– Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Однажды ты пришла домой и сказала, что слышала про такую «возможность» – ходить домой к мистеру Хэнсену обогащаться. Ты сочла, что это мне поможет, что так я ему понравлюсь. Помнишь, что ты сказала? Ты сказала: «Тебе не повредит друг среди преподавателей вашей школы».
– Я такого не говорила.
– Тогда какого черта я бы стал это помнить после стольких лет?
– Твоя память всегда была склонна к оппортунистическим ревизиям.
– Ты такое чудовище. Ровно так же, как можешь такое говорить. Тебе известно, что эти заявления застревают у меня в голове? Оппортунистическая ревизия! Боже, вот твой единственный талант – говорить мерзкие, гадкие, незабываемые вещи.
– Если я извинюсь, ты меня отпустишь?
– Нет.
– Томас, я за тебя тревожусь. Сколько ты уже держишь астронавта и конгрессмена?
– Значит, ты мне веришь?
– Конечно, верю. Это-то так и пугает.
– Ну, это хотя бы начало. Я не думал, что ты поверишь, будто я на такое способен.
– Я знаю, что способен. Знала, еще когда ты больницу сжег.
– Видишь, вот зачем ты это сказала? Не жег я никакой больницы.
– Томас, прошу тебя.
– Просишь меня? Просишь о чем? Кто сказал, что я сжег ту больницу? Меня в этом никогда не обвиняли.
– Томас.
– Что?
– Все сходится. Ты меня похитил. Ты способен на радикальные поступки. Теперь все оно соединяется.
– Поверить не могу, что ты в своем положении станешь выдвигать такое обвинение.
– Я твоя мать.
– Но ты прикована к свае.
– Я все равно твоя мать, и мне известно разное. Дети совершенно прозрачны для своих матерей. Я каждый раз знала, если ты что-то натворил. Когда детскую площадку у нас на улице разрисовали, я знала, что это ты. Твой почерк был очевиден.
– Видишь, ты врешь. Если б ты думала, что это я, ты бы что-нибудь сказала.
– В те годы я была не в лучшей форме.
– А теперь в лучшей?
– Ты же сам знаешь, что мне лучше.
– Я этого не знаю. Тебе никогда не лучше. Знаешь, сколько раз мне хотелось сделать с тобой что-то подобное – забрать тебя и куда-нибудь запереть, чтоб ты не делала никаких глупостей? Чтоб не смешивала лекарства и не каталась по округе, втыкаясь в телефонные столбы? Я об этом мечтал с двенадцати лет. Просто запереть тебя, пока не очистишься.
– Ну, я рада, что не запер. Тебя самого бы тогда заперли. И запрут, когда это все закончится.
– Не угрожай мне.
– Я не угрожаю, Томас. Я просто говорю очевидное. Это заходит гораздо дальше всех прочих мелких правонарушений. Этот случай означает, что на волю ты больше никогда не выйдешь. Сколько людей ты вообще взял?
– С тобой пока четверых. И еще остались один-двое.
– За каждое преступление ты получишь по двадцать лет. Я не стану навещать тебя в тюрьме. Я не смогу с этим справиться.
– Я не сяду в тюрьму.
– Не смей кончать с собой.
– Я не это имею в виду. Меня не будет.
– Томас, ты не выживешь там, куда б ни планировал сбежать. Полная безнадега.
– У меня полная безнадега? И это ты мне говоришь? Не тебе мне рассказывать про выживание. Я едва с тобой выжил.
– Прекрасно у тебя получилось. Высокий, здоровый.
– Я высокий? Я здоровый? Такова твоя защита? Ты меня отлично воспитала, потому что я высокий и у меня нет проказы? Ты феноменальна.
– Томас. Я о том, что вырос ты в порядке. Если не считать вот этого и больницы, у тебя все было хорошо. Ты функционален.
– Я функционален? Такова была твоя цель – вырастить сына, который будет функционален? Высокого и функционального сына? Невероятен он, этот твой честолюбивый замысел. Ты помнишь, что ты сделала с нашими семейными снимками?
– В смысле?
– С семейными альбомами. Ты это помнишь?
– Конечно, помню. Ты каждые несколько лет мне про это напоминаешь.
– Я упомянул это всего раз, и ты при этом, вероятно, была в улете. Один из твоих дружков, которого на самом деле звали Джимми, спер их, когда обчистил весь наш дом. Ты это помнишь?
– Конечно, помню.
– Понятия не имею, зачем ему понадобилось выносить из дома все. Он же все забрал. Мою кровать, мои вещи, мою одежду. Он мой рюкзак забрал. Мою домашку.
– Ну, для начала, он не сам это сделал. Он кого-то нанял, Томас, а они не знали, что брать, а чего не брать.
– Тебе это известно? Ты знаешь, что он кого-то нанял?
– Да. Он мне сам сказал.
– Он сказал тебе это после того, как кого-то нанял?
– Да. Я ему позвонила, поскольку знала, что это он, и спросила у него, на кой ляд ему понадобилось выносить из дома все, а не только телевизор и стереосистему.
– Невероятно. Ты после этого с ним разговаривала?
– Я пыталась вернуть наши вещи.
– Зачем ему, блин, вообще понадобилось все барахло забирать?
– Мы ему задолжали денег. Я тебе это уже говорила.
– Мы ему задолжали? Мне было тринадцать лет.
– Ты был достаточно взрослый, чтобы участвовать, если б захотел.
– Гадство. Гадство.
– Хватит скакать. Ты похож на идиота.
– Это ты к свае прикована. Ты похожа на идиота.
– Освободи меня, пожалуйста, Томас. Мне шестьдесят два года. У тебя тут прикована шестидесятидвухлетняя женщина. Ты этим гордишься?
– И никогда больше меня не оскорбляй. Поняла меня? Больше никогда. Ты обзывала меня идиотом уже тысячу раз, и это был последний.
– Ты сейчас меня ударишь.
– Нет. Даже дотронуться до тебя – и меня вырвет. Ты задолжала денег кому-то по имени Джимми. Ты продала наши вещи, чтобы вернуть ему долг. Ты продала мои пожитки. И теперь говоришь, что виноват в этом я.
– Я так не сказала. Я такого вообще не говорю. В том, что он забрал у нас вещи, ты вообще не виноват. А когда я вернулась домой и увидела, что он это сделал, я сразу же позвонила ему и сказала, что он перешел все границы.
– Перешел все границы. Святый боже.
– Он не сам это сделал. Нанял каких-то мужиков.
– Это гораздо тошнотворнее, чем я б даже мог подумать. Сколько ты ему задолжала?
– Квартплату за три месяца.
– И все? Тысячу долларов?
– Тысячу двести.
– И тебе не у кого было занять. Никак не отработать. У тебя в то время была работа?
– Я получала по инвалидности. Сам же знаешь, у меня травма.
– Твоя травма. Твоя травма, гадство.
– Хочешь взглянуть на мою руку? Она зажила неправильно.
– А я должен был делать свой вклад в семейный доход.
– Я этого не сказала. Я говорю лишь, что некоторые молодые люди берут и работают. Во многих частях света ты бы считался мужчиной в доме, и от тебя бы ожидалась помощь.
– Ты такая замечательная. Просто одна на миллиард. Знаешь, я почему обо всем этом заговорил – отметить, что за всю свою жизнь я видел не больше десяти снимков своего детства, но из твоих уст это все звучит гораздо более чарующе. Я даю тебе шанс объяснить что-то одно, а ты мне напоминаешь о сотне других примеров твоего безумия. Твои преступления множатся с каждым нашим разговором.
– У нас было много снимков тебя.
– Ты знаешь, какие мои снимки у нас были?
– Да, знаю, потому что спину себе сломала, вновь собирая те фотоальбомы.
– Остановись. Вот тут хватит. Остаток истории я знал, но теперь могу восполнить начало. Ты поступила так. Сначала ходишь на свидания с человеком по имени Джимми, который, кажется, был бывшим диспетчером таксопарка из Салинаса и безработным, когда вы с ним познакомились. Человек этот поднимается в обществе. Затем ты приводишь Джимми к нам домой, и он притворяется, что он мой папа и наставник. Возит меня кататься с закрытыми окнами, а сам курит и рассказывает мне, какая смачная у него сестра. Говорит, что познакомит меня с ней, хотя мне всего тринадцать лет, а ей двадцать восемь. Затем вы с Джимми как-то ссоритесь. Дальше я глазом моргнуть не успеваю, как прихожу домой, а ты сидишь на полу в пустом доме и кому-то звонишь. Кухонных тарелок нет. Одежды в чуланах нет. Моих учебников нет. Я захожу к себе в комнату, а там нет ничего, кроме пустого аквариума. Ты говоришь мне, что нас ограбили, но я тебе отчего-то не верю. Что-то во всем этом кажется подозрительным. Пропали все наши фотоальбомы, поэтому ты обзваниваешь всех своих друзей и родителей моих друзей, своих родных и двоюродных и просишь всех прислать любые снимки со мной или нами, какие у них есть.
– Я не одну неделю на это потратила. Почему это плохо?
– В результате получился альбом с ровно десятью фотографиями. И на каждой – я сбоку, я где-то сзади. Это снимки моей двоюродной родни или моих друзей, и я там случаен. Я размыт, и половина моей головы отрезана.
– Я думала, что делаю что-то хорошее.
– Это стало моим подарком на день рождения в тот год!
– Тебе же понравилось.
– Ох блин.
– Томас, я всегда была рядом, когда ты засыпал и просыпался. Я провождала тебя в школу. Я тебя кормила. Во всем остальном ты просто придираешься.
– Придираюсь? Видишь, наверное, единственное, за что я не воздавал тебе должного, – это за то, насколько ты развлекаешь. То, что ты говоришь, просто беспрецедентно. Никто не разговаривает так, как ты. Помнишь, как ты привела меня на квартиру к своему дружку в Нью-Мексико?
– Конечно. Он подарил тебе велосипед.
– Он отдал мне велосипед, оставленный его сыном, когда от него сбежали его жена и ребенок.
– Прекрасный то был велосипед, и он его тебе купил.
– Нет, не покупал. На нем было имя его пацана. Робин.
– Ну, во мнениях на это мы разойдемся.
– И вообще, зачем было тащить меня в Альбукерке? Чего просто не оставить меня с кем-нибудь?
– Тебе та поездка понравилась.
– Твой дружок меня ударил.
– Ну, вы с ним не очень сошлись характерами.
– Мне было пятнадцать. Не сошлись характерами?
– Сколько еще раз мне нужно перед тобой за это извиняться? Это было двадцать пять лет назад.
– Меньше.
– И что с того, Томас? Что с того?
– А то, что мистер Хэнсен отметил меня потому, что знал: у меня мать – наркоманка. Вот поэтому все могло сойти ему с рук. Ему нужны были пацаны с какой-нибудь несообразной семейной ситуацией. Я, Дон.
– Он тебя трогал, Томас?
– Кто?
– Мистер Хэнсен?
– Говорит, что нет.
– Ну и вот.
– «Ну и вот»? «Ну и вот»? Ты выталкиваешь меня на шоссе или спихиваешь с моста, а когда я возвращаюсь живым, говоришь: «Ну и вот».
– Томас, почему бы тебе не расковать меня, и мы б тогда могли поговорить о том, чтобы все это выправить? Я могу помочь тебе отсюда выбраться. Буду счастлива взять вину за это на себя. Могу сказать полиции, что я все придумала, что тебя тут вообще не было.
– Это будет самая большая жертва, которую ты когда-либо принесла.
– Томас, у нас с тобой впереди еще много лет. У нас больше нет никого. Нам надо смотреть вперед. А ты вечно смотришь назад, винишь кого-то, препарируешь, и это не дает тебе двигаться вперед. Лучше б ты выбрал смотреть на свет.
– Да ты себя послушай! «Смотреть на свет»? В тебе всегда присутствовала эта причудливая смесь – ты такая мерзкая, а потом из тебя начинают бить фонтаном эти нью-эйджизмы. Не давай мне советов.
– Я же хочу тебя поддержать. Только это мне сейчас и нужно. Ты же сам знаешь, что мне уже лучше, чем было. Мы можем стать напарниками.
– Мы не будем напарниками. Ты мне не нравишься.
– Мы увязли вместе, Томас.
– Я к тебе и не вязался. И ты по-прежнему употребляешь.
– Прием под контролем.
– Это невозможно.
– Томас, у меня четыре года одна и та же работа. Я б разве выдержала, если бы не могла себя контролировать?
– Ты трахаешься с хозяином. Я слышал, ты ходишь на работу дважды в неделю.
– Это заведомая неправда.
– У тебя всегда были такие ситуации, правда? Трахнешь какого-нибудь парня, кто может оказать тебе какую-нибудь финансовую помощь или дать какую-нибудь непонятную работу, за которую платит кто-нибудь другой. Ты это проделала в компании больничного снабжения.
– То была легитимная работа. Я там горбатилась. Ненавидела эту работу, но выполняла ее.
– Какое-то время – да. Может, полгода. А потом год на выходном пособии.
– А я виновата, что мне дали выходное пособие?
– Год выходного пособия после полугода работы? Такова была политика компании?
– Понятия не имею.
– И ты все равно встречалась с тем парнем. Долтоном. Уму непостижимо, что ты привела к нам домой взрослого мужика по имени Долтон.
– Он возил тебя в «Морской мир».
– У тебя найдется ответ про каждого из них. Ты делаешь вид, будто все до единого они были такими подарками в моей жизни.
– Ты был мальчик одинокий.
– Я был мальчик одинокий? Впервые слышу, чтоб ты так говорила. Что это значит?
– Это значит, что я с тобой могла чем-то заниматься лишь от сих и до сих. Ты появился на свет особенным образом. Всегда был не такой, как все. Я пыталась тебя заставить играть с другими детьми, но всегда находилась какая-то причина, почему они тебе не нравились. Ты уходил сам по себе, а потом жаловался, что у тебя нет друзей.
– Ты это сочиняешь.
– Я пытаюсь изложить тебе это прямо. Ты хочешь меня во всем обвинить – прекрасно, но ты всегда был наособицу. На свой четвертый день рождения спрятался в гараже. На выпускном после восьмого класса остался сидеть в машине на стоянке, поэтому я пошла одна. Ты никогда не вливался в коллектив. Я покупала тебе везде билеты, записывала тебя повсюду, а ты сидел дома. И чем я здесь виновата? Я делала все для того, чтоб ты был счастлив, а ты предпочитал оставаться один.
– Я не хотел быть один.
– Ты отгонял от себя людей. Ты и меня пытался отогнать.
– Жаль, что у меня не очень получилось.
– Тогда почему ты не съехал?
– Почему я не съехал?
– Томас, ты жил дома до двадцати пяти лет.
– Ты врешь. Я уехал, когда мне было двадцать два.
– На восемь месяцев. А потом вернулся.
– На год.
– Нет, вернулся ты на два года и восемь месяцев. Тебе исполнилось двадцать пять, когда ты съехал насовсем. Если я была так ужасна, зачем ты возвращался? Почему оставался со мной так долго?
–
– И на работе не мог удержаться. Тебе известно, до чего легко белому мужчине зарабатывать деньги в этой стране? Раз плюнуть. Я так долго винила себя за то, что с нами случилось. Но все это время меня не покидало чувство, что в тебе есть что-то странное. И я знаю, что я права. Ты родился с определенными склонностями, и я, вот честно, не думаю, что могла бы хоть как-то их предотвратить. У меня было чувство, что случится нечто подобное.
– Ну еще бы.
– У тебя были экстремальные склонности. Люди считали, будто ты кроток, одинок и безвреден, но я-то знала тебя и с другой стороны. В свои семь лет ты меня душил. Помнишь такое?
– Я не душил тебя.
– Душил. Это случилось после того, как ушел твой отец. Дома у того богатого мальчишки. У его семьи было много денег. Помнишь того мальчишку?
– Как я могу помнить что-то подобное?
– Уж и не знаю, откуда у них было столько денег, что-то сомнительное, но они к тебе хорошо относились. Он обычно приглашал тебя к ним поиграть после школы, и у него была игровая комната и миллион игрушек. Они знали, что я одна тебя ращу и работаю при этом, поэтому сказали, что ты к ним можешь приходить когда угодно. Не помнишь такого? Они жили на озере.
– Прекрасно.
– Как-то раз я тебя оттуда забирала. Приезжала, бывало, за тобой после работы к ним домой. И вечно тебя было не заставить ехать – но не больше, прикидывала я, чем любого другого ребенка забирать от его друзей. А в тот раз ты как-то особенно сопротивлялся. Никак не желал уезжать, а я стояла в дверях в комнату этого мальчишки, с его мамой, просто пыталась разговаривать и вести себя как ни в чем не бывало, а сама тем временем старалась одеть тебя в куртку и заставить идти со мной. Но ты не поддавался. Наверное, думал, может, я сама просто уеду, а тебя оставлю там жить. То есть, иного смысла не было, потому что очевидно же – рано или поздно тебе придется оттуда уехать. И вот уже становится как-то неловко, и мама его, не помню, как ее звали, как-то вроде Ореолы, тут говорит, что ей нужно что-то в кухне взять или как-то. Она понимала, что мне надо побыть с тобой наедине. И вот она ушла и забрала с собой сына. И у него в комнате остались только мы с тобой. И я опустилась на колени и потянула тебя к себе, и прошептала тебе на ухо, что нам нужно идти. Я так на людях обычно делала, привлекала тебя ближе и шептала как бы так настойчиво на ушко, когда ты нехорошо себя вел. И вот я ухо тебе ладонью прикрыла и прошептала несколько хорошо подобранных слов о том, что нам уже нужно ехать, что ты нас позоришь, что если не подчинишься, тебя накажут, а потом немного отстранилась посмотреть тебе в глаза и удостовериться, что ты меня понял, и вот тут-то у тебя лицо сделалось такое, и ты попытался меня задушить.
– Я не душил.
– Еще как душил. Почему б еще я стала это помнить через двадцать пять лет? Ты захватил руками мою шею и сдавил. Даже не знаю, где ты такому научился. Никогда не было мне так страшно. Лишь то, как ты на меня смотрел! Чистая ненависть то была, чистое зло. Но и потом не отпускал. Ты был такой сильный, что я не могла оторвать от себя твои руки, а потом глаза у тебя сделались тусклые, как у змеи, когда ей в челюсти что-то попадает. Знаешь, как у них иногда во рту мышка, а глаза они не закрывают, и кажется, что они где-то далеко? Вот и у тебя был такой вид.
– Ты все это сочиняешь.
– В общем, я наконец высвободилась и отшлепала тебя, а ты по-прежнему сопротивлялся. Мне пришлось тебя оттуда выносить, ты пинался и орал. Лицо мне расцарапал так, что целый месяц потом не заживало. То есть, это просто ужас был. Можешь вообразить? В тот дом ты больше никогда не ходил. Мне было слишком стыдно отпускать тебя к ним. Вот с того времени у меня и закралось подозрение, что ты способен на нечто подобное. На что угодно способен.
– Какую же херню ты порешь.
– Томас, ты желаешь приписать свое поведение набору внешних факторов. Хочешь уступить свою жизнь, решения и последствия каким-то силам вне тебя, но это трусость. И винить свою мать? Это же так легко. Ты не был комком глины, из которого я что-то лепила. И ты, и любой другой ребенок приходят в мир с уже запеченной в них личностью. Как еще, по-твоему, ребенок вроде Джима Эвилы становится геем и придумывает женские платья, а родители у него при этом – белые фермеры-нищеброды? В тебе всегда это было – потребность кого-нибудь обвинять. Получишь скверную оценку – это потому, что учитель тебя не любит. Не нравишься какой-нибудь девочке – это потому, что она шлюха или что-то еще. То есть, меня как мать все это доводило до белого каления. Я хотела быть за тебя, но у нас случалось слишком уж много боев. Ты воевал каждый день, и это очень выматывало.
– Потому ответственности на себя за это ты не берешь.
– Я беру на себя столько ответственности, сколько и любой родитель. Ее должно быть не безгранично. Если б тебя воспитали в обычной семье с обоими родителями, со всеми деньгами и стабильностью на свете, из тебя получилось бы ровно то же самое. Может, с какими-нибудь поверхностными отличиями. У тебя была бы немножко другая одежда.
– Это невероятное заявление.
– Томас, я была не из тех матерей, кто по десять лет ждали, чтобы завести ребенка. Я не возлагала все свои мирские надежды на продукцию собственной матки.
– Погоди. А это какое отношение к чему угодно имеет? Что это вообще значит?
– Это значит, что мысль завести ребенка не производила на меня такого впечатления, что я б вокруг тебя выплясывала, словно ты какой-то золотой телец. Большинство родителей так благодарны своим детям за существование, что становятся подобострастными. Я же дала себе слово, что не стану такой вот подобострастной матерью.
– Подобострастные? Да ты поразительна.
– Я все это считаю мерзким. С этого начинается вся жизнь кажущегося долга, что не приносит никому ничего хорошего.
– Я понятия не имею, о чем ты говоришь.
– Томас, я не считала тебя каким-то чудом, мне дарованным. Ты родился, и я была счастлива тебя иметь. Да и ты вряд ли считал меня каким-то чудом. Мы были напарниками – или должны были ими стать. Я была счастлива, что ты существуешь, и хотела, чтоб ты благоденствовал. Надежда моя была на то, что ты счастлив существовать и сам постарался бы благоденствовать. Но тебя же твое существование и моя роль в нем отягощали. Думаю, поэтому тебя так тянуло к Христу.
– Меня вовсе не тянуло к Христу. Что это значит?
– Ты раньше рисовал распятия у себя на тетрадках. Другие дети рисовали космические корабли, или черепа «Благодарных мертвецов»[14], или пенисы, а ты рисовал распятия. Думал, что это ты страдаешь на кресте. Я-то считала тебя своим напарником и ровней мне, а ты хотел быть ниже меня и мучеником.
– Это ты же меня в церковь привела.
– Один раз. Ты же знаешь, до чего я терпеть не могу христианство и всю эту жалкую иконографию. Знаешь, что? Видишь изображения Будды – он сидит, отдыхает, в покое. У индусов этот двенадцатирукий бог-слон, который тоже кажется таким довольным, но не бессильным. А вот у христиан будьте надежны – мертвый окровавленный мужик, приколоченный гвоздями к кресту. Заходишь в церковь – и видишь беспомощного человека, который весь кровью облился: как после такого зрелища мы можем уходить с надеждой? Люди приводят своих детей к мессе и вынуждают их по два часа пялиться на мужчину, прибитого к брусу, которого вороны клюют. Как это возвышает? Для них все это – в подотчетности.
– Что именно?
– Христиане, Библия. Все про то, кто виноват. Вся религия покоится на подотчетности. Кого винить? Каково сужденье? Кого накажут? Кого посадят в тюрьму, отправят в ссылку, убьют, утопят, казнят. Хочешь знать, что́ большинство берет навынос со смерти Иисуса? Не жертву, ничего подобного. Навынос они берут после всего этого ветхозаветного суждения, что сделали это евреи.
– Невероятно.
– Но тебе такое очень нравилось. Особенно подростком. Молодым людям нравится мученичество. Тебе достается быть сразу и жертвой, и героем. Помнишь, когда ты говорил, что хочешь стать священником?
– Я не хотел становиться священником.
– Монахом? Что там у тебя было? Под влиянием Дона. Разве мама у него не была фанатичкой?
– Не была она никакой фанатичкой.
– Дон себя считал неким возвышенным юношей, разве нет? Он себя очень всерьез воспринимал. Когда я в последний раз его видела, он излагал что-то очень благочестивое. Смотрел на меня так, будто я его прихожанка, как будто он мною заинтересовался – что он может меня спасти.
– Ты винишь его в том, что он проявил о тебе заботу. Я знаю, до чего это тебе чуждо. О ком-то заботиться. Проявлять заботу о чьем-то благополучии.
– Ты имеешь в виду меня с тобой? Если уж на то пошло, я была не мать, а наседка.
– Гадство.
– Вот что ты сейчас делаешь? Не возбуждайся так. Хватит скакать, Томас. Пожалуйста. Я не заставляла тебя раздобывать работу. Я позволяла тебе трепыхаться. Я сделала тебя мягкотелым. Я позволила тебе бросить колледж. Я дала тебе жить дома.
– Так зачем же?
– Чувствовала себя виноватой. Ты меня в это ощущение сам вогнал. Заставил меня ощущать, будто я натворила всю ту жуть, поэтому я тебя баловала. Тебе было б лучше в военной школе. Армия выправляет таких мальчишек, как ты. Тебе нужна была дисциплина. Тебе следовало быть с людьми, которые просыпаются по утрам и идут на работу, что-то делают.
– Ты не оберегала меня.
– Я тебя оберегала.
– Ощущаешь ли ответственность за мое рождение или нет, но ты должна оберегать своих детей.
– Я делала все, что в моих силах. Что в чьих угодно силах.
– Знаешь, что с нами творил мистер Хэнсен? Играл в игру, которая называлась «портной». В этой игре он измерял нам разные части наших тел.
– Он тебя раздевал?
– Говорит, что нет.
– А ты сам помнишь, чтобы он тебя раздевал?
– Нет. Но я мог и вытеснить это воспоминание. Мы все б могли.
– Ой, вот не надо. Так он рулеткой мерил или как?
– Прикладывал мерную ленту к внутренней поверхности наших ног. Он так со всеми детьми поступал, один на один в чулане, а потом мы все лежали на кровати и смотрели кино. Все это время он сопел.
– И это навело тебя на мысль, что жизнь твоя непоправима?
– Нет. Это просто одно из много чего, что мне не следовало видеть или терпеть. Такому бы меня не подвергали, будь ты рядом и трезва.
– Томас. Я совершенно отчетливо помню, как посылала тебя домой к мистеру Хэнсену. Я тогда была трезва – и трезва сейчас. Это казалось прекрасной мыслью, очень безопасной. Дети тогда ночевали друг у друга постоянно. Бойскаутские походы, спортивные выезды, гастроли оркестров. Летний лагерь. Ничего неслыханного в том, чтобы компания мальчишек переночевала дома у надежного взрослого. А теперь ты мне рассказываешь, что этот человек прикладывал рулетку тебе к ноге, и это величайшее преступление на свете.
– Я такого не сказал.
– Томас, чего б тебе не похитить какого-нибудь мальчишку с врожденной лейкемией или женщину, которую продали в проститутки? Тебе к ноге прикладывали рулетку, и это парализовало тебя на всю жизнь.
– Я терпеть тебя не могу.
– Отлично. Но кто-то должен ввалить тебе от большой любви. Ты рохля. Тебе нужно обрести немного стали.
– А ты, значит, у нас воплощение внутренней силы? Давай-ка я перечислю все места, где ты отключалась. На заднем дворе. У себя в машине, в гараже, как будто намеревалась покончить с собой выхлопными газами, но уснула в процессе. И когда рос, я находил тебя у себя в постели. Случалось это раз в неделю, по меньшей мере, – ты оказывалась у меня в постели. Я ощущал вонь забродившего вина. Знаешь такой запах? Такой мускусный, животный дух, как будто тело твое – какая-то влажная губка, полная всего, что она стерла с обеденных тарелок. Видишь, приятное оттого, что ты у меня здесь, – в том, что я вижу, через какие ломки ты проходишь. Тебя уже тянет?
– Нет, не тянет. Я не тот человек, с кем ты воюешь. Ты воюешь со мной из пятнадцатилетней давности. Сейчас у меня все под контролем, и, по-моему, тебе это известно. Ты воюешь с бывшей, меньшей версией меня – так к чему оно?
– Знаешь, только нарцисс мог бы изобрести подобную фразу. «Бывшая, меньшая версия меня». Это свидетельство того, что кто-то, проведший много времени в раздумьях о себе, оттачивает некие фразы. Знаешь, что? У меня вот сейчас мысль возникла. Думаю, после того, как я отпущу других, тебя я оставлю. Ты очистишься, а у меня будет больше времени на то, чтобы прояснить то-сё.
– Тебя поймают через сутки. Томми, прошу тебя, отпусти всех нас. Я знаю, мы можем начать сызнова. Я хочу, чтобы ты жил. Не хочу смотреть, как тебя тут убьют, но у меня жуткое предчувствие, что к этому все как раз и движется.
– Знаешь что, мам? Я с тобой на сегодняшний вечер покончил. Встает солнце, и я устал, а когда я так устал, я не могу слушать, как из тебя хлещет вся эта белиберда. Даже не знаю, ты сейчас на чем-то или нет, поэтому на сегодня я просто оставлю тебя здесь. Может, в голове у тебя прояснится, и ты немного задумаешься о своей виновности во всем этом. Ладно?
– Томас, остановись. Ты не можешь меня вот так бросить.
– Все с тобой будет прекрасно.
– Томас.
– Спок-нок.
Строение 52
– Ты вернулся.
– Проголодались?
– С такой-то кучей батончиков? Как тут проголодаешься?
– Я вам даю почти всю пищу, Кев, потому что вы были первым. Но теперь вас тут четверо, и мне придется очень тщательно делить то, что осталось.
– Четыре человека?
– Наверное, я вам этого пока что не сообщил.
– У тебя тут четыре человека?
– Оказалось даже не так трудно, после вас-то. Признаю́, другие не были, знаете, людьми военными. А с моей мамой и вовсе проще простого.
– У тебя здесь твоя мама?
– Нам нужно было о многом поговорить.
– Можно понять.
– Ну еще бы.
– Ты человек семейный.
– Мне сарказм не нужен, Кев. Все выстраивается по порядку. Выходит так гладко, что я уверен – оно было суждено. И надо поблагодарить вас. Все стало возможным из-за вас.
– По крайней мере, пока не придут и тебя не пристрелят, а это случится уже совсем скоро.
– Знаете, Кев, я не уверен, что это правда. Пока все это длится три дня, и я не вижу и не слышу никаких намеков, что сюда кто-то идет. Для меня это вообще-то знак того, насколько далеко астронавты выскользнули из нашего коллективного уважения. Думаете, Нилу Армстронгу позволили бы вот так вот гнить на военной базе два, три дня? Да мигом бы устроили международную облаву.
– Знаешь, а я уже не уверен, нужно ли мне с тобой дальше разговаривать. Чего слова тратить. В любую минуту увидишь тень среди деревьев, это будет снайпер, который тебя пристрелит.
– Кев, это очень живая и наглядная картинка. Вы человек военный, поэтому допускаю, что, вероятно, вы на такое дрочите, представляя, как пули пробивают черепа и мясо. Но я это в голову брать не буду. Сегодня хороший день.
– Ты все гаже и гаже.
– Нет, Кев, мне все лучше. Прошлой ночью я немного поспал, и потом что случилось сегодня утром – это значит, что для меня все солнечнее, с каждым днем. Ответы, которые я получаю, перво-наперво очень мне на пользу. А только что со мной случилось самое безумное и лучшее, пока я гулял утром по пляжу. Я увидел женщину, и, кажется, это знак всякого хорошего впереди.
– Ты видел женщину?
– Да. Я знаю, что этот парк закрыт, и прибрежная полоса должна быть безлюдной, но сегодня утром, перед тем, как вы проснулись, я пришел к утесам, которые смотрят на океан, и там был самый прилив, поэтому я раздумывал, рискнуть мне спуститься к пляжу или нет. И вот стою я там и вижу – вдоль берега идет фигурка. Я перепугался оттого, что вообще вижу кого-то, поэтому упал наземь – счел, что это кто-то ищет вас, или конгрессмена, или еще чего-то. И вот сижу я в траве, а потом высовываюсь – а фигурка ближе, и я понимаю, что это женщина. Женщина с собакой. Я продолжал за нею наблюдать, пока она подходила ближе, и довольно скоро уже мог различить, что на ней такой толстый свитер крупной косичкой, и джинсы подвернуты до икр, идет она босиком и кидает теннисный мячик в прибой, а собака мячик вылавливает. Солнце было еще низко, и все выглядело золотым, и я подумал, будто вижу свою судьбу.
– Невероятно, что я вынужден это слушать.
– То есть, это была женщина моей мечты, Кев! Безумнее любых моих фантазий. И на миг я подумал, что можно к ней подойти. Знаете, сбежать на пляж и с нею воссоединиться. Но следом я осознал, что не могу. Я не мог с нею поговорить, потому что у меня тут вы, и я ненавидел себя за это, за то, что взял вас и лишил себя шанса с нею, а потом мне стало от самого себя смешно, потому что раньше я никогда и на сотню миль к такой женщине не подходил, ни разу не пытался подкатывать ни к кому из таких, как она, поэтому кого я тут обманываю? Я никогда не мог дотянуться ни до кого, мне желанного. Но надо сказать вам спасибо, Кев, потому что если б не вы, меня бы тут не было, и я б ее не увидел.
– Думаю, тебе с ней нужно поговорить. Сейчас же. Может, она еще там.
– Постойте, что? Довольно резкая смена тона получилась. О, я понимаю. Хотите, чтобы я с нею заговорил, чтоб она заинтересовалась, кто я, почему я тут, может, сообщила обо мне местной полиции, может, выразила какую-то смутную тревогу, что человек оказался на закрытой армейской базе. Так вот именно поэтому я и не могу с нею поговорить. Я не такой дурак, Кев! Но блин, с другой стороны это же может быть знак, верно?
– Наверняка это знак.
– Ну да, правильно? С чего бы такой женщине, кто по всем статьям соответствует описанию, которое существует у меня в голове с тех пор, как мне исполнилось десять, ходить в одиночестве по этому заброшенному пляжу? Откуда она взялась?
– Она тебя ищет, Томас.
– Не надо разговаривать со мною свысока.
– Я верю в судьбу, Томас. Я так со своею женой познакомился. Мы не должны были вообще встретиться. Я опоздал на самолет, в итоге оказался с нею на соседних креслах в зале ожидания – и вот. Я верю в истинную любовь, и в судьбу, и в любовь с первого взгляда. И думаю, что и то, и другое, и третье у тебя прямо сейчас на пляже. Поэтому дурак ты будешь, если не воспользуешься.
– Блин. Как это трудно.
– Это легко. Легче всего на свете. Вперед.
– Надо, правильно?
– Надо.
– Черт. Но я увяз.
– Надо действовать, чувак. Тебе нужно с нею поговорить. Далеко ли она могла уйти? Дуй за ней. Это как раз та сцена в кино, когда парень бросается за женщиной, с которой ему предназначено быть. Иди.
– Думаете, стоит?
– Думаю.
– Блядь. Может, тут все дело именно в этом. Вы, конгрессмен, моя мама, Хэнсен – может, все это должно было привести меня к этой женщине в свитере.
– Это единственный логичный ответ.
Строение 52
– Уже вернулся? Не повезло?
– Нет. Вообще ни слуху ни духу.
– Но сегодня же, попозже. Тебе, значит, нужно будет ее поискать.
– Зачем?
– Если она сейчас выгуливает собаку, во второй половине дня она тоже должна гулять.
– У меня никогда не было собаки. Их нужно выгуливать два раза в день?
– По меньшей мере, чувак. Хотя бы дважды в день. Поэтому был бы ты начеку, а? Она точно еще раз появится.
– Ладно.
– Одну возможность ты уже упустил. Мироздание велело тебе идти к ней сегодня утром.
– Блин. Ладно, пойду. Пойду. У меня, вероятно, сколько, дня два осталось, максимум.
– Потолок. Тем весомее причина к ней подойти.
– Ладно, спасибо.
– Всегда пожалуйста.
– Мне правда очень жаль, что вы так прикованы.
– Не хочешь меня освободить? Я мог бы тебе помочь с чем угодно.
– Нет. Сами же знаете, не могу.
– Томас. Мы друзья.
– Понятно, понятно.
– Я могу тут за всем присматривать, пока ты на берегу. Что угодно могу делать. Мы теперь во всем этом с тобой вместе.
– Нет. Мне нельзя.
– Можно.
– Нельзя. Не то чтоб я вам не доверял.
– А ты доверяешь, правда?
– Абсолютно. Но сами подумайте – если станете мне помогать, превратитесь в соучастника. А я так не могу. Мне нужно, чтоб вы остались невиновны.
– Томас.
– Нет. Я знаю, что прав. Скоро увидимся.
Строение 55
– Ты проснулась?
– Нет.
– Мам. Проснись.
– Ох, Томас.
– Почему ты спишь? Сейчас три часа дня.
– Мне больно. Томас, ты меня должен выпустить. Мне так больно.
– Это у тебя просто ломка.
– Ломка от чего, дурак?
– Откуда я знаю?
– Я ничего не принимаю, Томас. Но мне шестьдесят два года. И сидеть вот так прикованным моему организму тяжко. Ты видел мою ногу?
– Уродливо смотрится, но это потому, что ты на нее забавно опираешься. Если б ты ее вытянула, как все остальные люди, она б у тебя не стала лиловой. Боже. Какая гадость.
– Тебе нужно меня расковать, Томас.
– Не могу. Ты ногу просто вытяни, и напряжение с нее снимется. Через часик уже все будет хорошо.
– Не верится, что это ты.
– Я просто зашел тебе сказать, что все это происходит не просто так.
– Ты это и раньше говорил.
– Нет. Я в том смысле, что мне кажется, цель тут более божественная.
– Только этого не хватало.
– Сегодня утром мне было видение, и я думаю, это знак. В смысле, вот я в самой глуши, и ты здесь, и астронавт, и конгрессмен, и тут я вижу эту женщину, которая мне снится лет с десяти или около того. Все это должно что-то значить.
– Томас, ты всех нас сюда привез. Это не совпадение.
– Верно, но все было только прелюдией к этой женщине на пляже. На ней было ровно то, что я всегда видел в своих грезах – джинсы и свитер в толстую косичку. И вот она, одна на берегу со своей собакой. И у меня такое чувство, будто я очень близок к чему-то. Как только я с нею поговорю, она узнает, кто я и почему мы с нею оказались на пляже в одно и то же время.
– И что? Ты скачешь по берегу и влюбляешься? Или приводишь ее сюда показать, что ты натворил? Захочет ли она остаться с похитителем? Она поведется на тебя и на твои вот эти вот чудесные достижения? Ты псих, это понятно, однако ты не настолько псих, правда же?
– Вот в чем неувязка с тобой. У тебя никогда не было никакого оптимизма. Какой же ты циник с черным сердцем. Делаешь вид, будто у тебя всякий нью-эйдж в голове, то и дело какие-то переживания, которые ты считаешь волшебными или типа того, но на самом деле ты пессимист и у тебя очень черное сердце. Поэтому ты даже помыслить не способна, что такое может произойти. Что-то чистое и доброе – например, на пляже для меня появится женщина. Ты не веришь, что иногда одно с другим складывается. Твоя жизнь – дурной балаган, и ты считаешь по умолчанию, что моя будет такой же. Ты не веришь в судьбу.
– Ну, Томас, вообще-то верю. Я верю, что тебе суждено оказаться в тюрьме, и, если повезет, осматривать тебя будет клинический психолог. Там определят, что у тебя мания величия, что поведение у тебя остро антиобщественное, огромный недостаток самоконтроля, и ты считаешь, что увидеть женщину на пляже во время твоей самоубийственной выходки с похищением людей – это судьба.
– Хорошо. Это хорошо.
– Это не хорошо. Ничего в этом хорошего нет.
– Знаешь, что вопиюще? Астронавт, с кем мы едва знакомы, больше поддерживает меня в поиске этой женщины, чем ты.
– Потому что он хочет, чтобы тебя поймали, имбецил. Конечно же, ему хочется, чтоб ты пообщался с женщиной на пляже. Он хочет, чтобы она о тебе сообщила.
– На поверхности – конечно, это могло бы показаться правдой. Но знаешь, что? Кеву действительно не все равно. Ты в курсе, что мы с ним в колледже дружили, верно?
– Ну разумеется.
– Откуда тебе это известно? А мы дружили. Поэтому он тоже тут. Он мне доверился, когда мы ходили вместе в школу, сказал мне, что хочет полететь на космическом «Шаттле», а теперь у него пролетело пятнадцать лет, и это уже ни за что на свете не произойдет. Поэтому я пытаюсь помочь ему увидеть новую стезю, и он это ценит.
– Уверена, что так оно и есть, Томас.
– И со своей женой он познакомился так же, как я встретил эту женщину.
– Похищая свою мать и пристегивая ее к свае?
– Нет! Нет. Нет. Ну почему обязательно быть такой циничной? Разве не видишь, что происходит нечто необычайное?
– Томас, я думаю, ты очень, очень болен.
–
– Куда ты пошел?
Строение 52
– Уже вернулся? Повидался с ней?
– Я ее видел, но не ту ее. Скажите-ка мне кое-что, Кев: ваши родители, вероятно, были совершенством?
– Не были. Они разошлись и завели себе по новой семье.
– Но они все, вероятно, между собой лучшие друзья. Все вы вместе празднуете Благодарение.
– Нет, не празднуем. Никто никому не нравится.
– Но это в последнее время. Все повзрослели?
– У меня до старших классов было одиннадцать разных спален. Отец меня постоянно лупил, а однажды намеренно сломал мне руку.
– Звучит отрепетированно. Вы такое уже говорили.
– У меня из головы это нейдет.
– Но вы же все равно преуспели.
– Да. Ты не такого ответа хотел?
– Не знаю.
– Ты на пляж возвращался?
– Пока нет.
– Тебе нужно туда выйти. Никогда ведь не знаешь. Тебе совершенно точно не захочется упустить ту девушку, пока ты тут со мной беседуешь.
– Ага.
– Тебе надо идти.
– Я знаю. Знаю. Спасибо, Кев. У меня от этого хорошее ощущение.
Строение 52
– Кев!
– О, привет.
– Вы дремали?
– Ну так, приятель, тут больше особо делать нечего. Ты бегал? Запыхался как-то.
– Я бежал обратно. Надо было вам сказать. Я с нею встретился.
– Ты встретился с девушкой?
– Встретился.
– Ух. Здорово. Я так рад.
– Я знаю. Сделал, как вы сказали. Вернулся к обрыву и стал ждать, чтобы она прошла снова со своей собакой. Три часа или около того, но она вернулась. Около пяти.
– Видишь, я же тебе говорил.
– Ага, в общем, я увидел ее внизу на пляже, и она шла к тому месту, где я стоял, но мне туда никак было не спуститься. Я не прикинул маршрут на пляж. А утес там слишком отвесный, чтобы прыгнуть или съехать. Тут я задергался, стал тропу искать или типа того. Быстро нужно было найти, чтоб успеть спуститься на пляж и начать идти девушке навстречу как ни в чем не бывало, вроде я такой же, как она, каждый день гуляю по пляжу в это время, верно?
– Верно. Гладкий подкат.
– В общем, я пробежал где-то с четверть мили дальше, не приближаясь к ней, и наконец отыскал такую широченную тропу вниз на пляж. Когда-то наверняка она была вроде как спуском для лодок. Тут я схожу на пляж и вижу, как она издали ко мне идет. И знаете, что здорово?
– Тут все здорово.
– На ней тот же свитер, кремовый в косичку, крупной вязки. То есть, свитер же для меня – половина всего. Любая женщина в таком свитере знает все, чего я хочу. И джинсы подвернуты. В смысле, женщина босиком в джинсах и белом свитере в косичку! Вот какая у меня фантазия.
– Так и должно быть. Так ты поговорил с нею или что?
– Ну, это клево было. То есть, мне ж никогда не удается подкатить ни к какой женщине, но она сделала так, что было легко. Первым делом она помахала. В смысле, как только мы оказались в прямой видимости друг у дружки, но еще довольно далеко, она помахала. Мы с нею вдвоем – единственные люди на много миль окрест, поэтому, наверное, помахать естественно, но все равно. Она сделала первый шаг.
– Явный знак.
– Точно, да же? Мы там совсем одни, и солнце над водой опускается, а она кидает мячик своей собаке, и вот мы такие идем друг дружке навстречу. Как будто два последних человека на Земле.
– Или первых.
– Точно. Это было прекрасно.
– И потом?
– Ну, немного погодя мы сблизились так, что уже можно было поговорить, и поздоровались, и я спрашиваю, что у нее за собака, а она говорит, что это какой-то лабрадудель, и это само по себе еще один знак с учетом того, что у меня аллергия, а это собака гипоаллергенная.
– И ты ей так и сказал?
– Я сказал, что у меня аллергия. Конечно, это не знак, что мы суждены друг дружке. Я ж не псих.
– И она выглядела…
– О боже. В смысле – совершенство. Она немного моложе, думаю, ей лет тридцать, но вот честно – воплощение всего, чего я когда-либо желал. Одежда у нее какая надо, это я знал, но потом у нее еще это замечательное лицо «Джей-Крю»[15], знаете, без макияжа, просто симпатичное лицо, маленькие голубые глаза, вокруг глаз немного морщинок. Мне такое нравится.
– Тело хорошее?
– Как у спортсменки. Я пока не спрашивал, но наверняка она играет в футбол, или в лакросс, или во что-нибудь такое. Небольшого роста, поэтому наверняка такой спорт, где можно быть поменьше и проворным.
– Ты выяснил, где она живет?
– Судя по всему, на самом краю парка есть небольшой поселок. Она там ветеринар. Невероятно, правда же? Наверное, одна такая миль на двадцать вокруг или как-то. И каждый день проходит миль пять со своей собакой, которой, она сказала, нужны долгие прогулки два раза в день, иначе она весь дом изгрызет.
– Говорил тебе. Дважды в день.
– Ну да. И тут как раз примерно конечная точка ее прогулки. Поэтому, опять-таки, идеальный знак того, что ей предназначено было очутиться здесь, и мне было суждено тут очутиться. Вы вдумайтесь: окажись я на полмили дальше по пляжу, никогда б не увидел ее. Если б я вас или кого-то еще сюда не привез, меня бы здесь не было. На самом деле, если б только привез вас сюда и сам уехал через несколько дней, я бы вообще ее не увидел. Вот она и есть, судьба, что я продолжал набирать людей, потому что уже три дня прошло, а я ее увидел только сейчас. Все взаимосвязано. Все было необходимо.
– А она спросила, зачем ты здесь?
– Ее собаке я тоже понравился.
– Это хорошо. Чего б не?
– Ну да, верно? Я ей сказал, что просто турист, просто приехал поглядеть на Форт-Орд, поснимать. Она, правда, заикнулась, что парк закрыт, но мне кажется, я набрал несколько очков, сказав, что просто объехал барьер в своем фургончике и расположился тут лагерем.
– А ты ее сюда привел? То есть, где она сейчас?
– Нет-нет. Мне показалось, что так делать не стоит. А вам как?
– Не знаю. Carpe diem[16], верно?
– Ладно вам. Вы же знаете, я не такой дурак. Я привожу ее сюда, один из вас, ребята, ее видит, начинает орать, и все испохабится.
– Это ясно, да, но ты разве не хочешь с нею поговорить? Посидеть где-нибудь?
– Я никак не могу привести ее сюда.
– Так что ты сказал? Как вы расстались?
– Просто сказал, что завтра мы с нею опять увидимся.
– Ладно.
– И видите, тут как раз все стало интересным. Я тут собой довольно-таки горжусь, потому что знаю, по утрам она тоже гуляет, верно? Но я подумал: вот скажу ей, что я про это знаю, – она может испугаться. Поэтому я не мог ей сказать: «Эй, а я вас и сегодня утром тоже видел».
– Точно. Ты же не хочешь, чтоб она подумала, будто ты со странностями.
– Вот именно. Только мне не хотелось ждать до завтрашнего дня, чтобы снова с нею увидеться. Поэтому надо было, чтоб она сама разгласила информацию о том, что по утрам она тоже гуляет.
– И она разгласила?
– Еще как. Когда я сказал, как бы между прочим эдак: «Ну, может завтра после обеда увидимся», – она ответила: «О, я сюда раньше вернусь. По утрам я тоже гуляю».
– Идеально.
– Ну да. Поэтому у меня все устроилось.
– Ничего себе. Поразительно. Ты так близок к цели.
– А то.
– И завтра – что будет? Ты ее сюда приведешь? Я не в смысле совсем сюда, чтоб она нас увидела, но сюда вообще?
– Не знаю. Черт. Я не могу.
– Почему ж нет? Тебе нужно где-то завершить сделку, правда?
– Завершить сделку?
– Я не в том смысле, чтоб вы с ней детей делали. Но, похоже, ты сюда поднимешься, найдешь теплый и спокойный уголок, где хотя бы сможешь получить первый поцелуй или что-то.
– Ага. Ну да.
– Иначе никак. Так ты узнаешь, врубается ли она в тебя по-настоящему. Это всегда смена места действия. Знаешь же, как я тебе говорил о том, как встретился со своей будущей женой?
– Вы были в аэропорту?
– Мы оба опоздали на свои рейсы и просто разговорились в зале ожидания. Но потом я позвал ее поесть и выпить со мной. Просто в баре аэропорта, типа в двадцати шагах оттуда, но это маленькое путешествие, те двадцать шагов, означало всё. Оно значило, что я нравлюсь ей так, что она готова остаться в аэропорту, а могла бы поехать домой. И готова пройти со мной из одного места в другое, выпить со мной, чужим человеком. Это знак – она заинтригована и готова попробовать. Но пока женщина такого не сделает, не последует за тобой куда-то, толком ничего не поймешь.
– Ну да.
– Ну еще б не да, нафиг. Поэтому завтра ты с нею поговори, погляди, поднимется ли она сюда. Просто форт осмотреть. Если суждено, она поднимется, запросто. Она уже вышла на прогулку. Ты какой-нибудь предлог изобретешь, типа у тебя тут костер, куда нужно дровишек подбросить. Что-нибудь такое, что вытащит вас с пляжа в горку.
– Гениально. Спасибо, Кев.
– Всегда пожалуйста.
– Знаете, я маме про все это рассказал, что вы мне тут помогаете, и насколько давно мы с вами знакомы, и она так по-блядски к этому отнеслась. Не верит, что мы друзья, что я могу быть знаком с кем-то вроде вас.
– Кому какое дело до того, что она думает? Она не понимает.
– Даже и близко, верно? Господи, как же меня штырит.
– Так что ты будешь делать всю оставшуюся ночь?
– Не знаю. Но у меня такое чувство, что я способен одним своим желанием осуществить что угодно.
– Ты в ударе.
– Блин, была у меня одна такая мысль. Я думал, что это мне совсем неподвластно, но теперь уже не так в этом уверен.
– Что такое?
– Нельзя говорить. Иначе не сбудется. Даже думать об этом довольно-таки противозаконно.
– Томас, ты неостановим. Никогда же не знаешь. Как ты сам сказал, тебе поперло. Что была за мысль?
– Ну, я думал, не съездить ли в Марвью и не забрать ли легавого.
– Легавого? В смысле – сотрудника полиции?
– Ага. Бред, я знаю.
– И привезти его сюда?
– Ага. Я псих, да?
– Ты не станешь ему вредить?
– Я еще никому не повредил.
– Тогда, думаю, стоит попробовать.
– Правда? Не думаю, что мне удастся.
– Что? Ты ж меня сцапал, верно? Насколько труднее будет с легавым?
– Вы не были вооружены.
– Томас, настал твой час. Это весь уголь твоей жизни прессуется в алмаз.
– Может, я легавого постарше заберу.
– Выбирай любого. Ты неостановим. Ты можешь оказаться и неуязвим.
– Я найду нужного.
– Во-во.
– Я привезу его.
– Это будет верняк.
– Пожелайте мне удачи.
– Удачи, Томас.
Строение 57
– Ух, это величайшая неделя всей моей жизни.
–
– Извините. Вероятно, вы этого не понимаете.
–
– Ладно, если сравнивать, то для вас эта неделя не настолько хороша. Вас, ну, как бы привезли сюда. Я просто имею в виду, что привезти сюда астронавта было трудно, но вот забрать настоящего легавого… Боже. Кев сказал, что я неуязвим, и теперь я знаю, что оно так и есть. Блин, забыл ему сказать. Сейчас вернусь.
Строение 52
– Вы были правы, дружище.
–
– Кев? Вы спите?
– Что такое?
– Это я.
– Вернулся?
– Вернулся. И взял одного.
– Что взял?
– Легавого, друг. Как вы и сказали. И с ним было легче, чем с вами.
– Ох блин.
– Что?
– Ты привез его сюда?
– Он в двух зданиях отсюда.
– Без ущерба?
– С ним все прекрасно.
– И за тобой не гнались?
– Ничего. Он был один. Его телефон я оставил там же на улице.
– Ох Иисусе.
– Что? Это правда. Я неостановим. Вы были правы.
– С ним все в порядке?
– У него все отлично. О чем вы беспокоитесь?
– Не знаю. Что ты планируешь с ним делать?
– Не знаю. То есть, в общем, знаю. У меня есть несколько общеполицейских вопросов. Просто кое-что, о чем мне хотелось поговорить. Судя по его виду, он не шибко много чего знает.
– Сколько сейчас времени?
– Около десяти. У меня заняло час дотуда доехать, а потом еще пару часов все разведать. Он стоял снаружи у какой-то вечеринки, будто швейцар.
– Невероятно – ты взял легавого.
– Вы убедили меня, что это возможно, Кев. Я должен вас за это поблагодарить.
Строение 57
– Вы неважно выглядите. Может, я слишком много вам дал. Это просто хлороформ. Вы не умрете.
– Что такое? Где я?
– В безопасности. И вдалеке от кого бы то ни было, поэтому никто, кроме меня, вас не услышит. У меня тут еще четверо, и все – в безопасности. Никому не будет вреда, даже вам. Мы здесь уже три дня. Я человек нравственный и принципиальный, а возможно – и неуязвимый. Вы это понимаете?
– У вас какой план, дружок?
– Что такое?
– Расскажите, какой у вас план. Это какой-то шантаж или что?
– Шантаж?
– Вы пытаетесь на мне отыграться за то, что я вам штраф выписал, или за наркотики привлек, или за что?
– Знаете, вы мне пока не очень нравитесь. У вас ершистый характер. Я полвечера за вами наблюдал, просто понять, крутой вы или нет, но вы больше похожи на стоматолога. На стоматолога, переодетого легавым.
–
– Со всеми остальными я в первую очередь извинялся за то, что пришлось их сюда привезти в таких обстоятельствах, но вот с вами я даже не знаю, насколько мне жаль. У меня с вашей публикой скверные переживания связаны.
– С моей публикой?
– С легавыми. Но в то же время и много хорошего опыта. Я хочу, чтобы вы, ребята, были хорошими. Хочу верить, что вы желаете поступать правильно. Но слишком часто вы всё проебываете.
–
– Забыл сказать, что вы тут ради беседы. Вот зачем вы здесь. Я задаю кое-какие вопросы, вы на них отвечаете, ладно?
– Зачем?
– Зачем? Затем, что вы у меня в наручниках, и потому что я так сказал. Вы, должно быть, знакомы с правилами дачи показаний, верно?
– Вы это называете дачей показаний?
– Это ближе чего угодно. Просто есть несколько общих вопросов, на которые мне нужны ответы. Про вас я ничего не знаю, но вы были в форме, поэтому я прикинул, что какие-то ответы вы должны знать. Наверное, вы бы могли сказать, что я вас анкетирую.
–
– Вам не нравится?
–
– И чем скорее мы разберемся, тем скорее я уберусь, и вы будете свободны. Ладно?
– Идите к черту.
– Вы и впрямь ершистый. Я этого не ожидал. А у вас такое приветливое лицо. Вы мне напоминаете некоторых почтальонов или чьего-нибудь папу из телевизора. Представляю, как вы надеваете после работы кофту, разворачиваете газету, помогаете своим детишкам с домашним заданием.
–
– Если не охраняете чью-то частную вечеринку.
–
– Ух, вот это жизнь, да? Днем – участковый из Монтерея, по ночам – охранник частных вечеринок за полторы ставки. Вы уже сколько легавый?
–
– Вам сейчас придется ответить.
– Двадцать лет.
– Двадцать лет. Экзамен для оперативников когда-нибудь сдавали?
– Идите в жопу.
– А. Я так понимаю, что ответ – да. Вы чего ищете? Какому-нибудь проходящему судну подать сигнал? За окном никого нет. Вы что, такой тупой? Вы в заброшенной военной казарме и собираетесь подавать сигналы судну в двух милях от берега в Тихом океане?
– Мы в Форте-Орд.
– Хорошо. Вы первым догадались. В морской пехоте служили или что? Очень закаленный вы парень.
–
– Ладно. Наверное, мне просто повезло с разговорчивыми, поэтому я избаловался тут немного. Не нужно было правила объяснять. Вот какие тут правила: вы здесь, чтобы со мной разговаривать и отвечать на мои вопросы. У меня есть электрошокер. Наверное, вы его уже видели. И у меня снаружи кое-что другое есть, я могу его применить, если вы совсем не захотите пойти мне навстречу. Но я не злой. Никому вреда не причинил. У меня тут четверо других людей, и все здоровы и сыты. И мне кажется, я почти закончил выяснять то, что мне нужно было узнать. Поэтому если вы пойдете мне навстречу, все это может завершиться очень скоро.
–
– Может, я не того легавого выбрал. Слушайте, мне нужно скоротать ночь до своей завтрашней судьбы, и я просто искал кого-то из вашей братии. У меня ничего против вас лично нет. Я знал, что иначе никак, никто из вас, ребята, не сядет и со мной не поговорит. Понимаете? Я писал письма в полицию, а ответа ни разу не получил. Я просился поговорить с кем-нибудь, но никому и дела не было.
–
– Ну, в общем. Теперь, раз вы здесь, вот какой план. Вы разговариваете со мной, отвечаете на вопросы, и у нас все будет отлично. Если нет, я вас оглушаю. Травлю вас газом. Я такое умею. То же, что вы, вероятно, делаете людям постоянно. Такое вам наверняка будет знакомо. И чем скорее вы со мной поговорите и мы закончим, тем скорее сможете освободиться. Есть во всем этом смысл?
– Да.
– Ха. Это было почти внезапно. Вы вдруг заговорили. Вы раньше таким занимались?
– Нет.
– Но это же входит в ваше обучение или как-то? У вас есть симулятор для таких ситуаций? Когда вас приковывают к свае и задают вам вопросы? Наверное, такое случается, когда берут заложников.
– Видимо, у вас стычка с полицией была?
– Мы не обо мне сейчас говорим. Я хочу, чтоб вы поговорили о вас. Спать я не могу, до рассвета еще много часов, поэтому будем разговаривать. Составим ваш небольшой биографический портрет. Я хочу понимать вас и таких, как вы. Вы родились где?
– В Модесто.
– Модесто! Ух ты. Ладно, Модесто. Оба родителя?
– Да.
– Папа был легавым?
– Мама.
– Мама была легавым! Ничего себе. Это фантастика. А папа что делал?
– Он проектировал мебель.
– Проектировал мебель? Он проектировал мебель? Лучше этого я за всю неделю ничего не услышал. Богом клянусь. Ух ты. Он проектировал мебель! Ваша мама выходила на работу с пистолетом и всеми делами, а папа готовил ей завтрак и потом оставался дома рисовать диванчики?
–
– Извините. Я не хотел проявлять неуважения. Извините. Ваш папа рисовал потрясающие диваны. И не диванчики. Большие! Мужественные.
– К чему все это?
– Так вы легавым стали почему? Пройти по маминым стопам? Знаете, я думаю, у вас в доме все было сложно. Может, папа не чувствовал себя мужчиной, если мама получала больше денег. Он дома работал?
–
– Так и есть! В каком-то смысле он был домохозяйкой, правда же?
–
– Извините. Некрасиво это с моей стороны – грязные приемчики применять. Так вы почему легавым стали? Потому что хотели приносить пользу?
–
– Вид-то у вас совсем не легавый. Я потому вас и взял. Вы казались безвреднее других вариантов. Вы когда-нибудь усы носили, эспаньолку, такое вот?
–
– Не отвечаете? Это что, секретная информация? Выбор лицевого оволоснения у легавых засекречен? Вы только что улыбнулись? Я вас развеселил. Обалдеть. Теперь мы лучшие друзья. Ладно, вернемся. Раз мы теперь не разлей вода, мне нужно знать все. Видимо, бесплатная средняя?
–
– Ну не робейте же. Я на взводе. Вы не хотите, чтобы я за электрошокер взялся. Я скорее его применю, когда взвинчен. Итак: бесплатная школа? Не кивайте. Мне нужны ответы. Тут темно, а кивки без толку, когда темно. Как вы в силах вообразить, я не могу зажигать свет, или те суда, которым, как вы считали, вы подаете сигналы, нас увидят и впрямь.
– Да. Бесплатная школа.
– Ладно. Колледж?
– Два года.
– Где?
– Чико, штата.
– Чико, штата. Чико, штата. Ладно. Это я вижу. Потом что? Бросили?
– У меня деньги кончились.
– Вы на том рубеже планировали стать легавым?
– Не знаю.
– Что вы изучали?
– Театр.
– Театр! Театр! Ох блин. Это фантастика. Папа у вас дизайнер мебели, а вы изучаете театральное искусство. А мама – она какой разновидности легавый была, кстати? Вроде канцелярской работы или в самом деле ездила на крейсере?
– Ездила. Патрульная. Потом стала сержантом.
– Ничего себе. Ладно. Значит, Фрэнк хочет быть кем, актером? Вы хотели стать актером?
– Не знаю. Изучал всё – декорации, реквизит, режиссура.
– Фрэнк, вы мне теперь по-настоящему нравитесь. Вы похожи на папу из «Семейных уз»[17] и изучали театр в Чико. Вы мне нравитесь. Поэтому я надеюсь, что не разонравитесь позже. Значит, затем вы бросили колледж и что потом?
– Работал.
– Кем?
– Телемаркетинг.
– Ох блин. Это ужас. И у вас получалось?
– Нет.
– Чем торговали?
– Домашними охранными системами.
– Ладно. Долго?
– Год.
– А потом что? Затем полицейская академия?
– Нет, затем Европа.
– Вы поехали в Европу? Типа, с рюкзаком, проездной «Евро-ЖД», такое вот?
– Да.
– Фрэнк, слов нет, до чего мне все это нравится. Вы обалденный. Должен сказать, меня так вдохновляет, что на свете существуют легавые, которые изучали театральное искусство в Университете штата Калифорния в Чико, а потом ездили с рюкзаком по Европе. Вам нужно всем про это рассказывать! А то знаете, как вас обычно воспринимают: все легавые – стая горилл, которые за пределы штата ни разу не выезжали, правда же? А чаще вперед выдвигать нужно таких парней, как вы, чтобы с общественностью встречались, такое вот. Вы же все, ребята, только сидите в своих машинах и никогда ни с кем не разговариваете. Знаете, какая это беда для вашего имиджа? Надо устраивать по вечерам «Встречи с Легавым Фрэнком», где вы будете рассказывать людям о своих сумасшедших похождениях в Греции и прочую хрень. Здоровская мысль, правда?
– Не знаю.
– Да точно! И я предполагаю, в Грецию вы ездили?
– Ездил.
– Брали там напрокат мотороллер, катались пьяный, снимали английских девчонок?
– Более-менее.
– Знаете, в другой жизни мы бы стали почти друзьями. Вы вроде ничего. Я рад, что вас взял. Женаты?
–
– Ладно вам, я не собираюсь вредить вашей жене. А если б захотел, то и так бы смог. Я б мог за секунду выяснить, женаты вы или нет. Я знаю ваше имя.
– Валяйте, звоните в участок, спрашивайте.
– Вы гляньте! Умный какой. Хочет, чтобы я позвонил в участок. А вы возьмете и крикнете или еще что-то, они отследят звонок, получат координаты у оператора мобильной связи, и нас найдут. Это умно. Ну, почти умно. Но на самом деле не очень. Вы б не могли быть таким уж умником и работать в полиции Монтерея. И там, где я вас забрал, это что было? Вы чью-то частную резиденцию охраняли или что?
– Обеспечивал безопасность на мероприятии.
– Застрелили кого-нибудь?
– На частной вечеринке?
– Нет. Но смешно. Застрелили?
– Нет.
– Вы вообще из своего пистолета стреляли?
– На службе?
– Да, на службе.
– На службе я стрелял из табельного оружия три раза.
– Три раза. И кто были ваши три мишени?
– Один был человек, ограбивший химчистку.
– Он был вооружен?
– Да, наверное, был.
– «Да, наверное, был». Знаете, вы только что отбросили себя назад на сотню лет. Именно такую херню люди и ждут в ответ от легавых, и вот вы сообщаете это мне. Так он удрал?
– Он был вооружен, и он удрал. Перебежал через четыре полосы движения и прыгнул в машину.
– Вы в него выстрелили и промахнулись.
– Приходится допустить, что промахнулся.
– Ладно, кто еще?
– Однажды в животное.
– Что за животное?
– Собака.
– Собака.
– Да.
– Так вы говорите, что один из трех раз, когда вы стреляли из своего пистолета, был в собаку?
– Да.
– Обалденно. Это и впрямь означает, что вы мне говорите правду. Потому что, если б вы что-нибудь от меня скрывали, вы б это не упомянули. И еще вы пытаетесь себя очеловечить. Вы читали руководство. Очеловечивайте себя, говорите о своих аллергиях, слабостях, семье, недугах – и похититель, может, вас пощадит. Примерно так и есть?
–
– Так вы попали в собаку?
– Нет, не попал.
– Вы плохой стрелок или что?
– Я прилично стреляю.
– Но вы промахнулись в грабителя химчистки и собаку.
– Оба столкновения происходили вечером и обе цели быстро перемещались.
– А вы близорукий или что-то?
– Нет.
– Так кто был третью мишенью для вашего пистолета?
– Просто человек. Неуравновешенный.
– Сколько лет?
– Тридцать или около того, думаю.
– Постойте. Что? Ему тридцать было? Как его звали?
– Не знаю. Сплошные согласные.
– В каком смысле? Где это было?
– Здесь. В Марвью.
– Что? Почему вы были здесь?
– Я раньше здесь работал. Потом меня перевели.
– Как его звали?
– Иностранное имя.
– Иностранное как откуда?
– Я думаю, Вьетнам.
– Что?
– Вьетнамское. Думаю, такое имя.
– Как его звали?
– Не знаю. Начиналось на Б.
– Фамилия начиналась на Б?
– Да. Это я знаю.
– А имя какое?
– Американское.
– Дон?
– Может быть.
– Его звали Дон Бань?
– Не знаю. Вы его знали?
– Вот теперь вы врете. Сейчас вы думаете, что я вас убью, потому что вы убили моего друга. Вы убили Дона Баня?
– Нет.
– Вы же сказали, что стреляли в него.
– Не надо сейчас об этом говорить.
– Нам придется сейчас об этом говорить. Вы застрелили Дона Баня?
–
– Вы б лучше говорили.
– Я не убивал его. Мой выстрел его не убил.
– Блядь. Блядь. Не думал, что и впрямь добуду кого-то из вас, ребята, кто на самом деле там был. Вы утверждаете, что были среди тех легавых в тот вечер?
– Не знаю.
– Я вас убью, если не станете говорить. Слышите меня? Я вас убью. Буду лупить вас электрошокером, пока не сдохнете. Придумаю и другие способы. Возьму камень и раскрою вам голову.
– Я не могу вам ничего сказать, если вы планируете меня убить.
– Ваш единственный шанс – разговаривать со мной. Если не будете, я вас убью. Я никому другому так не угрожал, но вас я убью. Я-то думал, что подобрал какого-то случайного легавого, а теперь это вы, один из вас с того вечера. Поэтому нам нужно начать разговаривать.
– Ладно.
– Блядь. Постойте. Мне на секунду нужно отойти.
Строение 53
– Конгрессмен?
–
– Конгрессмен?
–
– Извините. Я знаю, что сейчас глухая ночь. Два часа. Мне тут нужна ваша помощь.
– Томас.
– Вы стали бы хуже обо мне думать, если б я что-то сделал с легавым?
– С легавым?
– У меня тут есть один в нескольких зданиях отсюда.
– Полицейский? Сынок, ничего с ним не делай. Не вреди этому человеку. Как тебе, к черту, удалось притащить сюда полицейского?
– Он охранял какую-то вечеринку. Был один.
– Парнишка, тебе нужно немедленно все это прекратить. К рассвету ты покойник.
– Не думаю. Вполне уверен, что меня оберегает некая божественная сила. Какой-то свет защищает меня и позволяет все это преодолеть. Поэтому я считаю, что время у меня еще есть. Я выбросил его телефон. Никому никак не узнать, где он. Где все мы. И этот парень убил моего друга.
– Ладно. Не знаю, точно ли ты в этом уверен, но я тебе гарантирую – если ты ему как-то повредишь, никакого покоя тебе это не принесет. Ты же покоя ищешь, верно?
– Не знаю.
– Мира в душе́?
– Ладно. Мира в душе.
– Ты считаешь, что если причинишь вред сотруднику полиции, это даст тебе мир в душе? Считаешь, лучше спать по ночам будешь после того, как причинил вред сотруднику полиции?
– Не знаю.
– Уверяю тебя, это совершенно впустую. Ты больше никогда спать не сможешь. Если хочешь с ним поговорить, поговори с ним. Выясни все, что хотел. Правда принесет тебе немного покоя. Это я почти могу тебе гарантировать. Сам же говоришь, что человек ты нравственный.
– Я нравственный человек.
– Так докажи это. Если этот человек причинил зло твоему другу, расспроси его об этом. Ищи свою правду. Но ты должен быть выше насилия. Возвысься, сынок.
– Ладно.
– А потом у меня есть мысль, как тебе можно все это закончить так, чтоб самому при этом не пострадать. Я обдумывал план для тебя. Говоришь, твоя мать тоже тут, верно?
– Постойте. Не сейчас. Я вернусь.
Строение 57
– Так вы знаете, что его звали Дон Бань?
–
– Что, теперь не разговариваете?
– По-моему, нам не стоит.
– Испытывать меня сейчас – очень плохая затея. Говорят, меня все равно убьет какой-нибудь снайпер. Я заодно могу и вас с собой прихватить.
– Если все это ворошить, ничего хорошего оно не даст.
– Это решение не вам принимать. Вы будете отвечать на мои вопросы, как раньше. Так что произошло?
– Он был вооружен, и я в него выстрелил.
– С вами были другие сотрудники?
– Да.
– Они в него попали?
– Да, попали.
– Они его убили?
– Да, убили. Ну, он умер позже в больнице.
– Зачем они в него стреляли?
– Он был вооружен и угрожал сотрудникам.
– Чем он был вооружен?
– Ножом.
– Где он находился?
– У себя на заднем дворе, надо полагать.
– Ладно. Займемся этим на высшем уровне. Вы ответите на все до единого вопросы, какие у меня есть, – или я вам что-нибудь сделаю. Пока вы отвечаете на вопросы, я смогу держаться. Но если вы меня разозлите, я уже сдерживаться не смогу. Готовы?
– Да.
– Значит, дежурство у вас начинается во сколько?
– В три часа дня.
– И продолжается до?
– Одиннадцати вечера.
– Что произошло в начале дежурства?
– Вечер в целом протекал как обычно. С трех до восьми я патрулировал.
– И на какие вызовы еще вы реагировали?
– Всех не упомню, но было два звонка насчет одного и того же бездомного, который испражнялся на парковке «Долларового дерева»[18].
– И что там произошло?
– Я поговорил с этим господином и сообщил ему, что так поступать не разрешается.
– Вы его не арестовали.
– Нет. Он был безобиден.
– Поэтому вы там проявили сдержанность.
– Всегда стараюсь.
– Ладно. Это утверждение я хочу подержать немного у себя в заднем кармане. Интересно мне это понятие – сдержанность. Так какие еще вызовы у вас были в тот вечер?
– Один или два раза граждане замечали подозрительных субъектов у себя в районе. Типа такого.
– И что вы делаете в подобной ситуации?
– Подъезжаю на место, осматриваюсь, может, выжидаю, не зажигая огней, гляжу, не рыщет ли кто.
– И вы видели, чтобы кто-то там рыскал?
– Нет.
– Что-нибудь еще?
– Тем вечером, кажется, кто-то громил почтовые ящики.
– Хорошо. Потом что происходит?
– Ну, около восьми пятнадцати нам поступил вызов насчет человека, который неустойчиво себя вел у «Денни»[19] на трассе.
– Что именно вы услышали?
– Что человек лет тридцати – тридцати пяти зашел к «Денни» и снял рубашку. Затем вошел в кухню и надел на себя фартук.
– И все?
– После этого он вернулся в обеденный зал и, очевидно, залез на столик. А потом пошел вот так с одного стола на другой. Стоял на столах, орал.
– Не снявши фартука?
– Да.
– И это было происшествие у «Денни»? Что он орал?
– Он громко кричал о том, что грядет возмездие и что он очень могуч. Апокалиптическое орал. Говорил, что сотворил мир и способен с ним покончить.
– Ладно. И потом что?
– Я поехал к «Денни» проверить, но тот человек уже ушел. Я поездил по трассе, но следов его не увидел. Посетители не пришли к единому мнению, на машине он туда приехал или нет. Никто из них не видел, чтобы он приезжал или уезжал на машине, поэтому транспортное средство по номерному знаку отследить я не мог. У меня было подозрение, что он просто оставил машину достаточно далеко, чтобы никто не видел, как он приезжает и уезжает.
– Вы объехали район или что?
– Я снял показания с персонала и посетителей, а тем временем насчет этого молодого человека разослали СВП.
– Сигнал всем постам.
– Да.
– Это крупное происшествие в Марвью.
– Это был повод для беспокойства.
– Но он никому ничем не навредил.
– Он угрожал посетителям тем, что прыгал со стола на стол. И совершил кражу в ресторане.
– Что он украл? Сироп это был, верно?
– Да. Не предмет высокой ценности, но все равно это кража, а наша работа – расследовать любую кражу.
– Так и что дальше? Все принялись его искать?
– Да. За поиски взялись три другие патрульные машины.
– Как, триангулируя район?
– В радиусе пяти миль мы искали любые машины, которые перемещались бы беспорядочно, любых мужчин, соответствующих описанию, или вообще какие-либо странности.
– Но стоял вечер пятницы. Наверное, десятки молодых людей вели бы себя, как ослы.
– Не совсем так. Когда человек один, это повод для большей озабоченности. Компания подростков или компания парней вообще – это одно. Но одиночка без рубашки, скачущий по «Денни» и укравший сироп, – повод озаботиться особо.
– Так вы его тоже искали?
– Да, сняв показания в ресторане, я приступил к поискам.
– Без каких бы то ни было определяющих его характеристик.
– Ну, у меня имелся его словесный портрет. Я знал, что он амеразиат. И ушел оттуда в фартуке.
– Между прочим, никто сейчас уже не говорит «амеразиат».
– Послушайте. Я знаю этих ребятишек. Да я во Вьетнаме был, не надо мне. Мы говорили амеразиаты годами. За модной терминологией не угонишься.
– И вы, значит, ездите по округе, ищете его.
– Да.
– Сколько?
– Сорок пять минут – час.
– Потом что?
– Потом нам позвонила его мать.
– Что она сказала?
– Что он явился домой, разоряясь и безумствуя, а потом ушел с большим ножом.
– Вы поехали к ней домой?
– Я – нет, поехал другой сотрудник. Снял показания и поделился информацией с другими патрулями.
– Значит, вы теперь ищете молодого человека в фартуке, без рубашки и с большим ножом.
– Да. И он забрал ее машину, поэтому теперь мы знали, что он ездит на синей «хонде аккорд».
– Но вы ее не нашли?
– Нет. Потом нам поступил звонок из дома молодой женщины.
– Помните, как ее звали?
– Нет. Могли звать Лили.
– Лили Дюбуше.
– Да, наверное, так ее и звали.
– Кто звонил?
– Ее отец позвонил – потому что молодой человек там побывал. Разбил в доме большое окно. Очевидно, метнул шлакоблок в венецианское окно гостиной. А когда семья подошла к окну, он бил стекла в их машинах.
– Чем?
– Сперва кирпичом, затем крупными камнями, которые подбирал с подъездной дорожки. Какие-то декоративные камни – он брал их и швырял в ветровые и боковые окна их автомобилей.
– И отец позвонил после того, как он ушел?
– Нет, когда отец позвонил, он по-прежнему был там.
– Ладно. Этой части я не знал.
– Поэтому две патрульные машины развернулись и направились к дому.
– Вы были в одном из этих патрулей?
– Был.
– И когда вы туда приехали?
– Молодого человека уже не было. Я задержался снять показания, а второй сотрудник направился в ту сторону, где молодого человека видели в последний раз.
– Он ехал на маминой машине?
– Да. Он уехал и гнал по Ивовой к шоссе.
– Он угрожал кому-нибудь в доме этой молодой женщины?
– Я не знаю.
– Да знаете же.
– Вы спрашиваете, угрожал ли он кому-нибудь непосредственно?
– Да.
– Он разбил венецианское окно.
– И кого-то поранило?
– Стекло раскололось на всю комнату. Осколки попали на всех.
– И это всё?
– Насколько я припоминаю.
– А что нож?
– Что?
– Он в том доме угрожал кому-нибудь ножом?
– Насколько я припоминаю, нет.
– Значит, он бьет стекла и уезжает.
– Да.
– И вы пускаетесь в погоню.
– Его машину поехал искать другой сотрудник.
– Вы остались снимать показания.
– Я задержался на несколько минут.
– До?
– До того, как по рации мне сообщили, что он вернулся домой.
– Значит, из дома Лили он поехал обратно к себе.
– Да, очевидно.
– И вы отправились туда.
– Да. Три патрульные машины прибыли примерно в одно и то же время.
– И что потом?
– Мы приблизились к входной двери, и появилась его мать.
– И что сделала?
– Она сказала, что ее сын вошел в дом, спустился в цоколь и там заперся.
– Ладно. Так сколько полицейских собралось там к этому времени?
– Четверо.
– Четверо легавых. И один человек в подвале.
– Да.
– В это время вы уже сознавали, каких габаритов этот человек?
– Да. Мы тогда уже знали, что роста он примерно пять – семь футов, вес 150 фунтов.
– Не крупный человек.
– Нет.
– И вы, четверо сотрудников полиции – вы делаете что?
– Ну, сперва мы вошли в дом и постучали в двери цоколя.
– И?
– И он нас нахуй послал.
– Вы пытались открыть дверь?
– Она была заперта, а процедура не предусматривает ее ломать.
– Почему нет?
– Ну, он вооружен, и мы в тот момент еще не знали, не вооружился ли он еще чем-нибудь. Его мать сказала, что он вел себя странно и толкнул ее к стене. Поэтому мы сочли его поведение непредсказуемым.
– И вызвали еще легавых?
– Мы вызвали Региональное подразделение экстренного реагирования полуострова Монтерей, да.
– Это же полицейский спецназ.
– Да.
– Расскажите мне о решении их вызвать.
– Ну, спецназовцы обучены действовать в ситуациях с захватом заложников, и…
– А в доме были заложники?
– Мы не были в этом уверены.
– Но у вас были какие-нибудь улики, допускавшие, что он взял заложника?
– Прямых улик не было, нет.
– Вы спросили у матери, не провел ли ее сын украдкой в дом заложника?
– Нет, не спрашивали.
– Она вам сообщила, что мог бы? Она видела в доме кого-то постороннего?
– Нет.
– Поэтому я не знаю, с чего у вас сложилось мнение, будто он мог взять заложника.
– Нам надо быть готовыми к любому возможному развитию ситуации. Я не утверждаю, что ситуация с заложником была первой мыслью, какая пришла нам в голову. Но такая возможность была. Заложники не обязательное условие задействования спецназа.
– Ладно, короче, в тот момент вы еще стоите у двери в цоколь или как?
– Нет. В этот момент мы удалили мать из дома и отступили к подъездной дорожке.
– Вы отступили? Как будто это великая битва. Иисусе.
–
– Вы рассредоточились по периметру или что?
– Рассредоточились.
– Но по-прежнему считали, что угроза исходит от одного человека – маленького мужчины с ножом, который засел у себя в цоколе.
– В тот момент мы еще не знали, чем он вооружен или на что способен. Он совершал некоторые очень непредсказуемые поступки, включая нападение на собственную мать.
– Имелись ли улики его нападения на собственную мать?
– Он толкнул ее к стене.
– Там была кровь, порезы, ушибы?
– Нет.
– Значит, у нас человек, толкнувший свою мать к стене.
– Да. И вооруженный ножом.
– И угрожал ли он этим ножом своей матери?
– Не могу этого припомнить. Но если он на кого-то нападает и держит при этом нож, я вынужден допустить, что это нападение с применением смертоносного оружия.
– Но он на нее с ножом не кидался.
– Он напал на нее и держал нож.
– Но угрожал ли он ножом матери?
– Припомнить этого я не могу.
– Вы не можете припомнить. Слушайте, пока что вы были честны и откровенны. Таким вам и следует остаться. Ясно, что прошло уже довольно много времени с тех пор, как я вам об этом напоминал, но вы прикованы к свае.
– Не думаю, что он ей угрожал, нет.
– Спасибо. Так сколько времени проходит до прибытия спецназа?
– Двадцать – двадцать пять минут.
– Сколько в команде спецназа человек?
– Десять.
– Все мужчины?
– В тот момент все мужчины.
– И вот они приезжают. Что потом?
– Рассредоточиваются по участку.
– Что, типа на крышу, на задний двор, везде?
– Я думаю, наверное, двое прикрывали входную дверь, двое – выход на заднее крыльцо, и по двое у каждого из других выходов.
– Что там были за другие выходы?
– Там было два цокольных окна, которые можно открыть. Двое увидели его возле одного окна, поэтому мы их охраняли.
– И в тот момент вы уже велели ему выходить или что?
– Мы сказали, что ему нужно выйти с поднятыми руками и сдаться.
– Вы пользовались мегафоном?
– Да.
– И он ответил?
– Он нас нахуй послал.
– И всё.
– Всё на некоторое время.
– Сколько длилась ваша беседа?
– Минут сорок, наверное. Он отвечал нам всего несколько раз. Мы пытались ему позвонить, но он не снимал мобильную трубку.
– Значит, сорок минут вы то и дело с ним разговариваете. У вас имелись причины считать, что он как-то по-новому вооружается?
– Вы это в каком смысле?
– Он хоть раз сказал вам: «Теперь у меня в руках граната», – или что-нибудь вроде?
– Нет, не говорил.
– Он не соорудил себе ни пушку, ни ядерную боеголовку?
– Нет.
– Поэтому вы по-прежнему считаете, что по своему цоколю расхаживает парень с ножом. И он один.
– Да. Но мы не знали, вооружился ли он чем-нибудь еще. Мать сказала, что имеется возможность того, что он там внизу у себя прячет пистолет.
– Она видела у него пистолет?
– Нет.
– У нее в доме был пистолет, которым он бы мог воспользоваться?
– Наверное, нет.
– Поэтому у вас нет веской причины считать, что он как-то обзавелся пистолетом.
– Прямых улик нет, да.
– Что происходит дальше?
– Ну, в какой-то момент – я бы решил, где-то через час – он сказал, что выходит через парадную дверь.
– Так.
– Поэтому мы отправляем к парадной двери подкрепление.
– Сколько человек собралось у парадной двери?
– Я бы сказал – двенадцать стражей правопорядка.
– И вы там тоже были?
– Был.
– Ладно. Восемь спецназовцев у парадной двери, и вы с тремя обычными полицейскими из Марвью?
– Да.
– Ладно. А кто в этот момент охраняет задний двор?
– Два спецназовца.
– И что было потом?
– Мы несколько минут ждем у входной двери и не наблюдаем никаких признаков того, что он намерен выйти. Затем один спецназовец с заднего двора сообщает, что он только что вылез из одного цокольного окна.
– Значит, входная дверь была уловкой.
– Так мы это и поняли.
– В общем, он вылезает в заднее окно. И что потом? Куда он идет?
– Казалось, он пытается сбежать через задний двор. Направлялся к забору в глубине двора. Нам пришлось допустить, что он намерен перепрыгнуть через забор и скрыться через соседний участок. Поэтому спецназовец его увидел и велел остановиться.
– И он подчинился?
– Подчинился. Остановился, повернулся – и вот тогда-то сотрудник увидел, что у него по-прежнему в руках нож.
– Тот же самый нож.
– Да.
– Напомните мне, насколько велик был тот нож. Какой разновидности?
– То был восьмидюймовый кухонный нож.
– Типа того, каким что, стейки резать?
– Да, стейк, индейку.
– Лезвие было восемь дюймов или весь нож восемь дюймов?
– Я не припомню.
– Ладно, мы оба знаем, что это был обычный нож для стейков. Такой в «Аутбэке»[20] дают. Чуть больше обычного столового.
– Не могу этого подтвердить.
– Ну а я могу. Это факт. Значит, он стоит и держит в руке нож для стейков из «Аутбэка».
– Он держал нож и не хотел его отдавать. Сотрудники потребовали, чтобы он бросил нож, но он отказался.
– И когда вы вошли на задний двор?
– Почти сразу же.
– Сколько прошло, пока все четырнадцать легавых не собрались на заднем дворе?
– Двое оставались перед домом.
– Ладно. Двенадцать вас.
– Секунд двадцать.
– Значит, через двадцать секунд после того, как он выбрался из цоколя, все двенадцать человек из вас стоят с ним на заднем дворе. И он держит нож, а вы орете ему, чтобы он его бросил.
– Так и есть.
– Где на заднем дворе он стоял?
– Он прекратил бежать у заднего забора и сделал несколько шагов обратно к дому, поэтому я бы сказал, что он посреди двора ближе к задней его части.
– Ладно. А вы, ребята, где все?
– Мы встали рядом с ним полукругом.
– Значит, вас двенадцать человек окружает его, и все с пистолетами наизготовку?
– Да.
– Вы направляете на него какой пистолет?
– Мой табельный револьвер.
– А спецназовцы?
– Полуавтоматические.
– Значит, на него направлено двенадцать стволов.
– Да.
– И чем он занят на этом этапе?
– Он размахивал ножом, угрожающе.
– Как именно? Тыкал им в сторону людей?
– Да. Тыкает и орет.
– Что он вам говорил?
– Говорил, что бессмертен, что вырежет нам глаза. Такое вот.
– Секундочку. Я не знал этой части про то, что он бессмертен. В полицейском рапорте этого не было. Расскажите мне все, что вспомните из его слов.
– Ну, там была чепуха про бессмертие. Он говорил: «Знаете, вы, парни, – просто тени». Обзывал нас тенями. Говорил, что сам он – источник света, что он солнце. Сказал, что он солнце, и его нельзя убить.
– И всё?
– Говорил нам, чтоб не подходили, а то без глаз останемся.
– Он в основном угрожал вашим глазам?
– Да. Что он вырежет нам глаза.
– Что-нибудь еще?
– Еще он говорил, что написал Библию. Процитировал какую-то строку.
– Какую строку?
– Не помню. Что-то о пропавших отцах[21].
– Он говорил вам, что убьет вас?
– Мне кажется, он говорил, что будет жить вечно. Что он – пророк.
– Он говорил, что убьет вас?
– Такого не припоминаю.
– Как далеко от него в этот миг вы стояли?
– Лично я?
– Да.
– Футах в двадцати пяти.
– Вы боялись за свою жизнь?
– Я ощущал опасность, да.
– Позвольте мне вернуться на секундочку. Что на вас в этот миг было надето?
– Только моя форма.
– Без пуленепробиваемого жилета?
– Я был в жилете, да.
– Ладно. Значит, вы в пуленепробиваемом жилете. А спецназовцы тоже в жилетах?
– Да.
– Значит, все двенадцать из вас в жилетах?
– Да.
– Ладно. Защитит ли пуленепробиваемый жилет от ножа?
– В каком смысле?
– Если я брошу нож с двадцати пяти футов, даст ли жилет ножу проткнуть вам кожу?
– Не даст. Я бы решил, что нет.
– От пули он защитит, верно? Значит, от кухонного ножа тоже.
– Да.
– Ладно. На вас был шлем?
– Не было.
– Но на спецназовцах были.
– Да.
– Значит, большинство из вас в шлемах и все в жилетах. Но вы утверждаете, что опасались за свою жизнь.
– Опасался.
– Объясните мне это, пожалуйста.
– Перед нами был вооруженный человек в каком-то психотическом состоянии. Он напал на свою мать и непредсказуемо себя вел, размахивал крупным ножом.
– Но против одного ножа было двенадцать пистолетов. А с жилетами вы по сути стояли за пуленепробиваемым стеклом.
– Жилеты – не пуленепробиваемое стекло. И не забывайте, у этого человека имелись ноги. Он мог броситься на любого из нас в любую секунду.
– И это он попытался сделать?
– Он перемещался. И какое-то время это происходило внутри определенного периметра. Но когда он подступил ближе, мы были принуждены действовать.
– Он приблизился?
– Он сделал движение в нашу сторону. Рванулся.
– Тогда-то вы и выстрелили из своего оружия.
– Да. Я выстрелил, и вся остальная команда тоже.
– Сколько пуль было в него выпущено, как показало вскрытие?
– Три.
– Но вы разве не все в него стреляли?
– Нет, лишь трое из нас выстрелили из своего оружия.
– И три пули его остановили?
– Да. Он рухнул наземь.
– И что потом?
– Мы приблизились к нему, соблюдая меры предосторожности, и, когда увидели, что он выронил нож, вызвали скорую помощь.
– А когда вы узнали, что убили его?
– Несколько часов спустя. Мы были в больнице.
– Вы ждали в больнице?
– Да, я ждал. Там было по меньшей мере шестеро сотрудников. Мы не хотели, чтобы этот молодой человек умер.
– Но вы стреляли в него.
– Мы в него стреляли, чтобы его остановить.
– Насколько близко, по-вашему, он к вам подступил?
– В каком смысле?
– Когда делал к вам шаги – он бежал?
– Он двигался очень быстро.
– Он бежал?
– Он начал бежать, да.
– И насколько далеко к вам он продвинулся?
– Мы измерили расстояние – восемь футов.
– Ладно. Значит, вы сказали, что стояли в двадцати пяти футах от него. Когда вы в него стреляли, он переместился к вам на восемь футов и по-прежнему оставался от вас в семнадцати футах. Правильно?
– Да.
– Ладно, постойте. Давайте я вон туда отойду. Примерно такое же расстояние, на каком я сейчас от вас. Такая дистанция?
– Да. Примерно.
– Значит, он умер в семнадцати футах от вас.
– Да.
– Сколько раз вы лично в него стреляли?
– Стрелял или попал?
– То и другое.
– Я выстрелил три раза и попал один.
– Куда вы ему попали?
– Один раз в шею.
– Туда вы и целились?
– Я целился в фигуру, которая быстро движется на меня. Нас учат целиться в самую крупную часть мишени. А это – корпус.
– Вы хотели остановить его движение вперед.
– Да.
– И вы его остановили.
– Да. Слушайте, я от этого удовольствия не получил. Я больше никогда не стрелял из своего оружия после того вечера. Я вам не какой-то ковбой. Понятно, что вашей боли это не уменьшит, но и для меня это травма. Я бы предпочел любой другой исход.
– Это пусть. Но вот в чем штука: кажется, что любые другие исходы были возможны. Я просто никогда не понимал сути всего этого, логистики. Двенадцать до зубов вооруженных мужчин – и вы окружили этого маленького человека с ножом. У него нет преступного прошлого, и про него вам известны две вещи, которые он натворил в тот вечер: танцевал на столах у «Денни» и толкнул свою маму к стене. Затем проходит два часа – и он умирает у себя на заднем дворе. Такое происходит раз в неделю.
– Здесь происходит?
– Где-то происходит. На прошлой неделе застрелили парня в инвалидном кресле.
– Вооруженный человек угрожает группе сотрудников полиции – это неизбежно кончится плохо. У парня в инвалидке был обрезок трубы.
– Почему просто не оставить его в покое? С Доном вы вывели его мать из дома. Почему просто не оставить его сидеть в цоколе?
– Позволить вооруженному человеку, обвиненному в нападении, бродить на свободе?
– Он у себя в цоколе. Нигде он не бродит.
– Он был вооружен и, вероятно, в психозе. Мы вынуждены допустить, что он опасен.
– Но на самом деле вы не считали, что он опасен.
– Считали, конечно.
– Да ну нет же. Вы работали в Марвью. Это какой-то сбрендивший молодой человек с ножом для стейков. У него диплом колледжа, приводов в полицию не было.
– У Ли Харви Озуолда тоже приводов не было[22].
– Хорошо. Это хороший довод. Но правда – когда появился спецназ, вы хоть чуточку задумались: ну, может, это немножко чересчур для одного парня в цоколе?
– Нет. Нам надо было подготовиться к худшему.
– Ну, в каком-то смысле это правда, а? Вы, ребята, готовитесь к худшему – даже в Марвью. Вам это безумием не кажется? При нескольких поселках у океана есть свой спецназ. На тот случай, если на нас нападет армия морских львов?
– У нас есть и пожарная охрана, хотя пожаров с человеческими жертвами не случалось двадцать два года.
– Но у пожарных нет оружия. Знаете, сколько сейчас в стране подразделений спецназа? Конечно, не знаете. Пятьдесят тысяч. В каждом, блядь, пригороде есть свой спецназ. И это не потому, что в округах Вестчестер и Ориндж наблюдается внезапный всплеск взятия заложников. Это потому что вам, уебкам, нравится наряжаться.
– Это неверно.
– Вам такое в кайф. Потому-то вообще и пошли на эту работу. Экипировка. Штурмовой пояс, как у ебаного Бэтмена.
– Вы не отдаете себе отчета в том, о чем рассуждаете.
– Я отдаю себе полнейший отчет в том, о чем рассуждаю, потому что вы убили моего друга. И никогда не говорите мне, что я не отдаю себе отчета в том, о чем я, блядь, рассуждаю. Мне все известно. Это я тут человек нравственный. Я человек принципиальный.
–
– Вы же понимаете, что это я тут человек нравственный.
–
– Скажите мне, что вы это понимаете.
– Я понимаю, что вы хотите, чтобы я в это поверил.
– Уж лучше поверьте. Хуила, уж лучше поверьте в это. Это вы все проебали. У вас кровь на руках. Вы весь в крови невинного. Вы это соображаете?
– То был прискорбный несчастный случай.
– Видите, как раз эти ваши слова и не выказывают никакого уважения к человеческой жизни. Ее заканчивает несчастный случай? Нет, апокалипсис ее заканчивает. Смерть молодого человека вообще без всякой причины – это апокалипсис. Это не несчастный случай. Дон не был несчастным случаем. Вы это понимаете? Личность разве несчастный случай?
– Нет.
– Был мой друг несчастным случаем?
– Нет.
– Вы участвовали в апокалипсисе, который прикончил моего друга?
–
– Не искушайте меня.
– Да.
– И никак иначе его не усмирить было? Электрошокером? Перечным аэрозолем? Большой сеткой? Резиновыми пулями? Подумайте секундочку.
– Если задним числом, решение могло быть другим. Но он был вооружен и вроде бы готов совершить что-то ужасное. Так оно обычно и происходит. Парень выглядит безобидным, а потом у него случается вечер, когда все проваливается в кроличью нору, и гибнут люди. Каждому убийце нужно с чего-то начать, и мы были полны решимости не позволить ему нанести кому бы то ни было какой-то вред.
– Но вы мне вот что скажите: парень в цоколе. Вы считаете, просто оставь вы его там, кому-то был бы причинен вред? То есть, вместо этой стычки, когда вы требовали, чтобы он выходил, а он от этого все больше возбуждался, если б вы просто ушли? Забрали с собой его маму, ушли из дому, оставили его в покое. Что, по-вашему, тогда бы произошло?
– Он бы мог снова сесть в машину и совершить нечто гораздо ужаснее того, что уже натворил.
– Но вы бы могли за ним проследить. Могли бы за ним всю ночь ездить.
– И устроили бы скоростную погоню.
– Вы действительно считаете, что всему этому был сужден какой-то чудовищный исход?
– Он был в состоянии фуги. Думаю, его поведение становилось все страннее и опаснее.
– И вот вы все вокруг него стоите – маленького человека с кухонным ножом. И говорите, что он на вас бросился. Я понимаю необходимость защищать себя. Но зачем стрелять ему в голову?
– Я не целился ему в голову.
– Кто-то из ваших коллег туда целился.
– Мое предположение в том, что другой сотрудник тоже метил ему в корпус.
– Но почему не стрелять ему просто по ногам?
– Нас учат останавливать нападающего и устранять угрозу. Лучше всего это делать, если стрелять в корпус. Корпус – самая крупная мишень, и если стрелять туда, возможность остановить поступательное движение крепче всего.
– Но вы попали ему в шею, а кто-то еще – в глаз.
– Я промахнулся. Я целил ему в корпус, но все произошло слишком быстро.
– Значит, еще раз – почему не стрелять по ногам? Даже пока он не начал двигаться к вам, почему просто не ранить его в ногу, и на этом все? Он будет обездвижен моментально.
– Если я выстрелю ему в ногу и промахнусь, он с хорошей точностью может на меня броситься и воткнуть нож мне в шею.
– Вы серьезно. Вы действительно боялись, что он вас может ранить.
– Конечно, боялся. Вы слышали о правиле двадцати одного фута?
– Рассказывайте.
– Основной принцип заключается в том, что если подозреваемый находится в двадцати одном футе от сотрудника полиции и держит в руках заточенное оружие – например, нож, такой подозреваемый представляет явную и непосредственную угрозу для сотрудника полиции. И применение убойной силы против такого подозреваемого оправдано.
– Значит, если человек держит нож в двадцати одном футе от легавого, легавый может оправданно его пристрелить.
– Если этот подозреваемый ему угрожает, да.
– Почему двадцать один фут?
– Это дистанция, которую подозреваемый может преодолеть за короткое время, которого не хватит, чтобы сотрудник полиции успел спастись или защититься. В основе там исследования, которые провел один полицейский в Солт-Лейк-Сити[23].
– Так скажите мне вот что. Если я держу нож, а вы в двадцати двух футах от меня, вам нужно только сделать один шаг ко мне – и можно будет меня пристрелить. Такое возможно?
– Нет.
– Еще как возможно. По вашему толкованию – да.
– Правило – это руководство для сотрудников полиции, чтобы знали расстояние, с которого подозреваемый может в разумных пределах представлять смертельную опасность.
– Нужно ли подозреваемому двигаться к вам?
– Не обязательно. Если он угрожает мне ножом и расположился в двадцати одном футе от меня, то мне разрешается применять убойную силу.
– Ох блин.
– Что?
– Этого я и боялся. В смысле, я знал, что вы можете оказаться одним из тех легавых, кто неверно толкует это правило, но надеялся, что нет. Мне хотелось, чтобы там все оказалось сложнее.
– Ничего я неверно не толкую.
– Да нет, толкуете, ебаный вы мудак. Правило двадцати одного фута – это… Нет, вы правда не знаете? У вас такое лицо, будто вы и впрямь понятия не имеете, о чем я говорю, но считаете, будто я на самом деле могу знать что-то такое, чего не знаете вы.
– У меня не такое лицо. Я устал, а теперь еще и сержусь.
– Хватит. Вам вообще невдомек. Давайте я вам опишу, что такое правило двадцати одного фута на самом деле. Правило гласит, что подозреваемый, вооруженный ножом, может преодолеть расстояние в двадцать один фут за то время, какое потребуется легавому, чтобы вынуть оружие из кобуры, прицелиться и выстрелить. Вы понимаете?
– Да. Но не уверен, что это правильно.
– Таково руководство. Если вы столкнулись с человеком, вооруженным ножом, и от вас до него двадцать один фут, вам следует взять оружие наизготовку. Вот что утверждает правило. Лишь то, что вам нужно вынуть оружие из кобуры, если вооруженный человек настолько близок.
– По-моему, это не так.
– Это так. Это из справочника, идиот.
–
– Вам нечего сказать?
–
– Это такой пиздец. Я думаю, вы застрелили моего лучшего друга потому, что вы со своими корешами не умеете читать. Я думаю, вы стреляли моему лучшему другу в шею и голову потому, что считали, будто есть такое правило, которое вам это разрешает. Какое-то правило, которое вы поленились на самом деле разыскать и прочесть, или оказались для этого слишком глупы. Вы слышали, что правило якобы гласит, будто вам нужно стрелять в любого с ножом, если от него до вас двадцать один фут, и поэтому вы стреляете в крошечного парня, который держит кухонный нож и не представляет совершенно никакой угрозы ни для кого. Вам не кажется, что это пиздец? Я дам ответ вместо вас. Это пиздец. И вы, блядь, ебаный идиот. И знаете, что еще? Я не думаю, что он вообще даже двигался. Я знаю, теперь вы утверждаете, что он двигался к вам, но спорить готов, что он не шевелился. Я знаю, что вы заставили всех согласиться с вами в том, что он двигался, но мне кажется, он к вам просто повернулся. Одно вскрытие утверждало, что пуля вошла ему в шею под таким углом, который показывал, что голова его только повернулась к вам. Я думаю, он к вам повернулся, а вы психанули и застрелили его. И решили, будто все это приемлемо, потому что думали о правиле двадцати одного фута, которого вы даже, блядь, не поняли.
– Вы ошибаетесь во всех своих фактах.
– Я думаю, вы убили моего друга потому, что не умеете читать.
– Идите нахуй.
– Ладно, может, читать и умеете. Но подумайте, до чего глупо это выглядит со стороны: двенадцать легавых в экипировке спецназа не могут скрутить одного человека ростом пять футов семь дюймов, который держит кухонный нож. То есть, вам от такого не становится чуточку неловко?
– Нет. Эти люди не понимают действительных опасностей.
– Потому что в этой ситуации нет никаких действительных опасностей.
– Вы знаете, сколько потребуется проворному человеку на преодоление этих двадцати одного фута? Примерно полторы секунды. За это время, если б ваш друг решил вонзить нож мне в шею или лицо, он бы это сделал.
– Но у вас пистолет был наготове.
– Да, чтобы не дать ему меня убить.
– Я вам скажу, почему вы его застрелили. Потому что все вы собрались вокруг него и допустили, что логичное завершение этой ситуации такое: ваше оружие стреляет, и кто-то умрет. Иначе все просто кажется неправильным. Вы с этим согласны?
– Нет.
– Что всякая история заканчивается тем, что стреляют из оружия?
– Нет.
– Что вы должны добиться своего – и по своему расписанию?
– Нет.
– Вы все орали ему, приказывали бросить нож, делай, как мы велим, сейчас же, ну. А он не подчиняется. Орет еще. У вас вскипает адреналин. И вы хотите, чтобы все это уже закончилось. Должен ведь быть конец, и настать он должен быстро. Вам не терпится. Вы не можете отступить. Всем вашим пистолетам наизготовку не удалось заставить его сделать то, что вы от него хотите, и от этого все вы просто с ума сходите. Думаете: ты покоришься нашей воле.
– Нет.
– И сделаешь это сейчас же, потому что мы тут уже сколько – десять минут?
–
– А это довольно времени, верно? Это уже слишком долго. Сюжет отходит от того, что вы признаёте нормальным и правильным. Нормально и правильно, чтобы он подчинился – или умер по вашему расписанию.
– Нет.
– Вы соображаете, что мы за странная порода людей? Никто больше не рассчитывает так же, как мы, чтобы все стало, как им угодно. Знаете, какое безумие это навязывает всему миру – что мы рассчитываем на то, что все будет по-нашему, всякий раз, когда нам в голову приходит какая-то мысль? Что двенадцать вооруженных до зубов мужчин могут окружить одного человека с ножом для стейков, и исходом этого будет казнь на заднем дворе? Не показывает ли это вам, что нам нужно поработать над собой? Что как людям нам есть куда расти?
–
– Ну?
– Что – ну? Конечно. Нам нужно расти. Я прикован цепью к свае. Вам есть куда расти. Ваш друг мертв. Нам есть куда расти. Вокруг нас рушится вот эта база. Нам есть куда расти. Я это знаю – только не вижу, как это помогает вам или кому-то еще. А поверх всего этого мне кажется, что ничему-то вы не научились.
– Вы так неправы. Господи, какой же восторг, до чего вы неправы.
Строение 55
– Просто хочу тебе сказать, до чего же ты неправа. До чего же ты всегда неправа – и всегда была неправа.
– И ладно, Томас.
– Все это было необходимо. Я только что всю эту штуку с Доном распутал. Легавый покаялся. Я все знаю.
– Ты привез сюда сотрудника полиции?
– Я могу забрать, кого захочу.
– Томас, тебе знать бы, что меня как твою мать заботит твое благополучие. Я не хочу, чтобы тебя убили. Ты должен это знать. Я слышала вертолеты, и у меня нехорошее предчувствие. И какие бы разногласия и споры у нас с тобой ни были, я хочу, чтоб ты жил дальше и исцелился.
– Если это произойдет, ты в этом никак участвовать не будешь. От тебя совсем никакого проку. Я все вынужден был делать сам. Привез сюда легавого, и он оказался одним из тех, кто застрелил Дона, и я теперь знаю, почему.
– Надеюсь, ты не нанес ему вреда.
– Не нанес.
– Вертолеты все ближе, сын.
– Нет. Они прилетели и улетели. А я спрятал фургон на старом роликовом катке. Мне суждено было здесь быть, чтобы мне явилась истина.
– Не знаю, почему ты такое значение придаешь смерти Дона сейчас. Ты даже на похороны к нему не пошел.
– Это ни к чему никакого отношения не имеет.
– Вы же и не так близки с ним были.
– Он был моим лучшим другом.
– Он был твоим лучшим другом? Да ты не видел его много лет.
– Ты ничего про это не знаешь.
– Да знаю я. Ты даже не… Да ладно.
– Говори, кошмарная ты личность.
– Ты раньше был ему лучшим другом. Но когда ты его бросил, как ты считаешь, как такой пограничный случай будет…
– Что?
– Ничего. Не стоит об этом.
– Еще раз скажи.
– Прошу тебя. Забудь. Сама не знаю, что я несу.
– Нет, не знаешь.
Строение 60
– Вам известно, почему вы здесь?
– Нет. Вы сделаете мне больно?
– Нет. Но мне нужны ответы – и побыстрее. Осталось не очень много времени.
– Ладно.
– Вы знаете больницу, где я вас нашел… вы работали там в 2012 году?
– Да.
– Какая у вас там должность?
– Я начальник регистратуры.
– Хорошо. Хорошо. Я так и думал.
– Как вы меня сюда привезли?
– Помните, вы зашли в лифт, чтобы спуститься в гараж?
– Да. Так это были вы.
– Да. Потом хлороформ и получасовая поездка. С вами оказалось легче всего, почти как с моей мамой. Теперь послушайте. Некоторые тут провели уже несколько дней, поэтому нужно побыстрее. Дона Баня помните?
– Нет. Вы собираетесь делать мне больно?
– Давайте я фамилию по буквам скажу, потому что вы, наверное, не знаете, как это произносится. Б-А-Н-Ь.
– Постойте. Парень, которого полиция застрелила?
– Точно.
– Вы его знали?
– Знал. Помните меня?
– Должно быть, вы тот парень, кто… Случай с поджогом.
– Нет. То был не я.
– Как вас зовут?
– Не имеет значения. Но я знал Дона. Помните, что вы меня видели той ночью, когда его привезли?
– Не знаю. Возможно. Там все было кувырком.
– Но мать его вы помните?
– Да.
– Помните, как не допустили ее к ее сыну?
– Нет. Я ее не не допускала. Близким родственникам всегда можно навещать больных.
– Слушайте. Надо было с самого начала предупредить, что вам лучше рассказывать мне все и сразу. Пока я никому никакого ущерба не причинил, я не повредил астронавту, но вы меня провоцируете, когда врете. Вы больше не за той конторкой. Сейчас вам придется сказать мне правду.
– Извините.
– Теперь готовы?
– Да.
– Так почему вы не пустили маму Дона увидеть сына?
– Полиция мне сказала, что есть риск безопасности.
– Риск безопасности, если она увидит своего умирающего сына?
– Да. Но это было не мое решение. Там была толпа фараонов, и они разговаривали с руководством больницы, а я была просто девушкой за стойкой.
– Но вы из-за нее вызвали охрану.
– Мне велели вызвать охрану, да.
– И они убрали мать Дона из больницы.
– Да.
– А мне не разрешили войти в здание.
– Верно.
– Теперь вы меня помните?
– Да.
– Спасибо. Я рад, что помните. Когда маме Дона разрешили снова войти в больницу?
– Я не знаю.
– Никогда. Ей так и не разрешили туда зайти. Впервые своего сына она увидела в морге. После того, как легавые сделали все, что им нужно было сделать. Они сказали, что в него стреляли всего три раза.
– Это ко мне никакого отношения не имеет. Но я могу понять ваше раздражение – и почему это подтолкнуло вас поджечь здание.
– Я вам сказал, я этого не делал.
– Ладно.
– Вы знали, что в больнице происходит нечто предосудительное, пока не впускали внутрь маму Дона, меня и всех остальных?
– Нет. Я вообще ничего не знала. Мне сказали, что пациент в критическом состоянии, и нам нужно ограничить поток посетителей в отделение экстренной помощи.
– Но он не был в отделении экстренной помощи.
– Его отвезли сначала в отделение экстренной помощи, а потом переместили в интенсивную терапию.
– И это отделение интенсивной терапии охраняли полдюжины легавых.
– Про это я ничего не знаю. Я работаю на первом этаже, а интенсивная терапия на втором.
– Но что, по-вашему, там происходило?
– Я не знаю.
– Что вы слышали?
– Ничего.
– Вы врете. Поздновато как-то начинать врать.
– Я слышала, что полицию все это происшествие тревожит.
– Объясните.
– В того человека слишком много стреляли. Не знаю. Это все лишь слухи.
– Вы знаете санитаров.
– Да. Их я знала.
– Вы с ними много лет знакомы были, правда?
– Да.
– И что они сказали? Сколько пуль, по их словам, они увидели в Доне?
– Я правда не знаю.
– Скажите мне, что вы слышали.
– Они сказали, семнадцать.
– Я так и знал. И все это время вы никому ничего не рассказывали.
– Я не могла. И это бы никому не помогло.
– Теперь вы знаете, отчего я пытался сжечь вашу больницу?
– Все решили, что это вы.
– Вы не дали матери увидеться с сыном. Меня тоже вышвырнули из здания. Вы опечатали всю документацию, всё. Вы были соучастницей в чудовищной лжи.
– А что я должна была делать? Парень умирал. Умер он через три часа после того, как его привезли. Его никак было не спасти. Невероятно, что он вообще был еще жив, когда его доставили. Поэтому что б я ни сделала, такого исхода ничего бы не изменило.
– Но полиция все это скрыла. Они сделали вид, будто применили сдержанность – двенадцать легавых и всего три пули. Но мы-то знаем, что их было больше. Мы знаем, что его нахуй всего изрешетили – я это слышал как минимум десять раз. И ни для кого из этих легавых не было никаких последствий.
– Слушайте. Все это намного превышает мои компетенции.
– Ваши компетенции? Ваши компетенции? Это же клятва Гиппократа, правильно? Она подразумевает правду? Вы же поддерживали ложь.
– Ничего я не поддерживала. И я не врач. Я не давала такую клятву.
– Вы омерзительны.
– Вы так говорите, потому что до меня доходили какие-то слухи от санитара, и я от этого вдруг стала участницей большого заговора? Если вам, народ, так хотелось узнать, что на самом деле случилось с парнем, его мамочке не следовало так торопиться с кремацией. Она сразу же сожгла все улики.
– Ладно, я вот почему пытался вашу больницу сжечь. Во-первых, у меня в ней умирал друг, а вы к нему не пускали, даже когда его мать дала на это согласие. Во-вторых, после того, как он умер, я провел в больнице два дня, стараясь попасть внутрь и помогая маме Дона раздобыть больничные документы и поговорить с кем-нибудь, кто там работает. Но вы всякий раз спускали на меня своих громил из службы охраны, и один ударил меня по голове фонариком. В-третьих, ужасная вы ебаная тварь, мама Дона никогда не просила, чтобы его кремировали. Она вообще понятия не имела, что происходит. Ей доставили коробочку с Доном внутри, а она даже не знала, что́ это. Коробочку ей доставила какая-то женщина из похоронного бюро. Но мать Дона кремацию не заказывала. Чего ради миссис Бань заказывать кремацию? Ей хотелось выяснить, что с ним произошло. Мы с нею два дня разговаривали об этом: как только тело Дона выдадут из больницы, мы закажем независимое вскрытие. А потом однажды она там появляется спросить насчет тела, и вы – я богом клянусь, это были вы, – вы смотрите к себе в компьютер и сообщаете ей, что его кремировали.
– Это была я.
– Я так и знал.
– Я читала с компьютерного экрана. Я не заказывала кремацию.
– Но теперь у вас все это сходится?
– Да, сходится.
– Теперь вы знаете, в каких преступлениях участвовали? Сначала человека пристреливают за то, что он держит в руке нож для стейков у себя на заднем дворе. Затем мы выясняем, что стреляли в него семнадцать раз. Потом легавые не дают его маме с ним увидеться. Затем они сжигают его тело без ее разрешения.
– Но она должна была подписать какую-то форму.
– Она не умеет писать по-английски! Подписали за нее. Они утверждали, что она попросила о кремации в устной форме, а затем подписала форму. И они себя считали такими охуенно умными, потому что у них тут вьетнамская тетка с ограниченным английским, поэтому им запросто можно утверждать, будто возникло какое-то недопонимание. И знаете, что еще? Ваши ебаные друзья-санитары спиздили его часы.
– Это не удивительно.
– Еще как не удивительно. Они все время крадут, правда же? Они украли часы у мертвого парня, вероятно, по той же самой причине, почему эти ебилы подделали ее подпись на бланках кремации. Прикинули, что она за себя постоять не сможет. Она ж какая-то беспомощная вьетнамка. А он – какой-то пацан с дырками от пуль в теле. Если санитары забрали его часы, можно кивать на легавых – или наоборот. То есть, у вас, ребята, система снизу доверху отработана, как убивать всякую надежду на человечность. Вы сдираете с человека его достоинство до последней нитки.
– Мне кажется, вам известно, что это неправда. Случай с вашим другом – невероятная редкость. И всем было очень страшно.
– Вы швырнули тело в печь, чтобы скрыть улики.
– Я этого не делала. Я к этому вообще никакого отношения не имела.
– Вы соучаствовали.
– Вы считаете, что ваш друг – единственное ужасное, что когда-либо случалось в больнице? Я и в хороших больницах работала, так вот эта, о какой мы сейчас говорим, – не больница, а бардак. Там гадости творятся каждый день, и достоинство – вообще не вариант. Это река человеческого разложения и ошибок, совершенных в спешке. Люди каждый день умирают по причинам, каких никто никогда не сможет оправдать. Избыток такого-то лекарства, недостаток такого-то. Люди поступают с простудой, а выписываются покойниками. И превыше прочего у нас – кодекс молчания, подстегиваемый страхом.
– О господи.
– Само собой, мы приносим больше пользы, чем вреда, но…
– Знаете, когда вашего друга доставляют в больницу с его заднего двора нашпигованным пулями, рассчитываешь на то, что он попадает в какое-то более достойное место. Есть такие места, где мы ожидаем чести и чистоты, и кодекса поведения. Но что ни день очередное подобное место вычеркивается из списка. Теперь это чертовски короткий список, вам это известно?
– Мне это еще как известно.
– У меня тут астронавт, который делал все, что ему велели, и это его ни к чему не привело. Он лишь один пример. Он достиг вершины в своем деле, и ему двинули под дых. А на другой чаше весов Дон, который хотел, чтобы его оставили в покое, у него сумбур в голове, а цена сумбурности в этом мире – семнадцать пуль на твоем же заднем дворе.
Строение 53
– Конгрессмен, вы там что-нибудь такое делали, что вас самого удивило?
– Конечно. Постой. Который час?
– Простите, что разбудил вас. Осталось не так много времени, и мне скоро уже пора на пляж – посмотреть, пришла ли туда опять эта девушка.
– Что-что? Какая девушка?
– Эта женщина, которая мне очень нравится, сэр. Она гуляла по пляжу с собакой, и вчера мы с нею поговорили, и я знаю, что она неспроста тут же, где и я. Но я не про это хотел с вами поговорить. Я просто какое-то время провел с этой дамой, с этой другой дамой из больницы, которую я облил бензином, и в некоторый момент я понял, что ни к чему с нею не прихожу.
– Постой. Ты облил бензином…
– Да не даму. Больницу. Мелочь это. Символическая. И она не знала, почему я поступил так, как поступил, потому что она всегда была приспешником системы, а не ее жертвой. Хочется верить, что вы понимаете, о чем я.
– Ну, сынок, я понимаю то, что у тебя уникальный угол зрения на это. Говоришь, ты еще одного человека взял? И она женщина?
– Она работает в больнице, куда доставили моего другана. Его тело сожгли, чтобы замести следы. В него стреляли семнадцать раз, а сказали, что всего три, поэтому через несколько недель я разлил немного бензина вокруг административного корпуса и поджег его.
– Кто-нибудь пострадал?
– Нет, сэр.
– Ты намерен причинить кому-то вред, сынок?
– Нет, сэр. Но у меня не было выбора. Или мне казалось, что у меня он есть. Я не собирался подавать на них в суд или делать что-нибудь еще такое же бесполезное. Мне хотелось кое-что заявить – и сделать это быстро. Мне нужно было ткнуть собаку носом в ее говно, чтоб они сами поняли, что к чему.
– И ты говоришь, что тебя не поймали?
– Не поймали. Кое-кто считал, что это я, там повсюду такой пиздец был из-за Дона, что легавые не хотели осложнять положение, поэтому разбираться особо не стали.
– А это что-то для тебя решило, когда ты спичкой чиркнул?
– В тот миг ощущалось довольно неплохо. А когда я увидел сообщения в газетах и прочел, что люди из администрации все потрясены и перепуганы, тоже было хорошо. Лучше всего, что сгорела кое-какая их документация, это ощущалось справедливым.
– Нехорошо, что ты так с этим разобрался.
– Они застрелили моего друга.
– Не люди из больницы же его застрелили, сынок.
– Ну, они помогли его убить.
– У меня такое ощущение, что он бы все равно не выжил – при семнадцати пулях-то.
– У вас должны быть такие случаи, сэр, когда какой-нибудь человек ведет себя, ну, как говнюк. Женщина из больницы почему-то разозлила меня больше, чем легавые, которые его застрелили. То есть, почему оно так? Два года уже прошло, а я до сих пор не понимаю.
– Убийство в каком-то смысле воспринимается естественнее. Убийство – это какая-то связь. Связь витиеватая, но все же есть. Знаешь, бывает как, когда ты в детстве борешься с каким-нибудь другом, всегда наступает такой миг, когда думаешь, будто мог бы сломать ему руку или прокусить нос?
– Да, да! Я такое знаю.
– Но то, что произошло в больнице, – это нечто иное. Это не человеческое. Это не первородное. Поэтому мы такого не понимаем. Это более недавняя мутация. То, что есть у нас всех, любовь, ненависть и страсть, и необходимость жрать, орать и трахаться, – все это есть у каждого человека. Но тут возникла эта новая мутация, эта способность стоять между человеком и какой-то мелкой толикой справедливости – и винить во всем какое-нибудь правило. Говорить, что бланк неправильно заполнен.
– Ага, ага, что это такое? Это же гибель всем нам.
– Это новое, сынок, – и жуткая это штука. Я такое в Министерстве по делам ветеранов видел ежедневно. И если ты считаешь, будто в какой-то больнице с этим плохо, господи боже, в Вашингтоне ты б и минуты не продержался. Постой. Слышишь?
– Слышу.
– Мне по-настоящему кажется, что это конец, сынок. Там по крайней мере три вертушки, и они всё ближе. Для тебя это не хорошо.
– Слишком быстро. Они пролетят.
– Думаю, время истекает, парнишка. Теперь слушай. Совершенно незачем вредить кому бы то ни было. Я много об этом думал, и у меня для тебя есть план.
– Это не обязательно.
– Я знаю, что нет. Но послушай. Ты, вероятно, слышал, что вертолеты тут довольно часто летают, верно?
– Обычное дело.
– Возможно. А может, и нет. Слушай-ка. Я тебе, в общем, сочувствую. Думаю, у тебя сумбур в башке, но не считаю, что из-за него тебе следует умирать, так?
– Я не умру. У меня есть план.
– Так давай я тебе дам план получше. У меня правильный план. Ты готов?
– Конечно.
– Ты своей матери доверяешь, так?
–
– Я намерен надеяться, что молчание – знак согласия.
–
– Хорошо. Значит, ты уезжаешь отсюда со своей матерью. Катитесь в любой городок, куда хотите. Там ты свою мать высаживаешь. Может, направляешься в Мексику, в таком случае ты себе даешь семь-восемь часов. Говоришь маме, что через восемь часов пусть звонит в полицию и сообщает им, где мы все. Так ты точно знаешь, что все мы будем в безопасности и, что еще важнее, она тоже в безопасности, а не мается тут еще много-много дней, верно?
–
– Видишь, ты об этом не подумал, судя по всему. Ты, вероятно, спланировал собственное бегство, а не спасение мамы. Томас, ей, вероятно, нужен уход. Сколько ей лет?
– Не знаю. Шестьдесят с чем-то.
– Ладно. Она не привыкла к таким переживаниям, ты меня понимаешь? Поэтому тебе нужно ее отсюда изъять. Ты отвозишь маму в безопасное место, а потом даешь себе достаточно времени, чтобы добраться до границы и перевалить за нее. Дальше поступай как знаешь.
– Щедрее этого мне никто никогда ничего не говорил. А как быть с Сэрой?
– Кто такая Сэра?
– Женщина на пляже.
– На каком пляже?
– Я там на побережье встретил женщину. И, по-моему, уже люблю ее, и тут в деле какая-то судьба. Вокруг меня сияние, вокруг всего, о чем я думаю, и всего, что я делаю, и, кажется, это привело ее ко мне.
– Ладно. Ладно. Теперь послушай. Я не знаю, намерен ли ты влюбиться тут, в Форте-Орд, в пятерых похищенных и прикованных к сваям. Так?
– Шестерых. И я не согласен, конгрессмен. Вот правда. Вы б ее видели.
– Я уверен, она изумительна, сынок, но все, что задержит тебя тут дольше, гарантирует твою смерть, ты меня понимаешь? Она не сможет тебя спасти от спецназа.
– Меня не поймают. У меня есть план.
– Но мой план лучше. Мой план обеспечит всем сохранность. Ты обходишь всех, кого приковал, и говоришь им, что их найдут завтра, потом вы с мамой отсюда убираетесь. Все это закончится, и ты заживешь в Мексике новой жизнью. Это единственный выход. Все остальное подвергает опасности твою жизнь либо ее.
– Конгрессмен, вы такой уважаемый человек. И я планирую лепить всю свою жизнь по образу и подобию вашей, когда отсюда уеду. И еще я намерен рассказать о вас Сэре. Она не вполне поймет, как мы с вами разговаривали, но я потом прикину, как именно ей объяснить наше знакомство.
– Сынок.
– Блин. Мне пора. Именно сейчас она свою собаку выгуливает. Пока мне придется делать вид, будто это совпадение, что я с ней снова встретился, но после сегодняшнего дня уже не будет нужды ни в каком притворстве или враках, или в чем-то таком. Я окутаю ее своим светом и заберу ее с собой.
– Сынок.
– Мне правда очень приятно было с вами познакомиться, сэр.
Строение 48
– Простите меня. Очень вас прошу, Сэра. Жалко, что пришлось вас доставить сюда таким вот образом. Но вы меня сами вынудили.
– Что это все такое?
– Вы как-то не очень соображаете. Не нужно мне было столько на вас тратить.
– Вы тот парень с пляжа? Где я?
– Неподалеку.
– Где моя собака?
– С ним все в порядке. Он у меня по соседству. Я его покормил.
– У меня голова. Так кружится.
– Мне очень, очень жаль. Мне точно было нужно меньше на вас расходовать, учитывая ваши габариты. Теперь-то мне это кажется таким очевидным. Простите меня, пожалуйста. Но опять же, я вообще не хотел этого делать.
– Что это?
– Это кандалы. Они свободные. Не тяните.
– Зачем я здесь?
– Просто поговорить.
– Я не понимаю.
– Так легче. Я не причиню вам вреда. Именно поэтому я и сижу аж тут. Это не потому что я высокомерный или типа того.
– И чего вы от меня хотите?
– Вы помните, когда я взял вас за руку?
– На пляже?
– Да. Помните, что вы сделали?
– Я не хотела, чтоб вы меня брали за руку.
– Правильно. И все стало странным. Теперь я хочу начать заново. Сейчас я сознаю, что там внизу был слишком уж нахрапист. У вас было право сдать назад. У меня получилось чересчур и слишком рано, а теперь кажется, мы можем немного притормозить и все это проговорить.
– Что проговорить?
– У меня к вам есть предложение.
– Это то, о чем вы на пляже говорили? Что-то про лодку?
– Да, но я хочу объяснить как следует.
– Не поеду я с вами ни на какой лодке.
– Дайте мне объяснить.
– Прошу вас. Просто отпустите меня.
– Сэра. Успокойтесь. Я спокоен. Вам тоже нужно поспокойнее. Это вполне нормальная ситуация. Мы беседуем. Я остановил время, поэтому мы можем просто разговаривать. Я не причиню вам вреда. Я вам даже подушку свою отдал и спальный мешок. Можете прилечь, если хотите.
– Не хочу. Я хочу выйти отсюда. Я хочу домой.
– Тогда просто расскажите мне, почему вы не хотели держать меня за руку.
– Держать вас за руку?
– Когда я попробовал взять вашу руку, вы отпрянули, и глаза у вас стали холодные.
– Я вас не знала. Вы какой-то чужой человек на пляже – и вдруг берете меня за руку и смотрите мне в глаза вот так? Что, по-вашему, мне было делать?
– Ну, вот тут и поступает предложение. Если вы мне позволите объяснить. Можно?
– Не знаю.
– Ладно. Спасибо. Перво-наперво хочу сказать, что вы мне очень нравитесь. Я считаю, что вы прекрасны, и во многих смыслах вы – проявление тех свойств, которыми я наделял идеал женщины. Приемлемо ли то, что я так говорю?
– Годится.
– Похоже, вы – человек независимый. У вас есть самообладание. Вы умеете оставаться в одиночестве. Даже когда увидел вас издали, я решил, что вы – кто-то, как я. Что вы способны гулять одна по берегу и выискиваете такого рода уединение. Это соответствует?
– Конечно.
– И когда несколько дней назад мы впервые встретились, когда я увидел ваше лицо и услышал ваш голос, вашу прямоту и чувство юмора, то, как вы улыбались, опуская взгляд, чертили дуги в песке пальцем ноги – из-за всего этого я счел вас такой чарующей, такой кроткой и теплой. И помните, когда вы спросили про шрам у меня возле глаза?
– Да.
– Меня о нем много лет никто не спрашивал. Не помню, когда в последний раз кому-то было дело. И вот тогда-то я и взял вас за руку. И понимаю теперь, что это было чересчур внезапно. Слишком неожиданно было рассказывать вам про мой план и про лодку. Это я осознаю. Но надеюсь, что вы сумеете меня простить за то, что я порывист. Это происходит лишь из ощущения того, что правильно, что должно случиться и хочет начаться.
– И еще раз – мы куда отправляемся?
– Этого я вам пока не могу сказать. Покуда вы не согласитесь. Но я могу вам гарантировать, что вы будете в безопасности, и я правда знаю, что мы будем счастливы. Я верю в исполнение обещаний. А всю эту неделю происходило такое слияние сил, что принесло мне много истин и подобие движения вперед и завершенности. Всё имело смысл и многое сходилось воедино, и я решил, что проявлением всего этого стала встреча с вами. Я подумал – и думаю так до сих пор, – что нас на этом пляже в одно и то же время разместила божественная длань, которая ссудила нам быть вместе.
– Значит, мы уплывем на лодке и никогда не вернемся?
– Я не знаю, вернемся мы или нет.
– А если я не поеду?
– Значит, не поедете.
– Вы не будете мне делать больно.
– Я б никогда не сделал вам больно. Я не повредил никому из остальных.
– Тут есть и остальные такие же? Прикованные?
– Всего шестеро.
– Ох нет.
– Никто не ранен.
– Все живы?
– Конечно, все живы. Я человек нравственный. Сэра, вы должны понять, что это была особая неделя, когда я остановил время и задавал вопросы. Я просто обычный человек, но мне удалось это сделать, и вам придется признать, что, значит, вступила в действие какая-то иная сила, верно? Первым, кого я сюда привез, был астронавт. Это значит – что-то происходит, верно? Не означает ли это, что я неким образом осенен? Что здесь задействовано нечто вроде судьбы?
– Понятия не имею.
– Я бы и сам в такое нипочем не поверил. Уж поверьте мне. Никак. Но на этой неделе случилось слишком много чего, и теперь я должен всему этому подчиниться.
– Чему подчиниться?
– Этому замыслу. Этому порядку событий. Я думаю, мне выпали все эти возможности – в таком порядке, – чтобы я сумел ответить на те вопросы, на какие мне нужно было ответить, уладить то, что требовало улаживания, а потом начать заново.
– Я не понимаю, о чем вы говорите.
– Конечно, это чересчур много. И потом еще будет навалом времени, чтобы все объяснить. Но главное в том, что я думаю – это конец. Время истекает.
– Вертолеты. Я так и знала – что-то не так. Они вас ищут.
– Может быть. Кто-то скоро явится, точно. С учетом конгрессмена это был лишь вопрос времени. А как только стемнеет, я прикидываю – всё. У нас на то, чтобы отсюда выбраться, есть только сегодняшний вечер. У меня имеется способ добраться до воды и крепкая лодка, которая нас доставит в следующее место. А как только там окажемся, мы свободны.
– Но я не хочу куда-то уезжать.
– Я знаю. Знаю, что у вас тут жизнь. И вы меня не очень хорошо знаете. Я вас прошу только об этом маленьком жесте веры. Чтоб вы признали тут присутствие чего-то необычайного.
– Нет тут ничего необычайного. Это унизительно. Это уродливо.
– Я же вам сказал: не хотел я, чтобы оно было так. Я хотел уехать прямо с пляжа и поэтому взял вас за руку. Но так не случилось, поэтому случилось вот так. Это всего лишь средство, просто временная штука. Надеюсь, вы способны посмотреть на все под моим углом зрения. Как еще мне выпадет шанс все это вам рассказать?
– Думаю, вам придется меня бросить здесь.
– Нет. Я не считаю, что так было задумано. По-моему, закончиться все должно так, что мы с вами уезжаем вместе – прочь отсюда. Не понимаю, как это может быть иначе. То есть, так я этого не планировал; я думал, что уеду отсюда один. Но потом тут оказались вы, на берегу, каждый день одна, такой луч света. И я знал, что совпадением это быть не может. Хоть раз в моей жизни появилась логика – и упорядоченная череда событий, одно ведет к другому, и всякий раз, как у меня возникал замысел, он воплощался. Я хотел астронавта – и нашел его. Хотел конгрессмена – и нашел его. А легавый… То есть, это не могла быть случайность. Не могло оно случиться наобум, особенно с учетом того, что в конце всего я отыскал вас. Я же вас даже не искал. Я не знал, что хочу вас, но теперь все это так очевидно – оно вело вот к этому, к нам. Теперь нам надо это лишь завершить.
– Не нам.
– Да, нам.
– Похоже, вы правы, что вам скоро нужно уходить. Иначе вас поймают, а вероятнее – убьют. Но вам придется уходить без меня. Если получится сбежать, напишете мне письмо. Так и сможем начать заново.
– Нет. Я так не хочу.
– Прошу вас.
– Нет. Не знаю, как мне вас убедить, но так должно стать. Это должно стать сейчас. От этого все зависит.
– Или что?
– Или я не знаю.
– Видите, вот теперь вы меня пугаете.
– Я думал, вы поймете.
– Я не понимаю. Я не вписываюсь ни в какой ваш причудливый план.
– Это не мой план. Это план и точка.
– Нет. Нет. Это ваш план. Вы все это сделали. Сами. Это преступное поведение.
– Вы же сами знаете, что это неправда. Преступно то, что я взял вас за руку?
– Вы преступник потому, что похитили меня и поместили сюда, и приковали вот к этому, чем бы оно ни было.
– Я думаю, это упор для орудия. В каждом их этих строений такой есть. Невероятно крепкие.
– Мне плевать!
– Но вы же остановились и заговорили со мной. Вы улыбались определенным образом.
– На том пляже никого нет. На нем никогда никого не бывает. Вы единственный человек на много миль вокруг. И я с вами заговорила. Все, что сверх этого, – плод вашего воображения.
– Но почему я не мог ожидать, что вы заинтересуетесь мною?
– Не знаю. Просто не заинтересовалась. А теперь поглядите на себя. Осмелилась бы предположить, что я проявила неплохой здравый смысл.
– Но почему ж еще мне тут оказываться? Почему вы тут оказались? На секунду во всем этом был смысл. Это край континента, и мы на нем одни.
– Точно. И даже в тот первый день я заметила у вас в глазах что-то острое и отчаянное, и то, что вы сейчас держите меня прикованной в армейской казарме, отвечает на ваш же собственный вопрос, верно?
– Вы никак всего этого не могли знать в первый день.
– Знала ли я, что вы похищаете людей? Нет. Вы правы, такого я и вообразить не могла. Но и тогда очень сильно казалось, что голову вам привинтили на оборот туже, чем следовало.
– Постойте. Вы второй человек, который мне так говорит. Конгрессмен тоже это сказал.
– Какой конгрессмен?
– Тот, что у меня сидит в нескольких зданиях отсюда.
– Не убивайте меня, пожалуйста.
– Не буду. Я пока никому ничем не повредил. Господи, Сэра, я же астронавту не причинил вреда и вам не сделаю больно. Что ей больно, говорит только моя мама, но она вечно чем-то недовольна.
– Просто невероятно, что я здесь.
– Я же говорил, все могло было быть иначе. И еще не слишком поздно.
– Не слишком поздно для чего? Чтобы мы с вами влюбились друг в дружку?
– Не обязательно сразу.
– Ну конечно.
– Вы считаете, что у меня голова слишком туго привинчена. Что это значит?
– Не стоит.
– Пожалуйста. Вам просто надо со мной поговорить. Я уже тут как бы впадаю в отчаяние. Не хочу вам угрожать, но мне пришлось так поступать с другими, а я уже устал от угроз.
– Вы устали от угроз.
– Просто допустите, что я вам пригрозил, и лучше будет, если вы станете отвечать на мои вопросы. Почему вы считаете, что голова у меня привинчена на один оборот туже, чем надо? Что это значит?
– Это значит, что вам в череп вложили способный мозг, а потом закрыли его крышкой и завинтили ее на один оборот туже, чем следовало. От этого бывают скверные последствия. На ум приходят истории об аспирантах, которые суют своих коллег в расщелины, стреляют в профессоров, о таком вот. О людях вроде вас. Умных, но чокнутых. На один оборот туже, чем надо.
– Почему я в этом виноват?
– Почему вы в этом не виноваты?
– Вы понятия не имеете, что они со мной сделали.
– Мне глубоко наплевать, что с вами сделали. Не плевать мне на то, что вы сделали со мной. Что вы сделали со всеми остальными.
– Я никому не навредил. Конгрессмен здесь уже несколько дней, и с ним все прекрасно. У него вообще-то все здорово. Он единственный, кто хоть как-то приблизился к тому, чтобы выполнить данное мне обещание. Я думал, это вы сделаете по-настоящему – поступите как-то по правде и чисто. И, глядя на вас сейчас, я продолжаю считать, что вы б могли. Я столько всего усвоил, что знаю – я мог бы обращаться с вами хорошо. Вы бы жили со мной почтенной жизнью. Я бы всегда был вам верен.
– Что за хуйню вы мелете? Да вы бы, вероятно, держали меня в каком-нибудь подземелье.
– Нет. Нет. Не держал бы. Я б такого делать ни за что не стал.
– А вот это бы стали?
– Нет. В обычных обстоятельствах – нет.
– Значит, такое поведение аномально.
– Сэра. Меня довели до определенного предела, поэтому я выбрал астронавта. Мы немного поговорили, и все получилось хорошо, мне очень помогло. Думаю, ему тоже помогло. И это привело к конгрессмену. А это привело к моей маме и мистеру Хэнсену, и еще к паре других человек, а теперь и к вам. И все эти средства оправданны, потому что я встретил вас.
– Вы сказали, что у вас тут ваша мама?
– Сказал.
– Так вы человек семейный.
– Видите, вы мне так нравитесь. Такой симпатичный человек, да еще и с таким вот чувством юмора, способный оставаться в одиночестве. Должно быть, вы стали красивы гораздо позже своих подростковых лет.
–
– А. Я прав. Я вас знаю. Вы знаете меня. Вы слишком рано пошли в рост. Или волосы у вас были не светлые. У вас были очень широкие плечи, вы привыкали к своему носу. Что-то вроде этого. Вы часто оказывались одна, и вам это нравилось. Вы знаете, что я прав. И вам известно, что я вас знаю. Мы не отличаемся. Еще не поздно передумать. Я правда считаю, что понравлюсь вам.
– Знаете, что? Я думаю, у вас впереди романтический сюжет, где женщины пишут письма заключенным. Мне сдается, вы сядете в тюрьму, и какая-нибудь славная одинокая дама станет вам писать. Такова судьба, которая здесь мне видится более логичной.
– А вы разве не думаете, что это просто как-то внутренне неправильно: мы оказываемся одни на пляже, мы ровесники, не так уж далеки друг от дружки по типу тела и общей привлекательности – и все равно не остаемся в итоге вместе? Мне это просто кажется неверным. Мы в глухомани, на краю континента – и вы все равно от меня отказываетесь.
– Извините.
– Ладно. Мне понятно, как вы на все это смотрите. Каким вы видите меня. Но это всего лишь переходная стадия. Куколка.
– А потом что? Становитесь бабочкой.
– Нет. Возможно. Вы понимаете, о чем я. Прямо сейчас мы в ловушке, мы оба, но можем стать свободны. Погодите. Слышите? Похоже на голоса.
– Вам бы понимать, что вас поймают. Я не хочу, чтоб вы гибли.
– А это что должно значить?
– Что-то во мне считает, что это будет должный и правильный исход всего. Отчего-то мне кажется, что закончиться все это может только так. Но, вероятно, это лишь потому, что я начиталась вестернов.
– Чего ради женщине, которая гуляет по пляжу с лабрадуделем, читать вестерны?
– С одной стороны потому, что мои предки здесь живут с 1812 года. Поэтому, когда я читаю вестерны, у меня ощущение, что там говорится обо мне. Сюжеты рассказывают мне, как жить. И в тех историях людей вроде вас либо вешают, либо пристреливают. Я постепенно начала ощущать некоторый покой и удовлетворение, когда такое происходит. Не знаю, правильно ли это, или правильно ли я отнесусь к тому, что это может случиться с вами. Но я вполне уверена, что так и произойдет.
– У меня есть другой план.
– Ну еще бы. Только сомневаюсь, что он так уж хорош.
– Нет, это очень хороший план.
– Вы планируете покончить с собой.
– Нет. Но я умираю.
– Ничего вы не умираете.
– Умираю, конечно.
– Вы ничего не говорили про умирание. От чего вы умираете?
– Я умираю. Остановимся на этом.
– Ну, тогда простите.
– Ничего.
– Это многое объясняет.
– Теперь вы понимаете.
– Если б жить мне оставалось ограниченное время, я б могла сделать что-нибудь радикальное.
– Мы можем быть вместе, пока я не уйду.
– Нет.
– Я считаю, что это бессердечно.
– Это не бессердечно.
– Особенно учитывая, что и вы умираете.
– Я не умираю.
– Умираете, конечно. Мы все умираем.
– Ох Исусе. Так вы не больны.
– Мы угасаем, разве не видите? В ту же секунду, как достигаем взрослости, начинаем умирать. Нет ничего очевиднее этого. Вы-то можете жить и жить себе, покуда не станете каким-нибудь немощным призраком, но мне тридцать четыре, Дон умер, а моему отцу был сорок один год, когда он покинул этот мир. Это мой последний шанс.
– А если нет?
– Это будет ужас.
– Существовать после тридцати четырех – это ужас.
– Существовать, и точка – вот что заставляет мужчин совершать бессмысленные поступки. Знаете? Я раньше переживал из-за того, что мной может что-нибудь случиться. Что меня убьет во сне какой-нибудь незваный гость. Что меня ограбят, изувечат, призовут в армию, убьют. А потом шли годы, и ничего такого не происходило, а то, что заполнило эту пустоту, было гораздо хуже.
– Я этого не понимаю.
– Вы не знаете, каково быть мужчиной после тридцати, с которым никогда ничего не случалось. Слишком много лет тратишь на то, чтобы пытаться оставаться в безопасности, оставаться в живых, избегать какого-нибудь неведомого ужаса. Потом осознаешь ужас самого существования. Ничего-не-происходность.
– Вам было скучно.
– Не было мне скучно. Я умирал. Я сейчас умираю. А эта неделя оказалась иной. В ней случилось выстраивание, и порядок, и пришествие к чему-то.
– Я не знаю, что вам на это сказать.
– Знаете эту землю, на которой мы сейчас? Двадцать восемь тысяч акров таких вот построек. Все рушится. Тысячу таких зданий оставили гнить на ветру. Ни у кого нет никакого понятия, что делать дальше. Это громадная военная база – и она просто разлагается на краю страны. На все это нет никакого плана. Ни на что нет плана. Я нашел альбом-ежегодник из этого места – должно быть, с конца пятидесятых остался. Рота Д, Третий батальон, Третья бригада. И на обложке альбома – картинка: солдат в стрелковой ячейке наблюдает, как что-то взрывается. Они сразу к сути перешли: Юноши, приидите и взорвите то да сё. Правильное такое ощущение. Я себя как дома почувствовал.
– Так идите в армию.
– Сэра, вы на лошадях ездите?
– Когда?
– Когда угодно.
– Да.
– По пляжу?
– Ездила ли я верхом по пляжу? Да.
– Вам разрешали галопом?
– Кто разрешал галопом?
– Кто придумывает правила. Не знаю.
– Ну да. Я скачу галопом.
– Вы скачете на лошади галопом по пляжу?
– Конечно.
– Хорошо это было?
– Да, это хорошо.
– Оно всегда выглядит хорошо. Это трудно?
– Нужна некоторая подготовка.
– Вы сами научились?
– Брала уроки в детстве.
– И вам тогда разрешали галопом?
– Когда я была маленькой?
– Когда вы были маленькой.
– Да.
– Я садился на лошадей, но мы всегда вынуждены были ходить шагом. Это так бессмысленно. Лошадь такого терпеть не может, и все так медленно, а мы всё ходим кругами, и все потеют. И каждый раз, когда я спрашивал, можно ли поскакать галопом, мне всегда отвечали: нет, нет. Страховая ответственность, ты разобьешься, тыры-пыры. Но нет же смысла ходить шагом, если ты на лошади. От этого никому никакого удовольствия. Смысл лишь в том, чтобы скакать галопом.
– Но на это нужно время. Много подготовки.
– Сколько?
– Пока не разрешат ездить галопом? Сколько-то.
– Видите, никто мне этого не говорил. Если бы мне кто-то объяснил шаги, у меня был бы шанс.
– Не обижайтесь, Томас, но, кажется, вы склонны срезать пути.
– Потому что мне хочется сесть на лошадь и скакать галопом?
– Да. Вы что-то видите, и вам этого хочется. Но вы не желаете проходить все шаги к тому, чтобы туда добраться.
– И кто в этом виноват?
– Догадываюсь, что кто-то другой?
– Никто не рассказал мне о шагах.
– О шагах? Никто не учил вас прилежно трудиться?
– У меня не было образцов для подражания.
– Ох боже мой. Перестаньте.
– Так вы утверждаете, будто все дело в прилежном труде, доведении всего до конца, терпении и прочей херне.
– Наверное, это я и говорю.
– А что от этого хорошего? Знаете астронавта, который тут у меня? Восемнадцать лет работы, подготовки и занятий всевозможной херней, какой полагалось заниматься, – и где он?
– Прикован к свае, могу догадаться.
– Ладно, но в общем и целом – где он? Должен был лететь на «Шаттле», а до сих пор жопу чешет, ждет, может, его пустят полетать на русской ракете на какое-то колесо для хомячков в космосе. Того, ради чего он трудился, больше не существует.
– Но все было б лучше, если б вы поскакали галопом.
– Могло бы.
– И куда б вы поехали?
– Не знаю.
– Томас, мы все получаем то, для чего работаем. Может, есть вариации, но все равно. Я девять лет трудилась, чтобы стать ветеринаром, и хотела работать в Боулдере. Я ветеринар и работаю в Монтерее. Видите, что я говорю? Ваш друг хотел быть астронавтом – и он астронавт. Может, он отправится на другом космическом корабле. Что с того?
– Знай вы что-нибудь про «Шаттл», вы б так не говорили. Есть разница между космическим кораблем многоразового использования, который может приземляться и маневрировать, и дурацкой хуйней этой, стационарным космическим змеем, вроде МКС. Сэра, я просто хочу получить то, что хочу. Не думаю, что мне вообще хоть раз удавалось получить что-либо значительное из желанного мне. Вы и понятия не имеете, до чего это дико – воображать себе всякое, а оно потом ни к чему не приводит. Ни одно виденье никогда не сбывалось, ни одно обещание не выполнялось. Но потом возникли вы – и вы были тем обещанием, что уничтожит все разочарования прошлого. Все в вас на этом настаивало. Ваша масть, ваши волосы, как из каждой части вас исходит свет. Вы были солнцем, что выжжет все протухшие нарушенные обещания мира.
– Не была я этим.
– Теперь я это знаю.
– Вертолеты все громче. Они вас нашли.
– Они нас нашли. Знаете, я по правде не хочу, чтоб меня поймали.
– Томас, оставьте меня жить, пожалуйста.
– Я не намерен делать вам больно. Ух, а они и впрямь все ближе.
– Ладно. Поехали.
– Что? Вы о чем это?
– Я готова. Поехали. Я хочу поехать с вами.
– Нет, не хотите.
– Хочу. Я тут сидела и думала, и даже пока отказывала вам – осознавала, что вы правы. Не могут тут быть одни совпадения. Астронавт, конгрессмен, ваша мама, я. Все это наверняка что-то значит.
– Значит, верно?
– Значит. Если я скажу, что поеду с вами, вы меня отомкнете?
– Конечно. Но мне придется сковать нас между собой.
– И потом что?
– Мы побежим к берегу и к лодке.
– А как же остальные?
– С ними все будет прекрасно.
– А остальные действительно здесь?
– Конечно. Шестеро.
– Вы мне их покажете?
– Нет. Зачем?
– Если я еду с вами, мне нужно удостовериться, что вы никому не навредили.
– Вы не доверяете мне. А времени нет.
– Я вам доверяю.
– У нас нет времени навещать всех. И с моей мамой встречаться вы не захотите. Она все равно не поверит, что мы были вместе.
– Значит, к вашей маме заходить не будем. Просто дайте мне взглянуть на астронавта.
– Нет. Он фуфло. Я с ним уже попрощался – и со всеми остальными. Я дам вам посмотреть на конгрессмена.
– Ладно. Пошли.
– Значит, я вас размыкаю, мы идем и смотрим на конгрессмена, и вы едете со мной?
– Если удастся сбежать.
– Вы о чем это – если удастся сбежать?
– Они так близко. Нам нужно спешить. И вам придется разрешить мне бежать свободной тоже. Если мы будем скованы, получится очень медленно.
– Но тогда мы можем разлучиться.
– Нет, не разлучимся.
– Ой нет. Вы пытаетесь ускользнуть.
– Нет.
– От меня!
– Нет, я просто думаю, что там у нас получится быстрее.
– Не думаю, что вы в меня верите.
– Верю. Конечно же, верю.
– Мне кажется, вы вообще во все это не верите.
– Я верю. Верю. Но нам надо идти. Я хочу уйти вместе.
– О боже.
– Что?
– Вы стараетесь меня обдурить.
– Вовсе нет.
– Все это время я был с вами так прям. Рассказывал вам, что, по моей вере, должно произойти. Говорил вам, чего хочу и что будет лучше нам обоим. Я предложил вам возможность стать частью чего-то, подобного судьбе, а вы просто пытаетесь от этого увильнуть.
– Томас. Я просто думаю, что нам нужно идти.
– Никуда я с вами не пойду. Ох блин, вы только что меня убили.
– Нет. Томас.
– Вы совсем как Кев. Кажетесь этими столпами добродетели и героизма, а в конце вам просто хочется остаться в живых. Вы не хотите участвовать ни в чем необычайном.
– Не вредите мне сейчас.
– Я не собираюсь вам вредить.
– Пообещайте.
– Да ну вас. Я ухожу.
– А я буду в безопасности?
– Ради чего?
– Чтобы жить дальше?
– Я о том и говорю. Этого недостаточно.
Строение 53
– Конгрессмен?
– Они здесь уже повсюду, парнишка. Неужели не видишь? Держись подальше от окон.
– С вами все в порядке?
– В порядке. А вот ты, считай, покойник. Пригибайся и не отходи от меня.
– Это ничего. Я могу тут остаться.
– Хотя бы не высовывайся. Оставайся в живых.
– Знаете, вы мой единственный друг. Мой единственный живой друг.
– А как же астронавт?
– Никакой он не астронавт. Не моего сорта астронавт. А все остальные огоньки погасли. Видите, как там темно? Но мне кажется, вы и я – одно и то же. Вы тот человек, кем я б хотел стать.
– Без двух конечностей.
– Это не важно. Вы единственный, кого я когда-либо знал, кто говорит и думает одно и то же.
– Ладно.
– Вы мне как отец.
– Томас, держи, пожалуйста, голову подальше от окон.
– Извините. Вам известно, что ни один человек никогда не давал мне такого совета, как вы? Не слушал меня так же, как вы?
– Такого не может быть. В твоем-то возрасте? Еще раз – сколько тебе, ты говорил, сынок?
– Тридцать четыре.
– Твою дивизию.
– И еще миллионы таких же, как я. Все, кого я знаю, – такие же, как я.
– Я думал, тебе двадцать пять. Господи помилуй нас.
– Как я говорил вам как-то на днях, если бы существовал какой-то план для людей вроде меня, думаю, мы бы смогли принести много пользы.
– Ты опять о своем канале, сынок?
– Канал, космический корабль. Лунная колония. Может, хотя бы мост. Не знаю. Но просто топтаться, сидеть, есть за столами… Это без толку. Нам нужно что-то еще.
– Что ты хочешь построить? Мир уже выстроен.
– То есть я, значит, топчусь по уже выстроенному миру? Чепуха какая.
– Ты в этой чепухе живешь.
– Но это же идеальный выворот того, почему я существую. Я тот парень, кого вы посылаете взрывать динамитом горы, чтобы расчистить путь для железной дороги. Я тот, кто скачет галопом через весь Запад с грузом динамита, чтоб взорвать ебаную гору.
– Расчистить путь.
– Для железной дороги. Ну да. Я должен был стать таким парнем.
– Уже слишком поздно. На двести лет опоздал.
– Я опоздал на двести лет к жизни, которую должен был жить.
– Слышу тебя, сынок. Правда слышу.
– Слышите ли? А кто-нибудь еще?
– Не знаю.
– Они не понимают одного – того, что нам нужно нечто грандиозное, такое, частью чего можно стать.
– И этим для тебя был «Шаттл»?
– Не знаю. Может, «Шаттл» был каким-то дурацким, блядь, космическим планером. Но теперь нет его, и Дона нет, а Кев прикован к свае. Нахуй. И знаете, что на самом деле жалкого в том, что Дона расстреляли двенадцать легавых у него на заднем дворе? Это ничего ни для кого не значило. Он не был мучеником, он ни за какие идеалы не умер. А хуже, чем заткнуть рот мученику, мученику настоящему, такому, у кого опасные мысли, – это заткнуть рот тому, кому вообще нечего сказать. Дон не противостоял ничему, кроме самого себя.
– Мне очень жаль все это слышать, Томас.
– Но такое и дальше будет происходить. Вы же понимаете, правда? Если у вас не возникнет ничего грандиозного, частью чего можно таким, как мы, стать, мы разломаем на куски все, что помельче. Квартал за кварталом. Здание за зданием. Семью за семьей. Неужели вы этого не видите?
– Наверное, вижу.
– Кто говорит, что мы не хотим вдохновляться? Мы, блядь, еще как хотим вдохновляться! Что, нахер, в нас не так, если мы хотим вдохновляться? Все ведут себя так, будто это какой-то бзик, какое-то неслыханное неисполнимое требование. Разве не заслуживаем мы грандиозных человеческих проектов, какие придают нам смысл?
– Томас, под дверью свет показался. Думаю, они уже здесь.
– Конечно, здесь. Можете им сказать, что вы тут. Со мной всё.
– Ты хочешь, чтоб я их позвал?
– Валяйте.
– Мы здесь! Все в безопасности.
– Господи, как же это ужасно, а? Хуже таких слов нет ничего на свете – быть здесь и в безопасности. Скажите еще раз. По-моему, они вас не услышали.
– Мы здесь и в безопасности.
– Иисусе. Печальнее я ничего не слышал.
Благодарности
Спасибо, Вендела. Спасибо, Тоф и Билл. Спасибо, Виды и Нойманны. Спасибо, Клара Сэнки, Эндрю Лиланд, Дэниэл Гамбинер, Джордан Бэсс, Санра Томпсон, Сэм Райли, Лора Хауард, Энди Уиннетте, Кейси Джармен, Джордан Карнз, Брайан Крисчен, Гэбриэлль Ганц, Дэн Маккинли и Иэн Делэйни. Спасибо, Эндрю Уайли и Льюк Ингрэм. Спасибо, Дженни Джексон и все в «Нопфе» и «Винтэдже». Спасибо, Питер Орнер, Том Ладди, Дж. Д., Питер Ферри, Инид Бакстер Райс и Уолтер Райс, а также Эм-Джей Стейплз.