Тайна семи звезд бесплатное чтение
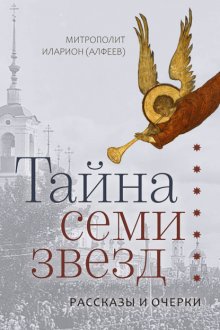
…Ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему.
Откровение Иоанна Богослова
Предисловие
В этой книге собраны повествования о людях, живших в разное время и в разных обстоятельствах Читатель приглашается в путешествие по странам и эпохам, но главное – получает возможность заглянуть во внутренний мир этих столь необычных и столь не похожих друг на друга людей.
В книгу вошло восемь рассказов и два очерка Под рассказом в данном случае понимается произведение, основанное на реальных событиях, но содержащее отдельные элементы художественного вымысла Под очерком – повествование, имеющее строго документальный характер.
Использованные автором источники указаны в комментариях в конце книги.
В основе рассказа «Последний день приговоренного к смерти» лежит история священника Константина Любомудрова, расстрелянного в 1937 году Материалом послужили скудные документальные сведения, сохранившиеся об этом новомученике Русской Церкви, в том числе протоколы его допросов.
В двух последующих повествованиях воспроизведены эпизоды из жизни преподобного Гавриила (Ургебадзе) Рассказ «Тайна семи звезд» посвящен его детству, когда он двенадцатилетним мальчиком ушел из дома и скитался по монастырям Грузии Действие рассказа «Портрет» начинается в 1965 году в Тбилиси, где во время первомайской демонстрации он сжег гигантский портрет Ленина.
Сюжет рассказа «Четвертая Пасха» основан на реальной истории алтарника одного из московских храмов Однако действие перенесено в другую эпоху, обстоятельства жизни главного героя изменены Любые совпадения персонажей рассказа с реальными лицами являются случайными.
Действие рассказа «Иконник» происходит в середине 1980-х годов, когда в Псково-Печерском монастыре трудился один из замечательных современных иконописцев Имена героев изменены во избежание совпадений с реальными лицами.
Рассказ «Инок» посвящен одному из выдающихся представителей русского зарубежья – архимандриту Киприану (Керну) Действие разворачивается в 1942 году в оккупированном немцами Париже, где продолжает функционировать созданный русскими эмигрантами Свято-Сергиевский православный богословский институт.
Рассказ «Царь» посвящен необычной судьбе болгарского монарха Симеона II, который, лишившись трона в 1946 году, пятьдесят пять лет спустя занял в своей стране кресло премьер-министра В этом качестве он внес решающий вклад в преодоление раскола в Болгарской Церкви.
Очерк «Крест и топор» посвящен судьбе священника Тихона Шаламова – отца известного писателя, автора «Колымских рассказов» Мы попадаем сначала в дореволюционную Россию, потом на Аляску, затем оказываемся в России трех революций и, наконец, в советской России, где набирает обороты маховик гонений на Церковь.
Очерк «Афонская смута» повествует о событиях, развернувшихся в 1913 году на Афоне Эти события, хотя и происходили в монастырях, по драматизму и накалу страстей напоминают детектив или приключенческий роман В результате напряженных споров, сопровождавшихся драками и потасовками, бунтом и осадой, около тысячи русских монахов были изгнаны со Святой Горы при помощи водометных пушек за сочувствие учению, объявленному ересью.
Книга завершается рассказом «На пороге бессмертия» В его основе – свидетельства современников о последних днях земной жизни Достоевского Кончина великого писателя была подлинно христианской, непостыдной, мирной, но ей предшествовала жизнь, наполненная тяжелыми испытаниями.
Последний день приговоренного к смерти
Священномученик Константин Любомудров в Таганской тюрьме, 1937 г.
Сколько ему оставалось жить?
Несколько дней?
Несколько часов?
Он потерял счет времени, сидя в одиночной камере.
Последние трое суток были особенно мучительными.
Днем – неотлучное пребывание в камере без дневного света, на хлебе и безвкусной баланде Откидная койка рано утром приковывалась цепью к стене до позднего вечера, и прилечь можно было только на бетонный пол.
Ночью – многочасовые допросы, угрозы, удары резиновой дубинкой по спине Следователи пытались добиться от него «чистосердечного признания» в преступлениях, которых он не совершал, заставить выдать сообщников, которых не было.
Допросы начинались вскоре после отбоя, когда только и можно было лечь и успеть сомкнуть глаза. А заканчивались за час или два до того, как оглушительно лязгнет дверной замок и с криком «Подъем!» войдет охранник Если заключенный не успел соскочить с койки, его сбрасывали на пол.
Но сегодня с утра тишина Не лязгает замок, не входит охранник И заключенному вдруг становится ясно, что приговор ему уже вынесен.
На душе у него полное спокойствие Казалось бы, мысль о расстреле должна приводить в смятение. Но она скорее даже радует Раньше, пока он находился на свободе, пугала постоянная опасность ареста В лагере и ссылке страшила неизвестность. А сейчас все позади Остается только дождаться последней минуты.
Несколько месяцев назад, когда он скрывался на квартире знакомых в Можайске, ему принесли только что вышедшую из печати книгу: «Процесс антисоветского троцкистского центра» Известные в прошлом большевики – всего семнадцать человек – были судимы Военной коллегией Верховного суда Союза ССР «по обвинению в измене родине, шпионаже, диверсиях, вредительстве и подготовке террористических актов» Книга содержала протокол судебного процесса, включая последние слова подсудимых.
Все они признали свою вину, хотя в показаниях часто путались и друг другу противоречили Особенно поразительны были их последние слова:
– Я слишком остро сознаю свои преступления, – говорил один, – и я не смею просить у вас снисхождения Я не решаюсь просить у вас даже пощады.
– Мы будем отвечать по всей строгости советского закона, считая, что ваш приговор, какой он будет, справедлив, – заявлял другой.
– Я воспользовался последним словом подсудимого не для защиты, – говорил третий. – Я хочу здесь сказать, что целиком и полностью признаю справедливость того, что вчера говорил гражданин прокурор о моих тягчайших преступлениях против ро дины, против страны советов, против партии.
– Я стал отверженным, проклятым сыном трудящихся масс Суд вынесет мне приговор Как бы суров он ни был, я его приму как должное и заслуженное, – обещал еще один из осужденных.
Некоторые приводили смягчающие обстоятельства, просили сохранить им жизнь. Но каждый сознавался в преступлении и заранее заявлял о своем согласии с приговором Один даже умолял, чтобы его расстреляли:
– Пощады не прошу Снисхождения мне не надо Пролетарский суд не должен и не может щадить мою жизнь Теперь я хочу одного: встать на место казни и своею кровью смыть пятно изменника родины.
Тринадцать суд приговорил к расстрелу, четверых – к различным тюремным срокам.
Тогда, еще на свободе, он читал эту книгу, чтобы понять, как ему вести себя на суде в случае ареста Его пугала опасность применения «мер физического воздействия» Он понимал, что таких признаний и такого безоговорочного заведомого согласия с решением суда можно добиться только при помощи пыток.
Думая о предстоящем процессе, он воображал, что процесс будет публичным Ему представлялось, что на суде он будет не единственным обвиняемым, что допрос будут вести прокурор и защитник поочередно, как это было на процессе троцкистов Он пытался представить себе, кого еще из духовенства встретит на скамье подсудимых Продумывал, какие аргументы выдвинет в свою защиту.
Но ничего этого не было Все происходило в небольшой комнате в здании тюрьмы Допрашивали его поочередно два человека, без публики и без свидетелей Один – пожилой, в очках, лысеющий, вежливый в обращении, с вкрадчивым голосом Другой – лет тридцати, одутловатый, с запахом крепкого мужского пота, не стеснявшийся в выражениях Именно он орудовал резиновой дубинкой, пытаясь выколотить из обвиняемого признательные показания.
Но священник ни в чем не сознавался, даже под ударами:
– На какие средства вы жили с тридцать пятого года по день ареста? – спрашивал молодой следователь.
– Я жил на свои оставшиеся сбережения, помощь дочери и подаяния верующих.
– Следствие располагает материалом, что вы занимались попрошайничеством Дайте показания.
– Попрошайничеством я не занимался.
– Расскажите о вашей антисоветской деятельности среди верующих.
– Антисоветской деятельностью я не занимался К советской власти я настроен лояльно.
– Вы систематически говорили о том, что советская власть ведет гонения на религию и духовенство, высылает без вины духовенство и запрещает верующим молиться Следствие располагает таким материалом.
– Я отрицаю это.
– Назовите круг ваших знакомых.
– Знакомых у меня нет никого.
– Ни в Москве, ни в Можайске?
– Нигде.
Ему давали ознакомиться с показаниями свидетелей Один из них, тоже священник, сообщал: «Он на квартирах своих многочисленных почитателей совершал тайно церковные богослужения и различные церковные требы Любомудрова часто можно было видеть в церкви, где он вокруг себя собирал верующих старушек Их он обрабатывал в антисоветском духе, рассказывал, как он жил в ссылке, и о якобы тяжелом положении осужденных Он говорил, что осужденные влачат голодное существование, их заставляют выполнять непосильные работы, в результате чего заключенные умирают Он призывал верующих не забывать арестованных и оказывать им материальную помощь Кроме того, Любомудров распространял контрреволюционные провокационные слухи о якобы имеющемся гонении на религию и духовенство».
– Таким образом, – говорил следователь, – ваша контрреволюционная деятельность подтверждена свидетелями.
– Никакой контрреволюционной деятельностью я не занимался, – отвечал Любомудров.
– У нас есть другие свидетельства Вот я вам прочитаю: «Наиболее откровенно свои антисоветские мысли Любомудров высказывал в кругу служителей культа и прихожан на обедах и ужинах, которые устраивались им после каждой службы Произносил тосты за “скорейшую кончину советской власти” и за упокой бывших русских царей В 1925 году я как протодьякон спросил его: “Неужели вы не боитесь власти, что так антисоветски высказываетесь?” На это Любомудров мне ответил: “Они хитры, а я еще хитрее” Он имел в виду советскую власть В конце прошлого года, когда он вернулся из ссылки, я встретил его в церкви Знамения, где я служу протодьяконом Он туда приходил и жаловался, что ему как популярному среди верующих протоиерею дали бы хорошее место, но Лубянка в это дело вмешивается и не дает ему никакого хода» Лубянка, видите ли, мешает вашей карьере.
– Ничего подобного я не говорил Разговоров антисоветских не вел.
– Вот, слушайте еще: «После публикации новой Конституции СССР Любомудров сначала говорил, что советская власть испугалась заграницы и дала народу больше свободы, в том числе и нам, духовенству При этом Любомудров толковал даже о том, что собирается организовать тысяч пять верующих, которые будут голосовать за его кандидатуру в Верховный Совет СССР Последний раз, когда я его видел (месяца два тому назад), Любомудров уже толковал о Конституции наоборот: “Это только втерли очки загранице, никакой свободы и прав нам не дали” Предлагал даже вовсе не участвовать в выборах или голосовать за более близкую нам фигуру, как Бухарин»
Любомудров слушал Он хорошо знал протодьякона, чьим именем был подписан донос, и не представлял себе, чтобы тот мог написать такое Либо у него брали показания под пытками, либо следователь сам сочинил это, а протодьякону дал подписать.
– Я отрицаю все это, – сказал он. – Ничего подобного не было, я этого не говорил.
– Еще пишут, что вы хранили и распространяли религиозную литературу А религиозная литература по своему содержанию является заведомо антисоветской и контрреволюционной.
– Ничего, кроме Священного Писания, я у себя не хранил Антисоветскую литературу не распространял.
– Вы знаете, что́ вам грозит за контрреволюционную деятельность? – следователь повысил голос. – Я напомню вам статью 58 Уголовного кодекса РСФСР, пункт десятый: «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания, влекут за собой – лишение свободы на срок не ниже шести месяцев Те же действия с использованием религиозных или национальных предрассудков масс влекут за собой…»
Он достал папиросу и закурил.
Священник молчал.
– «…меры социальной защиты, указанные в статье 58, пункт второй, настоящего Кодекса», – продолжил следователь. – Вы понимаете, о каких мерах идет речь?
– Нет.
– «Расстрел с допущением, при смягчающих обстоятельствах, понижения до лишения свободы на срок не ниже трех лет». Слышали? Расстрел. Вы в своей контрреволюционной пропаганде использовали религиозные предрассудки масс, поэтому вам грозит высшая мера социальной защиты.
Следователь сделал несколько затяжек.
Священник продолжал молчать.
Следователь поднял глаза:
– Всего этого вы можете избежать, если чистосердечно признаетесь в антисоветской деятельности, раскаетесь в ней и раскроете имена сообщников.
Но священник все отрицал и никакие имена не называл. Он с самого начала избрал для себя такую линию защиты. Помогло чтение «Процесса антисоветского троцкистского центра». Сколько себя ни оговаривай, все равно расстреляют. Да и не дело священнослужителю оговаривать себя, выдавать других.
Убедившись, что священник не готов ни в чем признаваться, следователь неожиданно изменил тактику допроса. Он отложил в сторону бумаги и спросил доверительным тоном:
– Вы заметили, что у нас к вам особое отношение?
– Нет.
– А жаль. Могли бы сидеть с уголовниками и рецидивистами. А мы вам отдельную камеру выделили. И это при том, что тюрьма переполнена.
Очевидно, ожидалось, что допрашиваемый поблагодарит за заботу. Но он молчал. Ждал, что будет дальше.
А дальше следователь предложил Любомудрову снять с себя сан и отречься от веры в обмен на освобождение и трудоустройство на льготных условиях:
– Уже несколько бывших попов осознали пагубность религиозных предрассудков и их несовместимость с социалистическим строем. Стали честными советскими гражданами и трудятся на производстве. Никто не ставит им в вину прежнюю контрреволюционную деятельность.
– Я контрреволюционной деятельностью не занимался. А от священного сана и от православной веры не отрекусь, – отвечал Любомудров.
До вчерашнего дня ему все еще казалось, что допросы без свидетелей носят подготовительный характер, а основной допрос состоится в зале суда. Но вчера следователь – тот, что постарше – зачитал ему обвинительное заключение:
– …Возвратившись из ссылки, возобновил свою контрреволюционную деятельность, вокруг себя группировал реакционно настроенную часть верующих, среди которых распространял различные контрреволюционные, провокационные слухи. Проводил денежные сборы для оказания материальной помощи высланным за контрреволюционную деятельность. На квартирах своих единомышленников совершал тайные богослужения, вел антисоветскую пропаганду. На основании изложенного подсудимый Любомудров.
Константин Павлович обвиняется по статье 58 Уголовного кодекса РСФСР, пункт 10.
Это была та самая «расстрельная» статья, о которой молодой следователь сообщил накануне.
Священник понял, что ждать больше нечего. И хотя формально это было обвинительное заключение, он понимал, что на самом деле это приговор.
Именно поэтому он может сегодня лежать на койке дольше обычного.
Часов в камере не было, дневной свет в нее не проникал, а электрическая лампочка горела непрерывно. Определить время суток можно только по редким посещениям камеры охранником. Но сейчас никто не приходит. По ощущению уже намного позже шести утра.
Он встал, умылся из стоявшей на столе кружки с водой, сделал несколько глотков. Прочитал по памяти утренние молитвы. Потом снова лег на койку. Спина все еще ныла от побоев, а голова болела от спертого воздуха тюремной камеры и от запаха из канализационного люка.
Ему вспомнилось огромное пшеничное поле, по которому он, совсем еще ребенок, шел рядом с отцом. Золотые колосья были выше его роста, и ему приходилось раздвигать их руками. А над головой – голубое небо с белыми облаками и яркое солнце, такое же золотое, как пшеничные колосья.
Вот они оба подходят к родной деревне. Там было тридцать дворов и церковь в честь святого Георгия Победоносца, где отец служил псаломщиком. На большие праздники все население сходилось в храм, а на летнего Георгия съезжались и из окрестных деревень. Если же случалось совершать службы по будням, народу было мало, а иной раз вообще никого. Тогда в храме находились только старенький батюшка, псаломщик на клиросе и маленький Костя – то рядом с отцом, то в алтаре возле батюшки.
Он любил церковную службу. Мечтал стать псаломщиком, как папа. С любопытством рассматривал славянские книги. Когда стал постарше, научился по ним читать.
В семье с четырьмя детьми Костя был младшим. Жили возле церкви, в зеленом деревянном доме с белыми наличниками и геранью на окнах. Все дети спали в одной комнате возле большой русской печи, а один мог спать прямо на ней. Нередко верхнее место отдавали младшему. Спалось на печи особенно сладко. Все тело прогревалось за ночь, и вставать утром не хотелось.
Вспомнилось венчание в храме родного села. Ему двадцать два года. Он уже окончил семинарию, сменил отца в должности псаломщика и преподает в школе. Ей девятнадцать, она внучка священника, выпускница епархиального училища. Они знали друг друга с детства.
Все венчание она проплакала. Он потом спрашивал ее, почему.
– Костенька, недолго нам вместе быть, – отвечала она, и слезы катились по ее бледным щекам.
Все-таки Бог дал им прожить вместе почти шесть лет. Умерла она при родах, оставив на его руках младенца – хрупкую недоношенную девочку. К тому времени он уже служил священником. Ему пришлось стать для Сони и отцом, и матерью.
Как и почему он стал священником? Он с детства любил храм, но его мысли не простирались дальше должности псаломщика. Так издревле повелось на Руси: не только духовенство было сословным, но и степени внутри духовного сословия переходили по наследству. Сын священника, как правило, становился священником, сын дьякона – дьяконом, а сын псаломщика – псаломщиком.
Конечно, из правила были исключения, но Константин Любомудров предполагал, что пойдет по проторенной стезе. Поэтому, окончив семинарию, остался псаломщиком в родном селе и законоучителем в начальной школе. Работа ему нравилась, с детьми он ладил.
Все изменилось с появлением нового архиерея. О его назначении сначала узнали из «Епархиальных ведомостей»: до приезда в Ярославль девять лет служил в Америке, потом на Холмщине. Каким он будет? Что изменится в епархии? Нового архиерея одни ждали со страхом, другие с надеждой.
Встречать его собралось все епархиальное духовенство, преподаватели и студенты семинарии и духовных училищ, местные чиновники, простой народ. Несколько тысяч человек, собравшихся на привокзальной площади, с напряжением смотрели на прибывающий поезд. Константин оказался в первых рядах встречающих.
Поезд остановился, машинист отворил дверь вагона. В дверном проеме появилась высокая статная фигура Преосвященного с панагией на груди и посохом в руках. На вид ему было около пятидесяти. С окладистой бородой, длинными волосами, приветливой улыбкой, он благословил народ обеими руками. Все опустились на колени, мужчины обнажили головы. Затем в сопровождении городских властей архиепископ Тихон прошел в здание вокзала. Толпа еще долго не расходилась.
При новом архиерее жизнь в епархии оживилась. Каждое утро он принимал народ, и попасть к нему мог всякий желающий. По приезде он захотел познакомиться с духовенством и епархиальными работниками. Спустя месяца полтора очередь дошла до Константина.
Он приехал в духовную консисторию задолго до назначенного часа. В приемной на столике лежал свежий номер «Епархиальных ведомостей», где он прочитал: «Его Высокопреосвященство просит: анонимных доносов ему не присылать, ибо таковым не только не будет придаваться значение, но они не будут и читаться им; при представлениях не делать ему земных поклонов». Войдя в кабинет после полутора часов ожидания, Константин не стал делать земной поклон архиерею, а поклонился в пояс.
Преосвященный встретил его дружелюбно, даже ласково. Благословил, предложил сесть. Начал расспрашивать о детстве, об учебе, о преподавании в школе. Во время беседы внимательно листал его личное дело.
– Вы вдовец?
– Да.
– Ребенка один воспитываете?
– Да.
– О втором браке не думаете?
– Нет.
– Какие у вас планы на будущее?
– Я хотел бы продолжать служить псаломщиком и учить детей.
Архиерей помолчал, потом сказал твердо:
– А я бы хотел, чтобы вы стали священником.
Константин совсем не ждал такого поворота событий.
– Ну как? – спросил Владыка после минутной паузы. – «Благодарю, приемлю и ничтоже вопреки глаголю»[1]?
Ошеломленный, Константин не сразу ответил.
– Время сейчас трудное, жатвы много, а делателей мало, – продолжил архиерей. – Мне нужны священники, преданные Церкви и способные к просветительской работе. А вы, я вижу, Церковь любите, и отзывы о вас положительные. Итак, каков ваш ответ?
– Как благословите, Владыка, – промолвил Константин.
Вскоре был назначен день его рукоположения в сан дьякона. Оно состоялось в Рождественском монастыре Ростова Великого. Константин приехал накануне, чтобы пройти исповедь у епархиального духовника и произнести присягу. Архиерей тоже приехал заранее.
Служил Владыка Тихон торжественно, но очень просто, без манерности или театральности. Возгласы произносил громко и внятно, молитвы читал вслух – даже те, которые принято было читать про себя.
Более всего запомнилось Константину первое прохождение через царские врата. Столько лет он входил в алтарь боковыми дверьми, а теперь его ввели, как царя, через центральные двери. Впервые он прикоснулся устами к престолу. Словно в полусне трижды обошел его, потом встал перед ним на одно колено, положив руки крестообразно на угол престола, а голову на руки. И когда архиерей возложил обе руки на его голову, почувствовал исходящее от них тепло.
Как громом поразили его слова архиерея, которые тот произнес полушепотом, склонившись к нему:
– Молись, чтобы Господь дал тебе силу быть достойным служителем Его и быть верным Ему даже до смерти.
После этого архиерей произнес нараспев:
– Боже́ственная благода́ть, всегда немощна́я врачу́ющи и оскудева́ющая восполня́ющи, проручеству́ет Константина, благогове́йнейшаго иподиа́кона во диа́кона. Помо́лимся у́бо о нем, да прии́дет на него благода́ть Всесвята́го Ду́ха[2].
Под тихое пение хора архиерей вполголоса читал молитвы, а рукополагаемый продолжал стоять на одном колене возле престола. Он дрожал всем телом. Ничего подобного он до того не испытывал. Престол казался раскаленным, как натопленная русская печь. Пот лился градом.
Для прохождения дьяконской практики его оставили в том же монастыре. Служить ему нравилось, и он надеялся остаться дьяконом на несколько лет. Даже попросил игуменью поговорить с архиереем, чтобы тот отложил священническое рукоположение. Просьба была передана Преосвященному и отклонена.
Спустя два месяца Владыка Тихон рукоположил дьякона Константина в сан священника. Спасо-Преображенский Севастьяновский женский монастырь, где состоялась хиротония, расположен на северо-западе Пошехонского уезда. Добраться в такую глухомань по бездорожью было непросто. Архиерей приехал на подводе. Встретили его у порога хлебом-солью. Под стройное пение монахинь он проследовал в храм.
Почему-то это рукоположение отцу Константину меньше запомнилось. Встав на оба колена перед престолом, он уже не дрожал, как в прошлый раз, и пот не лился с него. Но та же теплота исходила от рук Преосвященного, когда он произносил молитвы о даровании рукополагаемому непорочного священства.
Зато на всю жизнь запомнил он слова Владыки, обращенные к нему в конце службы:
– Теперь ты уже не Константин Павлович, а отец Константин. И уже не жизнь предлежит тебе, а житие, не работа, а служение. Ты уже не расслабленный, лежащий у купели в ожидании исцеления, а апостол и друг Христов, дерзновенно проповедующий Евангелие народу Божию. Тебе предстоят многие испытания, но сила благодати Божией будет помогать тебе переносить их. Служение священническое превосходит человеческие силы, а испытания, посылаемые священнику, иной раз тоже бывают выше сил. Но ты ничего и никого не бойся, кроме Самого Бога.
Знал ли он тогда, слушая это поучение, какие испытания ждут его? И согласился бы на служение, если бы знал? Да, согласился бы. Никогда впоследствии, ни на одну минуту он не раскаялся, что стал священником. И сейчас, в ожидании смертного приговора, не жалел, что прожил такую жизнь, а не иную.
Лязг дверной щеколды отвлек его от воспоминаний. Охранник отворил маленькое окно, просунул в камеру миску с баландой.
– Который час? – спросил заключенный.
– Половина второго, – ответил охранник.
Когда окно с грохотом захлопнулось, узник, прочитав молитву и перекрестившись, принялся за еду.
Баланда представляла собой кипяченую воду, в которой плавала гречневая крупа. Отец Константин медленно черпал ложкой из миски. К чувству голода он привык: оно сопровождало его на протяжении всех последних лет, и миска тюремной баланды могла притупить его лишь ненадолго. Но если есть баланду медленно, то иллюзия насыщения будет длиться потом несколько дольше.
Ему вспомнился случай из времени обучения в семинарии. Студенты решили выразить протест по поводу недостаточно сытного, как им казалось, обеда. Жаловаться они ходили к семинарскому начальству, а потом и к епархиальному архиерею. Константин отказался примкнуть к протестующим. А сейчас даже улыбнулся, вспомнив обед, вызвавший возмущение семинаристов: пирог с капустой и яйцом, щи с говядиной, жаркое из баранины, порция белого хлеба с маслом, чай с сахаром.
Именно в семинарии он впервые услышал слово «революция». Некоторые его однокурсники держали под подушкой «Капитал» Маркса. Говорили, что надо свергнуть царя, а власть в стране отдать народу.
Он не понимал – ни тогда, ни теперь, – как можно «отдать власть народу». Ему это казалось обманом. Он с детства запомнил слова из апостольского послания: «Бога бойтесь, царя чтите». Чтить царя было для него так же естественно, как бояться Бога.
Царя он видел один раз в жизни – в год празднования трехсотлетия Дома Романовых. В солнечный майский день, когда Царская семья посещала Ярославль, жители города от мала до велика высыпали на улицы. Всем хотелось посмотреть на «хозяина земли Русской». Отец Константин к тому времени был настоятелем сельского храма Ростовского уезда. В Успенском соборе Ярославля он ожидал Государя вместе с другими священнослужителями епархии, которых выстроили рядами.
Государь вошел, сопровождаемый членами Царской семьи и немногочисленной свитой. Одетый в парадный китель с аксельбантом, с фуражкой в левой руке, он трижды широко и быстро перекрестился. Прошел к амвону и приложился к лежавшим на аналоях иконам Спасителя и Божией Матери. Отца Константина удивил здоровый загар на лице Государя. Императрица, напротив, была бледна, Великие княжны тоже. А наследник-цесаревич, которого держал на руках здоровенный детина в казачьей форме, выглядел совсем слабым и болезненным.
Произнося приветственную речь, архиепископ заметно волновался. Но голос его звучал бодро и торжественно:
– Благочестивый Государь! Не смолкли еще радостные пасхальные песни, и «празднует вся тварь восстание Христово». А у нас пришел день светлого торжества, и град Ярославль радуется и ликует. Се, грядет в него царь праведный, кроткий и спасающий.
Архиепископ напомнил, что триста лет назад именно в Ярославле было сформировано ополчение во главе с Мининым и Пожарским. Сюда же после избрания на царство прибыл Михаил Федорович – первый Государь из династии Романовых. Отсюда были отправлены его первые указы. Здесь в тиши монастырских келий юный царь размышлял о том, как сделать русский народ счастливым. И сегодня город приветствует Государя вместе с августейшей семьей, молясь о его благоденствии.
Люди смотрели на царя с восторгом и благоговением. Кто мог тогда подумать, что благочестивейшему и самодержавнейшему Государю Николаю Александровичу осталось царствовать меньше четырех лет? Кто мог представить, что уже через год начнется затяжная кровопролитная война, которая приведет к революции? Кто мог предположить, что вся Царская семья, включая тринадцатилетнего цесаревича, будет расстреляна? Кто мог предвидеть гонения, которые обрушатся на Церковь сразу после прихода к власти большевиков?
Революционные события застали отца Константина в должности эконома Московской духовной академии, располагавшейся в стенах Троице-Сергиевой лавры. Он должен был обеспечивать академию письменными принадлежностями, продовольствием, медикаментами и дровами, следить за ремонтом зданий.
Вскоре после февральской революции в жизни Церкви начались перемены. В мае семнадцатого было принято решение о том, что епископы должны избираться, а не назначаться. Во многих епархиях прошли собрания духовенства и мирян. Архиереев, некогда назначенных Святейшим Синодом, заменили новыми. На Московскую кафедру пришел архиепископ Тихон, которого отец Константин помнил по Ярославлю.
Академия тоже не осталась в стороне от изменений. На смену ученому архиепископу Феодору пришел мирянин Александр Павлович Орлов, избранный профессорами. Устав академии предписывал, чтобы ректор имел священнический сан, поэтому Орлов был рукоположен сначала в дьякона, затем во священника. И сразу возведен в сан протоиерея. Это был человек покладистый, с ровным характером.
А между тем на фоне революционной разрухи выживать становилось все труднее. Финансирование академии стало сокращаться сразу после февральской революции. А после октябрьской деньги на содержание преподавателей и студентов вообще перестали поступать.
Как только новая большевистская власть приняла декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви», у академии начали одно за другим отбирать помещения. К осени восемнадцатого в распоряжении студентов осталось лишь четыре учебных аудитории. Остальные были заняты Военной электротехнической академией. Отцу Константину некоторое время приходилось исполнять должность эконома обеих академий – духовной и электротехнической.
Долго так продолжаться не могло, и уже в Великом посту девятнадцатого года занятия для студентов духовной академии перенесли в Москву. Отец Константин был назначен священником церкви Преображения Господня на Большой Ордынке, более известной как храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
Отец Константин навсегда запомнил свой первый день в этом храме. Он вошел в него во время богослужения. Весь левый придел был заполнен людьми. Старенький священник читал акафист перед чудотворной иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Когда запели «Цари́це моя́ Преблага́я, Наде́ждо моя́, Богоро́дице», народ встал на колени. А на словах «ве́си мою́ беду́ зри́иши мою́ ско́рбь»[3] все начали креститься.
Время было трудное, многие голодали, продукты отпускали в магазинах по карточкам. Зимой не хватало дров. Нередко в храме стоял такой холод, что зуб на зуб не попадал. При причащении чаша примерзала к губам, а вода, налитая в кружку, превращалась в кусок льда. Священническое облачение приходилось надевать поверх пальто, но это мало помогало: за два часа Литургии тело промерзало до костей. Потом отогревались горячим чаем в приходском доме.
Жил он вместе с дочерью при храме до тех пор, пока церковный дом не отобрали. После этого приходилось постоянно переезжать: своего угла в Москве не было. За двенадцать лет он сменил место ночлега не менее тридцати раз. Жил и в кельях закрывающихся монастырей, и на квартирах прихожан, и на чужих подмосковных дачах, и в рабочих общежитиях, и даже в заброшенных зданиях. Прихожане, как могли, заботились о священнике, но для каждого жизнь становилась все труднее. Некоторых арестовывали. Частные квартиры изымали в собственность государства и уплотняли новым жильцами. Переезжать приходилось еще и потому, что жить без прописки запрещалось, а прописаться священнику в Москве было невозможно.
В тридцать втором году его в первый раз арестовали. По делу проходило около восьмидесяти человек, в основном священнослужители. Им предъявили обвинение в том, что они «группировались вокруг церквей города Москвы, проводя среди церковных антисоветскую агитацию и распространяя провокационные слухи. Монашками и духовенством была организована широко разветвленная сеть по сбору денег и продуктов среди церковников путем отчисления кружечного церковного сбора для оказания помощи ссыльному духовенству. С указанным духовенством велась регулярно письменная и живая связь».
Пятьдесят два человека получили разные сроки тюрьмы и ссылки. Отец Константин был отправлен этапом в Казахстан, где провел три года.
Лязгнул дверной замок. Тяжелая дверь открылась, вошел охранник. Из-за пазухи он вынул сложенный вчетверо лист бумаги и огрызок карандаша. Любомудров еще вчера попросил его передать на волю письмо, вложив ему в руку смятую пятирублевую купюру – весь свой денежный запас.
– Вот, пишите, – сказал охранник.
– Сколько у меня времени?
– Немного.
– А конверт дадите?
– Конверта нету. Адрес укажите сверху.
Он знал, кому напишет, но не знал, какой адрес указать. Последний раз он виделся с дочерью два месяца назад в Можайске, где прятался от ареста. Если он сейчас напишет ее действительный адрес, ее могут арестовать вслед за ним. После некоторых сомнений он написал адрес родственников в Ярославле с просьбой передать письмо дочери. Конечно, он совсем не был уверен, что это письмо когда-нибудь до нее дойдет.
«Дорогая моя Сонечка», – начал он. Вдруг слезы хлынули из его глаз. Он давно не плакал, а тут его словно прорвало. За несколько секунд перед ним пронеслась вся их совместная жизнь. Он вспомнил, как принял девочку из рук акушерки, как искал для нее кормилицу, как она делала свои первые шаги и училась говорить. «Папа» – первое слово, которое она произнесла. А словом «мама» она обозначала фотографию, висевшую на стене. В младенчестве она была настолько привязана к отцу, что всякий раз, когда он возвращался с работы, просилась к нему на руки. А когда уходил, плакала.
В последнее время они виделись редко. Но когда встречались, он чувствовал, что ближе нее никого на свете у него нет.
Он понимал, что писать можно не все, и тщательно подбирал слова: «Жду приговора. Наверно, мы не скоро теперь увидимся. Что бы со мной ни случилось, помни, что я всегда тебя любил и буду любить. Не забывай молиться обо мне, как я молюсь о тебе каждый день. Обо мне не скорби. Не теряй веры в Бога. С Ним всегда и везде легко. Предаю тебя в руки Царицы Небесной. Пусть Она будет тебе вместо матери и вместо отца».
Охранник зашел за письмом.
– Какое сегодня число? – спросил его отец Константин.
– Восемнадцатое ноября, – ответил охранник.
«Канун памяти Варлаама Хутынского, – подумал священник. – Сейчас, наверно, идет всенощная».
– Вы действительно передадите? – спросил он, поставив подпись и дату.
– Я вам обещаю, – сказал охранник. Впервые в его лице мелькнуло что-то человеческое.
Он взял письмо, сложил в четыре раза, положил в нагрудный карман и вышел, громко захлопнув за собой дверь.
Снова тишина. По ощущению уже поздний вечер. Можно было бы ложиться спать, если бы не отчетливое предчувствие, что ночью за ним придут.
Он стал читать вечерние молитвы:
– Го́споди, не лиши́ мене́ небе́сных Твои́х благ.
Го́споди, изба́ви мя ве́чных мук. Го́споди, умо́м ли или́ помышле́нием, сло́вом или́ де́лом согреши́х, прости́ мя… Го́споди Иису́се Христе́, напиши́ мя раба́ Твоего́ в кни́зе живо́тней и да́руй ми коне́ц благи́й…[4]
Его мысли были обращены к вечности. Что ждет его там? Впишет ли его Господь в книгу жизни? Сможет ли он оправдаться на Страшном суде? За последние годы он не знал за собой никаких заслуг. Нескончаемые скитания с места на место, долгие недели и месяцы без храма, без богослужения.
В тишине одиночной камеры он произносил знакомые с детства слова. Они падали на дно сердца и таяли в нем, как воск:
– Влады́ко Человеколю́бче, неуже́ли мне одр сей гроб бу́дет, или еще́ окая́нную мою́ ду́шу просвети́ши днем? Се ми гроб предлежит, се ми смерть предстоит Суда́ Твоего́, Го́споди, боюся и му́ки безконе́чныя… Но, Го́споди, или хощу́, или не хощу́, спаси мя Áще бо пра́ведника спасе́ши, ничто́же ве́лие; и а́ще чистаго помилуеши, ничто́же дивно: досто́йни бо суть милости Твоея Но на мне гре́шнем удиви милость Твою…[5]
Он присел на койку «Умру ли я этой ночью, или меня ждет еще один день?» – думал он.
Незаметно он впал в забытье, прислонившись спиной к холодной стене.
Его разбудил лязг дверного замка и грохот открывающейся железной двери.
Вошел человек высокого роста в форме сотрудника НКВД На поясе у него висела кобура.
– На выход! – произнес он громко.
Отец Константин растерянно оглянулся Встал с койки, пошатнулся, присел.
– Быстрее, – скомандовал сотрудник.
Любомудров встал, натянул на себя тулуп, взял в руки шапку. Сотрудник НКВД толкнул его в спину.
Они вышли в тусклый коридор. Священник передвигался с трудом, и сотрудник все время толкал его:
– Давай, давай! Быстрее.
Из других дверей тоже выводили людей. Все они двигались к выходу.
На тюремном дворе, ярко освещенном прожекторами, собралось много заключенных. Стояло несколько черных фургонов с надписью «Хлеб». Некоторые заключенные тихо переговаривались между собой:
– Может быть, в другую тюрьму?
– Скорее всего, на расстрел.
– Неужели и правда расстреляют? Меня же по ошибке взяли. Вместо брата моего взяли. Понимаете, у нас фамилия одинаковая, он работал на заводе, а я…
– Молчать! – закричал охранник и с силой ударил говорившего по губам.
Тот замолк.
Любомудров жадно вдыхал свежий осенний воздух.
В толпе заключенных он увидел лицо, которое показалось ему знакомым. Попытался вспомнить, где он мог видеть этого высокого пожилого человека с впавшими щеками, глубокими морщинами и свисавшей клочьями бородой.
Они встретились глазами. Тот тоже узнал его:
– Любомудров?
– Да.
– Константин?
– Да.
– Я епископ Никита. Помните, я вам в академии дела сдавал?
Только сейчас Любомудров понял, что перед ним человек, который был до него экономом в Московской духовной академии. Он знал его как священника Феодора Делекторского. После революции отец Феодор постригся в монахи с именем Никита, стал епископом, помогал Патриарху Тихону. В изможденном старике трудно узнать плечистого священника с пышными вьющимися волосами, каким он был когда-то.
– Вот ведь где встретились, – сказал Любомудров.
– Давайте в фургоне сядем рядом, – предложил епископ.
Из здания выводили все новых людей.
Раздалась команда:
– По машинам!
Узников стали загружать в фургоны.
– Куда повезете? – спросил один заключенный у конвойного, запрыгивая в кузов.
– Санитарная обработка, – ответил тот.
– В баню что ли?
Конвойный промолчал.
Заключенные залезали в кузов один за другим. Внутри становилось все теснее. После того, как узкие деревянные скамейки, располагавшиеся в несколько рядов, были заполнены, заключенные стали садиться друг к другу на колени. Некоторые разместились на полу.
Фургон тронулся. Поначалу он ехал медленно и гладко по асфальтированным улицам города. В кузове стояла мертвая тишина. Каждый думал о своем, и это были невеселые думы. Многие подозревали, что их везут на расстрел, но боялись в этом признаться, а потому подавленно молчали. Потом понемногу начали переговариваться.
Когда гул человеческих голосов стал достаточно сильным, епископ, пригнувшись вплотную к уху Любомудрова, тихо сказал:
– Отец Константин, исповедуйте меня.
Тот так же тихо произнес:
– Се, чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое…
Епископ начал перечислять грехи, а священник вдруг ясно осознал, что в этом самом фургоне рядом с осужденными на смерть находится Христос. Чувство присутствия Христа было настолько сильным, что на какой-то момент он перестал слышать шепот епископа, весь отдавшись этому чувству.
В темную ночь в закрытом фургоне они приближались к своей Голгофе.
После того как епископ закончил исповедь, отец Константин прочитал разрешительную молитву. Потом исповедовался сам. Епископ слушал его, не прерывая. Потом они долго сидели молча.
Фургон между тем стало сильно трясти. Очевидно, они выехали из города и двигались по гравийной дороге.
К Любомудрову неожиданно обратился человек, сидевший справа. В темноте черты лица не были различимы, но можно было понять по голосу, что он не молод.
– Откуда родом? – спросил он у отца Константина.
– Ярославский я.
– Поп что ли?
– Священник.
– И правильно, что вас расстреливают! Вам с революцией не по пути. Вы людям голову всякой дурью забиваете, а советской власти не верите.
– А вы верите?
– Верю. Я в партии с четырнадцатого года. Вот этими руками революцию делал. Ленина лично знал.
– Что же вас вместе с нами везут? – спросил Любомудров.
– «Революция пожирает своих сынов», – сказал тот с усмешкой. – Без ошибок и перегибов революций не бывает. Но я верю, что история нас оправдает. А вас – нет.
Любомудрову не хотелось продолжать этот разговор, но он все-таки спросил:
– Как ваше имя?
– Михаил.
– Крещеный?
– Крещеный. Но в Бога не верю.
– Я буду молиться за вас.
Тот замолчал. Потом тихо сказал:
– Спасибо.
Прошло не менее двух часов, а они все еще ехали. Разговоры сами собой смолкли, всех сильно болтало и подбрасывало в разные стороны. Кого-то стошнило, кто-то ругался. Но большинство заключенных сидели тихо, прижавшись друг к другу.
Наконец, фургон остановился, заключенных стали выгружать из кузова. Спрыгнув на снег, Любомудров упал и тут же услышал крик конвойного:
– Вставай!
Поднялся и получил сильный удар прикладом в спину.
– Давай! Пошел!
Он побрел, подгоняемый конвоиром, по направлению к длинному деревянному бараку. Туда же двигались остальные. Ночь была светлая и звездная, воздух морозный и свежий.
Беспорядочная толпа прибывших на четырех фургонах из Таганской тюрьмы ввалилась внутрь барака. Там уже толпились заключенные, которых, видимо, доставили из других тюрем.
Войдя в барак и протиснувшись вперед, Любомудров огляделся. Арестантов было много. В основном мужчины, разного возраста – от стариков до казавшихся почти еще детьми. Лица у большинства изможденные, глаза испуганные. Все одеты в арестантские бушлаты или выцветшие от времени пальто. У некоторых на головах шапки. Были и женщины.
Присмотревшись, Любомудров стал замечать людей, по внешнему виду напоминавших священников. От остальных их отличала не только борода. У многих заключенных за время долгого пребывания в тюрьме отросла борода или густая щетина. Но у «духовных» было еще что-то, что позволяло им почти безошибочно распознавать друг друга. Потихоньку они стали группироваться возле одной из стен барака.
Никто, казалось бы, не интересовался тем, что происходило впереди. А там в ряд стояли столы, на которых лежали стопки личных дел осужденных. За каждым столом сидел сотрудник НКВД в форме. Время от времени он громко выкрикивал фамилию. Осужденный подходил, стоял несколько минут, с ним о чем-то разговаривали. Потом конвойный выводил его из барака в боковую дверь.
Священнослужители тихо представлялись друг другу, некоторые рассказывали свои истории:
– Игумен Варлаам, служил в Чудовом монастыре, потом в разных храмах московских. Три года в ссылке в Казахстане. В последнее время служил в Московской области.
– За что вас?
– Проходил мимо школы. Ко мне подбежал ученик, спросил, откуда происходит человек. Им учитель говорил, что от обезьяны. Я сказал: от Бога. За это и арестовали.
– Иеромонах Гавриил, из Белоруссии. Два года провел на Афоне, три года в ссылке. В последнее время в Москве. Обвинили в фашистской агитации.
– Протоиерей Арсений Троицкий, служил в Подмосковье.
– Игумен Петр, тоже из Подмосковья.
– Священник Владимир Морозов из Воронежа.
Обвинения против всех были похожие: антисоветская агитация, религиозная пропаганда, участие в группе контрреволюционного духовенства, распространение провокационных слухов о гонениях на Церковь.
Отец Константин тоже представился.
– Братья, нас всех сегодня расстреляют, – сказал епископ Никита. – Предлагаю исповедоваться перед смертью, кто не успел. Умрем без причастия, так хоть не без исповеди.
Они разбились на пары, но все-таки оставались рядом.
Один из примкнувших к группе был старообрядческий священник с окладистой бородой. Он заговорил с отцом Константином, представился Пчелиным Еразмом Ивановичем.
– А что, правда расстреляют? – спросил он.
– Думаю, правда, – ответил Любомудров.
– Господи Исусе, помилуй нас, – сказал старообрядец и широко перекрестился двумя перстами.
Это не осталось незамеченным. Один из охранников закричал:
– Что там за сходка?! А ну, разойдись, поповское отродье! Устроили здесь молебен!
Охранник начал избивать священнослужителей прикладом. Отца Константина ударил в висок с такой силой, что тот упал.
Ему помогла подняться молодая женщина с правильными чертами лица и коротко остриженными волосами.
– У вас кровь. Вот, возьмите, приложите.
Она подала ему платок.
– Спасибо, – сказал он. – Сколько вам лет?
– Двадцать четыре.
– За что вас сюда?
– Немка, – коротко ответила она.
Впереди продолжали выкрикивать фамилии. Людей в бараке становилось меньше. А снаружи все время раздавались выстрелы, иногда по несколько подряд.
– Любомудров, – выкрикнули впереди.
Он подошел к столу, стоявшему по центру, прямо под портретом Сталина. За столом сидел сотрудник НКВД. Рядом стоял вооруженный конвоир.
– Любомудров Константин Павлович? – спросил сотрудник.
– Да.
Тот посмотрел на фотографию в личном деле, потом на осужденного.
– Год рождения?
– Тысяча восемьсот семьдесят девятый.
– Дата рождения?
– Двадцать седьмое июля.
– Место рождения?
– Село Георгиевское Ростовского уезда Ярославской губернии.
– Социальное происхождение?
– Сын псаломщика.
– Род деятельности?
– Священник.
Сотрудник НКВД перелистывал страницы его личного дела. На мгновение ему вспомнилось, как будущий Патриарх Тихон листал его дело перед тем, как предложил ему стать священником.
– Последнее место жительства?
– Без определенного места жительства.
– Откуда прибыли?
– Из Таганской тюрьмы.
Сверка была окончена.
Сталин, улыбаясь, смотрел с портрета на пожилого священника и тех, кто стоял за его спиной, ожидая своей очереди.
– Уведите, – скомандовал сотрудник НКВД.
Конвоир вышел из-за стола, подошел к священнику, взял его за плечо и повел к боковой двери.
За дверью была небольшая неотапливаемая комната, нечто вроде сеней, где стояло семь вооруженных конвоиров и столько же осужденных. В углу – сваленная в кучу одежда и обувь.
Вслед за Любомудровым ввели еще двоих. Осужденных выстроили в ряд, конвоиры начали их обыскивать. У одного обнаружились в кармане бушлата наручные часы, конвоир положил их себе в карман.
Когда всех обыскали, один из конвоиров скомандовал:
– Лицом к стене!
Осужденные развернулись.
– Раздеться до нижнего белья!
Осужденные начали раздеваться. Один, совсем еще юноша, оставался в кальсонах и шерстяной кофте.
– Я сказал «до нижнего белья»! Кофту снимай, – закричал на него конвоир.
– У меня нет нижнего белья.
– Снимай, говорю тебе, – сказал конвоир, ударив его рукояткой револьвера по голове.
Парень снял кофту, оставшись в одних кальсонах, которые придерживал руками. Он был очень худ и сильно дрожал. На вид ему было лет шестнадцать.
«Боже мой, таких-то за что?» – подумал Любомудров. Ему самому в нижнем белье сразу стало очень холодно и с каждой минутой становилось все холоднее.
Когда их вывели наружу, уже светало. Облака на востоке окрашивались в розовый цвет.
Осужденные шли по вытоптанному ноябрьскому снегу: кто-то в дырявых шерстяных носках, кто-то в портянках, кто-то босиком. За каждым шел конвоир, подталкивая его в спину.
Вдруг один из осужденных бросился в сторону.
– Стой, стрелять буду! – закричал конвоир, выхватил из кобуры револьвер и сделал несколько выстрелов.
Беглец упал.
Остальные продолжали идти.
Отец Константин шепотом произносил молитвы.
Их подвели к краю глубокого длинного рва.
На дне в предрассветном тумане были хорошо различимы трупы, лежавшие вповалку.
Конвоиры достали револьверы, приставили их вплотную к затылкам осужденных.
Раздались выстрелы.
Один за другим убитые падали в ров.
В ту ночь на Бутовском полигоне расстреляли 189 человек, из них десять православных священнослужителей. Пятеро ныне причислены к лику святых: епископ Никита (Делекторский), протоиерей Арсений Троицкий, игумен Варлаам (Никольский), иеромонах Гавриил (Гур), священник Константин Любомудров.
Бутовская «фабрика смерти» работала вплоть до 1950-х годов, но наибольшее число казней пришлось на период с августа 37-го по октябрь 38-го.
За это время расстреляли более двадцати тысяч человек.
Самым младшим из убитых было четырнадцать-пятнадцать лет.
Самому старшему – митрополиту Серафиму (Чичагову) – шел восемьдесят второй год. Он уже не мог самостоятельно передвигаться, и к месту казни его несли на носилках.
Кости расстрелянных до сего дня лежат на Бутовском полигоне, покрытые тонким слоем земли.
Тайна семи звезд
Преподобные Иоанн и Георгий Бетанские
Годе́рдзи было два года, когда умер его отец Об этой смерти в семье предпочитали не говорить Отец был коммунистом, своими руками разрушил местную церковь Убили его жестоко, перед смертью долго пытали.
Обо всем этом рассказал сосед, дядя Ги́ви, к которому Годердзи ходил за молоком Рассказал не сразу, а постепенно – одну деталь за другой.
Гиви был человек огромного роста, с густой черной бородой, которая начинала расти прямо от глаз Он держал свою корову и за три рубля в день отпускал семье Годердзи литр молока Этого хватало на пятерых: мальчика, его мать, отчима, старшего брата Мишико́ и старшую сестру, каждому по стакану Младшая сестренка, которую назвали Джульеттой, только недавно родилась и питалась грудным молоком.
Мать Годердзи, Варвара, вышла замуж в четырнадцать лет В пятнадцать уже родила Мишико, в семнадцать Эмму, в двадцать Годердзи Небольшого роста, с белокурыми волосами и голубыми, почти темно-синими глазами, она совсем не походила на грузинку Свое происхождение она скрывала.
В Бога Варвара верила, но в церковь ходить боялась Шел 38-й год Все вокруг говорили, что Бога нет Верующих преследовали. Но мальчика после многих его настойчивых просьб крестили в церкви святой Варвары.
Вскоре местного пожилого священника забрали, и больше его никто не видел Поговаривали полушепотом, что его расстреляли.
Однажды Годердзи, сидя в своей комнате, услышал, как Гиви ругается с соседом Громкие голоса доносились через открытое окно.
– Что ты меня распинаешь, как Христа? – кричал Ги́ви.
Годердзи стал думать, что означают эти слова. Но понимал, что к дяде Гиви лучше не подходить, пока он возбужден Надо дождаться утра.
На следующий день Годердзи пришел, как обычно, за молоком и спросил:
– Дядя Гиви, кто такой Христос и за что Его распяли?
Тот удивился:
– Васико́, почему ты об этом спрашиваешь?
Годердзи все звали по имени его отца – Васико. Так это повелось после того, как его отца убили.
– Вчера ты разговаривал с кем-то и сказал: «Что ты меня распинаешь, как Христа?»
– Господи! Случайно вырвалось!
– Ну расскажи, дядя Гиви!
– Слушай, сынок, я про это ничего не знаю Если хочешь, пойди в церковь и разузнай, кто такой Христос.
Мальчик отправился в церковь святой Варвары Там на стенах висело много икон, а справа от входа стояло большое деревянное распятие.
Годердзи представил себе, как больно было Христу, когда гвозди вонзались в Его руки и ноги. Он начал тихо разговаривать с Ним:
– Почему Тебя распяли? Почему?
Но Тот не отвечал.
За мальчиком наблюдал церковный сторож – маленький сухощавый человек с короткой седой бородой. Годердзи так долго стоял перед распятием, что сторож забеспокоился.
Он осторожно подошел к мальчику – так, чтобы не напугать его, – и понял, что тот ничего не замечает вокруг. Он кашлянул, мальчик обернулся: на глазах его блестели слезы.
Сторож мягко сказал Годердзи:
– Если ты хочешь узнать, почему распяли Христа, ты должен прочитать книгу о Нем.
– А у вас есть такая книга?
– Нет. Сейчас такие книги – большая редкость. Знаешь, где еврейское кладбище?
– Знаю.
– Если пойдешь отсюда в сторону кладбища, то, не доходя, справа увидишь лавку букиниста. Может быть, там тебе продадут. Кахетинский переулок, шесть.
Мальчик отправился по этому адресу. Лавка оказалась закрыта, но на витринах стояли старые книги. По названиям невозможно было определить, какая книга говорит о Христе. Зато стали понятны цены: все книги стоили от ста рублей и выше; чем больше книга, тем она дороже Годердзи надеялся, что книга о жизни Христа будет маленькой и не такой дорогой.
Он стал копить деньги Отчим давал ему по пять рублей в день на обед в школе Обычно на эти деньги он умудрялся накормить двоих или троих ребят, нередко сам оставался голодным. Но теперь он стал все деньги откладывать.
Через три недели у него скопилось семьдесят рублей, и он отправился к букинисту На этот раз лавка была открыта Когда мальчик вошел, над дверью прозвенел колокольчик Внутри не было ни одного покупателя В воздухе стоял густой запах пыли, горела керосиновая лампа В полумраке Годердзи увидел по жилую женщину с седыми волосами, завязанными в пучок Она подняла голову Он поздоровался, она не ответила.
Книг было много, все старые, но аккуратно переплетенные Тут лежали на прилавках и «Витязь в тигровой шкуре», и стихи Ильи Чавчавадзе, и множество других книг на грузинском и русском языках «Хорошо бы книга о Христе была на грузинском», – подумал Годердзи По-русски он читал плохо, хотя и учил его в школе.
Женщина внимательно наблюдала за мальчиком, пока он ходил вдоль полок, снимал с них одну книгу за другой, листал, потом снова ставил на полку В конце концов она спросила:
– Сынок, тебе помочь?
Мальчик подошел к женщине и тихо сказал:
– Я ищу книгу о жизни Христа.
Она не расслышала.
– Есть у вас книга о жизни Христа? – сказал он громче.
– Есть, есть! – ответила она так, как говорят люди, которые плохо слышат. И достала с полки большую красивую книгу в старинном кожаном переплете.
– Сколько она стоит? – спросил Годердзи громко.
– Триста пятьдесят рублей, – ответила женщина.
Он огорчился, что книга о жизни Христа стоит так дорого. Но все-таки взял ее в руки и увидел надпись на переплете, выполненную красивым золотым тиснением: «Граф Монте-Кристо»[6]. Он открыл первую страницу и начал читать: «Двадцать седьмого февраля 1815 года дозорный Нотр-Дам де-ла-Гард дал знать о приближении трехмачтового корабля "Фараон", идущего из Смирны, Триеста и Неаполя. Как всегда, портовый лоцман тотчас же отбыл из гавани, миновал замок Иф и пристал к кораблю между мысом Моржион и островом Рион».
Незнакомые названия мелькали одно за другим. Годердзи плохо понимал, о чем идет речь, но это явно не то, что он искал. На всякий случай он заглянул в середину книги и прочитал: «Между тем они быстро подвигались к цели своего путешествия; ветер был свежий, и лодка шла со скоростью шести или семи миль в час. По мере того как она приближалась к острову, он, казалось, вырастал из моря…»
– Это то, что ты хотел, дружок? – спросила женщина.
– Нет, госпожа, – ответил мальчик громко. – Я ищу книгу о жизни Христа.
Женщина удивленно подняла брови.
– Иисуса Христа, Которого распяли, – пояснил он. Она вдруг испуганно оглянулась по сторонам и заговорила почти шепотом:
– Что ты, что ты, сынок? Такие книги нынче не продаются. В моей лавке нет запрещенной литературы.
Он вернул «Монте-Кристо», поблагодарил женщину и вышел.
«Запрещенная литература, – думал Годердзи, идя из лавки домой. – Почему книга о жизни Христа – это запрещенная литература? Кто ее запретил? И где теперь ее достать? В церкви нет, в лавке нет…»
Что-то ему подсказывало, что ни у отчима, ни у матери спрашивать не следует.
Тут кто-то мягко прикоснулся к его плечу. Он обернулся и увидел старичка с белоснежной бородой.
– Что ты здесь ищешь, мальчик? – спросил незнакомец.
– Книгу о жизни Христа.
– Есть у меня эта книга.
– Сколько стоит?
– Семьдесят рублей.
Он протянул старичку деньги и получил от него книгу небольшого размера, завернутую в бумагу. Так как вокруг были люди, он не стал разворачивать запрещенную книгу, но быстро сунул ее в сумку и пошел к себе. Сердце у него радостно билось: «Теперь-то я узнаю, кто такой Христос и почему Его распяли».
Свернув с людной улицы, где стояли торговые лавки, в узкий переулок, где никого не было, он поспешно достал книгу из сумки, разорвал оберточную бумагу и прочитал: «Евангелие». Сердце упало: «Опять что-то не то. Хотел купить книгу о жизни Христа, а здесь написано "Евангелие"».
Он вернулся на место, где его повстречал незнакомец, но того уже и след простыл. Он спрашивал у торговцев хлебом, сыром и молоком, сидевших возле своих домов, не видели ли они такого человека. Описал его внешность. Но они только удивленно поднимали брови или пожимали плечами.
Придя домой, он не стал ужинать вместе со всеми, сказав, что не голоден. Мать нахмурилась, но промолчала. Брат хотел о чем-то поговорить, но Годердзи сказал:
– Потом, потом!
И быстро поднялся к себе в комнату. Он жил в совсем маленькой комнатке под крышей дома. В знойные летние дни в ней становилось невыносимо жарко, потому что крыша нагревалась, а солнце светило прямо в окно. Но сейчас, в сентябре, в комнате было свежо, а по ночам даже холодно.
Он зажег керосиновую лампу и начал читать: «Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова». Да, это книга о жизни Христа! Стал читать дальше: «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его». Круглыми грузинскими буквами набраны непонятные и неизвестные имена – такие, каких мальчик никогда не слышал: Аса, Иосафат, Озия, Зоровавель, Салафииль, Елиуд, Елиаким… Это было так же непонятно, как то, что он читал в букинистической лавке про Нотр-Дам де-ла-Гард, Смирну, Триест, Моржион и Рион.
Но он продолжал чтение, и скоро началась история, которая была похожа на сказку. Он читал о том, как Иосиф взял в жены Марию, но оказалось, что Она «имеет во чреве от Духа Святого». Он захотел отпустить Ее, но ему явился ангел и запретил это делать. Потом у Нее родился Младенец, Которого назвали Иисусом.
Годердзи потерял счет времени. Он был мальчик некнижный, читал медленно. Никогда еще ни одна книга его так не увлекала. Когда неожиданно скрипнула дверь и заглянула мать, он даже вздрогнул.
– Почему не спишь, дорогой? – спросила мать. – Тебе же завтра рано вставать, в школу идти.
– Да, мама, сейчас лягу.
Она тихо затворила дверь. Он продолжал чтение.
За одну ночь он узнал, кто такой Христос и за что Его распяли. Он прочитал о том, как Иисус исцелял больных, изгонял бесов, как произносил притчи. Как ходил по воде, как воскресил мертвую девочку. Как спорил с фарисеями, как Его предал Иуда, как Его осудили на смерть. Мальчик обливался слезами, читая о том, как Иисус умирал на кресте, но сердце его наполнилось радостью, когда он прочитал, как Христос воскрес.
Он уснул, когда за окном уже светало. Уснул, сам того не заметив, прямо за столом, уронив голову на книгу.
Утром мать обнаружила его спящим в этой необычной позе. Такого никогда раньше не бывало:
– Ты что, просидел здесь всю ночь?
Он с трудом открыл глаза.
– Ты что, вообще не ложился спать?
Голос ее звучал строго.
Он молчал.
– Ну-ка покажи, что ты читал.
Она подошла к столу и властным жестом взяла книгу. Она вообще была властной женщиной и пользовалась в семье непререкаемым авторитетом. Дети любили ее, но боялись. Сын почтительно встал.
Меньше всего она ожидала увидеть на его столе Евангелие. На какое-то мгновенье она замерла от изумления. Она знала, что ее Васико любит ходить в церковь, но чтобы он целую ночь просидел за чтением Евангелия, такого она не могла себе представить. Да и откуда оно взялось у него?
Пока она стояла в нерешительности, не зная, что сказать, дверь с шумом отворилась. В комнату влетел Мишико:
– Мы идем завтракать, или что?
Увидев, что мать и младший брат молча стоят друг напротив друга, он осекся:
– Ой, извините.
– Ничего, ничего, Мишико. Пойдемте, дети. Завтрак на столе, отец ждет.
Она положила книгу на стол названием вниз, взяла младшего за руку и вслед за старшим спустилась на первый этаж. Там уже сидели отчим и сестра.
Отчим – красивый, статный седой человек – был на тридцать три года старше Варвары, и сейчас ему уже перевалило за шестьдесят. Дети проявляли к нему почтение и боялись его еще больше, чем матери. Они знали, что он им не родной отец, и относились к нему скорее как к дедушке.
Мишико и Васико очень отличались друг от друга.
Мишико был ловким парнишкой. Он быстро бегал, лазил по деревьям, метко стрелял из рогатки. Любого сверстника, а то и парня постарше, мог легко положить на лопатки. За словом в карман не лез: мог такую отповедь дать, что даже взрослому мало не покажется. И ругался тоже по-взрослому.
А еще подворовывал. То у булочника стащит горячий хлеб, то у мясника кусок колбасы, то у ювелира колечко. Но сердце у него было доброе: если украдет что-нибудь съедобное, обязательно с кем-то поделится.
Младший ни с кем не дрался и никого не обижал. Когда ему было лет пять, он любил строить из камней домики и поселять туда игрушечных людей: каждый построенный домик он называл церковью, а игрушки ангелами. Старший его за это высмеивал, но Годердзи не обижался.
Однажды они пошли купаться на речку, отплыли на несколько метров от берега, и Васико стал тонуть. А брат плавал хорошо. Увидев, что младший пошел ко дну, он быстро подплыл к нему и вытащил его на берег. Больше Васико купаться не ходил.
В другой раз они пошли вместе стрелять из рогатки. Васико быстро наловчился и однажды так метко выстрелил в воробья, что тот упал с ветки мертвым. Мальчика так потрясла эта смерть, что больше он никогда не брал в руки рогатку.
Церковь святой Варвары находилась недалеко от дома, и дети иногда играли прямо на церковном дворе. Когда Годердзи был маленьким, ему нравилось изображать то, что происходит в церкви. Брал палку, надевал на нее тряпочку и ходил вокруг храма – как будто бы крестным ходом. Других детей за собой звал, но они не шли. Его игры их не интересовали, а он не участвовал в их играх.
После того как священника забрали, службы в церкви больше не совершались, и она стояла закрытой. Лишь иногда, по воскресеньям и праздникам, сторож открывал ее, чтобы люди могли зайти и поставить свечи. Годердзи не пропускал таких дней и всегда подолгу оставался в храме.
Мишико был старше Годердзи на пять лет, и когда тому исполнилось десять, он начал посвящать его в тайны своих любовных похождений. Он знал всех девочек в округе и пользовался у них большой популярностью. Придя домой под утро, он будил брата и рассказывал, как провел ночь. Тот никогда ничего не отвечал. Иногда Мишико говорил брату:
– Хочешь, я приведу тебе красивую девчонку?
– А зачем? – спрашивал младший брат.
– Ну ты будешь с ней…
И дальше следовало неприличное слово. Но Годердзи говорил:
– Не надо.
На этом разговоры о девочках заканчивались. А если Годердзи начинал о чем-то говорить с братом, то только о Евангелии и церкви. Но того это совсем не интересовало.
Более восприимчивой к разговорам о вере была сестра Эмма. Она любила по вечерам приходить к младшему брату и слушать его рассказы о Христе. Он так много читал Евангелие, что знал его почти наизусть и истории из жизни Христа мог пересказать слово в слово. Когда она чего-то не понимала, он объяснял ей.
К двенадцати годам Годердзи ни о чем, кроме Христа и церкви, не хотел ни говорить, ни слышать. Это пугало его мать. Она считала, что сын слишком увлекся религией:
– Что ты за человек? Зачем так мучаешь себя? Живи нормальной жизнью, как все. Пожалуйста, веруй, но не так, чтобы только Евангелие было у тебя на уме.
А у него на уме было только Евангелие.
В ответ на увещания матери – а они часто делались на повышенных тонах – он либо молчал, либо говорил, что по-другому жить не хочет. По характеру он очень напоминал мать, был такой же упрямый. Когда они начинали спорить, он ни в чем не уступал.
Отчим иногда присоединялся к этим спорам и стоял на стороне матери. Он объяснял, что можно быть верующим, но без фанатизма. Что Васико надо учиться, иначе он не получит хорошую профессию, не достигнет успеха в жизни. Что ему надо присматриваться к красивым девочкам, чтобы выбрать себе жену и быть счастливым.
А тот и на девочек не смотрел, и учиться не любил. Иногда отвечал:
– Оставьте меня в покое, я монах!
Его даже в школе прозвали монахом и дразнили. Он не обижался.
Атмосфера школы ему не нравилась. Не вдохновляли его рассказы о Ленине, о других героях революции, о двадцати шести бакинских комиссарах. Грузины очень гордились, что во главе большой страны стоял их земляк, и постоянно о нем говорили, а его портреты висели в каждом классе. Но Годердзи не понимал, почему Сталин, если он такой мудрый и великий, не распорядится, чтобы прекратили закрывать храмы.
Учителя внушали детям, что Бога нет, а религия – это «пережиток прошлого». Говорили, что среди попов много контрреволюционеров, которых надо выявлять и обезвреживать. Учителя бросали на Годердзи косые взгляды, зная или догадываясь, что он верующий. Несколько раз его мать вызывали к директору, требовали, чтобы она отучила сына от религии.
Годердзи часто пропускал уроки. Уйдет, бывало, утром в школу а вместо школы отправится в лес. И ходит там среди деревьев, как будто ищет что-то. Или просто сидит на поляне и смотрит вдаль. Иногда он на несколько дней уходил в горы. Когда возвращался, мать говорила ему с упреком:
– Где ты был, Васико? Мы беспокоились. Садись, покушай.
Но как только он садился за стол, начинались обычные разговоры о вреде чрезмерной религиозности. Ее сильно беспокоило, что он пропускает школу, что исчезает на несколько дней, что мало ест. Ей казалось, что так он вообще сойдет с ума. По средам и пятницам он стал отказываться от еды: не выходил ни на завтрак, ни на ужин. Говорил, что обедал в школе, но ей не верилось.
А еще он постоянно что-то церковное тащил в дом. В то время многие церкви закрывали, из них выносили иконы и утварь и сжигали на церковном дворе. Некоторые храмы вообще разрушали, и они превращались в груду камней. Когда Годердзи узнавал, что где-то в округе закрыли или разрушили церковь, он шел туда и на развалинах отыскивал иконы, кресты, подсвечники, кадила, лампады. Все это он собирал, приносил в дом, очищал от грязи или копоти и оставлял у себя. Иконы развешивал по стенам. Вся его комната превратилась в маленькую молельню, сплошь заставленную и увешанную иконами.
Иногда он находил на таких свалках церковные книги. Некоторые были напечатаны старым грузинским шрифтом хуцури, внешне напоминающим армянский алфавит. Годердзи выучил этот шрифт и стал читать молитвы по молитвослову, найденному на свалке.
Отношения с матерью становились все более напряженными. Вскоре после того как отпраздновали его двенадцатый день рождения, она потребовала, чтобы он выбросил иконы и церковные книги. Тогда он перестал пускать ее в свою комнату и теперь разборки происходили внизу нередко в присутствии отчима и старшей сестры.
Однажды, услышав от сына в очередной раз, что он не может жить по-другому, она поднялась в его комнату, схватила Евангелие, лежавшее на столе, и решительным шагом вышла на двор. Мальчик буквально повис у нее на руке, предчувствуя беду.
Во дворе дома стоял туалет с двумя дырками в полу, куда время от времени насыпали опилки, чтобы запах не был таким сильным. Мать распахнула дверь туалета и швырнула туда Евангелие. Она целилась в одну из дырок, но мальчику удалось в последний момент так толкнуть ее под руку, что книга угодила в ящик с опилками.
– Оно погубило тебе жизнь! – кричала она.
Мальчик дождался, пока она вернется в дом, достал Евангелие, очистил от опилок и вернулся к себе в комнату. Когда сестра Эмма заглянула к нему, он сидел на стуле, прижимая Евангелие к сердцу, и горько плакал. Она поняла, что лучше его сейчас не трогать.
К ужину он не вышел.
Ночью, когда все уснули, мальчик тихо собрался, положил в холщовую походную сумку Евангелие, молитвослов и распятие. А еще икону, на которой был изображен человек, очень похожий на того, который когда-то продал ему за семьдесят рублей книгу о Христе. Эту маленькую деревянную икону святого Николая, обугленную с правой стороны, он нашел на развалинах одного из храмов.
Была холодная звездная осенняя ночь. Сначала он шел очень быстро, потом замедлил шаг.
Он шел всю ночь и весь следующий день, нигде не останавливаясь и ни на что не оглядываясь. Под вечер пришел во Мцхету – церковную столицу Грузии. Этот город он хорошо знал, так как несколько раз ходил туда пешком.
Самтаврб – древний монастырь, расположенный в центре города, – уже не действовал, большинство монахинь разогнали. Но на правах смотрительницы храма и уборщиц здесь доживали игумения и две монахини. В храме по воскресениям и праздникам совершались службы.
Годердзи постучался в ворота. Сначала долго никто не открывал, потом вышла пожилая женщина в черном платье и черном платке. Она с опаской посмотрела по сторонам, впустила мальчика внутрь, спросила:
– Ты голодный?
Годердзи был очень голоден и съел все, что она предложила: тарелку фасолевого супа, кусочек сыра сулугуни, полбуханки хлеба. Игумения внимательно смотрела на него. Поначалу он сильно дрожал, потом от еды согрелся, под конец ужина глаза у него стали слипаться. Но оставлять несовершеннолетнего в монастыре на ночь она не решилась. За монахинями внимательно наблюдали, жили они здесь на птичьих правах, любая ошибка могла привести к их выселению из старых стен обители, а то и к аресту.
Когда мальчик поел, она дала ему буханку хлеба с собой и тридцать рублей. И выпроводила за ворота.
После прошлой бессонной ночи и долгой дороги ему так хотелось спать, что он лег возле ограды монастыря, отойдя на несколько метров от ворот. Положил под голову сумку и мгновенно уснул.
Проснулся рано утром. Было очень холодно, его колотила дрожь. Когда поднялся и потянулся за сумкой, увидел, что вокруг нее обвилась большая змея. Значит, он так и спал головой на змее, но она его не тронула. Он подумал, что, наверно, его спас святой Николай.
Когда мальчик взял сумку, змея медленно развернулась и уползла.
Чтобы согреться, он пошел быстрым шагом. На пустынных улицах Мцхеты сначала никого не было, потом стали появляться одинокие городские жители. Вышли с метлами дворники.
Утром монастырский храм открыли. Старенький священник совершал службу. Прихожан не было, две монахини пели на клиросе.
Вечером Годердзи снова стоял на службе. Когда она кончилась, одна из монахинь подошла к нему и сказала:
– Пойми, сынок, если ты будешь часто сюда приходить, тебя заметят. Будут нам говорить: «Что это вы несовершеннолетних на службу пускаете?» – и закроют наш храм. Ты лучше пойди в Светицхове́ли, там прихожан побольше, да и спрятаться есть где.
Он отправился в Светицхове́ли. Этот величественный храм возвышается над всем городом. Здесь, по преданию, под спудом погребен хитон Господень. Тот самый, о котором в Евангелии от Иоанна говорится: «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет».
Храм был закрыт, и Годердзи присел у порога. Уже смеркалось, вокруг не было ни души. Он почитал Евангелие, пока хватало света, а потом заснул, свернувшись калачиком. Когда совсем стемнело, снова стало очень холодно.
В середине ночи он почувствовал, что кто-то стоит возле него. Приоткрыл глаза и различил очертания большой собаки. Она тяжело дышала и смотрела на него в упор. Потом подошла и легла рядом с ним. За ней подошли еще две собаки и тоже улеглись рядом. Ему стало теплее.
Проснулся он рано утром оттого, что собаки вдруг вскочили, а одна залаяла. Ко входу в собор приближался старик в длинной черной одежде и вязаной шерстяной шапочке на голове. Мальчик почтительно встал.
– Сынок, ты здесь спал? Почему не позвал?
Он обнял мальчика за плечи, посмотрел ему в глаза и повел в дом. По дороге он причитал:
– Я провел ночь в теплой постели, а ребенок ночевал на холодных камнях. Боже, Боже! Как я отвечу на Страшном суде?
Это был настоятель собора архимандрит Алипий. Он растопил печку, усадил возле нее мальчика, потом вскипятил чай, достал хлеб и инжирное варенье. Годердзи с аппетитом поел. Отец Алипий расспрашивал его, кто он, откуда, почему ночевал на улице. Он рассказал всю свою историю. Старый священник слушал, и иногда большие глаза его увлажнялись слезами.
Годердзи провел у него три дня. По утрам помогал священнику на службе, раздувал кадило, зажигал лампады. А по вечерам они разговаривали. Мальчик поведал старому архимандриту о своем желании стать монахом, и тот ответил, что это благое желание, но только его будет трудно осуществить. Ведь все монастыри закрыты. А если где и доживают монахи, то на положении церковных сторожей. Сам он здесь живет как настоятель собора, но долго ли это продлится?
Через три дня отец Алипий сказал ему, что больше оставаться здесь нельзя. Посоветовал пойти в Шио-Мгвимский монастырь: может быть, там, подальше от людского взора, найдется для него местечко. Сказал, что нужно обратиться там к отцу Михаилу, и даже написал ему записку. На прощание дал Годердзи тулупчик одного из старых монахов: он оказался великоват для мальчика, зато в нем было тепло.
В Шио-Мгвиме Годердзи отправился вечером. Дошел до села Дзегви, пересек мост через реку Мтквари. Дальше надо было подниматься вверх по узкой лесной тропе. Когда стемнело, услышал вой волков. Стало страшно. Мальчик залез на большое дерево, примостился на ветке. Долго прислушивался, потом, наконец, задремал. Вой то приближался, то удалялся. Иногда сквозь сон ему казалось, что волки совсем рядом.
Утром он подошел к стенам монастыря, расположенного на нескольких уступах большого горного склона. Все было закрыто, на стук никто не открывал. Только днем появился смотритель, высокий человек с черными, как смоль, волосами. Он взглянул на маленького паломника с недоумением: давно уже сюда не приходили подростки.
– Я пришел к отцу Михаилу, – сказал Годердзи.
Это еще более удивило смотрителя.
– К отцу Михаилу? Но он вчера уехал.
– А когда вернется?
– Не знаю, вернется ли, – ответил смотритель.
За чаем в монастырской сторожке он рассказал, что в последние месяцы отец Михаил жил здесь один. Служил по воскресеньям, но прихожан не было. Вчера вечером за ним приехала машина. Двое незнакомых людей посадили его в нее и увезли. Он даже не успел попрощаться.
– Могу я у вас остановиться? – спросил мальчик.
– Не больше трех дней, – ответил смотритель.
Он отвел ему маленькую комнату в бывшем братском корпусе. Здесь стояла железная кровать без белья, стол, стул, керосиновая лампа.
За эти три дня Годердзи узнал, кто такой Шио-Мгвимский. Жил он в шестом веке, родом был из Сирии, а пришел в Грузию вместе со своим учителем святым Иоанном Зедазнийским, в числе его двенадцати учеников. Сначала все они жили вместе в Зедазе́ни – монастыре, основанном святым Иоанном. А потом разошлись по всей Грузии и основали каждый по монастырю. Преподобный Шио пришел сюда. В лучшие времена тут проживало до двух тысяч иноков, все склоны окрестных гор были усеяны кельями. Но после революции монастырь закрыли. Отец Михаил числился тут смотрителем памятника архитектуры.
Годердзи хотелось жить в монастыре, среди монахов. Через три дня он распрощался с гостеприимным смотрителем и отправился дальше. Теперь путь его лежал в Зедазени – обитель, откуда началась в Грузии монашеская жизнь. Там, по словам смотрителя, еще должно остаться несколько монахов.
В селении Сагурамо он заночевал сидя, прислонившись к стене местного храма. Благодаря тулупчику было уже не так холодно, только руки и ноги сильно замерзали под утро. Спозаранку начал подъем к монастырю и пришел до восхода солнца. С вершины холма, на котором стоял монастырь, открывался вид на монастырь Джвари, стоящий на слиянии рек Арагвы и Мтквари.
В Зедазени в это время жило несколько престарелых монахов и один архимандрит лет пятидесяти. Они тепло приняли мальчика и позволили ему пожить в обители, опять же, три дня. Но так как видели, что уходить он не хочет, то соорудили ему в лесу некое подобие шалаша и гамак из лиан. Там он мог ночевать, а рано утром приходил на службу.
Монахи жили в монастыре нелегально. Днем, когда в монастырь могли приехать экскурсанты, монахи исчезали. Поздно вечером ворота закрывались, и монахи приходили в храм, чтобы совершить повечерие. А рано утром служили утреню и в некоторые дни Литургию. К восходу солнца никаких следов их присутствия не оставалось, и только сторож встречал и провожал немногочисленных экскурсантов.
Через две недели после того, как Годердзи поселился в лесу, выпал снег. Стало совсем холодно. Монахи сказали мальчику, чтобы он шел в Бета́нию: там живут два старца, которые наверняка его примут.
«Сколько еще я буду так ходить?» – думал Годердзи, спускаясь по склону горы.
Ему хотелось найти такого наставника, который, подобно Иоанну Зедазнийскому принял бы его в число учеников и открыл бы ему тайны монашеской жизни. Неужели ни одной такой общины не осталось во всей Грузии?
Путь от Зедазени до Бетании занял несколько дней. Сначала пришлось вернуться в Мцхету потом дойти до Тбилиси.
Город изменился за время его недолгого отсутствия. Он был весь обклеен плакатами, на которых изображалась женщина, одетая в красное, с грозным лицом и поднятой вверх левой рукой. В правой она держала текст с названием «Военная присяга», а надпись гласила: «Родина-Мать зовет!» Еще на одном плакате был изображен мужчина, тоже весь в красном, указывающий пальцем на зрителя. На плакате было написано: «Ты записался добровольцем?»
Годердзи знал, что еще в июне началась война, но до пригорода Тбилиси, где он жил, она дошла не сразу. Фронт был далеко, только время от времени уходили на войну жители города. Одним из первых ушел добровольцем дядя Гиви. Потом начали уходить другие мужчины. В семье говорили, что и Мишико могут забрать через год.
На одной из улиц Тбилиси мальчика остановил милиционер, принявший его за беспризорника:
– Куда идешь? – спросил он строго.
Годердзи ответил, что идет домой.
– Адрес.
Годердзи назвал точный адрес.
– Кто твои родители?
Он назвал имена отчима и матери, упомянул о брате и сестре. Сомнений, что он не беспризорник, не должно было остаться.
– А что у тебя в сумке?
– Учебники.
– Покажи.
Мальчик начал развязывать сумку, а сам лихорадочно думал, как сделать, чтобы милиционер не отнял Евангелие. Можно попытаться от него убежать, но тот наверняка догонит. Продолжая развязывать узел, Годердзи мысленно горячо взмолился святителю Николаю. И тут же раздался громкий сигнал. Резко затормозила патрульная машина. Милиционера окликнули, он подошел к ней и начал с кем-то разговаривать через открытое стекло. Мальчик постоял несколько секунд, потом тихо свернул в переулок, а там помчался со всех ног. Никто за ним не гнался.
Домой Годердзи не пошел, а отправился прямиком в Бетанию. Идти надо было сначала до Самадло́, оттуда по горной дороге через лес. Дорога шла поверх хребта, обрывы возникали то с одной, то с другой стороны. Снег в этих местах еще не выпал.
В какой-то момент дорога стала узкой и более крутой, и мальчик подумал, не сбился ли с пути. В Бетанию он ходил до того один раз, маршрут помнил смутно.
Лес стал совсем густым, а дорога превратилась в тропинку. И вдруг из тени вековых деревьев он вышел на вершину откуда открылась панорама горной долины. Склоны гор были сплошь покрыты золотыми и багряными деревьями. Краски осени ярко оживали под вечерними солнечными лучами, пробивавшимися из-за облаков. Внизу, в самой глубине долины, текла узкая горная речка. А на одном из склонов виднелся конусообразный купол древнего храма. За одним хребтом высился другой, более высокий: там уже снеговые шапки покрывали горные вершины.
Пока Годердзи ходил по монастырям, он видел много красивых пейзажей, но такого, от которого бы дух захватывало, нигде не видел. Он присел передохнуть. Какой-то нездешний, неземной покой царствовал во всем окружающем пространстве.
Судя по тому что купол был уже виден, идти оставалось недолго. Но так как мальчик шел много часов без перерыва, сил у него осталось совсем мало. Он сидел, прислонившись к камню, созерцал божественный пейзаж и готовился к последнему отрезку пути, тихо и непрерывно произнося про себя молитву.
Солнце, между тем, зашло за край горного хребта. Быстро начало темнеть, надо было спешить. Годердзи стал спускаться по склону в сторону храма и скоро потерял дорогу. Чем ниже он спускался, тем гуще становился лес, превращаясь местами в непроходимый бурелом. Он понял, что надо вернуться, чтобы окончательно не сбиться с пути.
Заночевать пришлось на горной седловине, откуда он видел монастырь. Когда он снова на нее выбрался, было уже совсем темно. Потом взошла луна и озарила окружающее пространство серебряным светом. Горы теперь казались совсем черными. Мальчик уснул на узкой площадке возле большого камня, и ничто не тревожило его детский сон.
Ночью было холодно, но он спал, не просыпаясь. Лишь утром, когда первые солнечные лучи ярко осветили его, он проснулся, почувствовав себя свежим и бодрым.
Оглянувшись по сторонам и снова увидев вдалеке купол монастыря, он мысленно наметил дорогу и отправился в путь. Сначала надо было спуститься к реке. Она оказалась не такой узкой, какой виделась с горной седловины: бурный поток с шумом несся среди каменных порогов. Мальчик зачерпнул рукой ледяную воду и сделал несколько глотков. Потом этой же водой умыл лицо.
Теперь, наконец, можно предстать перед бетанскими старцами.
Он помнил, что они молятся по утрам, и надеялся успеть к службе. Но, когда вошел на монастырский двор, никого не было. Оба храма оказались закрыты, и мальчик постучался в двери церковного дома.
Ему открыл отец Иоанн.
– А-а, Годердзи! – сказал он ласково, сразу вспомнив мальчика, который приходил два года назад и спрашивал, как можно стать монахом.
Годердзи обрадовался, что старец помнит его. Старец благословил его широким крестом, дал ему поцеловать руку, потом слегка приобнял за плечи. А тот вдруг припал к груди монаха и заплакал. Так долго он сюда шел и так долго ждал этой встречи, так соскучился по человеческому теплу и так мечтал остаться здесь, что чувства переполняли его сердце.
– Ну, что с тобой, иди присядь, – ласково говорил старец.
Он усадил мальчика за стол, дал ему успокоиться и принялся кипятить чай.
– Сейчас-сейчас, потрапезуем с тобой, – приговаривал он. – Устал ведь с дороги.
Мальчику было неудобно сидеть, пока старец суетится. Он быстро успокоился, вытер слезы и начал помогать ему. Тот заварил чай, достал хлеб и мед. Потом прочитал молитву, и они сели.
– Ну, поешь, – сказал старец.
Годердзи пил горячий чай, заедал его хлебом с медом, и никогда еще еда не казалась ему такой вкусной. От старца Иоанна исходила такая любовь, что ему казалось, будто это его родной отец.
Жизнь в монастыре подчинялась строгому распорядку. Вставали в середине ночи, шли в маленький храм и там читали полунощницу и утреню. Потом молились по четкам. Богослужение длилось часа три с половиной и заканчивалось с рассветом. Литургия совершалась два-три раза в неделю. На рассвете завтракали, потом монахи расходились на послушания, а монастырь оставляли на попечение сторожа. В течение дня монастырь выглядел как обыкновенный «объект культурного наследия», куда могли приехать пионеры или комсомольцы на экскурсию. Никакого монашеского присутствия в это время быть не должно: таков был молчаливый уговор с властями.
Под вечер, когда экскурсанты покидали обитель, монахи могли вернуться, но не раньше, чем стемнеет. Тогда они снова становились здесь хозяевами, читали в храме вечернее правило, потом ужинали и молились по кельям.
У них было большое хозяйство, располагавшееся отдельно от монастыря. По внешнему виду оно напоминало обычный хутор. Там были огороды, виноградник, пшеничное поле. Стояли хлев с четырьмя коровами, курятник с дюжиной кур, пчелиные ульи. Была даже мельница на речке, построенная руками отца Иоанна. Монахи производили сыр, масло и мед, делали вино, продавали эти продукты через посредников и на вырученные деньги содержали монастырь. Хлеб пекли сами.
Годердзи поселили в давно пустовавшей келье братского корпуса. Там было холодно и сыро, но он не замечал никаких неудобств. После многих ночей, проведенных в лесу или у ворот закрытых монастырей, спать на кровати казалось ему блаженством. Он и уснул почти сразу после того, как напился чаю, а проснулся только к вечерней службе.
Из двух монастырских храмов один – древний, большой, с конусообразным куполом – открывался по воскресеньям, когда из Тбилиси приезжали или приходили небольшие группы верующих. Иногда в храме даже крестили или венчали, а за Литургией могло собраться до двадцати человек.
В остальные дни богослужения совершались в маленьком храме без купола, вмещавшем не более десяти человек. Один из монахов обычно стоял в алтаре, другой читал и пел на клиросе. В тот вечер служил отец Иоанн, а читал отец Георгий.
На следующий день после утренней службы Годердзи отправился вместе с обоими старцами на хозяйство. Здесь работы был непочатый край. Надо выводить коров на пастбище и убирать за ними в хлеву. Надо их доить и носить молоко в тяжелых ведрах. Это оказалось нелегким делом, но после нескольких уроков Годердзи стал с ним справляться.
Обычно доением коров, изготовлением сыра и уходом за пчелами занимался отец Георгий. А отец Иоанн работал на мельнице, выводил коров на пастбище, занимался огородом и теплицей.
Мальчик помогал то одному, то другому монаху, но отец Георгий, кажется, больше в нем нуждался. Дел хватало на целый день, и как только одно заканчивалось, он сразу же поручал мальчику другое. Отец Иоанн иногда упрекал своего собрата:
– Жалко его, Георгий, он ведь ребенок.
Бывало, сам садился рядом с Годердзи, брал из его рук мотыгу и говорил:
– Ну давай посидим с тобой, передохнем.
Тогда отец Георгий подходил и говорил:
– Не ласкай ребенка, Иоанн, так из него ничего не выйдет.
Отец Иоанн, хотя и был на несколько лет постарше, отличался крепким здоровьем. С лысой головой, непременно прикрытой черной полинявшей шапочкой, с сияющими глазами, он всегда боялся, как бы отец Георгий не перетрудился. А тот – высокий, худой, с длинной бородой, тоже лысый и тоже в шапочке – отличался слабым здоровьем и часто болел.
Отец Иоанн начинал работать раньше своего собрата, чтобы успеть сделать больше, а тому оставить меньше. Когда Георгий приходил и пытался помочь Иоанну, тот говорил:
– Не надо, Георгий, я сам сделаю. Ты побереги себя.
Тогда Георгий делал более легкую работу и, если Иоанн заканчивал свои дела, присоединялся к нему. Теперь уже наступала очередь Георгия беспокоиться:
– Ты и так много работаешь, это я сам осилю. Будет лучше, если ты отдохнешь.
Иоанн, хотя и был игуменом, никогда этого не показывал. В нем вообще не было ничего начальственного. Скорее, даже наоборот: Георгий казался более властным и требовательным, чем игумен. С мальчиком он обращался строго. Тот приходил с работ таким усталым, что после вечерней службы сразу падал в кровать и просыпался под утро в той же позе, в какой лег.
Всем своим детским сердцем он прилепился к отцу Иоанну. Но и отца Георгия любил, никогда на него не обижался.
Однажды за ужином отец Иоанн рассказал ему свою историю. Он родился задолго до революции и еще совсем молодым уехал на Афон. Там он жил в скиту Иоанна Богослова, где в то время было около сорока грузинских монахов. Еще несколько грузин оставалось в Иверском монастыре, но в основном там жили греки.
Когда Афон из-под власти Турции перешел под власть Греции, оттуда начали потихоньку выгонять не-греков. Отцу Иоанну с другими монахами из Грузии пришлось покинуть Святую Гору и вернуться на родину. Здесь они разошлись по разным монастырям. Отец Иоанн попал в Бетанию.
Как-то раз в монастырь пришли чекисты и сказали, что отца Иоанна и другого монаха, который с ним жил, срочно вызывают в город. Вывели монахов из монастыря, а сами пошли за ними. Когда отошли на несколько сот метров от монастыря, чекисты выстрелили в монахов. Оба упали. Чекисты сбросили тела в овраг и ушли.
Но монахи выжили. У отца Иоанна пуля прошла через правую сторону груди и вышла наружу, а другому монаху пуля попала в голову, но не задела мозг. О случившемся узнали некоторые друзья монастыря в Тбилиси. Они пришли, нашли истекающих кровью монахов и отвезли их в Самтавро. Там матушки выходили обоих. Второй монах впоследствии покинул Бетанию, а отец Иоанн остался и стал игуменом.
Потом сюда пришел Георгий, и они зажили вдвоем. Георгий, в прошлом учившийся в кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, оказался добрым помощником. Помимо работ по хозяйству, он еще привел в порядок монастырскую библиотеку: подклеил и отреставрировал старинные книги, расставил их по полкам.
Годердзи очень хотелось познакомиться с этими книгами, но времени на чтение совершенно не оставалось: службы и хозяйственные работы полностью занимали весь день.
Прошло две недели, зима вступила в свои права, все окрестные горы завалило снегом. Годердзи втянулся в ритм монастырской жизни. Он надеялся, по крайней мере, перезимовать в Бетании, а если Богу будет угодно, то и остаться здесь навсегда.
Но оказалось, что и тут нельзя долго задерживаться. Однажды после вечерни отец Георгий сказал ему:
– Годердзи, мы тут оба с отцом Иоанном на полулегальном положении. Тебе только двенадцать лет. Приходи, когда исполнится восемнадцать. А пока возвращайся к матери, она ждет тебя.
Всю ночь он проплакал. Наутро, после службы, отец Георгий предложил показать ему большой храм. Взял связку ключей и с грохотом отворил двери.
Внутри было холодно и сумрачно. Все стены покрыты росписями, которые где-то сохранились полностью, где-то частями.
– Смотри, Годердзи, – сказал отец Георгий, указывая на полукруглую стену над алтарем, – там наверху находился образ Спасителя, но от него почти ничего не осталось. А это, – он показал на следующий ряд, – пророки, которые предсказывали пришествие Спасителя. Под ними – апостолы. А еще ниже святители Иоанн Златоуст и Василий Великий, которые составили текст Литургии. А вот четыре евангелиста – Матфей, Марк, Лука, Иоанн.
Мальчик смотрел, как зачарованный. Монах повел его дальше, показывал ему образы святых, рассказывал о некоторых из них.
Годердзи не хотелось уходить, но он понимал, что не надо ждать, пока второй раз скажут. Он поблагодарил отца Георгия и направился к выходу.
Снаружи стоял отец Иоанн. Он сказал ему:
– Мы будем ждать тебя, Годердзи. Подрастешь – возвращайся.
Слезы подступили к горлу мальчика. Он молча поцеловал руку отца Иоанна, потом отца Георгия.
– Я тебе там кое-что положил в сумку, – сказал отец Иоанн, провожая его до ворот монастыря. – Потом посмотришь.
Годердзи пошел, не оборачиваясь. Он плакал и не хотел, чтобы монахи это видели. Обернулся, только когда прошел достаточное расстояние. Два старца все еще стояли у ворот и смотрели ему вслед.
Остановился он на том же перевале, где ночевал по дороге в Бетанию. Здесь заглянул в сумку. Туда отец Иоанн положил два батона белого монастырского хлеба, сыр, свежие огурцы, а еще книжку, завернутую в бумагу. Развернув, Годердзи прочитал: «Преподобный Исаак Сирин. Слова подвижнические».
Спустя пару месяцев, когда началась весна, мальчик вернулся домой. Мать встретила его ласково, ни в чем не винила. Сказала, что не будет мешать ему жить так, как он хочет. Только просила больше не уходить из дома.
Год спустя он окончил шестой класс и больше не стал учиться: помогал матери, которая работала на мясокомбинате. А после войны помогал отчиму на пекарне.
К тому времени, когда отчим умер, Мишико отбывал тюремный срок. Осудили его за хищение в особо крупных размерах. В тюрьме он заболел туберкулезом и умер в тридцать с небольшим.
Годердзи отслужил три года в армии, вернулся в родной дом. После демобилизации ему поставили психиатрический диагноз за то, что он, будучи в армии, все время говорил о Боге и ангелах. «Психопатическая личность, склонная к шизофрении», – таков был приговор врачей.
Несмотря на это, по благословению Грузинского Патриарха он стал дьяконом, постригся в монахи с именем Гавриил и вскоре стал священником. Но душа его не лежала к служению на приходе. Он хотел жить в монастыре. Все эти годы он не расставался с книгой Исаака Сирина.
Если нападало уныние и молиться не хотелось, он открывал книгу и читал: «Когда случится, что душа твоя внутренне облекается тьмой – а это естественно для чина безмолвия – и, подобно тому, как солнечные лучи закрываются от земли облачной мглой, душа на некоторое время лишается духовного утешения и света благодати по причине осеняющего душу облака страстей, и несколько умаляется в душе твоей радостотворная сила, и ум осеняет необычная мгла, ты не смущайся умом и не подавай руку отчаянию. Но терпи, читай книги учителей, принуждай себя к молитве и жди помощи. Она придет скоро, без твоего ведома».
Но бывали дни, когда уныние не отступало, и тогда он следовал другому совету преподобного Исаака: «Если не имеешь ты силы совладать с собой и пасть на лицо свое в молитве, накрой голову мантией своей и спи, пока не пройдет для тебя этот час омрачения; только не выходи из кельи своей. Этому искушению подвергаются более всего желающие проводить жизнь умственную и в шествии своем взыскующие утешения веры».
Официально действующих монастырей в Грузии не осталось вообще, но в Бетании еще теплилась монашеская жизнь: там оставался в живых один из двух старцев. И Гавриил попросился туда. Патриарх дал благословение.
Прошло без малого двадцать лет с тех пор, как он пришел в Бетанию двенадцатилетним мальчиком. И вот он снова идет по той же дороге, на которой тогда заблудился, и снова видит фантастическую панораму гор и церковь с конусообразным куполом. Только теперь не поздняя осень, а ранняя весна, и горы покрыты свежей зеленью.
Войдя в монастырь, он увидел, как многое изменилось за прошедшие годы. Трава во дворе нескошенная, дом неприбранный. На всем монастыре лежала печать запустения.
Еще хуже оказалось на хозяйстве. Поле пшеничное много лет не косили, корова в хлеву осталась одна, куры исчезли, пчелы покинули ульи. Теплица покосилась и упала, а мельница давно уже не работала. Чтобы все это привести в порядок, требовалось много рабочих рук.
Отец Георгий после смерти отца Иоанна принял схиму с именем Иоанн. Удивительно, но за прошедшие годы он не только по имени, но и по внешнему облику стал похож на своего умершего собрата. Он стал мягче, проще, добрее. Не было уже в нем строгости по отношению к другим, он только оставался строг к самому себе. Часто болел.
Жил в монастыре еще один тяжело больной – иеромонах Василий. Сравнительно молодой, он выглядел крайне истощенным, почти непрерывно кашлял кровью. У него был туберкулез в последней стадии, и вскоре после приезда Гавриила он умер.
Гавриил остался один с отцом Иоанном. Когда тот мог вставать, они вместе молились в храме: обычно Гавриил служил, а Иоанн читал на клиросе. Когда тот болел, Гавриил служил один, а потом приходил к Иоанну и причащал его. Нередко он сидел у одра старца и читал вслух утреню или вечерню или вместе с ним молился по четкам.
Через год после прихода Гавриила в Бетанию отец Иоанн написал Патриарху: «Я постарел и обессилел, соизвольте назначить вместо меня Гавриила». Он опасался, что после его смерти в Бетании окончательно иссякнет монашеская жизнь. Но Патриарх велел ему передать, чтобы он оставался игуменом до смерти.
Однажды у отца Иоанна начались сильные боли в боку и пояснице. Его племянник, работавший врачом, отвез его в Тбилиси на обследование. Врачи ничего не смогли обнаружить, и он вернулся в Бетанию. Там отец Гавриил ежедневно служил Литургию и причащал его.
Как-то раз, придя в келью к старцу, он увидел его стоящим на ногах:
– Гавриил, мне явилась Пресвятая Богородица, прикоснулась к больному месту и исцелила меня, – сказал он.
Но прошло несколько месяцев, и начались новые болезни. Старца привезли в Тбилиси, сделали ему сложную операцию. Через несколько дней, предвидя скорую смерть, он попросил, чтобы его вернули в монастырь. Здесь его ждал отец Гавриил, который снова стал ему прислуживать.
После операции старец таял на глазах. Каждый день Гавриил опасался, что он умрет.
Однажды по благословению Патриарха он отправился в Мцхету, чтобы отслужить Литургию в соборе Светицховели. Когда он находился там и молился в келье, внезапно услышал голос:
– Иди скорее в Бетанию!
Оделся, взял посох и отправился в путь. По дороге купил несколько хлебов. Попутных машин не было, он шел пешком, но голос все время торопил его:
– Не останавливайся, иди быстрее!
Когда он пришел в монастырь, уже смеркалось. Отец Иоанн ждал его:
– Я молился, сын мой, чтобы ты пришел ко мне и прочел молитвы на исход души.
Выглядел он бодрее, чем когда Гавриил уходил. Признаков приближающейся смерти не было. Гавриил положил на стол хлеб, старец благословил его и сказал:
– Ты очень устал с дороги, подкрепись немного.
Затем преломил хлеб, взял себе небольшой кусок и сказал:
– Это моя последняя трапеза.
– Бог милосерден, ради нас продлит твою жизнь, – сказал отец Гавриил. – Не будет тебя, не будет здесь иночества.
– Не мною начиналось, не мною закончится, – ласково ответил отец Иоанн. – Пора последовать за моим духовным братом. И воля моя – быть похороненным рядом с ним. Мы вместе перенесли много трудностей и гонений. Сегодня он сказал мне, что уже проторил дорогу, и теперь мы будем вместе.
После этого старец велел отцу Гавриилу читать канон на исход души. Тот ответил:
– Отче, хотелось бы мне умереть раньше тебя и вместо тебя!
– Ты не знаешь, что говоришь, – старец встал с одра и начал сам читать канон. Только после этого отец Гавриил осторожно отобрал у него книгу и продолжил чтение. Старец снова лег.
Когда оно окончилось, старец попросил его почитать молитву Иисусову по четкам. Тот прочитал сто, двести, триста молитв. Когда он читал четвертую сотницу, старец вдруг прервал его:
– Видишь, сколько монахов пришло?
И поведал, что видит монахов, которые жили в Бетании на протяжении веков. А затем сказал:
– Знай, Гавриил, когда я уйду, тебя недолго оставят в монастыре. Монастырь опустошат, но я не оставлю Бетанию. Тебя ждут большие скорби и испытания, но не бойся, Господь защитит и укрепит тебя. И я всегда буду с тобой.
Прошло еще несколько минут, отец Гавриил тихо читал Иисусову молитву, старец слушал. Вдруг он вздрогнул, радость появилась на его лице, и он сказал:
– Мой брат отец Иоанн пришел ко мне, а вместе с ним…
Он не договорил. Голова его опустилась на грудь, и он предал дух Богу.
Всю ночь отец Гавриил молился у одра старца. А наутро пришли монахи от Патриарха, которых как будто бы кто-то оповестил о кончине отца Иоанна. Патриарх сам совершил отпевание. Перед погребением отец Гавриил положил усопшему на грудь Евангелие. Похоронили отца Иоанна рядом с его духовным братом.
Сорок дней отец Гавриил служил панихиду по новопреставленному старцу Иоанну, а по субботам – заупокойную Литургию.
Когда же дни поминовения прошли, в монастырь явились представители властей в сопровождении милиции и потребовали, чтобы он покинул Бетанию:
– Нам тут монахи не нужны. Это исторический памятник, где люди должны ходить свободно. Если еще раз увидим тебя здесь, арестуем и посадим в тюрьму.
Был пасмурный ноябрьский день, когда отец Гавриил покидал Бетанию. Он шел, не оборачиваясь. На душе было тоскливо. «Я сейчас лодка, брошенная в море без весел, – думал он. – Нужен духовный наставник, как дому – фундамент».
Конечно, у него есть Исаак Сирин, который всегда приходил на помощь. Но что может заменить живое общение с живыми святыми? А в том, что оба Бетанских старца – и Иоанн, и недавно почивший Георгий-Иоанн – святые, он ни на минуту не сомневался.
Поднявшись к перевалу, откуда можно было в последний раз взглянуть на монастырь, он остановился. Вновь увидел бесконечную панораму гор, высящихся по обеим сторонам долины. Внезапно косой солнечный луч прорезал толщу облаков и упал на купол главного монастырского храма.
Идти было некуда, нигде его не ждали.
Он присел у большого камня и достал из сумки Новый Завет. Книга раскрылась на первой главе Апокалипсиса: «Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей… Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице Моей, и семи золотых светильников есть сия: семь звезд суть ангелы семи церквей; а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей».
Он закрыл книгу. У каждой Церкви, подумал он, есть ангел: у Грузинской свой, у Русской свой. И у каждого монастыря есть ангел, и у каждого храма, даже разрушенного.
Он понял, чем займется в ближайшие годы.
Пришел в Тбилиси, собрал небольшую группу прихожан. И стал вместе с ними путешествовать по городам и селам. Ни один разрушенный храм не пропускал.
Приходили обычно поздно вечером, читали молитвы на сон грядущим, правило ко Святому Причащению, молитвы утренние. А когда забрезжит рассвет, он начинал Литургию.
Ходили и в дождь, и в стужу. Иногда руки так коченели, что трудно было перевернуть страницы молитвенника.
Совершив службу на развалинах храма, он говорил:
– Здесь, над этим фундаментом, плачет ангел-хранитель храма, потому что никто не приходит сюда молиться.
Но он верил, что молитвы дойдут до Господа и настанет день, когда ангелы возрадуются, ибо наполнится Грузия храмами, монастырями, священниками и монахами.
Портрет
Иеромонах Гавриил (Ургебадзе)
Утром тридцатого апреля 1965 года народный художник Грузинской ССР Вано Иоселиани, стоя на высокой стремянке, наносил масляной краской последние штрихи на восьмиметровый портрет Ленина. Через несколько часов портрет должны установить на фасаде здания Совета министров.
Художник доволен работой. Вождь мирового пролетариата изображен улыбающимся, с характерным прищуром, знакомым каждому гражданину великой и могучей страны советов.
На самом деле портрет был закончен заблаговременно, но сегодня придет комиссия из ЦК партии, чтобы полюбоваться им. Художнику предложено изобразить окончание работы. И вот он тоненькой кисточкой наносит на мочку уха Ильича последние штрихи в тот самый момент, когда в павильон один за другим входят члены комиссии.
– Здравствуйте, Вано Зурабович! – дружно приветствуют они выдающегося художника.
– Здравствуйте, товарищи! – художник поворачивается к входящим, и счастливая улыбка застывает на его лице.
– Как идет работа над портретом? – спрашивает глава комиссии, пожилой полный человек с большой блестящей лысиной, точь-в-точь как у Ильича. Он останавливается на почтительном расстоянии от стремянки, и ему приходится задирать голову при разговоре с художником.
– Заканчиваю, уважаемый Павел Александрович. Последние штрихи, – бодро отвечает художник, нанося мазок бежевой краской.
Затем проворно спускается со стремянки, вытирает правую руку о фартук и, продолжая в левой держать палитру и кисть, пожимает руку каждому члену комиссии.
– Здравствуйте, Павел Александрович! Приветствую, Вахтанг Гурамович! Добрый день, Русудан Иосифовна! Рад вас видеть, Леонид Петрович! С наступающим, Звиад Шалвович! Давно не виделись, Абрам Ильич!
Все утро он заучивал имена гостей и сейчас безошибочно называет их. Это производит впечатление:
– Какая у вас замечательная память! – говорит Русудан Иосифовна.
– Благодарю, – художник скромно опускает глаза.
– Ну что ж, – Павел Александрович похлопывает художника по плечу, – позвольте поздравить с завершением работы! Думаю, у товарищей не будет претензий к живописи? Всем нравится?
Все дружно одобрительно кивают.
– Выдающееся произведение искусства! Социалистический реализм высшей пробы! – восхищается Павел Александрович. – Как живой, правда ведь?
Все опять дружно кивают, а Звиад Шалвович говорит:
– И какая добрая, светлая улыбка у Ильича!
Тут Русудан Иосифовна спрашивает художника:
– Сколько же времени у вас заняла работа над таким грандиозным полотном?
– Три с половиной месяца.
– Но ведь вы работали не один?
– Конечно. Были помощники. Я нарисовал эскиз, потом написал портрет маслом в одну десятую размера, а потом его надо было увеличить. Но, как вы понимаете, это ручная работа, вовсе не механическая.
– Понимаю, понимаю.
– Ведь важно, чтобы сохранились все пропорции.
– Ну а, скажите… – начал было Звиад Шалвович, но Павел Александрович не дал ему задать вопрос:
– Товарищи, давайте поздравим Вано Зурабовича с очередным выдающимся достижением и пожелаем ему дальнейших успехов в труде!
Сказав это, Павел Александрович зааплодировал. Тотчас же вслед за ним захлопали в ладоши Вахтанг Гурамович, Русудан Иосифовна, Леонид Петрович, Звиад Шалвович и Абрам Ильич.
Потом все отправились в соседнюю комнату, где размещались многочисленные скульптурные изображения Ленина и других деятелей революции. Там был накрыт стол. Гостей ждала бутылка шампанского, были приготовлены бутерброды со шпротами и красной икрой, ломтиками нарезана докторская колбаса, стояли тарелки со свежими овощами и зеленью. Начали с шампанского, потом откуда-то появилась водка, а под конец принесли чачу. Разговор, начавшийся в павильоне на русском, здесь продолжился на грузинском.
Прощаясь с высокими гостями из ЦК, Вано Зурабович пожал каждому руку и снова, несмотря на принятую изрядную дозу алкоголя, безошибочно назвал каждого по имени-отчеству.
Утром первого мая в тбилисском храме Святой Троицы совершалась Литургия. Служил молодой иеромонах высокого роста с большими черными глазами и короткой бородой.
Была суббота Пасхальной недели, поэтому Литургия началась с многократного пения: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».
Священник служил вдохновенно, энергично. Много раз в начале службы, взмахивая кадилом, восклицал, обращаясь к прихожанам:
– Христос воскресе!
Немногочисленные прихожане отвечали:
– Воистину!
Богослужение, как обычно, совершалось на грузинском языке. Трехголосный мужской хор пел стройно. Средний голос вел основную мелодию, верхний и нижний следовали за ним. Это древнее пение сохраняется в Грузинской Церкви с незапамятных времен.
Священник служил без дьякона и сам произносил:
– Миром Господу помолимся!
– О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.
– О мире всего мира, благостоянии Святых Божиих церквей и соединении всех Господу помолимся.
– О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь Господу помолимся.
На каждое прошение хор отвечал:
– Господи, помилуй.
Служба шла своим чередом, но чем дальше, тем больше в храм врывалась бодрая музыка снаружи. Священник под пение хора тихим голосом произносил по-грузински:
– Иже Херувимы тайно образующе, и Животворящей Троице трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложи́м попечение…
А снаружи бодрый баритон пел по-русски:
– Будет людям счастье, счастье на века; у советской власти сила велика!
И многоголосый смешанный хор подхватывал:
– Сегодня мы не на параде, мы к коммунизму на пути. В коммунистической бригаде с нами Ленин впереди!
Священник с евхаристическими сосудами в руках, стоя перед царскими вратами лицом к народу, произносил нараспев:
– Святейшего и Блаженнейшего отца нашего Ефрема, Католикоса-Патриарха всея Грузии, да помянет Господь Бог во царствии Своем…
А на улице бодрый баритон продолжал:
– Мы везде, где трудно, дорог каждый час, трудовые будни – праздники для нас.
И вновь хор подхватывал:
– Сегодня мы не на параде, мы к коммунизму на пути…
Закончили службу. Священник не стал произносить проповедь, потому что все равно никто бы ничего не расслышал. Только трижды громко возгласил в конце:
– Христос воскресе!
И трижды в ответ услышал какое-то робкое и подавленное:
– Воистину!
Когда по окончании Литургии священник снимал с себя облачение, пожилой алтарник сказал ему:
– Плохая была идея служить на первое мая. Лучше было отменить службу.
Священник ничего не ответил, но алтарник, взглянув на него, ужаснулся: в его глазах горел какой-то страшный огонь; казалось, что он взглядом готов испепелить любого, кто приблизится к нему. Священник вообще-то был со странностями, мог и выпить лишнего, и не в меру веселым иногда казался. А иногда, наоборот, плакал на службе. Но таким, как сейчас, алтарник его еще никогда не видел. Испуганный, он отошел в сторону.
Сняв облачение, священник направился к Свято-Георгиевскому храму в Кашвети. Этот храм расположен на проспекте Руставели почти прямо напротив здания Совета министров. Подходя к храму, священник увидел гигантский портрет Ленина, размещенный на фасаде этого здания. Несмотря на то, что ярко светило солнце, портрет был обрамлен гирляндой электрических лампочек.
Мимо храма шли нарядно, но единообразно одетые юноши и девушки. Над головами они несли большие транспаранты с надписями: «Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!»; «Да здравствует Первое мая!»; «Слава Ленину, слава партии!» Надписи были как на русском, так и на грузинском языке.
Из репродукторов многоголосый смешанный хор пел:
– В буднях великих строек, в веселом грохоте, в огнях и звонах, здравствуй, страна героев, страна мечтателей, страна ученых! Ты по степи, ты по лесу, ты к тропикам, ты к полюсу легла, родимая, необозримая, несокрушимая моя.
А дальше на другую мелодию звучал припев:
– Нам нет преград ни в море, ни на суше, нам не страшны ни льды, ни облака. Пламя души своей, знамя страны своей мы пронесем через миры и века!
Шли девочки в белых платьях с цветами в обеих руках, девочки постарше в темных блузках с красными бантами на груди, мальчики в пионерских галстуках. За ними мужчины, одетые в парадные костюмы, и женщины в нарядных платьях. Группы людей чередовались с движущимися на колесах конструкциями, задрапированными красной тканью: наверху каждой конструкции стоял либо выполненный из гипсокартона памятник Ленину либо портрет Ленина.
Священник застыл на крыльце храма и не двигался с места. Проходящие мимо демонстранты при виде человека в рясе с крестом на груди удивленно смотрели друг на друга.
Тенор из репродуктора пел:
– Мы живем под солнцем золотым, дружно живем! Мы горды Отечеством своим, любим свой дом! Мы горды Отечеством своим, все пути открыты молодым! Светлые края, Родина моя, всюду у тебя друзья!
Хор подхватывал:
– Клятву дают народы! Пусть зеленеют всходы! Реют знамена свободы! Молодость идет, молодость зовет, молодость идет вперед!
Под эту музыку продолжалось шествие: снова шли девушки, поднимая вверх обручи и шесты, из которых складывались геометрические фигуры. За девушками – парни в спортивных костюмах с портретом первого секретаря ЦК компартии Грузии Мжаванадзе. А дальше ехала конструкция на колесах с очередным портретом Ленина.
Постояв несколько минут, священник резко развернулся и зашел в храм. Там пожилая женщина протирала низ позолоченного напольного подсвечника. В руке у нее была бутылка с керосином:
– Тамара, дай керосин.
Она узнала его и, распрямившись, ответила:
– Вот, возьми, батюшка.
– А побольше бутылка есть?
– Есть литровая.
– Принеси. И коробок спичек.
Она пошла в ризницу и через несколько минут вернулась с бутылкой и спичками. Он стоял перед большим распятием и молился. Она нерешительно отошла в сторону. Широко перекрестившись, он обернулся к ней и сказал:
– Христа распяли, а они празднуют! Ну все, хватит. Иду на муки, Господи!
Она остолбенела. Он имел вид одержимого. Глаза горели, все тело было напряжено, как натянутая струна.
– Что ты такое задумал, отец Гавриил?
– Дай сюда керосин и спички!
– Господи, спаси! Что это ты задумал, батюшка? – она широко раскрыла глаза.
Он молча взял бутылку и спички и быстро вышел на улицу. Дверь храма за ним громко захлопнулась.
– Боже мой, Боже мой! Что он такое задумал? – шептала женщина, с ужасом глядя на дверь.
После того, как мимо Кашветского храма прошли организованные шеренги пионеров и комсомольцев, началось шествие обычных граждан. Они не были выстроены в шеренги и не были одеты в единообразные костюмы. Дети несли в руках воздушные шарики, родители шли с букетами цветов и весело разговаривали между собой.
Из репродуктора звучал женский голос:
– Поднимется солнце, заглянет ко мне, засветится ярко портрет на стене. И, словно желая мне доброго дня, Ильич как живой поглядит на меня. Я ленинцем быть настоящим хочу, чтоб смело смотреть мне в глаза Ильичу!
Вдруг глаза всех устремились на портрет Ленина, размещенный на фасаде здания Совета министров. Он загорелся! Сначала пламя охватило нижний правый угол портрета, потом быстро поползло вверх – и в считанные секунды все полотно было охвачено ярким пламенем. Огненные языки лизали уши Ильича, его нос, глаза и губы. Там, где только что была улыбка, образовалась черная дыра, которая быстро расползалась в стороны. Лампочки по краям портрета лопались со звуком, напоминающим звуки выстрелов.
В толпе началась паника. Испугавшись, что это теракт, люди стали разбегаться в разные стороны. Перед горящим портретом на несколько секунд образовалось свободное пространство. И тут все увидели, что возле него на возвышении стоит человек в темном одеянии до пят, с большим крестом на груди, и что-то кричит, размахивая руками. Те, кто поближе, слышали сквозь продолжающуюся бравурную музыку:
– Как вы можете поклоняться антихристу? Надо славить Господа Бога, Христа! Не «слава Ленину», а «слава Иисусу Христу»!
Увидев, что возле портрета никого нет, кроме какого-то сумасшедшего, размахивающего руками, толпа ринулась к нему, повалила его на землю. Его били руками и ногами, по голове, по животу и по спине, он перекатывался по земле, закрыв лицо ладонями.
Когда через несколько минут на бронемашине приехал вызванный в срочном порядке отряд солдат, на месте портрета стоял железный каркас, на котором болтались обгоревшие куски ткани. Все лампочки полопались. А на земле в луже крови лежал человек.
– Расступитесь! – скомандовал начальник отряда.
Толпа расступилась, солдаты взяли тело и поволокли к бронемашине.
Народ не расходился, бурно обсуждая невиданное происшествие. И, хотя бодрая мажорная музыка еще долго не смолкала, мужские и женские голоса еще долго на разные лады прославляли партию и Ленина, праздник был испорчен.
Подоспела милиция, здание оцепили, людей попросили разойтись. В конце концов и музыка смолкла.
Когда он начал приходить в сознание, первое, что он почувствовал, была жгучая боль по всему телу.
Он попытался открыть глаза. Правый не открывался вообще, левый приоткрылся немного. Он увидел, что лежит на сером бетонном полу в небольшой тюремной камере с такого же цвета бетонными стенами. Косой луч солнца падал на пол из маленького зарешеченного окошка.
Попытался повернуться – и его пронзила острая боль. Остался лежать на левом боку, закрыв глаза.
Сколько он так пролежал, он не знал, но в какой-то момент щелкнул замок железной двери, она отворилась, кто-то вошел и громко крикнул:
– Встать!
Он попытался пошевелиться, но не смог.
– Встать, тебе говорю! Ты у меня за все ответишь, поджигатель.
Он попытался встать, повернулся на живот, уперся руками в пол, после больших усилий смог встать на четвереньки.
Последовал удар дубинкой по спине:
– Быстрее!
Он попытался распрямиться, но не смог.
– Быстрее, тебе говорю!
Удар по голове.
Он потерял сознание.
В следующий раз он очнулся на больничной койке. Теперь он лежал на кровати, голова была забинтована. Он открыл оба глаза, оглядел небольшую больничную палату: койки стояли в ряд, на них лежали люди, окна были зарешечены. За полуоткрытой дверью маячила фигура часового в военной форме.
Вошла медсестра, увидела, что он открыл глаза:
– Очнулся, – сказала она не то чтобы ласково, но и не строго.
– Какое число? – спросил он.
– Шестое мая.
Значит, он пролежал без сознания почти неделю.
У него было семнадцать переломов, несколько дней его интенсивно лечили, он начал вставать и ходить по палате. А когда закончились майские праздники, перевели в одиночную камеру и вскоре вызвали на допрос.
Пожилой следователь по фамилии Цинцадзе сидел во главе стола. По правую и левую руку от него сидели другие лица, которые иногда подключались и задавали вопросы.
– Почему вы сожгли портрет великого Ленина? – спрашивали они.
– Почему сжег? «Слава великому Ленину»? Слава украшает Христа Бога!
– Вы совершили государственное преступление. Вы сожгли портрет человека, перед которым преклоняются миллионы людей. Чуть не подожгли здание Совета министров.
– Так возьмите меня и расстреляйте!
– Вы это сделали по заданию церкви?
– Нет, я сделал это самостоятельно.
– Назовите сообщников.
– Не было сообщников. Я один все задумал и сделал во славу Христа, распятого и воскресшего!
– И вы действительно верите в Христа? В то, что Он воскрес?
– Верю. А вы не верите? Если бы Он не воскрес, зачем был бы мне нужен мертвый Христос? И разве апостолы приняли бы смерть за Христа, если Он не воскрес?
Постепенно следователи приходили к убеждению, что перед ними сумасшедший. Его стали водить к психиатрам. Но он и тем говорил:
– Христос воскрес, а ваш Ленин мертв. Наступит время, и памятники ему вы своими же руками сбросите.
Пока шли допросы, священник находился в следственном изоляторе, в одиночной камере. Здесь он мог беспрепятственно молиться. Приложив ухо к двери камеры, охранник иногда слышал монотонное чтение, а иногда громкое пение. Иной раз казалось, что заключенный читает что-то по книге, хотя книг у него не было.
Когда допросы закончились, его перевели в общую камеру, где сидели рецидивисты и воры в законе. Те поначалу встретили его враждебно, издевались над ним, заставляли его выносить ведро с нечистотами. Но он этим совсем не гнушался. Постепенно настроение сокамерников стало меняться, они прониклись уважением к необычному священнику, который не побоялся сжечь портрет Ленина на глазах тысяч людей.
Однако привлекало к нему не это, а то, что он рассказывал интересные истории о Христе и о святых. По вечерам уголовники рассаживались вокруг него, и он начинал свои истории. Пересказал им все Евангелие, поведал о древних христианских мучениках, о преподобных отцах. Говорил о Богородице, ангелах и бесах.
Авторитет священнику добавило упоминание о том, что его родной брат Мишико, умерший в тюрьме несколько лет назад, был известным вором по кличке «Двуглавый». Заключенные очень обрадовались, когда услышали имя этого легендарного вора в законе.
Утром и вечером священник вставал на молитву. Поначалу он делал это один, потом к нему стали присоединяться другие заключенные. Дошло до того, что едва ли не половина камеры начинала день с молитвы и заканчивала молитвой.
Если он видел, что сокамерники ссорятся, он старался их помирить. Несколько раз пытался разнимать дерущихся, так что и сам получал по голове. Пытался отучить уголовников от матерной брани. И хоть не имел в этом особого успеха, по крайней мере в его присутствии они старались не произносить грязных слов.
Постепенно он приобрел такое уважение сокамерников, что, если брал в руку половую тряпку они выхватывали ее у него со словами:
– Мы все сделаем, ты только говори с нами.
И он говорил. Больше всего говорил о любви:
– Доброта откроет вам дверь рая, смирение введет в него, а любовь поможет увидеть Бога. Только в настоящей любви можно увидеть Бога, так как Бог есть Любовь.
Его спрашивали:
– Как этому научиться?
Он отвечал:
– Господь показывает несчастья других, чтобы нам научиться не быть равнодушными. Если можешь помочь ему помоги. Если делом не можешь помочь, хотя бы поддержи, помолись о нем.
Еще он часто говорил: