Посткоммунистические режимы. Концептуальная структура. Том 1 бесплатное чтение
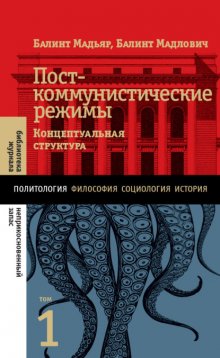
Bálint Magyar, Bálint István Madlovics
THE ANATOMY OF POST-COMMUNIST REGIMES
A Conceptual Framework
Иллюстрация на обложке: © Picture by IADA on iStock
© Bálint Magyar, Bálint Madlovics, 2022
© Ю. Игнатьева, перевод с английского, 2022
© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2022
© ООО «Новое литературное обозрение», 2022
Слова благодарности
Когда в конце 2016 года мы задумывали эту книгу, планировалось, что это будет разработка концептов, описанных в статье Балинта Мадьяра «К терминологии посткоммунистических режимов», которая вошла в сборник трудов «Жесткие структуры: переосмысление посткоммунистических режимов» (Будапешт; Нью-Йорк: Изд-во ЦЕУ, 2019). Сейчас эта книга представляет собой нечто гораздо большее, и это было бы невозможно без поддержки множества людей, помогавших на различных стадиях ее написания.
В процессе работы над книгой авторы были стипендиатами различных программ Института передовых исследований Центрально-Европейского университета (ЦЕУ) и Научно-исследовательского экономического института в Будапеште. Помимо финансовой помощи, мы чрезвычайно благодарны ЦЕУ за прекрасные исследовательские условия, включая доступ к превосходной библиотеке и ряду научных журналов. Институт передовых исследований ЦЕУ также помог организовать семинар совместно с международными исследователями, который стал одним из трех мероприятий, где обсуждалась концепция данной работы. За организацию двух других семинаров (с участием венгерских ученых) мы благодарим Институт Republikon, а также Институт социальных отношений при Факультете общественных наук Университета имени Лоранда Этвёша (ELTE). Мы получили полезные замечания и признательны всем, кто участвовал в обсуждении, в особенности Александру Фисуну, Михаилу Минакову, Николаю Петрову, Андрею Рябову (семинар ЦЕУ), Габору Хорну, Марии М. Ковач, Йожефу Петеру Мартину, Петеру Михайи (семинар Republikon), а также Дьёрдю Чепели, Золтану Флеку, Палу Юхасу и Анталу Оркень (семинар ELTE).
Кальман Мижеи, преданный сторонник нашего проекта на протяжении долгих лет, посетил два из этих трех семинаров. Эта работа была бы невозможна без его уникального взгляда на постсоветские страны. Мы благодарим его за абсолютное бескорыстие, с которым он поделился с нами своими знаниями и опытом. Те же слова мы могли бы адресовать Ивану Селеньи, которому признательны за чтение рукописи и другую помощь в ходе проекта.
Моделировать траектории режимов (см. Главу 7) нам помогали несколько экспертов-страноведов, а именно: Аттила Ара-Ковач, Андраш Берецки, Золтан С. Биро, Мария Чанади, Андраш Деак, Андраш Кёрёшеньи, Кальман Мижеи, Милош Ресимич и Петер Вамош. Мы благодарим их за визиты в ЦЕУ, готовность отвечать на наши вопросы и анализировать данные. Выражаем признательность Будапештскому центру исследования коррупции и лично Иштвану Яношу Тоту, который проанализировал более ста тысяч госзакупок Венгрии. Мы использовали результаты его исследования для краткого комплексного анализа эволюции коррупции в Венгрии (см. Главу 5). Мы также признательны Тибору Сатмари и команде RenderNet, которая разработала 3D-модель нашей «треугольной» концепции, а также Габору Лигети за его помощь в создании веб-сайта книги (www.postcommunistregimes.com).
Мы выражаем особую благодарность студентам курса Алены Леденёвой «Управление и коррупция» (Университетский колледж Лондона, осень 2019 года), которые прочитали раннюю версию рукописи и внесли наиболее ценные предложения. Благодарим также Майкла С. Зеллера за его комментарии и компетентную редактуру. Мы получили критические замечания от Андраша Бозоки, Ласло Чабы, Генри Е. Хейла и Юлии Кирай. Нам также помогали Клаудия Баез-Камарго, Балаж Бенкё, Янош Борис, Жольт Эньеди, Миклош Харасти, Давид Янчич, Янош Корнаи, Мартон Козак, Балаж Кремер, Алена Леденёва, Армен Мазманян, Клара Шандор, Карой Аттила Шоош, Андреа Сабо, Янош Секи, Мердад Вахаби, Эва Вархеди, Балаж Ведрес и Цзяннань Чжу. Мы признательны всем им.
Мы счастливы, что у нас есть семья и дети, которые помогали нам на протяжении всего времени работы над рукописью, начиная от замысла и заканчивая последними штрихами. Простое «спасибо» не может выразить нашей благодарности. Без них у нас не было бы сил закончить этот труд и с радостью и энтузиазмом над ним работать.
Никто из перечисленных выше людей не несет ответственности за ошибки или мнения, высказанные в этой книге.
Дополнительные онлайн-материалы
Веб-сайт www.postcommunistregimes.com создан по материалам данной книги и содержит следующие разделы:
• Некоторые главы из книги;
• План семинарского занятия, а также учебный план и 11 презентаций для курса о посткоммунистических режимах (для магистерского или аспирантского уровня);
• Интерактивная 3D-модель траекторий посткоммунистических режимов;
• Дополнительные материалы, включая приложение (раскрывающее особенности траекторий режимов, которые наглядно описываются только в Главе 7).
Предисловие
Алена Леденёва, профессор Университетского колледжа Лондона, основательница Global Informality Project
В 1980-е годы, когда я была студенткой, в Советском Союзе не существовало социологии в качестве официально признанной научной дисциплины. Но это не означает, что я не могла ею заниматься. Как это часто бывало при «реальном социализме», «все было запрещено, но все было возможно». Вдалеке от Москвы социологи из Сибирского филиала Академии наук СССР еще с 1960-х годов проводили социологические исследования. Отдел социальных проблем Института экономики выпустил несколько секретных работ о социальных проблемах сельских территорий Сибири. Одна из этих работ, так называемый новосибирский манифест, в котором описывался огромный разрыв между идеалами коммунизма и реальным положением дел при застойном социализме, просочился в «Вашингтон Пост» (The Washington Post) и был опубликован там в августе 1983 года. Советские реалии теневой экономики и неформального управления сформировали принципы и методологию экономической социологии, которая зародилась в отделе, где трудилась Татьяна Заславская.
Эта работа, как и многие другие, написанные сибирскими социологами, создавалась под влиянием их венгерских коллег, которые уже исследовали идеологически периферийных субъектов неравенства и социального расслоения при социализме, распределение доходов и структуру привилегий. Я помню их самиздатовские переводы, которые мы активно распространяли, обсуждали, тестировали и применяли. Исследование Ивана Селеньи о социальном неравенстве, элитизме и скрытой маркетизации в рамках социалистического режима и вывод Яноша Корнаи о систематической природе его дефектов – политике «мягких бюджетных ограничений», государственной собственности и идеологическом характере принятия решений – носили исключительно подрывной характер[1]. Но в то же время эти ранние исследования социализма пробудили интерес к изучению его внутренней логики и показали всю сложность социалистических систем, а также противоречия в коммунистическом способе управления.
Они обнаружили серые зоны, которые стали гораздо более очевидны в ретроспективе. Можно сказать, что Венгрия, если не прямо, то косвенно, была флагманом экономических реформ. Корнаи писал:
Между 1968 и 1989 годами политическая власть коммунистов не рассматривала вопрос о введении института частной собственности в экономику. Несмотря на это частная собственность начала спонтанно формироваться, как только политическая сфера стала более открытой[2].
Похожая амбивалентность наблюдается в больших масштабах в Китае, где в 1989 году коммунистическая партия повторно заявила о своей приверженности недемократическим ценностям, жестоко подавив протесты на площади Тяньаньмэнь. Однако в то же самое время власти не только допускали развитие рынков и частного сектора, но и всячески способствовали ему.
Именно способность коммунистических партий сочетать несочетаемое – поддерживать идеологию в условиях, когда реальность намного сложнее, верить и при этом оставаться прагматичными, закрывать глаза на одни обстоятельства и применять наказания при других, вовлекать, но при этом строго контролировать – позволяла поддерживать жизнеспособность довольно изощренного социалистического управления. Именно эти практики двоемыслия, двойных стандартов, двояких мотиваций и двояких деяний упустили из виду проповедники демократии с момента падения Берлинской стены в 1989 году. Они считали, что, как только люди получат свободу от коммунизма, они обратятся к демократии. Последствия же оказались гораздо более сложными.
Каким бы недолговечным ни казалось существование социалистических режимов наблюдателю из XXI века, чрезвычайно важно осознать их многолетние исторические последствия и извлечь уроки по преодолению идеологических ограничений и проблем в управлении, а также осознать всю сложность «реального» социализма. Тридцать лет спустя мы продолжаем наблюдать эффект бумеранга от эйфории 1991 года, невероятного счастья по поводу победы над врагом номер один и восторженной самоуверенности, преобладающей в демократическом дискурсе со времен высказывания «милостью Божией Америка выиграла холодную войну».
В результате, после сокрушительного краха коммунистической идеологии по всей Европе и Азии, интеллектуальная сцена в 1990-е годы оказалась под влиянием приверженцев[3] переходной экономики и теоретиков постсоциализма[4]. В первом десятилетии XXI века и особенно после вступления бывших социалистических стран в Европейский союз в 2005–2007 годах проявилась озабоченность по поводу языка транзита, которую стали озвучивать компаративисты, изучавшие три глобальные волны демократизации. Страны с переходной экономикой отказались от авторитарных диктатур, но так и не пришли к консолидированной демократии[5].
Тезис о «конце парадигмы транзита» указывает на превалирование серых зон, в которых оказались переходные страны, а также на неспособность ученых описать эти режимы без отсылок к несуществующим полюсам авторитарно-демократической бинарной оппозиции. Главное затруднение можно сформулировать следующим образом: у политологов накопилась критическая масса примеров политического устройства, которые нельзя однозначно категоризировать. Все эти примеры попадают в серую зону, определяемую как «ни то, ни другое» либо «и то, и то», что ставит под сомнение валидность самих бинарных оппозиций[6]. Балинт Мадьяр и Балинт Мадлович обращаются к этой теоретической проблеме, описанной обществоведами уже довольно давно, в контексте посткоммунистических режимов[7].
«Посткоммунистические режимы» Мадьяра и Мадловича – это в первую очередь очень своевременная книга. Когда-то так называемые посткоммунистические режимы были тестовой площадкой для нормативных и уверенно рекомендуемых всем как универсальное лекарство демократических реформ, представляющих из себя неолиберальный макроэкономический пакет преобразований, основанных на формуле «открытие – прорыв – консолидация» (opening – breakthrough – consolidation) как главной логической схеме демократизации. Впоследствии элиты внутри этих режимов стали размышлять над собственной судьбой и искать легитимность скорее внутри собственных границ, чем за их пределами. Возникшие управленческие кризисы в демократических режимах подтолкнули к поиску адекватных способов описать то, что не смогли объяснить бинарные оппозиции, такие как капитализм и социализм, умелое и плохое управление, демократия и авторитаризм. Сложность посткоммунистических режимов, не укладывающихся в парадигму транзита или радикально сменивших политический курс, привела к тому, что состоятельность дедуктивных теоретических подходов[8] – как один, нормативно нагруженных и американоцентричных – была поставлена под вопрос.
Недостаточное внимание ученых к амбивалентности социализма привело к категоризации режимов по принципу их прошлого (пост-), по принципу степени реализации своей телеологии (квази- и полудемократии, а также разнообразные демократии с прилагательными вроде «нелиберальный») или по свойствам их гибридной природы (гибридные режимы). Совершенно очевидно, что гибридные режимы являются таковыми только с точки зрения стороннего наблюдателя, который предпочитает упаковать ускользающую от понимания амбивалентность в обертку гибридности. Эта категория позволяет построить нарратив и разработать концепцию для анализа краткосрочной перспективы. Но в представлении самих участников в этих режимах нет ничего гибридного. Есть явные и скрытые практики, сложное переплетение правил и норм, различные категории, описывающие столкновение интересов, однако единое понятие, ясно описывающее такой режим, всегда остается недосягаемым. Пожалуй, понятие гибридности является практическим решением, позволяющим отложить необходимость осознания присущей таким режимам амбивалентности и всех связанных с ней сложностей в государственном управлении, – проблемы, которая, конечно, не ограничивается посткоммунистическим миром.
Эта книга предпринимает амбициозную попытку собрать воедино концепты, доказавшие свою состоятельность и релевантность как для инсайдеров, так и для наблюдателей посткоммунистических режимов. Собственно, она и начинается с замечания о том, что «язык, используемый для описания [постсоциалистических] режимов», давно устарел. Главный вклад авторов в этом отношении состоит из двух частей. Во-первых, они составляют ультрасовременный словарь по принципу снизу вверх, для того чтобы уравновесить господствующую сегодня нисходящую модель описания постсоциалистических траекторий. Во-вторых, что еще более амбициозно, они создают полноценные карты возможных постсоциалистических траекторий, которые увели рассматриваемые режимы от идеологической гегемонии, бюрократической структуры и плановой экономики, но так и не привели их в объявленный пункт назначения. Как и предыдущий проект Балинта Мадьяра, эта книга исследует «жесткие структуры» и присущий им «эффект колеи», который определяется сильным влиянием глубоко укоренившихся норм на политическую реальность, скрывающуюся за фасадом лишь формально реформированных институтов. Авторы связывают эти нормы с «неформальными, часто намеренно скрытыми, замаскированными и незаконными соглашениями и договоренностями, которые проникают в формальные институты».
«Жесткие структуры» рождают множество междисциплинарных коннотаций, начиная от «социального действия» Макса Вебера, «повседневности» Мишеля де Серто, «практических норм» Жана-Пьера Оливье де Сардана и заканчивая «высококонтекстными культурами» Эдварда Холла, «насыщенным описанием» и «локальным знанием» Клиффорда Гирца, «неявным знанием» Майкла Полани, «глубинными структурами» Ноама Хомского и т. д. Через социальные взаимодействия люди формируют общие представления о «правилах игры», о том, как этим правилам следовать и как их обходить[9]. Индивидуальные стратегии решения проблем основываются на коллективных ожиданиях, зависимых от контекста нормах и результатах повседневной деятельности, которая считается уместной. Эта деятельность может обосновываться историческими преференциями, культурным наследием, религиозными ценностями, всеобщим молчаливым пониманием и привычным поведением, которые противоречат поведенческим моделям, основанным на теории рационального выбора. В значительной мере такие практики отвечают за откат демократизации и низкую эффективность усилий по демократическому транзиту в постсоциалистической Европе и Азии, а также за сохранение «жестких структур».
Авторы анализируют огромный пласт академической литературы, пытаясь найти подходящие определения для политических практик подобного рода, а также опираются на собственные исследования. Их главная цель – предложить сбалансированную и многоуровневую аналитическую модель для описания посткоммунистических режимов. По сути, они создают теоретический «словарь» или «набор концептуальных инструментов», помогающий понять и описать ключевых акторов и (зачастую неформальные) институты. Выбирая формат для получившегося в итоге набора концептов, траекторий и терминов, как эмических, так и этических[10], авторы останавливаются на чем-то среднем между энциклопедией и анатомическим описанием.
У энциклопедического формата есть свои достоинства и недостатки. Несмотря на подчас чрезмерную описательность и директивность, он позволяет подойти к сбору данных индуктивно, то есть снизу вверх, а также принять во внимание неупрощаемую сложность политических реалий и создать условия для экспериментального анализа посткоммунизма и его комплексного моделирования.
В рамках анатомического описания авторы разбивают свой материал на функциональные кластеры: политика, экономика и общество, структуры и акторы. Очевидным преимуществом такого формата является тот факт, что, приняв предложенную классификацию, можно изучить подробно одну или несколько сфер жизни конкретного режима и узнать о существующих аналитических подходах, не тратя время на более всеохватывающий анализ. Недостатком, пожалуй, является то, что невозможно, строго говоря, взять одну организацию или один институт и отнести их к одному конкретному кластеру. Так, например, церковь может фигурировать в каждом из кластеров, так как она не только выполняет разнообразные общественные функции, но и играет важную роль в экономической и политической сферах, часто извлекая экономическую выгоду и политический капитал из столкновений с исполнительной властью.
Размышляя над структурой своей «Глобальной энциклопедии неформальности» (The Global Encyclopaedia of Informality), я столкнулась с похожей проблемой. Одна и та же практика могла быть симптомом сетевого перераспределения, групповой солидарности, личного выживания или системного принуждения. Эта проблема еще раз подчеркнула важность феномена амбивалентности в функционировании тех практик, которые мы пытаемся описать. Для своего проекта я изначально выбрала энциклопедический принцип, то есть принцип, основанный на неидеологизированном, неиерархическом и негеографическом сборе данных. Затем я объединила накопившийся материал, созданный в основном сообществами пользователей и написанный их собственным языком, в онлайн-версии своей энциклопедии (www.in-formality.com). Для удобства исследования я также разделила весь массив данных на пересекающиеся кластеры, сгруппированные по разным принципам.
Похожим образом авторы «Анатомии посткоммунистических режимов» придерживаются структуралистского подхода, обусловленного вниманием к аналитическому языку. Они исследуют сложность и многомерность посткоммунистических режимов, не просто каталогизируя существующие понятия, но связывая их друг с другом и выстраивая широкую и всеобъемлющую теоретическую базу, по сути, создавая новый язык для описания посткоммунистических режимов. В основном авторы концентрируются на категориях довольно высокого порядка, то есть на тех, которые используют сторонние наблюдатели: патрональная демократия, консервативная автократия, диктатура с использованием рынка. Например, понятие «приемная политическая семья» подразумевает родственные и квазиродственные связи, которые создают ассоциации акторов, объединенных по принципу, резко отличающемуся от тех, что лежат в основе социального класса, феодальной элиты или номенклатуры. Инновационные методы, такие как, например, предложенная авторами треугольная концептуальная структура, авторская интерпретация некоторых понятий, а также случаи концептной натяжки, необходимой для того, чтобы уместить используемые понятия в предложенную теоретическую модель, могут потрясти тем колоссальным трудом, который вложили авторы в написание этой работы. Однако в высшей степени амбициозные цели и огромный объем данного исследования с лихвой компенсируются наличием крайне ценных «взглядов изнутри», которые позволяют выйти за рамки ныне существующих методологически индуктивных[11] либо, наоборот, строго дедуктивных исследований.
В этой книге представлены как сравнительные, так и короткие иллюстративные исследования таких стран, как Эстония, Китай, Чехия, Грузия, Венгрия, Казахстан, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Россия и Украина. В целом авторы значительно детализируют и расширяют наше понимание «реальной политики» в посткоммунистических режимах и успешно уводят внимание от западоцентричных описаний политических практик в рассматриваемых странах к насыщенным, локально-обусловленным концептуализациям этих политических систем. В контексте общемирового тренда разворота к автократиям, а также демократического отката в сложившихся демократиях, мы можем наблюдать и некоторый терминологический поворот в политологии, который, вероятно, произошел в ответ на осмысление опыта посткоммунизма. Однако, за редким, но ярким исключением, использование альтернативной терминологии (например, «клептократия» вместо «демократии»), к сожалению, пока не меняет общей идеологизированной американоцентричной тенденции дедуктивно-прескриптивного подхода, зачастую основанного на исторической амнезии.
Концептуальные, методологические и семантические инновации, предложенные в «Посткоммунистических режимах», безусловно, вызовут оживленную дискуссию среди ученых, студентов и других читателей, которые жаждут получить более ясное понимание сложного посткоммунистического мира.
Введение
В ловушке языка демократизации
После распада Советского Союза повсеместное распространение либеральной демократии как политического режима сопровождалось господством либеральной демократии как описательного языка. Иными словами, понятия социальных наук, которые разрабатывались для анализа государственных устройств западного типа, применялись к различным феноменам в недавно освобожденных странах. Исследователи стали описывать эти государственные устройства как некие разновидности демократии с определенным типом правительства, партийным устройством, системой сдержек и противовесов и т. д. Действительно, эти категории взаимосвязаны и формируют особый нарратив, представление о демократиях западного образца, где у категорий есть особые характеристики и свое относительное место, а также согласованность с другими категориями этой концепции. Таким образом, использование языка либеральных демократий косвенным образом подразумевает структуру и логику государств западного типа. То есть режимы, для описания которых используется этот язык, имеют общие характерные черты, определенный набор элементов и внутреннюю динамику либеральных демократий.
Подобная уверенность была вызвана чувством эйфории, которая охватила очень многих после краха коммунистических режимов. Примерно тогда же понятие «конец истории» стало общим местом. Эта фраза – несколько упрощенная версия того, что в действительности сказал Фрэнсис Фукуяма в 1992 году в своей книге с таким же названием[12], выражая неподдельный оптимизм в отношении уверенной победы либеральной демократии, которая должна дать импульс глобальной демократизации. Стоящий за этим геополитический аргумент заключался в том, что вышеупомянутый крах был концом однозначного и привычного мирового порядка, определяемого гонкой двух сверхдержав, одна из которых описывалась как демократия, а другая – как диктатура. Поскольку все мировые государства ассоциировались либо с одним полюсом, либо с другим[13], после распада Советского Союза и Восточного блока логично было бы думать, что теперь страны могут тяготеть только к полюсу-победителю – объединяться с США и Западным блоком. Добавим к этому активную политику Америки по распространению и поддержке демократии[14] – и вот уже легко понять, почему демократизация казалась неизбежной, а история действительно закончилась.
Эйфорический взгляд на посткоммунизм предполагал либеральный аргумент, важной частью которого был моральный стимул для глобального распространения прав человека, а также политической системы, которая может гарантировать соблюдение этих прав наилучшим образом[15]. С этой точки зрения смена режимов в эпоху посткоммунизма предоставляла уникальные возможности народам, находившимся под гнетом коммунистического правления, построить для себя свободные демократии, переняв ценности послевоенного Запада. С другой стороны, либеральный подход также означал моральный запрет на полное признание исторического и культурного наследия посткоммунистических обществ. Невнимание к институциональным и культурным руинам коммунизма больше соответствовало либеральному взгляду на равенство людей. Согласно ему, каждая нация обладает одинаковым потенциалом к построению либеральных демократий западного типа, у них есть внутренне присущая жажда свободы западного образца – настоящей свободы, на которую люди имеют право, – просто эта жажда ранее подавлялась коммунистической диктатурой[16]. В этом заключается одна из важных причин, по которой транзитология и исследования успехов демократизации фокусировались скорее на политическом методе смены режима, качестве структуры институтов, интересах элит и, наконец, видимой руке Запада, проявлявшей себя в экономико-политической взаимосвязи[17].
Геополитические и либеральные доводы подтверждали, что посткоммунистические страны должны рассматриваться в терминах либеральной демократии, представлявшей собой конечный пункт линейного развития, для достижения которого условия более или менее выполнялись. Специфические черты каждого государственного устройства описывались в терминах совпадения с телеологическими перспективами демократии или расхождения с ними. Любые отклонения от пути демократизации воспринимались как проблемы начального периода, которые преодолимы и которые необходимо преодолеть.
Со временем отклонения становились все более явными, парадигма транзита продолжала свое развитие[18], научное сообщество отреагировало на это тем, что сменило ярлыки для обозначения режимов, при этом никак не переосмыслив саму парадигму. Другими словами, хотя для различных недемократических режимов и придумывались новые названия, лежащий в основе язык описания их характерных черт оставался практически неизменным. Использование новых категорий для различных элементов режима было намного более спонтанным, чем у компаративистов предыдущего поколения[19], и по большому счету никто не ставил перед собой задачу систематически пересмотреть фундаментальные категории и привести их в соответствие с новыми ярлыками.
Мы, несомненно, находимся в ловушке аналитического языка, который начал доминировать в 1990-е годы. Хотя парадигма перехода была единогласно отвергнута, мы продолжали пользоваться терминологией, предназначенной для анализа государств западного типа, и использовать язык либеральной демократии, чтобы описывать посткоммунистические режимы. Для теоретизации внутренних элементов последних использовались те же термины, как если бы эти государства действительно переняли вышеупомянутую логику и динамику либеральных демократий, несмотря на то, что они больше не считаются таковыми.
Язык либеральных демократий усиливает путаницу в теориях и взглядах о текущем состоянии посткоммунистических государств. Использование одних и тех же категорий для них и для западных стран неизбежно приводит к концептным «натяжкам» и порождает уйму скрытых допущений, многие из которых, как будет показано в этой книге, просто не подходят для описания посткоммунистических стран. Кроме того, контекст, обусловленный языком, искажает эмпирический анализ и сбор данных. Негативный эффект вышеупомянутых допущений о простой сопоставимости западных и посткоммунистических режимов лучше всего отражают так называемые непрерывные измерения. При помощи этих измерений количественно оценивается состояние и направление «демократического потенциала» (democraticness) государств с учетом определенных критериев и институтов, и страны располагаются на непрерывной шкале. Эти измерения затем структурируют, и в зависимости от совокупного показателя каждой стране присваивается «политический ярлык»[20]. Исследовательские институты, такие как Polity IV и Freedom House, собирают стандартизированный набор доступных параметров по странам, и затем они суммируются с помощью одного и того же алгоритма для каждой страны. И хотя благодаря этому формируются приличные базы данных для научного использования, этот метод действительно подразумевает, что все режимы – западные или какие-либо другие – по сути одинаковы. Предполагается, что их можно понять и описать, если сфокусироваться на некоем универсальном наборе переменных, тех самых акторах и институтах, на которые в первую очередь направлен сбор данных. При этом все эти переменные структурированы одинаково и имеют одни и те же акценты, как того требует заявленная методология. Эти допущения и их сомнительность были бы очевидны, если бы разные элементы, принадлежащие разным контекстам, назывались бы разными словами. Уже стало бы ясно, что такой анализ похож на сравнение яблок и апельсинов или, скорее, яблок и кенгуру[21]. Однако язык либеральной демократии скрыл структурные различия и даже допущение об их возможном наличии, позволив анализировать посткоммунистические режимы так, как будто они западные.
Неприменимость существующих моделей к описанию посткоммунистического пространства
Действительно ли настолько нецелесообразно проводить параллели между посткоммунистическими и западными режимами? Являются ли посткоммунистические страны фундаментально иными? Для ответа на этот вопрос нужно понять, что представляют собой фундаментальные основы их режимов. Необходимо пристальнее приглядеться к существующим моделям, то есть научной интерпретации тех режимов, которые сформировались в результате так называемой третьей волны демократизации[22], чтобы понять, из каких предпосылок они исходят и почему неприменимы для описания посткоммунистических режимов.
Провал парадигмы линейного транзита от коммунистической диктатуры к либеральной демократии стал очевиден уже через десять лет после смены этих режимов. Некоторые посткоммунистические страны, такие как Эстония, Польша или Венгрия, всего за несколько лет существенно приблизились к либеральным демократиям западного образца, тогда как в посткоммунистических странах, расположенных восточнее, таких как Россия и страны Центральной Азии, демократизация «замерла» или «обратилась вспять» вскоре после начала процесса[23]. Поскольку становилось все сложнее закрывать глаза на разочарование по этому поводу, литература о демократическом транзите обогащалась новыми терминами. Ученые стали создавать для режимов новые ярлыки, которые отражали их недемократический характер.
Сначала, на том этапе исследований, который можно назвать «транзитология», политологи предполагали, что посткоммунистические страны, начав свой путь движения в сторону либеральных демократий, просто еще не успели достичь этой стадии. На самом деле слово «транзитология» означало не только трансформацию устройства общества, но и отсылало к буквальному значению английского слова transit: поскольку режимы находятся в пути, то пути эти могут принимать различные по степени отдаления или отклонения от обычной либеральной демократии формы. На основании такого предположения в академической литературе появилось несколько направлений подобных исследований. Первое направление, транзитология в буквальном смысле слова, фокусировалось на самом процессе перехода в странах посткоммунистического региона и Латинской Америки. Сэмюэл Ф. Хантингтон, Гильермо О’Доннелл, Филипп Шмиттер и Адам Пшеворский считаются его классиками[24]. Второе направление, консолидология, ставшее популярным главным образом во второй половине 1990-х, акцентировало внимание на консолидации демократий в странах, находящихся на стадии перехода. Консолидации посвящены работы Хуана Линца, Скотта Мэйнуоринга, Ларри Даймонда и др.[25] Наконец, третье – европеизация – можно также считать направлением транзитологии (хотя оно и развивалось немного иначе), его истоки можно найти в сравнительных теориях режимных трансформаций. Представители этого направления, Франк Шиммельфенниг и Ульрих Зедельмайер, исследовали процесс сближения центральноевропейских посткоммунистических стран с Европейским союзом (ЕС)[26]. Данное ответвление транзитологии оказалось самым долгоживущим (по меньшей мере до 2008 года). Объясняется это тем, что оно фокусировалось на «успешных странах», то есть тех, где предпосылка транзитологии о неизбежной смене коммунистического режима на западную модель развития была не так очевидно ошибочна. Приверженцы направления европеизации надеялись, что присоединение новых стран к ЕС в 2004 и 2007 годах укрепит их демократии, а связь со странами Запада и их рычаги влияния считались достаточно основательными стимулами, способными предотвратить какой-либо регресс на пути к либеральной демократии[27]. Однако позднее несостоятельность теории о линейном пути стала очевидна даже в этом регионе, особенно ярко это проявилось на примере Польши и Венгрии[28].
В транзитологии подходящими ярлыками для «переходных режимов», которые «двигались к демократическому финалу разными темпами», оказались так называемые урезанные подтипы. Эти подтипы – демократии «с прилагательными», то есть категориями, которые расширяют значение термина «демократия». Например, «нелиберальная», «электоральная», «дефектная» и т. п. Эта концепция была призвана выявить дефекты рассматриваемых режимов относительно западной модели. По словам двух ведущих специалистов по демократизации, демократии «с прилагательными» нужно рассматривать как «примеры неполной демократии», а «исследователь, использующий эти подтипы, делает скромное предположение о степени демократизации»[29]. Несмотря на устарелость парадигмы транзита, эти ярлыки в виде ограниченных подтипов остаются невероятно популярны и по сей день[30].
Постепенно фаза транзитологии сменилась фазой гибридологии в литературе о политических режимах. Новые режимы, наконец, стали считаться стабильными, то есть не тяготеющими к полюсам демократии или диктатуры, но находящимися относительно них в некотором равновесии. Это не означает, что такие режимы статичны. Однако линейное развитие по направлению к либеральной демократии больше не рассматривалось как неизбежное. Осознавая наличие уникальных электоральных, но не демократических режимов[31], ученые ввели понятие постоянной «серой зоны», располагая существующие режимы на оси демократия – диктатура (Схема 1).
Можно выделить два способа, с помощью которых ученые попытались концептуализировать «серую зону»: первый рассматривает ее не как точку на оси между двумя конечными пунктами, а как группу режимов, которые не являются ни демократией, ни диктатурой. Ярлыки «гибридный» или «смешанный» включены в этот дискурс, поскольку эти термины не стремятся описать режим в его отношении к какому-либо из полюсов. Здесь также есть различные ярлыки для конкретных стабильных типов режимов внутри серых зон без определения их фиксированной позиции относительно концов оси. Вместо этого ученые располагают рассматриваемый режим рядом с одним из полюсов, который, как им кажется, подходит больше, и определяют этот режим как искаженную форму выбранной конечной точки. К примеру, можно придумать такие термины, как «управляемая демократия» или «конкурентный авторитаризм». Действительно, несколько подтипов составили эту группу и теперь обозначают конкретный режим вместо одной из стадий перехода. «Дефектная демократия» – хороший пример такой эволюции, термин, который вобрал в себя благодаря компаративистам еще несколько (обычных) подтипов[32]. «Нелиберальная демократия» тоже понималась как независимый режим, который больше не считался демократическим[33].
Схема 1: Ось демократия-диктатура с двумя полюсами и серой зоной между ними
Первая категоризация: Diamond L. Thinking about Hybrid Regimes // Journal of Democracy. 2002. April. Vol. 13. № 2. P. 21. Вторая категоризация: Howard M., Roessler P. Liberalizing Electoral Outcomes in Competitive Authoritarian Regimes // American Journal of Political Science. 2006. Vol. 50. № 2. P. 367. Третья категоризация: Kornai J. The System Paradigm Revisited: Clarification and Additions in the Light Of Experiences in the Post-Communist Region // Stubborn Structures: Reconceptualizing Post-Communist Regimes / ed. by B. Magyar. Budapest; New York: CEU Press, 2019. P. 21–74
Таблица 1 представляет собой компиляцию понятий для режимов из этой группы[34]. Для точности мы включили имена авторов, главным образом ассоциирующихся с представленными терминами. Кроме того, стоит отметить, что такой количественный рост понятий не ограничивается только гибридными режимами, поскольку некоторые разрабатывались также и для двух полюсов. Особенно интересна разработка понятия «либеральная демократия», которое свидетельствует о неудовлетворенности текущим положением обществ западного образца как в нормативном смысле, так и в концептуальном. Эти новые термины также включены в таблицу для полноты картины текущего статуса теории режимов.
Таблица 1. Рост числа категорий для политических режимов
Переработанный материал в хронологическом порядке появления терминов в литературе на основании работы: Bozóki A., Hegedűs D. Democracy, Dictatorship and Hybrid Regimes: Concepts and Approaches // Illiberal and Authoritarian Tendencies in Central, Southeastern and Eastern Europe. Bern: Peter Lang, 2018. P. 21–49
Схема 2: Деление режимов по принципу электорализма
Замечание: Под «выборами» подразумеваются выборы чиновников для органов исполнительной власти или парламента, который их выбирает
Второй тип или группа понятий включает в себя названия, которые были придуманы как часть шкалы с полюсами в виде демократии и диктатуры. Эта шкала может быть дискретной, если типы режимов определены в зависимости от различных взаимоисключающих положений одной или нескольких переменных и заполняют всю шкалу без пробелов. Пример такой категоризации приведен на Схеме 2. На этой шкале Говарда и Росслера определяющей переменной является электорализм (electoralism), то есть наличие и качество выборов, режимы строго следуют один за другим в соответствии с тем, насколько сменяемы их лидеры. На схеме также можно заметить взаимную исключительность уровней, поскольку между бинарной оппозицией конкурентных и неконкурентных выборов, к примеру, не существует градаций. Теоретически таких схем можно придумать сколько угодно. Микаель Вигелл[35] разработал схему с двумя переменными, классифицировав режимы по принципу электорализма и конституционности, а Леа Гилберт и Паям Мохсени[36] предложили схему с тремя переменными: конкурентностью, гражданскими свободами и опекающим вмешательством.
Шкала вышеописанной серой зоны может быть непрерывной. Наиболее успешная попытка такого анализа принадлежит Яношу Корнаи, который рассматривает политические режимы в десяти измерениях (переменных) и кратко определяет «демократию», «автократию» и «диктатуру» как три идеальных типа, между которыми остается пространство для «промежуточных режимов»[37]. При подходе, который представлен в третьей категоризации на Схеме 1, привычная ось демократия – диктатура становится двухчастной: демократия – автократия – диктатура. Но в противоположность концепции разрозненных гибридных режимов так называемые идеальные типы Корнаи необходимы для того, чтобы помещать между ними рассматриваемые политические режимы и определять их отдаленность от идеальных типов. Исходя из десяти переменных, которые рассматриваются в книге далее, режим может быть помещен на шкалу ближе к одному идеальному типу, на который он больше всего похож, и дальше от другого идеального типа в зависимости от его конкретных отличий. Также в соответствии с главным предположением гибридологии эти точки больше не считаются остановками на линейном пути к демократии, а воспринимаются как независимые самостоятельные политические системы. Переход из одной в другую не направлен только в одну сторону, но возможен в обе.
Если сопоставить две фазы в истории сравнительного изучения режимов, то по сравнению с транзитологией гибридология – это шаг вперед[38]. Она отказалась от некоторых ложных предпосылок и показала, что режимы не обязательно движутся в направлении демократии западного типа, а «транзитные станции» могут в действительности оказаться конечными. Она основывается на идее, что новые режимы не являются тем, чем они хотят казаться: за демократическим фасадом скрываются авторитарные политические практики[39]. Именно на таком несоответствии строится гибридология, которая порывает с транзитологическим подходом, где этот феномен объяснялся бы как проблема начального этапа в силу отсутствия политической культуры либо как временное отклонение, возникшее вследствие неразвитых институтов. В гибридологии недемократические черты являются системными, что означает, что она в принципе уже избавилась от понимания таких черт как отклонений от нормы. Однако гибридология сужает круг феноменов, определяющих режим, до политических институтов. Для политологов это вполне объяснимо, однако у такого подхода есть и недостаток. Дело в том, что акцент на институтах заставляет ученых закрывать глаза на другие феномены, хотя именно эти «второстепенные» аспекты и могут оказаться определяющими. Предпосылка, на которой базируется гибридология, заключается в том, что ядром политического режима является отчетливо видимая политическая сфера. Другими словами, политические процессы определяются формальными акторами, такими как политики, и формальными институтами, такими как правительство и правящая партия. Это предположение подразумевает чрезмерный акцент на вышеупомянутых факторах при анализе режимов. Как можно увидеть из нашего краткого обзора, гибридология (а также транзитология) рассматривают главным образом политические феномены, акторов и институты. Даже когда исследователи говорят об «опекающем вмешательстве», ссылаясь на влиятельного бизнесмена или авторитет церкви, их слова подразумевают, что ядром режима остается политическая сфера, в которую «внешние акторы» только «вмешиваются».
Является это предположение правильным или нет, зависит от наличия отдельной политической сферы – другими словами, от того, прошло ли рассматриваемое общество процесс разделения сфер социального действия. Клаус Оффе делит сферу возможного социального действия на три категории: политическую, экономическую и общинную[40]. По его словам, «политическое действие воплощено в государственной структуре и выражается через обретение и использование легитимной власти, ответственность, иерархии и применение легитимной силы для того, чтобы отдавать приказы и добывать ресурсы. ‹…› Экономическое действие выражается в стремлении к приобретению основанного на договоре права владения в рамках правовых норм, которые, кроме прочего, определяют права собственности и круг объектов, которые могут выставляться на продажу, и тех, которые не могут. ‹…› Наконец, общинное действие определяется восприятием взаимных обязательств между людьми, которые разделяют одну культуру или идентичность, то есть принадлежность к одной семье, религиозной группе, области проживания и т. п.»[41].
Разграничение этих трех сфер социального действия, происходившее на протяжении многих веков, свойственно только западным цивилизациям. Полное разделение этих сфер было достигнуто в либеральных демократиях, где оно обеспечивается не только институтами, но также за счет ряда особых правил и гарантий, которые исключают конфликт интересов, определяя, как эти сферы взаимодействуют и отклоняются от нормы. Если двигаться с Запада на Восток, то станет заметно, что это разделение либо еще не произошло, либо произошло в рудиментарном виде. А коммунистические режимы, пришедшие к власти в 1917 году (и после 1945 года), не только приостановили этот процесс там, где он начинался или уже происходил, но обратили его вспять. Общие принципы тоталитарной коммунистической идеологии и установленного порядка ликвидировали независимость сфер социального действия, частную собственность, личное пространство и автономные сообщества, объединив их в единую неоархаичную форму. И если в Центральной и Восточной Европе эти изменения стали регрессом в отношении уже почти достигнутого разделения, то далее на Восток процесс обособления был остановлен и заморожен «в зародыше».
В результате разделения сфер социального действия в западных странах общественные отношения не только в рассматриваемых категориях, но и в целом в политико-экономической сфере развиваются в абсолютно формализованном и обезличенном ключе[42]. В таких системах верна аксиома о наличии политической сферы и принципиальной важности ее отделения от двух других. Однако там, где отделение социальных действий присутствует рудиментарно или вовсе отсутствует, вместо формализованных безличных структур обычно доминируют неформальные отношения. Эти патронально-клиентарные отношения строятся по принципу подобострастного подчинения и складываются в патрональные сети[43]. Конечно, когда гибридологи обращают внимание на то, что посткоммунистические диктаторы ликвидируют разделение ветвей власти, это является всего лишь логичной адаптацией формальных институтов к патронализму и следствием разделения сфер социального действия в целом.
Частичное или полное отсутствие разделения сфер социального действия – это основная причина, по которой коммунистические режимы нельзя по умолчанию анализировать как западные. Проблема в том, что такая точка зрения содержит в себе иллюзию, постулат об отсутствии прошлого, который игнорирует социальную историю посткоммунистических режимов и предполагает, что идеальную политическую систему либеральной демократии западного типа можно построить на любых руинах коммунизма. Предполагается, что независимо от преобладающих систем ценностей такое начинание будет просто вопросом благоприятного исторического момента и политической воли. Но автономно движущиеся «тектонические плиты» исторически сложившихся систем ценностей не станут поддерживать чуждую политическую конструкцию, которую кому-то захотелось установить.
Возвращаясь к проблеме языка, мы видим, почему неразборчивое использование терминологии вводит в заблуждение. Гибридологи далеко шагнули, дав названия различным режимам как единой целостности, но для детального описания посткоммунистических режимов термины заимствуются из языка либеральных демократий. Например, если мы говорим об акторах, слово «политик» предполагает отделенную политическую сферу. Политик – это человек, который совершает политические действия и преследует политические цели, а именно власть и идеологию. Если происходит слияние социальных сфер, человек, который выглядит как политик, например официальный премьер-министр страны, не ограничивается только политическим действием, но, вероятнее всего, принимает участие и в экономической, и общинной деятельности, потому что он является патроном, находящимся на высшей позиции в структуре патронально-клиентарных отношений[44]. Таким же образом слово «партия» отсылает нас к организации с политическими целями, которая действует в определенной политической сфере, а не к организации, возникшей в результате слияния сфер действия, в которой на самом деле не принимается никаких политических решений и которая используется как фасад для прикрытия неформальной патрональной сети[45].
Такие примеры работают в обе стороны: как в случае политической сферы социального действия, так и в двух других. Понятие «частная собственность» относится к институту отдельной сферы экономического действия. Следовательно, не имеет смысла использовать его, когда сферы не отделены друг от друга. Объект имущества, который де-юре принадлежит частному лицу, де-факто принадлежит публичному лицу, а частное лицо используется здесь в качестве марионетки (имеющей более низкий статус в системе патронально-клиентарных отношений)[46]. По той же причине становится проблематичным научное использование официальной статистики, которая собирает данные при помощи западных понятий формальных отношений собственности[47]. Для другого примера возьмем слово «коррупция», которое органы контроля мировых стран, как правило, понимают как взяточничество или влияние частных интересов на принятие политических решений (state capture). Оба этих определения подразумевают наличие политических и экономических акторов, где последние подкупают первых[48]. В посткоммунистических режимах «политические» акторы на самом деле являются патронами, которые находятся на вершине патронально-клиентарной пирамиды. Это подразумевает навязанные сверху, а не идущие «снизу вверх» коррупционные практики. Таким образом, коррупция на Западе считается главным образом отклонением от нормы, результатом неправильного или несовершенного правового режима, из которого извлекают выгоду нечестные чиновники и частные лица. На этот случай есть поговорка: «не там вор крадет, где много, а там, где лежит плохо». В посткоммунистическом регионе, однако, все наоборот: вор создает возможности для воровства, ведь он, являясь главой исполнительной власти, видоизменяет нормативную базу и использует полномочия государственных органов для личного обогащения и обогащения своей патронально-клиентарной структуры[49].
Поскольку недостаток разделения общественных сфер – это наследие прошлого, возникает соблазн использовать исторические аналогии для описания режимов. В конце концов, коммунизм воплощал в себе слияние политической и экономической сфер, как это было при фашистских тоталитарных диктатурах и до начала XX века в феодальных государствах по всей Евразии. Для того, чтобы дифференцировать существующие режимы от исторических, ученые и публицисты используют приставки «нео-» и «пост-». Так, «неокоммунизм» используется, когда хотят подчеркнуть волюнтаризм и чрезмерное вмешательство государства в экономику[50]; «неофашизм» привлекают, когда хотят выявить ксенофобскую, антисемитскую риторику или культ личности[51]; «неофеодализм» – когда акцентируют внимание на упразднении самоуправления и появлении иерархических цепей вассальной зависимости, в которой фигурируют бесконтрольные «сеньоры», «местные вельможи» и уязвимые «слуги»[52]. Однако главная проблема исторических аналогий в том, что их эффективность ограничена. Иными словами, они могут служить хорошими метафорами для отдельных феноменов и измерений системы, но не могут описать все ее измерения в рамках единой последовательной концепции, так что их нельзя использовать для описания системы как целого. Как только фокус смещается, аналогии перестают действовать. В случае с коммунизмом метафора может сработать для государственного вмешательства в экономику (хотя посткоммунистические режимы демонстрируют целый ряд отношений собственности в противовес государственной монополии на собственность), но характер правящей элиты и ее коррумпированные структуры среди прочего совершенно другие. Термин «феодализм» подходит для выявления практик осуществления власти, но в случае с феодальными предшественниками истинная природа власти и их правовой статус совпадают друг с другом как бы естественным образом, и для этого не требуется никаких незаконных механизмов в отличие от посткоммунистических режимов. Король не притворялся президентом или премьер-министром. Он не говорил, что не имеет ничего общего с богатством своей семьи или вельмож и не записывал свое состояние на имя конюха, ведь ему не требовалось экономическое подставное лицо.
Исторические аналогии с фашизмом ведут к другому неверному толкованию. Тогда как фашистские или корпоративистские системы управляются идеологией, посткоммунистические используют идеологию в своих целях, а их лидеры характеризуются как прагматики без системы ценностей. Они собирают идеологическую мозаику, которая подходила бы к их авторитарной природе, из эклектичного набора идеологических блоков. Другими словами, не идеология формирует систему и потом управляет ею, а система формирует идеологию, причем с большой степенью свободы и изменчивости. Попытки объяснить движущие силы посткоммунистических лидеров с помощью национализма, религиозных ценностей или государственной собственности являются столь же бесполезным экспериментом, как и попытки охарактеризовать природу и деятельность сицилийской мафии любовью к малой родине и приверженностью семейным и христианским ценностям.
До этого мы говорили о несостоятельности существующих моделей и языка политологов и публицистов. Однако существуют другие специалисты в области общественных наук, в первую очередь экономисты и социологи, которые пытались понять суть посткоммунистических феноменов и ввести новые термины для их описания. В то время как эти нововведения, как правило, носят временный характер, более системные из них либо фокусируются на экономике и говорят о «получении ренты», «клиентелизме», «капитализме для корешей» или «клептократии»[53], либо следуют по стопам Макса Вебера и используют термины «патримониализм», «султанизм», «единоличное правление» и т. д.[54] Первая группа терминов отражает плодотворные сдвиги восприятия в объяснении посткоммунистических режимов, но прилагательные, используемые в качестве сложных категорий, обеспечивают лишь ограниченное понимание из-за их предпосылок и основного подтекста. Прилагательное «клиентелистский», к примеру, не отражает нелегитимность отношений, слово «кореш» в контексте коррупционных транзакций предполагает, что стороны или партнеры имеют одинаковый статус (даже если выступают в разных ролях), а транзакции – нерегулярные, хотя и повторяющиеся, – происходят на добровольной основе и могут быть приостановлены или продолжены другой стороной исходя из соображений удобства. При этом ни одна из сторон не принуждает другую к продолжению отношений. А что касается ситуации, обозначаемой понятием «клептократия», этот термин, как правило, не подразумевает агрессивной реорганизации структуры собственности или системы, основанной на постоянных взаимоотношениях патрона и клиента.
Веберианские термины довольно привлекательны для описания посткоммунистических режимов, поскольку разрабатывались для обществ, в которых сферы социального действия не были отделены друг от друга. Тем не менее при их применении часто возникают проблемы. Первая – отсутствие подлинной концептуальной новизны, особенно когда к веберианским терминам просто добавляют префикс, как в случае со словом «неопатримониализм». Получившаяся в результате категория не очень красноречива, поскольку не сообщает, что нового добавляет приставка «нео-» в понятие «патримониализм», при том что использование термина, разработанного для первобытных и средневековых режимов, рискует стать лишь исторической аналогией (напоминающей аналогии, критикуемые выше). Вторая проблема заключается в том, что Вебер не рассматривал ситуации, в которых правовой режим не соответствовал реальной природе управления. Более того, он считал все режимы легитимными не только потому, что они могли поддерживать существование, но и потому, что они были легитимными относительно своих собственных законов и правовых норм. Хотя понятие легитимности Вебера можно плодотворно использовать, что мы и делаем в Главе 4, когда обсуждаем популизм, в посткоммунистическом контексте оно может вводить в заблуждение, если не иметь в виду ключевое различие между легитимностью по традиции и легитимностью по закону (то есть законностью)[55]. Наконец, третья проблема заключается в том, что эти описательные понятия часто используются не систематически, а по случаю, то есть когда исследователь посчитает их достаточно внятными и подходящими для своих целей. Также термины зачастую используются как синонимы, что стирает границы между ними и приводит к концептным «натяжкам» (когда единое гомогенное понятие применяется для описания неоднородного разнопланового феномена)[56]. Чтобы избежать путаницы, неуместных сравнений и обманчивых предположений о схожести различных режимов, необходимо знать точные определения терминов, а также при описании каких феноменов и измерений одно понятие должно сменить другое.
Подводя итоги, следует отметить, что неосторожность при использовании понятий, которую можно видеть в литературе повсеместно, препятствует осознанию ловушки языка либеральной демократии. Для решения этой проблемы были предложены частичные решения, например постоянное обновление понятий в зависимости от одной или двух переменных анализа режимов, однако отправной точкой по-прежнему остается режим западного образца с отделенными друг от друга сферами социального действия. Поверхностные изменения не выходят за рамки теории в целом и не нивелируют расхождения между применяемыми к недемократическим политическим системам названиями и терминами, относящимися к либеральной демократии. Существующие решения не могут приспособить терминологию для описания феномена, принципиально иного в своей основе.
Многомерная аналитическая структура: расширяя концептуальное пространство
Чтобы выбраться из ловушки языка либеральной демократии, необходимо систематически пересмотреть и обновить вокабуляр для анализа режимов. Требуется разработать новую терминологическую базу, которая позволит избавиться от основных допущений, характерных для гибридологии и ее западного «уклона». Новая терминология должна не просто заменить ярлыки, данные режимам, но и концептуально переосмыслить их составные элементы. Она должна учитывать рудиментарное разделение трех сфер социального действия или полное его отсутствие и, следовательно, рассматривать такие феномены, как патрональные сети, неформальность, сращивание власти и собственности или централизованные формы коррупции, в качестве фундаментальных оснований посткоммунистических режимов, а не их побочных эффектов.
Кроме того, новая аналитическая теория должна быть многомерной, представлять собой согласованную систему категорий, выводимых из контекста и охватывающих все значимые уровни (политический, экономический и т. д.) посткоммунистических режимов. Главное практическое преимущество такого подхода состоит в том, что необходимость строить повествования отпадает. Если ученый остается в рамках языка либеральной демократии, он может объяснить отдельные феномены посткоммунизма лишь приблизительно. Он вынужден рассказать историю феномена, то есть описать его специфический контекст и перечислить составляющие, для которых он может использовать западные термины только с уточняющими прилагательными или префиксами. Вместо таких пространных описаний многомерная аналитическая теория предлагает термины, которые учитывают контекст и обозначают характерные черты, отделяя рассматриваемый феномен от похожих феноменов из других контекстов. Это не только делает описание более простым и точным, но и привносит согласованность и порядок.
Самый очевидный способ создать более точные термины – спуститься по «лестнице абстракции», то есть добавить дополнительные характерные черты к существующему определению, приблизив его к конкретному явлению, которое мы хотим описать[57]. Но это не наш путь. Мы не пытаемся создать термины, которые дают точное описание, поскольку (1) они могут вводить в заблуждение, так как посткоммунистические режимы – это «движущаяся мишень», которую нужно изучать в динамике[58]; (2) мы бы пришли к громоздким неэкономным конструкциям, особенно если они призваны отразить уникальность каждого случая, для которого были созданы[59], и (3) это привело бы к тому, что такие понятия были бы не способны «перемещаться в пространстве», то есть они могли бы точно характеризовать конкретные случаи, но допускали бы неточности при описании других стран[60]. Вместо этого мы предлагаем так называемые идеальные типы, которые не описывают реальные явления, но которые можно использовать в качестве отправной точки. Вебер писал, что идеальные типы «не являются гипотезой, но дают ориентиры для построения гипотезы. Они не описывают реальность, но стремятся предоставить непротиворечивые средства для ее описания. ‹…› Когда мы [создаем идеальный тип], мы не строим концепцию ‹…› как нечто среднее для всех наблюдаемых ‹…› в действительности [феноменов]. Идеальный тип формируется односторонней акцентуацией одной или нескольких точек зрения и синтезом множества рассеянных, дискретных, более или менее присутствующих и иногда отсутствующих конкретных отдельных феноменов, которые организованы в соответствии с этими односторонне подчеркнутыми представлениями в единую аналитическую конструкцию»[61].
Таким образом, идеальные типы не являются точными описаниями. Они представляют собой «чистые», утопические отображения явлений, которые не существуют в идеальном виде в реальности[62]. Используя идеальные типы, рассказывающие о том, как явление «должно» выглядеть теоретически, мы можем описать феномены реального мира в терминах соответствия норме и отклонения от нее. Это и есть отправная точка. Нам не нужно придумывать категорию для определенного явления. Мы создаем категорию вокруг явлений реального мира, и эта категория дает слово для определения находящихся в непосредственной близости от нее феноменов. При таком подходе мы не должны принимать во внимание все особенности явлений реального мира, а только некоторые из них, которые затем предстают в чистой и идеальной форме в четкой логической конструкции. Для примера можно взять упомянутые выше веберианские категории. Одну из них – султанизм – Вебер описывает как «господство, по способу управления движущееся в сфере свободного, не связанного традицией произвола»[63]. Очевидно, что любая правящая элита имеет многосложную структуру, и ни в одном государстве ни администрация, ни военные не являются «сугубо» инструментами правителя (главы исполнительной власти и т. д.). Но эта утопичная формулировка дает полезный термин для описания таких явлений реального мира, в которых мы можем видеть доминирующее положение правителя, то, что он обладает широким спектром политических инструментов. Такие явления можно интерпретировать как частные случаи султанизма и при этом указывать на конкретные и явные отклонения от идеального типа.
Если у нас есть два таких идеальных типа, мы можем создать концептуальный континуум, который является не чем иным, как непрерывной шкалой между двумя полярными типами, на которую можно поместить промежуточный феномен. Таким образом, упомянутая выше ось Корнаи демократия – автократия – диктатура – это двухчастный концептуальный континуум. Каждый режим можно описать в терминах отличий от идеального типа и поместить на непрерывную ось между демократией и автократией или автократией и диктатурой соответственно.
Если у нас есть более двух идеальных типов, мы можем определить группу на основе более общего концепта, описывающего класс, – так называемого зонтичного концепта, к которому они все относятся (например, «политические режимы» или «экономические акторы»). С помощью такой группы мы можем создать концептуальное пространство, где феномены можно рассматривать в отношении к более чем двум идеальным типам. Преимущество концептуального пространства заключается в том, что оно не ограничено одним измерением, к которому относятся один или два идеальных типа, но предоставляет возможности для размещения существующих явлений более чем в одном континууме.
Для иллюстрации к вышесказанному рассмотрим Схему 3. Она показывает наше основное концептуальное пространство, созданное для описания посткоммунистических режимов. Оно определяется шестью идеальными типами режимов, включая три полярных типа и три промежуточных. Полярные типы – либеральная демократия, коммунистическая диктатура и патрональная автократия – расширяют концептуальное пространство и формируют три стороны треугольника. Эти стороны не являются осями диаграммы и не отображают потенциальные значения конкретной (количественной) переменной. В действительности это континуумы между конкретными концептами, которые определяются множеством переменных[64]. Верхнюю сторону, то есть континуум между либеральной демократией и коммунистической диктатурой, следует рассматривать как ось демократия – диктатура (или, более точно, ось Корнаи демократия – автократия – диктатура). Однако осознавая, что допущение гибридологии о том, что ядром государственного строя является отдельная политическая сфера, не всегда оказывается верным, мы добавили другие переменные, превратив ось в треугольное пространство. Приведем один пример: три типа режимов на верхней стороне треугольника характеризуются превосходством формальных правил над неформальными. Но чем ниже мы спускаемся по пространству треугольника, тем больше приближаемся к патрональной автократии и преобладанию неформальных правил над формальными. В таких системах главным образом неформальные патрональные сети берут под свой контроль формальные институты, используя их в качестве фасада для накопления власти, а также личного богатства.
На данный момент мы не можем дать точные определения шести идеальным типам. Это будет предметом данной книги. Ее можно рассматривать как исследование анатомии типичных идеальных режимов, то есть характера управления, типичного для этих режимов, а также различий, которые они демонстрируют по сравнению с другими. Но чтобы дать представление о том, к каким режимам относятся идеальные типы, мы включили в Схему 3 двенадцать посткоммунистических стран. Причина, по которой мы концентрируем свое внимание на них и на посткоммунистическом регионе в целом, состоит в том, что, когда рухнула советская империя, все они находились рядом с верхним правым полюсом (коммунистическая диктатура). Иначе говоря, у них у всех была одна и та же отправная точка. Все они характеризовались (1) однопартийной диктатурой и (2) монополией государственной собственности, которые стали ключевыми причинами рудиментарного или вовсе отсутствующего разделения сфер социального действия в рассматриваемом регионе. Как будет показано в Главе 7, каждая из этих стран после смены режима начала движение по особой траектории, что мы проиллюстрируем эмпирически, отслеживая их перемещение из одной точки в другую внутри предлагаемого нами треугольного пространства.
Схема 3: Треугольное концептуальное пространство режимов с 6 идеальными типами и 12 примерами посткоммунистических стран (по состоянию на 2019 год)
Итак, у нас есть шесть идеальных типов, в то же время восемь из двенадцати стран на Схеме 3 находятся либо в кластере патрональной демократии (Грузия, Македония, Молдова, Румыния, Украина), либо в кластере патрональной автократии (Венгрия, Россия, Казахстан). Отсюда возникает вопрос полезности наших типов режимов. Является ли состоятельной концепция, в которой Венгрия и Россия, к примеру, оказываются так близко друг к другу? Мы не утверждаем, что эти режимы в полной мере соответствуют идеальному типу или что они одинаково близки к нему. Эти две страны все еще, очевидно, сильно отличаются. Россия – это многонациональная и многоязычная страна, в 180 раз превосходящая Венгрию по территории и в 140 раз – по количеству населения. Россия богата природными ресурсами, Венгрия – нет. Венгрия является государством – членом ЕС с низким уровнем насилия. Эти две страны имеют существенно разные позиции в мировой геополитической системе. Этот список можно продолжать бесконечно. Однако когда речь идет о сравнительном анализе, чрезвычайно важно различать черты, характерные для режимов и для стран. Треугольная концептуальная структура, а также определение идеальных типов режимов основываются на характеристиках, присущих режиму, таких как плюрализм властных структур, нормативность государственного регулирования, доминирующий тип собственности и формальность институтов. Эти черты могут рассматриваться как характеризующие режим, потому что они описывают свод фундаментальных институционализированных правил, регулирующих отношения внутри властных структур (горизонтальное измерение), а также отношения власти и населения (вертикальное измерение)[65]. Другими словами, специфические особенности режима относятся к фундаментальным, эндогенным элементам системы, которые определяют ее внутреннюю логику. В противоположность этому этнические расколы, размер страны, природные ресурсы и положение в международной политической и экономической системе являются специфическими особенностями страны, которые обеспечивают экзогенную среду для существования рассматриваемого режима. Естественно, существуют черты, которые можно отнести как к режиму, так и стране, поскольку определенные характеристики, свойственные странам, влияют на целостность режимов и могут формировать их локальные особенности. Мы будем отмечать такие моменты в книге, например, когда речь будет идти об описании основного руководящего органа патрональных автократий (двор патрона). Но для понимания сходств и принципиальных различий между режимами и странами фундаментально важно различать эти два набора свойств. Возвращаясь к нашему примеру: мы считаем, что различий у путинской России и Венгрии Виктора Орбана в 2019 году не больше, чем у брежневского Советского Союза и Венгрии времен Яноша Кадара в 1989 году. Несмотря на то, что это две разные страны, политические режимы последней пары можно описать в рамках коммунистической диктатуры, тогда как первая пара находится в рамках патрональной автократии.
Бóльшая часть книги затрагивает характеристики режимов (или анатомии посткоммунистических режимов), но в Главе 7 рассматриваются также особенности стран. Хотя в той же главе будет дана некоторая информация о развитии стран, представленных в треугольной схеме, при анализе особенностей, акторов и явлений мы будем использовать эмпирические примеры только в качестве иллюстраций. Если говорить о жанре, эту книгу лучше всего определить как «концептуальный инструментарий» или структурированный набор категорий, которые можно использовать в качестве «инструментов» для описания и анализа существующих социальных явлений в посткоммунистическом регионе. Соответственно, книга содержит множество определений и пояснений к ним, чем напоминает учебник. Информация представлена в строгом логическом порядке, а текст включает множество таблиц и рисунков, чтобы объяснить понятия и связанные с ними процессы как можно более четко. При этом эмпирическое повествование будет сведено к минимуму. Мы будем прибегать к нему только в той степени, в которой отдельные случаи помогают проиллюстрировать идеальные типы или, вернее, явления, для которых созданы идеальные типы.
Другая метафора, объясняющая, чего мы хотим добиться в этой книге, – это периодическая таблица химических элементов, или таблица Менделеева. Периодическая таблица не сообщает нам, где найти эти элементы и сколько каждого элемента можно обнаружить в мире. Водород занимает одну ячейку таблицы, как и астатин, самый редкий естественный элемент в земной коре. Тем не менее периодическая таблица практична, так как показывает, какие элементы существуют и каковы их свойства (атомный вес, категория элемента и т. д.), а строгий логический порядок, согласно которому элементы размещены в таблице, гарантирует, что категоризация выполняется не спонтанно, а фокусируется на явлениях, составляющих единое целое.
По нашему замыслу, книга в этом смысле аналогична таблице Менделеева. Мы не говорим читателю, насколько широкую применимость имеет конкретное определение в посткоммунистическом регионе (или где-либо еще). Мы только заявляем, что рассматриваемые нами феномены существуют и что они таковы, какими мы их фиксируем. И чтобы это подтвердить, мы ссылаемся на большое количество эмпирических исследований. При определении феноменов, для которых необходимо создать идеальные типы, мы также будем полагаться на литературу. Как и в таблице Менделеева, основная логика нашей конструкции заключается в следующем: чтобы сделать ее внутренне непротиворечивой, для каждого определения необходимо учитывать все элементы конструкции и очертить принципы или, скорее, рамки, которые позволят рассматривать каждое явление как оно есть. Это делает наши определения, а также выбор аспектов, на которых мы фокусируемся при создании идеальных типов, менее произвольными. Каждое определение должно последовательно вписываться в структуру, то есть оно не должно противоречить любым другим нашим утверждениям или определениям. Этот дисциплинирующий эффект дополнительно усиливается целостным характером нашей модели, поскольку каждый идеальный тип должен соответствовать более сложному набору других идеальных типов, охватывающих все сферы социального действия.
Однако наша модель отличается от периодической таблицы своим замыслом: она не призвана объяснить весь мир и создана только для описания посткоммунистического региона. В частности, мы сконцентрируемся на зоне от Центральной Европы до Восточной Азии – от Венгрии до Китая[66]. В Главе 1 мы подробно остановимся на специфических особенностях этого региона, обращаясь к ряду авторитетных эмпирических исследований о цивилизационных границах, разделении сфер социального действия и явлений, которые из этого следуют. Таким образом, это определит, на каких явлениях мы должны сосредоточиться при описании анатомии посткоммунистических режимов. В Главе 1 мы выстроим общий теоретический каркас, который впоследствии должен быть наполнен упорядоченными элементами для создания целостной картины.
В конце книги мы формулируем нечто среднее между гипотезой и окончательной трактовкой посткоммунистических режимов. Мы убеждены, что ученые спорят не с тем, что представляют собой эти режимы по существу, а с тем, в каких категориях должны быть описаны установленные факты, и большинство дискуссий проистекает из терминологической путаницы, а не из противоречащих друг другу данных. Скептикам мы предлагаем воспринимать нашу книгу как многоуровневый исследовательский план, а предлагаемые нами концепты могут использоваться для более точного сбора данных на посткоммунистическом пространстве, в особенности теми исследователями, которые выберут отказ от скрытых допущений западоцентричной политологии, делающих ее неприменимой для описания посткоммунистического региона. Так, наша цель одновременно скромна и амбициозна. Она скромна, потому что мы предлагаем не конкретное описание, а, скорее, набор непротиворечивых средств для построения такого описания. Но она также и амбициозна, поскольку мы стремимся предоставить инструментарий, который можно использовать для объяснения социальных явлений, представляющих интерес для политологов, экономистов и социологов в посткоммунистическом регионе.
Естественно, несмотря на все наши усилия, наверняка существуют концепты, которые мы определяем неосторожно, или посткоммунистические феномены, которые выпадают из концептуальных пространств, ограниченных нашими идеальными типами. Мы ожидаем, что наша книга будет провокационной и возбудит интерес ученых.
Как это работает: создание концептуального инструментария
Метод построения нашей аналитической структуры для изучения анатомии посткоммунистических режимов можно разделить на три части. Сначала нам нужно выделить принципы, в соответствии с которыми мы решаем, какие концепты следует включить в наш инструментарий, а какие – нет. Помимо обычных принципов, таких как понятность и лаконичность[67], основными критериями отбора, которые мы использовали, были (1) эмпирическая значимость и (2) внутренняя согласованность теории. Что касается первого критерия, то мы хотели включить концепты для каждого социального феномена, имеющего отношение к посткоммунистическим режимам, а не имеющие отношения к данному региону были отбракованы. Например, гибридологи описывают так называемые режимы опеки, где «власть избранных правительств ограничена невыборными религиозными (как в Иране), военными (как в Гватемале и Пакистане) или монархическими (как в Непале 1990-х годов) властями»[68], но такие режимы можно найти только за пределами посткоммунистического региона, поэтому в нашем инструментарии упоминаний о них нет.
Теоретическая согласованность связана с тем, что ни одна из существующих категорий не является «чистым листом»: у них у всех есть история использования, и, соответственно, даже если они не употребляются в своем первоначальном значении, есть набор неявных, базовых коннотаций, которые косвенно определяют их. Хорошим примером является термин «правящий класс». Первоначальный контекст этой категории можно понять, если принять во внимание тот факт, что он описывает правителей как «класс», фундаментальный экономический феномен марксистской, а также веберианской классовой теории[69]. Использование слова «класс» немедленно помещает ученого в контекст этой традиции и подразумевает принятие огромного множества допущений классовой теории, начиная от вышеупомянутой экономической природы и классового сознания и заканчивая классовой борьбой[70]. Поэтому, если мы хотим построить стройную аналитическую модель, такие понятия, как «правящий класс», могут быть использованы только в том случае, если другие понятия не противоречат этому. Соответственно, для каждого феномена, который, по нашему мнению, относится к посткоммунистическим режимам, мы отвергаем концепты и связанные с ними теории, не согласующиеся с остальной частью инструментария. Мы описываем эти феномены с помощью концептов и теорий, которые в дальнейшем формируют единый согласованный концептуальный подход.
После отбора категорий следует второй этап – определение категорий. Если мы отвергаем уже существующие концепты для некоторых феноменов, а других концептов, которые подошли бы для инструментария, нет, мы создаем новые. Например, для посткоммунистических правящих элит мы отвергаем понятие «правящий класс», в то же время другие концепты кажутся нам еще менее подходящими, поэтому мы вводим термин «приемная политическая семья» (для конкретной формы правящей элиты в регионе). Как только концепты отобраны, мы выбираем одну из этих стратегий:
1. Полное принятие концепта, то есть мы принимаем понятие как оно есть, с его текущими значением и определением.
2. Ограниченное принятие, то есть мы принимаем понятие, но, сравнивая с тем, как оно использовалось ранее, ограничиваем его определение более узким диапазоном случаев.
3. Расширенное принятие, то есть мы принимаем понятие, но для описания его подтипов расширяем определение, чтобы включить в него некоторый диапазон случаев.
Примером полного принятия может служить термин «партия-государство», который широко используется для описания коммунистических диктатур. Понятие «кронизм» можно привести как пример ограниченного принятия. Как мы упоминали выше, одна из базовых предпосылок этой категории заключается в том, что участвующие стороны являются друзьями, то есть равными партнерами, которые добровольно вступили в отношения (свободный вход) и по желанию могут их прекратить (свободный выход). Подобные отношения присутствуют в посткоммунистическом регионе, поэтому мы включаем понятие «кронизм» в наш инструментарий. Однако мы выявляем эти скрытые допущения и поясняем, что в нашем понимании кронизм относится только к случаям добровольной коррупции. Наконец, в качестве расширенного принятия можно упомянуть понятие «перераспределение» в том смысле, как его понимает Карл Поланьи[71]. Поланьи использовал его только для описания перераспределения товаров или ресурсов в экономике. Мы же считаем такое определение одной из разновидностей перераспределения и расширяем его, чтобы включить в него другую разновидность, которую обозначаем как «реляционное перераспределение рынка» (касающееся распределения рынков, а не ресурсов).
Последний этап в построении инструментария – контекстуализация категорий. Изначально мы определяем категории, уже учитывая контекст. Суть данного этапа, однако, заключается в том, чтобы сделать контекст или связь между категориями более явными и понятными. Это нужно для демонстрации того, почему такие понятия, как кронизм и клептократия, не могут использоваться в качестве синонимов. У каждого из них есть свое значение, встроенное в логичную структуру из ряда других категорий и их значений. Сформулированный таким образом контекст можно представить в виде графика, где вершины – это понятия (категории), а ребра – логические связи между ними. Все вершины тщательно «отделены» друг от друга в своих определениях, а логическая связь между ними (независимо от того, является ли одна категория подтипом другой или уже следующей категорией на той же шкале и т. д.) должна сделать описание с использованием этих категорий однозначным.
Действительно, тщательное определение концептов – это то, что мы подразумевали уже на предыдущем этапе, когда речь шла об ограниченном принятии. На данном этапе мы пытаемся показать, какие концепты отражают подобные феномены наиболее четко, и ограничить их значение для описания исключительно этих феноменов, изолируя их от других коннотаций, которые встречаются в литературе. Здесь можно использовать метафору набора инструментов: найдя хорошую отвертку, мы включим ее в наш набор инструментов, но не будем использовать ее как молоток, даже если она использовалась таким образом более или менее успешно. Наличие в концептуальном инструментарии как надежных «отверток», так и хороших «молотков» делает наш терминологический подход лингвистически согласованным.
Как на это смотреть: структурный аспект
Чтобы объяснить, зачем писалась эта книга, выше мы привели две метафоры. Первая метафора – «книга как инструментарий», то есть она не дает готового определения какого-либо явления, а, скорее, предоставляет инструменты для его описания. Во-вторых, мы называем эту книгу «таблицей Менделеева», подчеркивая, что наша аналитическая структура имеет строгий логический порядок, где все существующие и значимые феномены упорядочены, но при этом не сообщается, какое количество каждого такого элемента можно найти в странах или регионах. Мы можем лишь добавить, что в большей части книги будем обращаться к эмпирической реальности лишь для поиска иллюстраций. Следовательно, даже если кто-то не согласен с нами и утверждает, что явление не может быть описано через тот или иной концепт, с которым мы его связываем, это не исключает существования концепта как такового. Состоятельность категорий и согласованность структуры, с одной стороны, и их эмпирическая значимость – с другой, являются двумя отдельными вопросами. Мы утверждаем только, что (1) предоставляем непротиворечивые средства для описания феноменов, (2) которые присутствуют в посткоммунистическом регионе. На основании имеющихся данных мы сделаем несколько предположений о том, где (в каких странах) эти явления распространены, но их точный охват в количественном выражении является предметом будущих эмпирических исследований.
Теперь мы можем привести третью метафору, на которую лишь намекнули: данная книга формирует новый «язык». Когда мы говорим «язык», мы имеем в виду не просто набор слов. Скорее, мы понимаем под этим структуру: набор концептов, упорядоченный в соответствии с большим количеством теорий, охватывающих политику, экономику и общество и составляющих логически единое целое. Из этого вытекают несколько особенностей, раскрывающих дополнительные сведения о цели нашей книги и концептуальной модели. Во-первых, как язык с внутренне согласованной структурой модель свободна от оценочных суждений, но не свободна от традиций. Ее понятия могут быть использованы для описания феноменов и с точки зрения этики, но сами по себе эти понятия не несут позитивной или негативной окраски. Эта книга содержит описание идеальных типов режимов, а не нормативное указание на то, какими они должны быть[72]. Некоторые предлагаемые нами концепты, такие как «либеральная демократия» и «мафиозное государство», часто несут нравственную нагрузку, но то, как мы их представляем, служит единственной цели – формированию точных средств выражения для описания феноменов рассматриваемого региона. Вопросом, хороши эти феномены или плохи, наша книга не задается. При этом теория не свободна от традиций. Существуют школы социальных наук, на которые мы опираемся, полагая, что они являются наиболее полезными для структурирования большого числа явлений, с которыми мы сталкиваемся, во всеобъемлющую аналитическую модель. Это веберианская социология (особенно ее базовое положение о том, что она занимается интерпретацией социального действия[73]), а также институционализм и неоинституционализм[74]. Тем не менее мы не ограничиваемся лишь этими направлениями. Мы рассматриваем и принимаем концепты из других школ социальных наук, а также от ученых левого толка, таких как Иван Селеньи и Карл Поланьи, и правого толка, таких как Рэндалл Г. Холкомб и Фридрих Август фон Хайек, всякий раз, когда находим их конкретное понятие или идею полезными при изучении посткоммунизма.
Во-вторых, язык, который мы предлагаем, состоит из идеальных типов, а также вспомогательных понятий. В нашей книге мы создаем идеальные типы для посткоммунистических режимов, а также для большинства акторов и институтов. Однако чтобы сделать их механизмы и действия понятными, мы должны прояснить, что подразумеваем под такими терминами, как «принуждение», а также определить такие конкретные явления, как «сфера политического действия» или «государственное вмешательство». Эти категории не являются идеальными типами в веберианском смысле, но являются вспомогательными понятиями, то есть нам нужно будет определить их, чтобы иметь возможность дать дефиниции идеальным типам[75]. Кроме того, когда мы используем идеальные типы или приводим для них примеры, их всегда следует понимать приблизительно. Например, рассматривая Россию и Венгрию как примеры патрональной автократии, мы не подразумеваем, что эти страны в полной мере совпадают с идеальными типами или что они одинаково близки к ним. Скорее, мы помещаем эти режимы в категорию патрональной автократии, потому что в основном, то есть большей частью своих характеристик, они близки к этому типу режимов. Более точное определение может разграничить Россию и Венгрию как «жесткую патрональную автократию» и «мягкую патрональную автократию» соответственно. Чтобы выразить природу отклонения от идеального типа, можно также добавить к патрональной автократии отрицательный префикс. Тем не менее для простоты и ясности языка мы будем игнорировать такие тонкие различия в большей части книги.
В-третьих, концепты, предложенные в книге, работают лучше всего, когда они используются как часть языка. В многомерной структуре понятия приобретают более точный смысл: в предыдущей части мы объяснили, каким образом мы отбираем, создаем, принимаем и контекстуализируем понятия, чтобы сформировать согласованный набор категорий. В результате этого процесса наши определения формулируются таким образом, что подразумевают контекст и согласуются с остальным инструментарием, формирующим язык. Поэтому если кто-то хочет использовать один из наших концептов, это лучше всего сделать, если принять во внимание и контекст, то есть все наши аналитические основания. Если взять один концепт и начать использовать его в другом контексте, велик шанс не достичь оптимальных результатов, каких можно достичь, если теория используется целиком. Например, наше определение «нечестных выборов» выглядит наиболее целесообразно при противопоставлении нашему определению «манипулируемых выборов», или то, как мы определяем понятие «рента», имеет наибольший смысл, если учитывать контекст, в котором мы его используем.
В-четвертых, язык не является закрытой структурой, но постоянно расширяется таким же образом, как новые слова появляются в нашем разговорном языке для описания тех феноменов, для которых у нас раньше не было слов. Эта книга посвящена посткоммунистическому региону и политическим, экономическим и социальным явлениям, актуальным в соответствующих странах и режимах. Однако это не означает, что (a) наши концепты описывают только посткоммунистические режимы, (b) наши концепты могут использоваться только для посткоммунистического региона или что (c) инструментарий не может быть дополнен новыми идеальными типами для других регионов и стран. Что касается пункта (а), инструментарий также включает в себя множество терминов для описания явлений, характерных для режимов западного типа и коммунистических систем, поскольку именно эти понятия мы хотим отделить от специфических понятий посткоммунизма в первую очередь. Касательно пункта (b), мы сделаем несколько предположений о применимости наших понятий за пределами посткоммунистического региона в Заключении. Наконец, пункт (c) означает, что инструментарий должен рассматриваться как сооружение, которое может достраиваться в дальнейшем, то есть дополняться новыми идеальными типами для других регионов. Всегда следует помнить о внутриструктурной согласованности: каждый новый идеальный тип должен быть противопоставлен существующим категориям и интегрироваться во внутреннюю логику терминологической структуры инструментария (или, вероятно, некоторые старые определения должны быть скорректированы, чтобы инструментарий мог вместить в себя более широкий диапазон категорий).
Как это читать: и учебник, и научный труд
С академической точки зрения, у этой книги не совсем традиционный формат во многих отношениях. Во-первых, она написана с энциклопедической целью предоставить подробный «словарь» категорий и теорий для посткоммунистического региона, однако она не говорит нам об их эмпирической применимости. В этом плане нашими образцами для подражания являются две работы: трактат Макса Вебера «Хозяйство и общество», где представлена всеобъемлющая согласованная концептуальная теория идеальных типов, и учебник Яноша Корнаи «Социалистическая система», в котором дается систематическое, структурированное описание политической экономии. Мы также можем упомянуть «Патрональную политику» Генри Хейла, которая послужила источником вдохновения, когда мы формулировали общую направленность книги и некоторые ее нюансы. Эти работы являются, вероятно, тремя наиболее часто цитируемыми источниками в книге.
Во-вторых, книга практически лишена подробных обзоров литературы. Наша цель – построить и представить целостную концептуальную модель. Когда другие ученые предоставляют нам строительные блоки и/или подкрепляют их своими исследованиями, мы ссылаемся на них и интегрируем их идеи в нашу работу. Более того, когда работа ученого содержит особенно важную для нас идею, мы не пытаемся ее перефразировать, а помещаем цитату из этой работы в отдельную рамку сбоку от текста. В редких случаях мы объясняем, почему не поддерживаем принципиально отличные от нашего подходы (такие как «теория правящего класса» [ruling class theory] или неоклассическая экономика). Пожалуй, мы почти никого не упустим: значительная часть фактов и теорий, на основании которых мы строим наши идеальные типы, широко приняты, особенно в литературе о посткоммунизме, опубликованной в Евразии. Мы полагаем, что наш важнейший вклад заключается именно в том, что мы синтезируем эту литературу в единый и связный язык идеальных типов, используя, таким образом, междисциплинарную синергию, а также распознавая и заполняя некоторые существующие пробелы. Но для этого обычно требуется использовать выводы исследований в качестве строительных блоков, а не представлять их академический контекст в отдельных обзорах литературы.
В качестве другого строительного блока выступают наши ранее опубликованные работы, которые включены в книгу без ссылок[76]. Если мы все же ссылаемся на одну из наших работ, это означает, что мы не хотим детально описывать уже проанализированную нами ранее ситуацию или случай (здесь необходимо отметить, что, разрабатывая инструментарий, мы пересмотрели и изменили несколько наших определений. В каждом конкретном случае следует относиться к представленной здесь версии определений как к окончательной). Кроме того, мы в значительной степени опираемся на проводимые нами с 2013 года исследования, результатом которых стали многочисленные публикации с участием более семидесяти авторов. Мы часто упоминаем и цитируем эти исследования, особенно те, что содержатся в двух англоязычных томах, опубликованных издательством Центрально-Европейского университета: «Двадцать пять аспектов посткоммунистического мафиозного государства» (2017 год; наиболее цитируемые авторы: Золтан Флек, Дьёрдь Габор, Давид Янчич, Эва Вархеди, Имре Вёрёш) и «Жесткие структуры: переосмысляя посткоммунистические режимы» (2019 год; наиболее цитируемые авторы: Сара Чейз, Николай Петров, Михаил Минаков, Думитру Минзарари, Кальман Мижеи).
В-третьих, хотя это может показаться незначительной деталью, важно отметить, что в книге последовательно используется местоимение «он» для обозначения третьего лица единственного числа. Хотя мы создаем аналитическую модель, в которой пол акторов не играет роли, мы решили использовать «он», чтобы подчеркнуть, что в посткоммунистических режимах подавляющее большинство лидеров и важных политических и экономических акторов были мужчинами[77]. Мы используем местоимение «она», только когда в тексте действительно упоминается женщина (или если цитата содержит местоимение «она»).
Четвертая нетипичная черта нашей книги – большое количество таблиц и схем, обобщающих практически все ее содержание. Главы 2–6 начинаются с таблиц из трех столбцов, суммирующих соответствующие категории инструментария, где каждый столбец представляет один полярный тип из шести идеальных типов режимов нашей треугольной концептуальной схемы. Таблицы размещены в начале глав в качестве путеводителя к тексту, чтобы у читателей сложилось представление о том, что им предстоит увидеть на следующих страницах. Многие подглавы или разделы также резюмированы в таблицах или схемах, как и типологии, которые мы создаем для конкретных явлений (таких как олигархи, партийные системы и т. д.). Для того чтобы подчеркнуть согласованность всей структуры, текст содержит «ссылки» между главами: например, если в третьей главе есть обращение к чему-то, о чем мы рассказываем в пятой главе, мы добавляем в текст значок «[♦ 5]».
Еще одна нетрадиционная черта – постоянное использование жирного шрифта и маркированных списков, что напоминает скорее учебник, чем работу, вносящую явственный вклад в дисциплину. Действительно, хотя мы и намерены ввести много концептуальных новшеств в изучение посткоммунизма, наша цель также состоит в том, чтобы написать работу, которую можно использовать как для исследований, так и для преподавания. Таким образом – и в этом суть четвертой и пятой нетипичных черт нашей книги – мы постарались сделать ее максимально удобной для чтения. Жирный шрифт облегчает беглый просмотр текста, то есть благодаря ему можно получить представление об основной идее без подробного чтения, а также помогает освежить основные моменты после ее завершения. Читатели могут просматривать основные тезисы, выделенные пункты, таблицы и схемы, как если бы они карабкались по ступенькам лестницы: можно упустить некоторые детали, но все же пройти по основным ступеням, чтобы овладеть инструментарием и использовать его для работы, написания статьи и проведения исследования.
Как это организовано: структура книги
Книга содержит семь глав, Введение и Заключение. В Главе 1 рассказывается о жестких структурах, теории, отправная точка которой уже была представлена ранее, а именно: рудиментарное разделение трех сфер социального действия или полное его отсутствие. Мы излагаем аргументацию в четыре этапа и используем цивилизационную теорию, а также ряд исторических и научных / аналитических источников, чтобы реконструировать развитие региона, начиная с докоммунистических времен через коммунизм и заканчивая посткоммунистической эпохой. Если выделить основные общественные и управляющие институты, сложившиеся вследствие отсутствия разделения, мы можем выявить те аспекты, которые требуют освещения, и обновить описательный язык в многомерном каркасе нашей аналитической теории.
Используя принцип, лежащий в основе жестких структур, мы можем приступить к разработке концептуальной модели. Глава 2 посвящена государству. Помимо определения основных понятий инструментария, таких как «государство», «принуждение», «неформальность» и «патронаж», в этой главе также объясняется, почему такие понятия, как «государство всеобщего благоденствия» и «государство развития», могут вводить в заблуждение при описании посткоммунистических режимов. Мы также показываем, как более полезные термины, такие как «неопатримониальное государство» и «хищническое государство», могут быть логически упорядочены как часть единой аналитической модели, в которой ни одно из этих понятий не отвергается, но указывается, к какому именно аспекту государства оно относится. Рассматривая типы государств, мы предлагаем определение «мафиозного государства», а также сравниваем его с «конституционным государством» в либеральных демократиях. Определив стабильные государства, мы обращаемся к проблемам, связанным с монополией на насилие, и вводим такие концепты, как «несостоявшееся государство», «силовые предприниматели» и «олигархическая анархия». Глава завершается сравнительным анализом типов государств, где мы вводим понятия «невидимая рука», «поддерживающая рука» и «грабящая рука» для определения важнейших типов государств в рассматриваемом регионе.
Главы 3–6 посвящены характерным свойствам шести идеальных типов режимов, а характеристики стран (площадь, национальный состав, вовлеченность в мировую политику и т. п.) рассматриваются в Главе 7. Глава 3 обращается к сравнительному анализу акторов в политической, экономической и общественной сферах. Мы даем более точное и формальное определение трех сфер социального действия, после чего в нескольких разделах рассматриваем политических, экономических и социальных акторов идеального типа и их особые роли в либеральных демократиях, патрональных автократиях и коммунистических диктатурах. Эта глава также включает в себя отдельный раздел, который рассказывает об участвующей в сговоре посткоммунистической правящей элите и приемной политической семье, и заканчивается схематическим изображением структур элиты в шести режимах идеального типа (с примерами).
В Главе 4 мы приводим сравнительный анализ политических феноменов. Мы начинаем с описания трех идеологических концепций гражданской легитимности, характерных для каждого режима полярного типа: конституционализм (либеральная демократия), популизм (патрональная автократия) и марксизм-ленинизм (коммунистическая диктатура). Далее мы рассматриваем структуру демократических процессов публичного обсуждения и показываем, как связанные с его фазами институты работают в каждом режиме полярного типа. Это описание включает такие феномены, как СМИ, демонстрации, выборы, правовые системы и правоохранительные органы. В оставшейся части главы мы фокусируемся на так называемых защитных механизмах, которые поддерживают стабильность режимов идеального типа. Мы показываем либеральные демократии с разделением ветвей власти, патрональные демократии с разделением сетей власти и патрональные автократии с разделением источников власти. Кроме того, в этой главе мы рассматриваем цветные революции как специфические механизмы патрональных режимов, а также стратегии «обращения вспять» уже произошедших автократических изменений.
Глава 5 содержит сравнительный анализ экономических феноменов – это не только самая длинная, но и, вероятно, самая содержательная из всех глав. В качестве альтернативы традиционным экономическим отношениям мы используем «реляционную экономику», что важно для понимания четырех феноменов: (1) коррупции, (2) государственного вмешательства, (3) собственности и (4) сравнительных экономических систем. В пункте (1) мы проводим границу между лоббированием и коррупцией и предлагаем новую типологию коррупции, с помощью которой можно анализировать этот феномен в нескольких аспектах, включая ситуации, когда различные виды незаконной деятельности сосуществуют в так называемой криминальной экосистеме. В пункте (2) мы представляем общую теорию для разграничения нормативного и дискреционного государственного вмешательства, связанного с различными уровнями коррупции. Затем мы переходим к анализу регуляционного вмешательства и получения ренты, а также бюджетного вмешательства и функций налогообложения и расходов. В пункте (3) мы различаем три исторических процесса политической реорганизации структуры собственности и предлагаем аналитическую модель для приватизации, а также патронализации. Что касается последнего, мы подробно остановимся на правах собственности и экономическом хищничестве и предложим новый подход для экономического анализа процессов рейдерства и – в случае патрональных автократий – централизованного рейдерства. Наконец, пункт (4) касается сравнительного изучения экономических систем и описывает доминирующие и вспомогательные механизмы рыночных, плановых и реляционных экономик. Также рассматривается понятие «капитализм для корешей» и объясняется, почему оно неприменимо к таким странам, как Россия и Венгрия.
В Главе 6 мы говорим о сравнительном анализе социальных феноменов, уделяя особое внимание тому, как режим влияет на эти процессы и какие механизмы применяет, чтобы добиться поддержки большинства. Используя подходы науки о сетях, мы предлагаем концепт «клиентарного общества» как попытку осмыслить возникновение и механизмы действия патрональных зависимостей (как среди элит, так и среди других социальных групп). Вторая половина главы посвящена описанию идеологий: (1) какова разница между патрональными популистами и (радикально) правыми политиками; (2) чем отличаются друг от друга пользующиеся идеологией, управляемые идеологией и идеологически нейтральные режимы; (3) как применяется идеология. Отдельные разделы мы посвящаем понятиям ценностной и функциональной когерентности, а также запросу на популизм и тому, как он удовлетворяется. В конце главы мы приводим два резюме. Одно из них описывает популизм как идеологический инструмент коллективного эгоизма. В другом кратко излагаются наиболее важные черты, характерные для патрональной автократии, через структурированный обзор форм неформального управления.
Определив «анатомические» компоненты посткоммунистических систем, относящиеся к типу их политического режима, мы наконец можем дать определение шести идеальным типам режимов в Главе 7. Здесь мы объясняем, как треугольную концептуальную схему можно использовать для описания режимов в заданной временной точке, а также для описания их траектории. Глава содержит смоделированные траектории двенадцати посткоммунистических стран из приведенной выше треугольной концептуальной схемы (Схема 3). Мы представляем политическую эволюцию стран (1) визуально, используя треугольную схему и поясняя, как страны «перемещались» относительно шести идеальных типов режимов, и (2) в текстовой форме, в виде «иллюстративных зарисовок». Этот краткий анализ конкретных примеров в значительной степени опирается на существующие публикации, которые мы реструктурируем и переосмысливаем в целях иллюстрации траекторий идеального типа. Глава 7 заканчивается обсуждением того, что мы обошли стороной в предыдущих главах, а именно характерных особенностей стран, то есть географических, геополитических и социальных (этнических и т. д.) условий, из которых вытекают различия в режимах. Мы также обсудим концепт характерных особенностей политики и предложим альтернативную парадигму для их анализа в патрональных режимах.
Книга завершается Заключением, в котором кратко изложены основные моменты исследования. Мы также предлагаем темы для будущих исследований, поднимая вопрос о возможности пространственного и хронологического расширения наших аналитических рамок – для других регионов и будущих времен соответственно.
1. Жесткие структуры
1.1. Гид по главе
После коллапса коммунизма по всей Евразии в 1989–1990-х годах формула для смены режимов в этом регионе казалась довольно ясной: сделать шаг от однопартийной коммунистической диктатуры с монополией государственной собственности к многопартийной парламентской демократии, в основании которой лежат частная собственность и рыночная экономика. Тот факт, что эта идея потерпела неудачу в нескольких посткоммунистических странах, породив своеобразные типы режимов, замерших на пути к либерально-демократическому идеалу, требует обновления языковых инструментов, используемых для описания таких систем. Но насколько далеко должна зайти эта языковая реформа и какие компоненты должны быть переосмыслены и исключены из языка, изначально созданного для описания политических систем западного типа, зависит от того, как мы объясняем провал посткоммунистического транзита. Чем более системными и структурными мы считаем его причины, тем более глубинное обновление нам необходимо. Кроме того, рассуждения о причинах развития специфических посткоммунистических режимов с необходимостью указывают на некоторые феномены-триггеры, которые являются отправной точкой для переосмысления и идентификации принципиально иных явлений.
На наш взгляд, явления, определяющие развитие посткоммунистического региона, можно обобщить термином «жесткие структуры», который отсылает нас к фундаментальным причинам, требующим глубинного обновления терминологии[78]. Жесткие структуры – это комбинация культуры и истории. Мы утверждаем, что в докоммунистических обществах степень разделения сфер социального действия была разной в зависимости от цивилизации, к которой эти общества принадлежали (мы определяем «цивилизацию» так же, как ее определял Питер Каценштейн). Возникшие в результате общественная структура, культурные особенности и образ жизни были впоследствии подчинены коммунистической системе, образовавшей своего рода общий «политический колпак», надетый на разные народы. Под этим колпаком все предшествующее общественное развитие было остановлено и заморожено из-за насильственного вмешательства политических диктатур. Однако десятилетия диктаторской власти трансформировали существующие социальные закономерности и породили новые, что привело к образованию общественных структур особого рода. Когда распался Советский Союз, в стремящихся к демократии странах изменилась только политическая система и формальные институты, а акторы, действовавшие в рамках этих институтов, вернулись к своему первоначальному пониманию разделения сфер. В результате формальные институты были пронизаны и подорваны неформальными процедурами, включающими навязывание неформальных институтов, таких как приемная политическая семья (патрональные сети, политико-экономические кланы [♦ 2.2.2.2, 3.6]). Эти особенности определяли тип режима и его динамику спустя годы после «отхода» от коммунизма и в основном зависели от цивилизационной принадлежности отдельных стран с периодическими попытками поиска своего пути.
«Поиск пути», в противоположность «эффекту колеи», указывает на то, что жесткость не означает детерминизм. Скорее, она присваивает определенные (более высокие) вероятности различным результатам развития. Действительно, после распада Восточного блока бывшие коммунистические страны продемонстрировали большое разнообразие путей развития, от сохранения диктатуры до успешной демократизации, не говоря уже о тех странах, в которых сформировались вышеупомянутые своеобразные режимы. В целом понятие «эффект колеи» возникает, когда общество создает режим, который находится в гармонии с его культурными глубинными структурами (то есть с доминирующим представлением о разделении сфер), тогда как «поиск пути» означает игнорирование ожиданий через построение такого режима, который выходит за цивилизационные рамки общества. Однако даже в таких случаях, в том числе в странах, где «сложились» либеральные демократии, прошлое почти неизменно просвечивает сквозь вновь построенные политические системы, а закономерности развития отчетливо прослеживаются в тех структурах, которые мы рассматриваем.
Первая глава разделена на пять частей. Части 1.2–5 раскрывают основную идею жестких структур через четыре тезиса. Тезис А представляет собой общее утверждение о взаимосвязи между разделением сфер социального действия и возможными типами режимов и закладывает основу для следующих трех тезисов, которые сфокусированы на этом утверждении в его связи с эволюцией посткоммунистических режимов. Тезис B посвящен докоммунистическому периоду и постулирует, что разделение сфер было тесно связано с цивилизационными границами. Хотя мы используем понятие «цивилизационные границы», как это делал Хантингтон, мы принимаем во внимание критику его подхода и склоняемся к более обоснованному пониманию «цивилизации», разработанному Каценштейном. Тезис С касается коммунистической системы, представляющей собой насильственное вмешательство, которое остановило и повернуло вспять разделение сфер социального действия. Наконец, тезис D утверждает, что демократизация не повлияла на разделение сфер. Она вылилась в одноуровневую трансформацию, которая повлекла за собой системное искажение демократического институционального устройства новых посткоммунистических стран.
Следом за очерчиванием понятия «жесткие структуры» в Части 1.6 мы представляем шесть режимов в концептуальном пространстве треугольника, показанного на Схеме 3 [♦ Введение]. Этот треугольник объединяет понятие жестких структур с господствующим подходом гибридологии и предоставляет общие основания для концептуального инструментария, который формирует остальную часть книги. Однако прежде чем мы начнем, необходимо сделать важное замечание: каждое определение, которое мы даем в этой главе, следует рассматривать как предварительное. В этой книге определение для каждого концепта инструментария дается в контексте других концептов, которым также даются определения, что делает их разграничение абсолютно ясным. Такое подробное описание концептов чрезмерно «растянуло» бы эту главу, испортив общую картину, для описания которой требовалось понятие «жесткие структуры». Таким образом, выбранные феномены определены здесь только в целях раскрытия нашей основной идеи, а более точной концептуализацией мы займемся в последующих главах.
1.2. Тезис A. Тип режима зависит от разделения сфер социального действия
Аргумент о жестких структурах состоит из четырех тезисов. Тезис А предоставляет общую основу для интерпретации развития режимов, включая эволюцию посткоммунистических режимов, которая изложена в остальных трех тезисах.
Тезис А . Степень разделения сфер социального действия делает одни типы режимов в стране вероятными, а другие – невозможными. Разделение сфер проявляется в виде норм, в соответствии с которыми действуют акторы, «населяющие» этот режим», что, в свою очередь, предполагает определенную степень разделения для нормального функционирования. Вероятными будут те режимы, которые предполагают ту же степень разделения сфер, что и его акторы. Напротив, невозможными будут те режимы, которые подразумевают другую степень разделения, чем его акторы. Если устанавливается «невозможный» режим, он будет (a) либо слабым и склонным к трансформации в более вероятный тип, либо (b) введет специальные (эффективные) механизмы, чтобы избежать этой трансформации.
Разделение сфер социального действия упоминалось во Введении, но в Главе 3 [♦ 3.2] мы даем более формальное его определение, а также определение самих сфер. Разделение сфер можно понимать на двух уровнях: (a) на уровне акторов и (b) на уровне формальных институтов. Социальное действие на обоих уровнях рассматривается в работе Оффе, который различает три типа: политическое, экономическое и общинное социальное действие (см. Текстовую вставку 1.1)[79]. «Сфера» означает сообщество акторов, которые участвуют в данном типе действия. Однако два уровня отличаются тем, как проявляется разделение сфер. На уровне акторов «степень разделения» сфер означает неформальное понимание акторами своих ролей, действий и мотивов, ограниченных определенными сферами. При этом о разделении сфер социального действия можно говорить, если не происходит «перехлеста» ролей акторов, принадлежащих различным сферам. Разделение не означает, что индивид участвует только в одном типе социального действия. Оно означает, что, хотя человек выполняет разные социальные роли, его действия и мотивы в одной роли не влияют на его действия и мотивы в другой. Например, руководитель организации занимается политической деятельностью, но в своей семейной жизни он также может быть вовлечен в общинное действие. И если сферы социального действия отделены друг от друга, то его чувство принадлежности к семье и взаимные семейные обязательства не определяют его политические действия. Точно так же экономический актор может быть предпринимателем и другом политика, но если сферы социального действия отделены друг от друга, их дружеские отношения (относящиеся к общинной сфере) никак не сказываются на решениях в основной сфере деятельности. Политик остается политиком, только если фокус его действий и интересы ограничены политической сферой (получение большей политической власти, большего количества голосов и т. д.), тогда как предприниматель остается предпринимателем, только если фокус его действий и интересы ограничиваются экономической сферой (прибыльность, превосходство над конкурентами и т. д.).
[П]олитическое действие встроено в государственную структуру и лимитировано такими свойствами, как достижение и использование легитимных полномочий, ответственность, иерархия, а также использование подзаконной власти, позволяющей отдавать приказы и добывать ресурсы. Критерий оценки ее качества – это легальность. Экономическое действие представляет собой регулируемое через договоры стремление к приобретению благ в рамках правовых норм, определяющих, среди прочих моментов, таких как права собственности, множество вещей и услуг, которые можно и нельзя продавать. Критерием качества экономического действия является прибыльность. Наконец, общинное действие определяется чувством взаимной обязанности между индивидами, разделяющими одну идентичность или культуру: например, между людьми, принадлежащими к одной семье или религиозной группе, живущими в одном месте и т. д. Критерий качества общинного действия – это разделяемые ценности и разделяемые понятия о морали[80].
На уровне институтов, однако, разделение сфер означает, что официально закрепленные за акторами роли в каждой из сфер разделены и что существуют гарантии, правила и контрольные механизмы, которые сохраняют это разделение. Например, феодальное государство, как правило, поддерживает смешение сфер. Сеньор является как политическим, так и экономическим актором, а его община (в данном случае – семья) играет важную роль при дворе в целом и в вопросах наследства в частности. Коммунистическое государство характеризуется слиянием сфер, то есть партийное руководство подчиняет политической сфере две другие. Напротив, формальные институты либеральной демократии основаны на разделении сфер и представляют собой различные контрольные механизмы, не позволяющие политическим акторам учитывать собственные экономические и межличностные интересы при принятии решений[81].
«Режим» сочетает в себе уровень акторов и уровень формальных институтов, наряду с неформальными институтами, возникающими при взаимодействии этих двух уровней. Можно сказать, что режим – это не что иное, как институционализированный набор фундаментальных формальных и неформальных правил, которые структурируют взаимодействия акторов в целом и их взаимодействия с центром политической власти в частности [♦ 2.2.1]. Это мы имеем в виду, когда в Тезисе А говорим про акторов, «населяющих» режим, подразумевая, что именно акторы управляют институтами, тогда как режим, в свою очередь, помещает акторов в институциональные рамки. Разделение сфер в этом контексте проявляется как фактическая автономия экономической и общинной сфер от политической и, наоборот, как фактическая автономия политики от рынка и общины. Тот факт, что мы интерпретируем «институты» как наборы правил взаимодействия между акторами, подразумевает, что каждый институт предполагает некоторую степень автономии, понимаемую как свободу действий одного актора от действий другого. Другими словами, актор А считается независимым по отношению к актору Б, если структура институтов предписывает такие отношения, где действия А не зависят от мотивов Б. Похожим образом, скажем, экономическая сфера является автономной, если ее акторы не вынуждены следовать за акторами другой сферы, например политической. Однако это принуждение может быть как формальным, так и неформальным, поэтому мы говорим о фактической автономии, а не номинальной, которая относилась бы только к формальной институциональной структуре [♦ 2.2.2.2]. Таким образом, если сферы социального действия разделены, акторы разных сфер могут вступать в отношения (в институциональных рамках), но сохраняют возможность свободного выхода из них, а это означает, что одна сторона не может вынудить другую продолжать отношения [♦ 5.3.1].
Поскольку режимы состоят из институтов, определяющих правила взаимодействия между акторами, каждый режим предполагает определенный уровень разделения сфер социального действия. Это выполняется как для режима в целом, так и для его формальных институтов, поскольку они тоже определяют правила взаимодействия и, следовательно, также предполагают определенную степень разделения сфер. Однако поскольку режим населяют акторы, они будут всегда пытаться действовать в нем, исходя из своего собственного неформального понимания разделения сфер. Хотя формальные институты предполагают определенную степень разделения сфер, действующие в нем акторы не захотят следовать формально-предписанным правилам взаимодействия между сферами, если их собственное неформальное понимание отличается. В результате, как утверждается в тезисе А, режим деградирует до состояния, согласующегося с мотивами населяющих его акторов.
Следует упомянуть, что ту же проблему Хантингтон осветил в своей работе «Политический порядок в меняющихся обществах». Он объяснил, что коррупция в модернизирующихся обществах часто появляется из-за того, что, «согласно традиционным понятиям многих обществ, чиновник обязан вознаграждать членов своей семьи и давать им работу. Не существовало различий между обязанностями по отношению к государству и обязанностями по отношению к семье»[82]. В этом случае семейные обязанности актора, из которых нет свободного выхода [♦ 5.3.6], влияют на его действия в политической сфере и порождают смешение общинной и политической сфер.
По сути, тезис А указывает на потенциальное несоответствие между целями акторов и целями формальных институтов. Возьмем для примера либеральную демократию, политический режим, который после распада Советского Союза был взят за конечную цель транзита в постсоветском регионе. Целью формальных институтов либеральной демократии является разделение сфер. Если цели акторов в большинстве совпадают с целями институтов, то есть если неформальное понимание этих целей большинством акторов заключается в разделении сфер социального действия, либеральная демократия может стабильно функционировать. Однако если акторы в основном разделяют идею о смешении или слиянии сфер социального действия, либеральная демократия потерпит фиаско, а режим превратится в систему, где формальные демократические институты управляются неформальными решениями, действиями и сетями [♦ 2.2.2.2]. Именно так конструируется «гибридный» тип, о котором рассуждают гибридологи, однако все их усилия тщетны, если они используют категории, которые предполагают разделение сфер социального действия. Невозможно достоверно описать гибридный характер режима, если понятие предполагает, что самого явления, вызывающего гибридность, не существует.
Для развития режима уровень разделения сфер социального действия обуславливает своего рода «эффект колеи». Однако, как следует из последних строк тезиса А, речь не идет о жестком детерминизме. Существуют возможности для «прокладывания своего пути», то есть установления режимов, которые в большинстве не поддерживаются населяющими его акторами[83]. Таким образом, коммунистическая диктатура в Прибалтике, а также в центральноевропейских странах-сателлитах Советского Союза может рассматриваться в этом смысле как прокладывание пути (см. ниже). Среди относительно недавних примеров можно упомянуть Грузию, где после Революции роз политическая элита с помощью серии реформ попыталась разделить сферы социального действия [♦ 7.3.4.5], или Чехию, где правящая партия предприняла противоположную попытку, а именно: смешать сферы социального действия [♦ 7.3.3.3]. Венгрия и реформы Виктора Орбана по смешению сфер социального действия, которые проводятся с 2010 года, – еще один вероятный пример прокладывания своего пути [♦ 7.3.3.4], хотя некоторые ученые утверждают, что не только политическая элита, но и венгерский народ поддерживают отсутствие разделения сфер социального действия[84].
Суть прокладывания пути в том, что это всегда довольно чужеродный процесс, который уводит страну в сторону от того пути развития, по которому она, скорее всего, пошла бы, учитывая взгляды акторов ее режима. Следовательно, этот процесс может быть запущен только при особых обстоятельствах. До распада советской империи таким обстоятельством было иностранное вторжение, когда к слиянию сфер социального действия привело явное угнетение. После распада Советского Союза прокладывание пути обычно начиналось, когда из-за сочетания многих уникальных факторов к власти в стране приходила политическая элита, чьи взгляды о разделении сфер заметно отличались от взглядов большинства населения. Однако все подобные случаи различаются с точки зрения сроков существования и степени консолидации режима, допускающей или не допускающей его деградацию в тип режима, который точнее соответствует мотивам акторов.
1.3. Тезис B. Разделение сфер совпадает с цивилизационными границами
1.3.1. Цивилизации и три исторических региона
Изложив наш общий тезис о важности разделения сфер для развития режима, мы переходим к трем конкретным тезисам об эволюции посткоммунистического региона. Тезисы B, C и D касаются докоммунистического, коммунистического и посткоммунистического периодов соответственно, акцентируя внимание на тех условиях и событиях, которые оказали наибольшее влияние на уровень разделения сфер социального действия в рассматриваемом регионе.
Тезис B. До наступления коммунизма разделение сфер социального действия коррелировало с цивилизационными границами. При том, что все государства в то время были феодальными, в странах, принадлежавших к западно-христианской цивилизации, степень разделения была наибольшей. Чуть меньшая степень разделения наблюдалась в православных странах и, наконец, наименьшая – в исламской и синской цивилизациях. Отсутствие разделения проявлялось через ряд взаимосвязанных феноменов, которые в различной мере присутствовали в разных цивилизациях.
Как объясняет Карл Поланьи в «Великой трансформации», чувство общинности и принцип взаимности играли существенную роль в доиндустриальных экономиках. Для того, чтобы отделить экономическую и общинную сферы социального действия от политической, потребовалась промышленная революция, которая привела к развитию капиталистических рынков в современном смысле[85]. Позже контроль за монархами и защита прав собственности создали начальные условия для свободной торговли и предпринимательства, которые обусловили появление в значительной степени независимых от политической сферы капиталистов, особенно после XVIII века и заката меркантилизма[86]. Однако эта трансформация и разделение сфер социального действия были в основном характерны для западной цивилизации. Как следствие, в XIX веке произошло «великое расхождение»: Запад отделился от Востока[87], где абсолютные монархи имели монополию на землю, юридическая защита частной собственности была слабой, а индустриализация происходила как политически управляемый процесс, отставая на несколько десятилетий[88].
Это расхождение привело к тому, что в восточных цивилизациях рубежа XX века разделение сфер социального действия либо было рудиментарным, либо вообще отсутствовало. Тезис B гласит, что это объясняется цивилизационными особенностями. И действительно, именно западная цивилизация позволила начать процесс разделения сфер задолго до промышленной революции. Мы делим посткоммунистический регион на зоны, очерченные цивилизационными границами так же, как это делал Хантингтон в своем знаменитом труде «Столкновение цивилизаций» (Схема 1.1)[89]. Однако наше понимание «цивилизации» отличается от того, как его сформулировал Хантингтон. Здесь мы, скорее, полагаемся на работы Питера Каценштейна[90], одного из самых внимательных читателей Хантингтона. Каценштейн более обоснованно реконструирует подход Хантингтона, принимая во внимание многочисленные критические замечания[91] и анализируя большой корпус литературы, посвященной цивилизационному анализу[92].
По мнению Каценштейна, существует консенсус в отношении утверждения Хантингтона, что цивилизации «многочисленны» (то есть в мире есть множество цивилизаций). Однако он также отмечает, что они «плюралистичны», то есть не столь однородны и однонаправленны, как Хантингтону хотелось бы верить. Как пишет Каценштейн, цивилизации «не статичны и не гомогенны, но, напротив, динамичны и полны внутренних политических противоречий. Если мы рассматриваем их с точки зрения множественных современностей (как в работах Эйзенштадта) или зон престижа, воплощающих интеллектуальные разногласия (как в работах Коллинза), или множественных процессов (как в работах Элиаса), [мы можем видеть, что] для каждого цивилизационного „созвездия“ характерны политические баталии и оспаривание непреложных истин»[93]. Тем не менее Каценштейн утверждает, что страны, принадлежащие к одной цивилизации, по-прежнему объединяются «по принципу „единства в разнообразии“» по двум причинам: (1) из-за особых типов взаимодействий элит, подчеркивающих роль цивилизационных акторов (государств, империй и других политических единиц) и методов молчаливого распространения, социального подражания (копирования), самоутверждения и прямого экспорта[94]; и (2) из-за сложившейся цивилизационной идентичности народонаселения, которая воспринимается как «естественное чувство реальности, помогающее отличать себя от „другого“, а также хорошее от плохого»[95]. Таким образом, цивилизации существуют, и «в определенных условиях ‹…› политические коалиции и интеллектуальные течения могут порождать глубинные цивилизационные категории, которые считаются неразрывными и даже способными к действию»[96].
Схема 1.1: Цивилизации в посткоммунистической Евразии
Условные обозначения: заштрихована клеткой: западно-христианская; горизонтальные линии: православная; вертикальные пунктирные линии: исламская; вертикальные линии: синская; диагональные слева направо: буддистская; серый цвет – за пределами рассматриваемого нами посткоммунистического региона. На основе: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций.
Принимая аргумент Каценштейна, все остальные авторы, чьи работы вошли в книгу под его редакцией, анализировали практически те же цивилизации, что и Хантингтон, отметив в числе прочего способность Европы к переосмыслению самой себя, стремление Китая преподносить себя в качестве обязательной ролевой модели для соседних стран, желающих выстраивать с ним отношения (и вместе составлять синскую цивилизацию), или связующий характер исламской цивилизации – «моста» между Африкой и Евразией[97]. Соответственно, мы также принимаем подход Каценштейна как дополненную и исправленную версию теории Хантингтона, сохраняя при этом представление Хантингтона о цивилизационных границах и учитывая важность внутрицивилизационных процессов и способность стран прокладывать свой путь в пределах цивилизации [♦ 7.4.4]. Мы также считаем целесообразным обозначать некоторые цивилизации по религиозному признаку, как это делал Хантингтон в отношении западного христианства, православия и ислама. Мы делаем это не потому, что считаем религию самым важным фактором, определяющим развитие стран, хотя многие ученые подчеркивали ее важность в этом процессе, а также в конфликтах и других политических аспектах[98]