Тяжесть и нежность. О поэзии Осипа Мандельштама бесплатное чтение
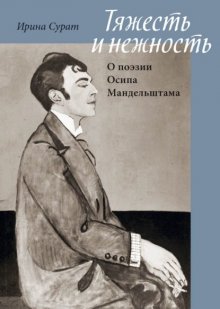
© Сурат Ирина, 2022
© Орлова И.В., макет, оформление, 2022
© Прогресс-Традиция, 2022
Москва, 1934
Так я стою – и нет со мною сладу
Вместо предисловия
14 января 2021 года мы отметили 130-летие со дня рождения Осипа Мандельштама. «Второе (четырнадцатое)» значится в свидетельстве о рождении, давно опубликованном, но сам Мандельштам в анкетах указывал 3 января по старому стилю, и следуя этому, мы много лет поздравляли друг друга 15 января. А в 2018 году усилиями Анатолия Усанова была найдена метрика в электронной базе Варшавского архива, благодаря чему точная дата теперь закреплена. Будем ей соответствовать.
Есть и поэтическая дата рождения – она вписана в стихи, уже вошедшие в нашу кровь:
- И, в кулак зажимая истертый
- Год рожденья, с гурьбой и гуртом
- Я шепчу обескровленным ртом:
- – Я рожден в ночь с второго на третье
- Января в девяносто одном
- Ненадежном году, и столетья
- Окружают меня огнем[1].
Тут рождение сразу переходит в бессмертие – стихи знают и говорят больше, чем говорил и думал сам поэт. Если заглянуть в черновик, то увидим, что на месте финальных строк было: «в то столетье, от которого тёмно и днем» – вот один лишь наглядный пример того, что случается в стихах, какой огромный путь может мгновенно пройти поэтическая мысль: от сырого слова – к озарению, от историзма (упрек XIX веку) – к пылающему космосу столетий, в центре которого – человек, поэт. Силою творческого порыва и самим движением стиха создаются такие образы, хотя на самом деле порыв тот длился почти два года – «Стихи о неизвестном солдате» зародились в своей главной мысли весной 1935-го, когда, вспомнив хлебниковскую «бабочку, залетевшую в комнату человеческой жизни», Мандельштам начал писать о «соумирании» (Надежда Мандельштам), о гибели «с гурьбой и гуртом» в глобальной катастрофе XX века, которая на тот момент была еще впереди: «Не мучнистой бабочкою белой / В землю я заемный прах верну…»
Мы уже продвинулись на два десятилетия в следующий век, а катастрофа та длится и длится, и теперь со странным чувством вспоминаешь мандельштамовские упования на то, что можно было «европеизировать и гуманизировать двадцатое столетие, согреть его телеологическим теплом» («Девятнадцатый век», 1922). Но это если смотреть назад, а если вперед, то вспомнишь другое: «То, что ценности гуманизма ныне стали редки, как бы изъяты из употребления и подспудны, вовсе не есть дурной знак. Гуманистические ценности только ушли, спрятались, как золотая валюта, но, как золотой запас, они обеспечивают все идейное обращение современной Европы и подспудно управляют им тем более властно. Переход на золотую валюту дело будущего, и в области культуры предстоит замена временных идей – бумажных выпусков – золотым чеканом европейского гуманистического наследства…» («Гуманизм и современность», 1923).
Дело поэта со всем этим прямо связано – говоря о «деле», мы говорим не только о слове, но и о личной судьбе, для Мандельштама это было неразделимо, и в «поэтический канон настоящего писателя» он включал простую его неспособность творить зло. В этом он был неизменен и одновременно с этим благословлял «кремневый топор классовой борьбы» («Пшеница человеческая», 1922) и написал «Стансы» (1937) с эпическим зачином: «Вот “Правды” первая страница, / Вот с приговором полоса» – только сочувствовать тут можно, только сокрушаться: каково поэту быть человеком своего времени! А Мандельштам именно к этому стремился, очень этого желал: «Попробуйте меня от века оторвать, / Ручаюсь вам – себе свернете шею!» – и в основе тут не советская идеология, не убеждения, а, как писала потом его вдова, «простейшее чувство единения с людьми» – «неотъемлемый признак поэта»[2]. То же чувство и привело его к поступку неслыханного бесстрашия – к созданию и широкому чтению стихов про «кремлевского горца», поступку, который – он точно это знал – был чреват неминуемой гибелью, но мог при этом, как он верил, уничтожить зло словом правды.
Мандельштамовское бесстрашие было не гумилевского образца, стоять невозмутимо под пулеметным обстрелом, закуривая папироску, ему не пришлось – на мировую войну он поехал вроде бы с намерением записаться санитаром, но вернулся через две недели и предпочел никогда не вспоминать об этом. Его храбрость была другой – детской, безоглядной: выхватить у чекиста расстрельные списки и порвать их в клочья – это он мог. И стойкость его была детской, упрямой: «Так я стою – и нет со мною сладу» – в этой черновой строчке 1932 года есть простодушие, отделяющее поэта от «кряжистого Лютера» ранних стихов («Здесь я стою и не могу иначе», 1915), но ведь и лютеровская несгибаемость в ней тоже есть.
Детскость его оборачивалась странностями поведения и была окарикатурена во многих мемуарах; в стихи же она вошла неподдельно ребячливой интонацией, открытостью, чувством живой связи с миром. С особой силой это выразилось в стихах начала 1930-х годов, когда поэт как будто заново родился после нескольких лет немоты, после разрыва с литературным сообществом, после долгой живительной поездки в Армению, где он подумывал остаться навсегда, но не остался, а заново обрел и поэтическое дыхание, и радость вновь открывшегося зрения, но вместе с тем и нестерпимо острое видение зла: «В Москве черемухи да телефоны, / И казнями там имениты дни» (из уничтоженных стихов). И тем слышнее детский голос, чем больше автор хочет показать и доказать другое: «Смотрите, как на мне топорщится пиджак, / Как я ступать и говорить умею!», «Довольно кукситься! бумаги в стол засунем!», или:
- Я больше не ребенок!
- Ты, могила,
- Не смей учить горбатого – молчи!
и следом – слова буквально ветхозаветного, пророческого звучания:
- Я говорю за всех с такою силой,
- Чтоб нёбо стало небом, чтобы губы
- Потрескались, как розовая глина.
Эта тема – говорить за всех и для всех – вырастала в его стихах постепенно, и какой огромный путь был пройден от юношеской замкнутости («тайный крест одиноких прогулок»), от ранней «устанной», по словам Зинаиды Гиппиус, поэзии туманных снов – к этой распахнутости перед миром и людьми, перед всеми, перед случайным прохожим – «Взять за руку кого-нибудь: будь ласков, сказать ему: нам по пути с тобой».
Обращенность к собеседнику органически свойственна Мандельштаму, он слово свое всегда посылает кому-то, всегда адресуется «к живым братьям» или к «неизвестному другу» в грядущих веках (попутно заметим, что слова «живой» и «брат» – особо значимые в его словаре). «Нет лирики без диалога» – эту максиму ранней своей статьи «О собеседнике» (1913) Мандельштам реализовал сполна. «Мужайтесь, мужи», «Здравствуй, здравствуй, петербургская / Несуровая зима», «Сохрани мою речь навсегда…», «Нет, не мигрень, – но подай карандашик ментоловый…», «Ты как хочешь, а я не рискну!», «Петербург! я еще не хочу умирать…», «А ты, Москва, сестра моя, легка…», «Не кладите же мне, не кладите / Остроласковый лавр на виски…» – вот примеры обращенности, грамматически очевидные, но речь идет не только о них, а о самом посыле его поэзии, об энергии, идущей из глубины его стиха к читателю, к слушателю.
В воронежские ссыльные годы эта обращенность оказывается предметом рефлексии и вступает в жесткий конфликт с реальностью – насильственно лишенный непосредственного отклика и вообще читателей, выброшенный из печати и литературной жизни, Мандельштам, если верить записям С.Б. Рудакова, сетует на отсутствие у него «социального влияния», в разговорах сравнивает себя с полузабытыми, архаичными Катениным и Кюхельбекером[3], а в стихах, наоборот, возглашает уверенно: «И то, что я скажу, заучит каждый школьник» – это в гражданских громких стихах («Да, я лежу в земле, губами шевеля…», 1935), каких немало написано в воронежские годы, а рядом с этой риторикой слышится почти младенческий лепет, шепот, бормотание, обкатывание корней, проба их на зуб, на язык: «Пусти меня, отдай меня, Воронеж: / Уронишь ты меня иль проворонишь, / Ты выронишь меня или вернешь, – / Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож», или: «Там, где огненными щами / Угощается Кащей…», или: «Я около Кольцова / Как сокол закольцован…», – так ребенок осваивает речь, впервые произносит слова, катает их как камешки во рту, радуется их звучанию. «Поэтическую речь живит блуждающий, многосмысленный корень. Множитель корня – согласный звук, показатель его живучести», – писал Мандельштам в 1923 году в статье ««Vulgata» (Заметки о поэзии)», желая русской поэзии освободиться от «литании гласных» и выйти в открытое море живой речи. Его воронежские стихи – настоящий праздник согласных звуков и многосмысленных корней, но и литания гласных в них, конечно, тоже слышится – безошибочно точная мелодика, красота и глубина звучания: «Есть женщины сырой земле родные, / И каждый шаг их – гулкое рыданье…»
Радость и свобода работы со словом входит в самую ткань мандельштамовского стиха и передается читателю – иной раз поверх понимания или до него – передается то, что выражено мандельштамовскими метафорами слÓва и творчества: «стихов виноградное мясо», «слово-колобок», «брюссельское кружево», «появление ткани», «ворованный воздух», «дырка» в «бубличном тесте». Но и «дикое мясо», «сумасшедший нарост» незаживающей раны – тоже метафора писательского слова. Воронежские стихи вобрали в себя и полноту отчаяния, и радость слияния с миром, с его красотой, и точное знание близкой смерти, и «ясную догадку» о бессмертии; в них сошлись земля, которую Мандельштам впервые увидел вблизи и почувствовал, и небо, которое было для него пустым и далеким, а теперь вот стало родным и близким, в них соединилась жажда жить («Я только в жизнь впиваюсь и люблю…») и крестная мука:
«И резкость моего горящего ребра / Не охраняется ни сторожами теми, / Ни этим воином, что под грозою спят». Виртуальные путешествия по всему свету, разговоры то с Вийоном, то с Рембрандтом, видение прошлого и будущего, «равнины дышащее чудо», «вехи дальние обоза», «сосновый синий бор», «клейкая клятва листов» и воздух, много воздуха – он «легкий», «мертвый», «голубой», «сумрачно-хлопчатый», «версткий», «степной», «дощатый», «стриженый» – много «ворованного воздуха» в воронежских стихах, когда сам поэт физически почти уже не может дышать, («Дыхание всегда затруднено» – пишет он В.Я Хазиной). Это стихи широкого дыхания, «страшной искренности» (С.С. Аверинцев)[4] и последней свободы – свободу вообще я назвала бы существом его поэзии и, конечно, прозы тоже – не только «Четвертой прозы», но и, скажем, «Путешествия в Армению», что, может быть, не так очевидно.
Мандельштамовское свободное слово – «гибнущим подмога». Он это сказал о женщине в стихотворении, которое Анна Ахматова назвала «лучшим любовным стихотворением XX века» («Мастерица виноватых взоров…», 1934). А я бы лучшим назвала другое:
- Есть за куколем дворцовым
- И за кипенем садовым
- Заресничная страна, —
- Там ты будешь мне жена.
- Выбрав валенки сухие
- И тулупы золотые,
- Взявшись за руки, вдвоем
- Той же улицей пойдем.
«Валенки сухие и тулупы золотые» – вот такой образ счастья. Тут можно задуматься о золотом и золотистом в стихах Мандельштама, а также о синем, белом, черном, черно-зеленом в его палитре – об этом можно думать и писать, а можно просто читать стихи и видеть мир его глазами. Новизна образов и красота звучания делают их живыми, рожденными как будто вчера.
21 января 1937 года Мандельштам писал из Воронежа Ю.Н. Тынянову: «Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень. Но последнее время я становлюсь понятен решительно всем. Это грозно. Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои с ней сольются и растворятся в ней, кое-что изменив в ее строении и составе».
Так и случилось. Мандельштам, действительно, становится год от года понятнее и читается все шире – гораздо шире, чем 30 лет назад, когда массовыми тиражами он вышел к читателю. Хороших поэтов немало, а он такой один. Он становится нашей речью, и вопрос уже не в том, насколько он понятен, а в том, как и чем мы можем на него откликнуться. Когда-то замечательный исследователь поэзии Ю.И. Левин вместо доклада на юбилейной лондонской конференции выступил на тему: «Почему я не буду делать доклад о Мандельштаме» – это было в 1991 году, Мандельштам был уже не «ворованным воздухом», а разрешенным писателем, и казалось, что заниматься им больше не стоит. Этот крен восприятия ощущается до сих пор, хотя принимает теперь иные формы. Судьба Мандельштама очень страшная, но пусть она не заслоняет от нас его стихи, пусть он будет нам товарищем и по несчастью, и по счастью, которое мы когда-нибудь заслужим.
«…Сказать ему: нам по пути с тобой».
Время – пространство
Плуг, взрывающий время
В 1991 году впервые отмечался у нас юбилей Мандельштама, столетие со дня рождения – тогда вышло массовым тиражом двухтомное собрание его сочинений и только начинался путь Мандельштама к большому читателю или, говоря его словами, к народу. Сам поэт хотел этого и писал об этом:
- Народу нужен стих таинственно-родной
- Чтоб от него он вечно просыпался
- И льнянокудрою, каштановой волной —
- Его звучаньем умывался.
Мы привыкли считать Мандельштама поэтом элитарным, а он говорил «для людей, для их сердец живых» («Не у меня, не у тебя, у них…», 1936), ему совсем не нравилось быть «непризнанным братом», «отщепенцем в народной семье», и речь свою он в народе просил сохранить навсегда. Сегодня Мандельштама много читают, издано две его биографии и летопись жизни, полное собрание сочинений, множество книг и статей – стал ли он ближе нам, понятнее или, наоборот, мы удаляемся от него как от поэзии прошлого?
Мандельштам мыслил столетиями, это была органичная для него мера времени – недаром у него так часто звучит слово «век», и мы думаем о нем как о поэте XX века – не 1910– 1930-х годов, что лишь фактически было бы правильно, а «настоящего, не календарного» XX века, который так много собрал в себе зла и все никак не кончается. Мандельштам пережил со всеми мировую войну, революцию, катастрофу невиданного террора, в этой катастрофе погиб и стал голосом времени, хотя говорил только от своего лица и порой негромко. Он говорил изнутри времени, не сливаясь с ним, всегда в его взгляде была перспектива – назад и вперед, глубина прошлого и ощущение будущего и вечного: «Нет, никогда ничей я не был современник…» (1924) написано об актуальнейшем событии – смерти Ленина, но взглядом поэта захватывается весь прошедший век русских революций, а в финале возникает вневременный свет.
Такой объем зрения определяет поэтику стихов самых разных, на разные темы, ранних и поздних, эпического размаха и малых, лирических. Самое мощное из них и, может быть, главное стихотворение Мандельштама – оратория о Неизвестном солдате (1937), грандиозный памятник XX веку, реквием «миллионам убитых задешево», написанный так, как будто Мандельштам дожил до второй мировой войны и всего, что с нею последовало. Он не дожил, и он не пророчит, а просто видит состояние мира в единстве прошлого, настоящего и будущего, видит сразу все единым взглядом, соединяющим «аравийское месиво крошево» с листопадом грядущих смертей, актуальные детали с картинами дантовского масштаба, эпоху с вечностью. Поэт соприкасается с реальностью не в линейном ее развороте, не во времени, а в том сверхпространстве, где все есть и было и будет, и в этих стихах он возглашает одновременно неслыханную катастрофу, угрожающую человеческой культуре, и собственную гибель «с гурьбой и гуртом».
Для художника с таким зрением проколы в будущее – обычное дело. У Мандельштама найдем их немало – в стихах о Нагорном Карабахе, как будто в наши дни написанных, или, например, в стихотворении «Рим» 1937 года – оно начинается с описания фонтана с каменными лягушками в воронежском Кольцовском сквере, где так любил гулять и сидеть Мандельштам, но сквозь зримый образ вдруг проступает в стихах другая реальность и другие фонтаны – знаменитые прекрасные римские; на реальное воронежское пространство наплывает другое, далекое – только ссыльного поэта в Воронеже волнует не Вечный город, а «медленный Рим-человек» 30-х годов, изнемогающий под властью фашизма:
- Ямы Форума заново вырыты
- И открыты ворота для Ирода,
- И над Римом диктатора-выродка
- Подбородок тяжелый висит.
Вот так прозревая сквозь пространство, он как будто знает и то, что будет происходить здесь, в Кольцовском сквере и вокруг него, через пять лет, когда в Воронеж придут оккупанты: возле фонтана они устроят свое кладбище, а на вытянутой руке огромной статуи Ленина в назидание повесят партизанку. Поэт в 1937 году уже все это здесь видит, он фиксирует разломы исторической коры как точнейший сейсмограф, а реальность потом догоняет его.
Не об этом ли свойстве сам Мандельштам говорит в начале одного из стихотворений 1937 года:
- Вооруженный зреньем узких ос,
- Сосущих ось земную, ось земную,
- Я чую все, с чем свидеться пришлось,
- И вспоминаю наизусть и всуе…
Кажется, что здесь перепутаны времена, – ведь чуять можно то, что впереди, или то, что происходит где-то вдали, но не прошлое, не то, с чем уже «свидеться пришлось». Это характерное для Мандельштама смешение – он свободно сдвигал пласты времени, входил своим словом в будущее, предъявляя его в стихах как уже свершившееся, но и прошлое мог относить далеко вперед: «Поэзия – плуг, взрывающий время так, что глубинные слои времени, его чернозем, оказываются сверху. <…> Часто приходится слышать: это хорошо, но это вчерашний день. А я говорю: вчерашний день еще не родился. Его еще не было по-настоящему. Я хочу снова Овидия, Пушкина, Катулла, и меня не удовлетворяет исторический Овидий, Пушкин, Катулл» («Слово и культура», 1921).
Это и про Мандельштама можно сказать – по-настоящему он у нас впереди. С одной стороны, он сегодня звучит более чем актуально, почти как наш современник. Какие-то реалии из его стихов утрачиваются, ускользают от восприятия, их нужно восстанавливать комментарием, но само ощущение переживаемой эпохи у Мандельштама то же, что и у многих из нас, потому что эпоха эта длится, мы до сих пор не изжили ее, «мы те же, что и люди 1937 года», как сказал когда-то Виктор Кривулин, один из наследников Мандельштама в поэзии второй половины XX века. Мы те же, мы продолжаем переживать гуманитарную катастрофу, разлом времени, разрыв позвоночника века, как переживал все это Мандельштам: «Но разбит твой позвоночник, / Мой прекрасный жалкий век!» («Век», 1922). В этом Мандельштам близок нам, в этом он актуален, но вместе с тем не вполне и не всегда понятен, как бывал непонятен современникам, даже самым чутким их них. Борис Эйхенбаум, один из лучших филологов советского времени, услышав новую лирику Мандельштама начала 1930-х годов, остановился перед ней в недоумении, пытался осмыслить ее в привычных терминах («акмеизм – футуризм») и, готовясь произнести речь о Мандельштаме на одном из его вечеров в марте 1933 года, зафиксировал в своих записях: «Горделивый разговор с эпохой», «Сложные счеты с эпохой»[5]. Это неточный, глуховатый отклик на одно из самых упоительных «московских» стихотворений Мандельштама («Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето», 1931), где собраны пестрые приметы времени, которое поэт пытается поймать «за хвост» («А все-таки люблю его за хвост ловить, / Ведь в беге собственном оно не виновато…»), где сам себя он с этим временем как будто совмещает («Пора вам знать, я тоже современник…»), и при этом смотрит на свою эпоху извне, из какой-то удаленной точки: «Я говорю с эпохою, но разве / Душа у ней пеньковая…» – ничего горделивого здесь нет, а есть то самое мандельштамовское объемное зрение – непривычное, трудно воспринимаемое в стихах.
Мандельштам помогает разобраться в своей поэтике, когда пишет о других поэтах и мыслителях, как например о Константине Леонтьеве: «…из всех русских писателей он более всех других склонен орудовать глыбами времени. Он чувствует столетия, как погоду, и покрикивает на них. Ему бы крикнуть: “Эх, хорошо, славный у нас век!” – вроде как: “Сухой выдался денек!” Да не тут-то было! Язык липнет к гортани. Стужа обжигает горло, и хозяйский окрик по столетию замерзает столбиком ртути» («Шум времени», 1923).
Вот так и сам он «орудует глыбами времени», окликает свое столетие, как погоду, чует его, как грозу: «Чую без страху, что будет и будет гроза» («Колют ресницы. В груди прикипела слеза», 1931) или видит время клубящейся вокруг огневой стихией: «…И столетья / Окружают меня огнем» («Стихи о неизвестном солдате», 1937). Грозовое чувство сближает его с Тютчевым. «Прообразом исторического события в природе служит гроза.
Прообразом же отсутствия события можно считать движение часовой стрелки по циферблату. <…> Всмотримся пристально вслед за Тютчевым, знатоком грозовой жизни, в рождение грозы…» (из заметок 1910-х годов). Тютчева Мандельштам называл «подателем сильного и стройного мироощущения» («Шум времени»), но ведь и сам он податель мироощущения если не стройного, то несомненно сильного, а еще больше – податель опыта проживания жизни в грозовую эпоху, опыта бродяжничества, нищеты, изгнания, гибели в лагере. Такой опыт был у миллионов, но разница в том, что великий поэт проживает жизнь еще и в слове, или прежде всего в слове, «он опыт из лепета лепит / И лепет из опыта пьет…» («Скажи мне, чертежник пустыни…», ноябрь 1933 – январь 1934), он соединяет в стихах свою жизнь с величайшим счастьем цветения поэтического слова, счастьем для всех. Музыка его стихов, красота их оплачены сполна мученическим концом, но сила мандельштамовского слова обеспечена не только фактами биографии – само это слово всегда ощущается как прожитое, придуманных стихов у него нет или почти нет. «Дошло до того, что в ремесле словесном я ценю только дикое мясо, только сумасшедший нарост:
- И до самой кости ранено
- Все ущелье криком сокола…
…вот что мне надо» («Четвертая проза», 1929–1930).
«Дикое мясо, мясной нарост на ране или язве, не дающий ей подживать», – читаем пояснение у Даля[6]. Этот «сумасшедший нарост» подлинности в стихах самого Мандельштама чувствует даже тот читатель, который не может уследить за движением его поэтической мысли, стихи его вызывают сопереживание и восхищение даже в тех случаях, когда и профессионал затрудняется объяснить значение отдельных образов.
Сложность восприятия Мандельштама связана с невероятной скоростью и нелинейностью его поэтического мышления. Описывая поэтику Данте, он развил две метафоры, без которых теперь не обходится разговор о его собственной поэтике: «Надо перебежать через всю ширину реки, загроможденной подвижными и разноустремленными китайскими джонками, – так создается смысл поэтической речи. Его, как маршрут, нельзя восстановить при помощи опроса лодочников: они не расскажут, как и почему мы перепрыгивали с джонки на джонку»; «Развитие образа только условно может быть названо развитием. И в самом деле, представьте себе самолет, <…> который на полном ходу конструирует и спускает другую машину. Эта летательная машина так же точно, будучи поглощена собственным ходом, все же успевает собрать и выпустить еще третью» («Разговор о Данте», 1933); и еще одно, уже прямое признание: «Я мыслю опущенными звеньями», – сказал он Эмме Герштейн в ответ на ее недоумение перед «Египетской маркой»[7]. Таковы стихи Мандельштама, такова и его проза – чтобы такие тексты читать, понимать и любить, нужен эстетический опыт, душевный труд, нужны знания, свобода и смелость мышления, способность воспринимать непривычное. Но несомненно и другое – все эти способности обретаются и выращиваются чтением Мандельштама.
И еще чтением Мандельштама, как и всякой хорошей литературы, выращивается особое любовное отношение к языку – к его родной мелодике, к «блуждающему, многосмысленному корню», который «живит» поэтическую речь, да и к «литании гласных», от которой Мандельштам призывал освободить русский стих, но сам не освободился, к счастью («“Vulgata” (Заметки о поэзии)»). Он работал с языком как филолог, особенно в воронежских тетрадях, и можно сказать про него то, что он сказал про Хлебникова в статье «О природе слова» (1922): «Хлебников возится со словами, как крот, – между тем он прорыл в земле ходы для будущего на целое столетие». И в той же статье он говорит об опасности отпадения от языка как отпадения от истории: «“Онемение” двух, трех поколений могло бы привести Россию к исторической смерти». Эта опасность, увиденная поэтом в начале революционной эпохи, никуда ведь не делась сегодня, когда русская история опять «идет по краешку, по бережку, над обрывом и готова каждую минуту сорваться в нигилизм, то есть в отлучение от слова».
Мандельштам – наш помощник в истории, он поэт большого времени, поэт будущего. Критики при жизни писали о его архаичности, называли его осколком старого мира, а он и тогда был, и остается у нас впереди, и нам еще предстоит догнать его. Свое слово он послал в далекое будущее, забросил, как бутылку, в океан времени, адресуясь к провиденциальному собеседнику («О собеседнике», 1913), и мы не удаляемся от него во времени, а приближаемся по мере сил. И если в 1960–1980 годы именем Мандельштама аукались так, как в 1920-е аукались именем Пушкина «в надвигающемся мраке» (Вл. Ходасевич, «Колеблемый треножник», 1921), то когда-нибудь, надеемся, сбудется мандельштамовская мечта: «Быть может, самое утешительное во всем положении русской поэзии – это глубокое и чистое неведение, незнание народа о своей поэзии. Массы, сохранившие здоровое языковое чутье, – те слои, где произрастает, крепнет и развивается морфология языка, еще не вошли в соприкосновение с русской лирикой. Она еще не дошла до своих читателей и, может быть, дойдет до них только тогда, когда погаснут поэтические светила, пославшие свои лучи к этой отдаленной и пока недостижимой цели» («Выпад», 1923–1924?).
Петербургский сюжет
О Мандельштаме не скажешь, что он, как Пушкин, принадлежит прежде всего Петербургу: его бездомность обернулась в поэзии необозримыми пространствами без границ – пространствами, которые он по большей части биографически не обжил, но которые создал или пересоздал силою поэтического воображения и слова. «Мне все равно, когда и где существовать!»[8] – в том смысле, что существовать поэту можно всегда и везде, независимо от реального пространства и времени, все и всегда ему открыто и доступно: Египет, Эллада, Рим, Иудея, Византия, Париж, Лондон, Кёльн, Реймс, Шотландия, Финляндия, Армения, Крым, Тифлис, Москва, Киев, Сибирь, Урал, Воронеж, Задонск, Тамбов… Мы только не знаем, вошел ли в стихи Мандельштама Дальний Восток, ставший его могилой, – вряд ли вошел… И все же именно Петербург, в котором поэт не родился, не умер и по существу не так уж много прожил, именно Петербург составил в его творчестве не просто особую тему, но большой историософский и глубоко интимный сюжет, связавший в одно историю города, страны и его личную судьбу.
Петербургский текст Мандельштама драматически изломан в тех же точках, что и вся его жизнь, он развернут во времени от ранних, первой половины 1910-х годов, акмеистических опытов познания тогда живого и любимого города, через страшный для всех петербуржцев год 1921-й – до воронежских ссыльных видений 1937-го. К петербургскому сюжету многое стянуто, многое в нем отразилось, и в частности, с ним сплетен у Мандельштама сюжет пушкинский, также завершившийся в его лирике зимой 1937 года, в дни всероссийского «юбилея» – столетия пушкинской смерти.
Самые ранние стихи Мандельштама не локализованы в пространстве – петербургская тема и топика проступает в них постепенно, выплывает из еще символистского тумана к 1912–1913 годам, параллельно с архитектурными образами других городов: в 1913 году в публикации «Гиперборея» и одновременно в первом издании «Камня» оформляется первый «петербургский цикл» или, скорее, подборка – «Петербургские строфы» (1913), «В душном баре иностранец…» (1913), «Лютеранин» (1912); позже этот ряд будет дополнен «Адмиралтейством» (1913), которое для этого условного цикла может считаться центральным, ключевым стихотворением. К ним примыкают не допущенные во второе издание «Камня» военной цензурой «Заснула чернь» (1913) и «Дворцовая площадь» (1915), а также «На площадь выбежав, свободен…» (1914), где петербургская тема спорит с римской и сквозь «рощу портиков» Казанского собора просвечивает колоннада римского Сан-Пьетро. («Тютчевское» стихотворение «Лютеранин» внешне с Петербургом не связано, но недаром Мандельштам публикует его в этом ряду – по связи неочевидной, глубинной оно впоследствии отзовется в более поздних его петербургских стихах.)
Мандельштамовский Петербург периода «Камня» – совсем не тот сырой и серый, смертельно больной, обреченный и проклятый «город на болоте»[9], каким он предстал после Достоевского у символистов – в романе Дмитрия Мережковского «Антихрист (Петр и Алексей)» (1904–1905, отд. изд. 1905, 1906, 1907), в стихотворении Зинаиды Гиппиус «Петербург» (1909), в романе «Петербург» Андрея Белого (1911–1912). Петербург символистов – это город, основанный Антихристом и несущий на себе его печать:
- Твое холодное кипенье
- Страшней бездвижности пустынь.
- Твое дыханье – смерть и тленье,
- А воды – горькая полынь.
- Как уголь дни – а ночи белы,
- Из скверов тянет трупной мглой,
- И свод небесный, остеклелый
- Пронзен заречною иглой.
- ………………………………
- Как прежде, вьется змей твой медный,
- Над змеем стынет медный конь…
- И не сожрет тебя победный
- Всеочищающий огонь.
- Нет, ты утонешь в тине черной,
- Проклятый город, Божий враг.
- И червь болотный, червь упорный
- Изъест твой каменный костяк.
В отличие от этого «проклятого города», Петербург раннего Мандельштама – город многоликий, прекрасный и благословенный прежде всего потому, что он – пушкинский. Мандельштамовский пушкиноцентризм сказался и в этой теме. Если для символистов genius loci Петербурга – Медный Всадник[10], Антихрист на апокалиптическом коне, строитель города смерти, автор «проклятой ошибки», то для Мандельштама genius loci Петербурга – Пушкин, последний солнечный певец этого города, так высоко прославивший его в знаменитом «“люблю”-фрагменте Петербургского текста»[11], во вступлении к «Медному Всаднику». В 1910–1920-х годах Пушкин казался «последним певцом светлой стороны Петербурга»[12], и Мандельштам в начале своего «петербургского текста» с некоторым усилием прорывается к тому вечному, сияющему пушкинскому городу – прорывается сквозь новую реальность, историческую и литературную.
Так и устроены его «Петербургские строфы» – как два кадра на одном негативе: сквозь «мутную метель» пробивается солнце, сквозь город моторов, сквозь запах бензина проступает Петербург «Онегина» и «Медного Всадника», грамматическое настоящее время перемежается с прошедшим:
Н. Гумилеву
- Над желтизной правительственных зданий
- Кружилась долго мутная метель,
- И правовед опять садится в сани,
- Широким жестом запахнув шинель.
- Зимуют пароходы. На припеке
- Зажглось каюты толстое стекло.
- Чудовищна – как броненосец в доке —
- Россия отдыхает тяжело.
- А над Невой – посольства полумира,
- Адмиралтейство, солнце, тишина!
- И государства жесткая порфира,
- Как власяница грубая, бедна.
- Тяжка обуза северного сноба —
- Онегина старинная тоска,
- На площади Сената – вал сугроба,
- Дымок костра и холодок штыка.
- Черпали воду ялики, и чайки
- Морские посещали склад пеньки,
- Где, продавая сбитень или сайки,
- Лишь оперные бродят мужики.
- Летит в туман моторов вереница;
- Самолюбивый, скромный пешеход —
- Чудак Евгений – бедности стыдится,
- Бензин вдыхает и судьбу клянет!
«Желтизна», которая всю жизнь будет сопровождать петербургскую тему у Мандельштама («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», 1930, «Нынче день какой-то желторотый…», 1936), объясняется не только тем, что Николай I предпочитал желтый цвет при окраске правительственных зданий в Петербурге[13]. Грязно-желтые петербургские туманы прочно окрасили литературный образ города в романах Достоевского («Подросток», «Преступление и наказание»), Мережковского («Петр и Алексей», «Александр I»), а ближайший для Мандельштама поэтический источник этой желтизны – стихотворение Иннокентия Анненского «Петербург» (1910) (листок с этим стихотворением Мандельштам вырвал из «Аполлона» и с ним «не расставался в течение всей своей жизни»[14]):
- Желтый пар петербургской зимы,
- Желтый снег, облипающий плиты…
Эта самая желтизна в сочетании с пушкинской «мутной метелью», отсылающей сразу и к «Бесам», и к «Метели», рассеивается в первой же строфе, чтобы ввести нас в картину Петербурга почти пушкинского, где «правовед опять садится в сани» так же, как столетием раньше садился в них Евгений Онегин («Уж тёмно: в санки он садится. / “Пади, пади!” – раздался крик; / Морозной пылью серебрится / Его бобровый воротник» – «Евгений Онегин», 1 – XVI). «Опять» – ключевое слово в этой картине. По видимости – но только по видимости – оно сближает мандельштамовское стихотворение со стихами Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека» (1912) с их темой бесконечной, бессмысленной и безысходной повторяемости бытия, отраженного в воде петербургских каналов. Для Блока эта повторяемость мертвенна – для Мандельштама она радостна и желанна, историческое и литературное время для него циклично, и если все повторяется – значит продолжается жизнь. «Все было встарь, все повторится снова, / И сладок нам лишь узнаванья миг» – это будет сказано позже, в 1918 году («Tristia»), с почти буквальной цитатой из Блока («И повторится всё, как встарь»), но с противоположным знаком, а чуть позже Мандельштам сформулирует это как творческий принцип: «Итак, ни одного поэта еще не было. Мы свободны от груза воспоминаний. Зато сколько редкостных предчувствий: Пушкин, Овидий, Гомер. Когда любовник в тишине путается в нежных именах и вдруг вспоминает, что это уже было: и слова, и волосы, и петух, который прокричал за окном, кричал уже в Овидиевых тристиях, – глубокая радость повторенья охватывает его, головокружительная радость <…> Так и поэт не боится повторений и легко пьянеет классическим вином» («Слово и культура», 1921, курсив наш – И.С.).
«Глубокая радость повторенья», «выпуклая радость узнаванья» пушкинского города в его непреходящих чертах чувствуется в петербургских стихах Мандельштама периода первого «Камня», и потому многочисленные пушкинские реминисценции так естественно входят в ткань этих стихов – ведь имена вещам уже были даны, и теперь их можно только с радостью повторять. «Онегина старинная тоска» сегодня та же, что была сто лет назад, «а над Невой – посольства полумира» те же, что в пушкинском «Пире Петра Первого» («Над Невою резво вьются / Флаги пестрые судов»)[15]. Повторяется и сама петербургская история: «На площади Сената – вал сугроба, / Дымок костра и холодок штыка» – эти две строки устроены так, что описывают с равной точностью и зиму 1913-го и 14 декабря 1825 года[16], и прошедшего между ними столетия словно и не было. Кажется, что примерно то же ощущение испытывает и герой «Петербурга» Андрея Белого, преследуемый Медным Гостем из «Медного Всадника»: «Александр Иванович, Евгений, впервые тут понял: столетие пробежал понапрасну: от декабря к октябрю: а за ним громыхало без всякого гнева – по деревням, городам, по подъездам, по лестницам; он – прощенный; все бывшее совокупно с навстречу идущим – лишь призрачные прохождения мытарств до трубы»[17], но опять здесь у Мандельштама не сходство, а отталкивание от символистской исторической эсхатологии – его собственное эсхатологическое мироощущение на тот момент еще не оформилось, не созрело, история предстает ему единой, непрерывной и цикличной, она все время возвращается, как солнце, «обуянное жаждой возвращения» и главное в ней не эволюция, не прогресс, а связь явлений («Слово и культура», «О природе слова», 1921–1922).
«Петербург» Андрея Белого как будто наследует образам «Медного Всадника», но пушкинские цитаты и эпиграфы звучат в нем диссонансом, этот контраст входит в замысел, в поэтику и семантику романа. В «Петербургских строфах» Мандельштама пушкинское присутствие органично, оно освещает настоящее и связывает его с прошлым. Литературные подтексты «Петербургских строф» открывают большую историческую перспективу вперед и назад – предчувствие близкой войны дает себя знать в образе «броненосца в доке», с которым сравнивается Россия, но этот же образ, с учетом его литературной генеалогии, уводит в далекое прошлое, в Россию петровскую, к самому началу ее имперской истории. Укажем на один из источников петербургских образов Мандельштама и вообще петровской темы в его стихах – роман Д.С. Мережковского «Антихрист (Петр и Алексей)» из трилогии «Христос и Антихрист». Вот, в частности, вид Адмиралтейства глазами Петра: «Игла Адмиралтейства в тумане тускло рдела от пламени пятнадцати горнов. Недостроенный корабль чернел голыми ребрами, как остов чудовища»[18]. Две мандельштамовские строчки, близкие по времени, восходят к этому образу: «Но чем внимательней, твердыня Notre Dame, / Я изучал твои чудовищные ребра…» («Notre Dame», 1912) и «Чудовищна, как броненосец в доке, – / Россия отдыхает тяжело» («Петербургские строфы»); ср. также описание спуска корабля у Мережковского и у Мандельштама в «Шуме времени» (1923–1924): «Все смотрели на фейерверк в оцепенении ужаса. Когда же появилось в клубах дыма, освещенных разноцветными бенгальскими огнями, плывшее по Неве от Петропавловской крепости к Летнему саду морское чудовище с чешуйчатым хвостом, колючими плавниками и крыльями, – им почудилось, что это и есть предреченный в Откровении Зверь, выходящий из бездны»[19] – «Помню также спуск броненосца “Ослябя”, как чудовищная морская гусеница выползла на воду, и подъемные краны, и ребра эллинга». Литературные впечатления вместе с детскими воспоминаниями входят в «Петербургские строфы» метафорой корабля-государства и связывают воедино петербургскую историю – ее петровское начало с мандельштамовской современностью.
«И государства жесткая порфира, / Как власяница грубая, бедна» – образ сложный, с поворотом от имперской темы к «неожиданному мотиву покаяния»[20]; тут, конечно же, и пушкинское соположение столиц в «Медном Всаднике» («И перед младшею столицей / Померкла старая Москва, / Как перед новою царицей / Порфироносная вдова»), и снова отголоски романа Мережковского, символической сцены, к которой нам придется еще возвращаться: «Присутствовали в Адмиралтействе при спуске большого семидесятипушечного корабля. Царь, одетый как простой плотник, в красной вязаной фуфайке, запачканной дегтем, с топором в руках, лазил между подпорками под самый киль…»[21] «Власяница грубая» как символ покаяния исторического и личного через много лет превратится у Мандельштама в «железную рубаху» и вместе с петровской темой и топором всплывет в стихотворении «Сохрани мою речь навсегда…» (1931): «Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе / И для казни петровской в лесу топорище найду»[22]. В «Петербургских строфах» речь идет не о себе, а об империи, и эта бедная власяница сближает государство и «чудака Евгения», который «бедности стыдится», – сближает их общей бедностью и как будто снимает традиционные петербургские оппозиции и контрасты[23]. Вместе с тем, как показал М. Алленов, жесткая и бедная «порфира» дает вполне точное изображение Дворцовой площади, здания которой, символизирующие мощь и величие государства, были тогда выкрашены в кирпично-красный цвет, так что Мандельштам называл их «красной подковой» («Когда октябрьский нам готовил временщик…», 1917, «Кровавая мистерия 9-го января», 1922)[24].
Сам контраст «порфиры» и «бедности» внутри одного образа – тоже пушкинский («Город пышный, город бедный…»[25]), Пушкин присутствует во всем этом стихотворении, как он присутствует для Мандельштама во всем Петербурге и во всей русской культурной истории, составляя ее солнечный центр.
Однако в третьей строфе он присутствует особым образом, неявно, но абсолютно возвышаясь над панорамой «правительственных зданий», Невы, Дворцовой площади, площади Сената, Тучкова буяна («склад пеньки»). Адмиралтейство в сиянии не просто реминисценция пушкинского образа из Вступления к «Медному Всаднику» («и светла / Адмиралтейская игла»); этот центральный стих – «Адмиралтейство, солнце, тишина!» (с выразительным после тишины восклицательным знаком) – составляет «солярную вертикаль»[26] всей картины, «кульминацию всех свето-цвето-пространственных характеристик этого мира», он знаменует «запредельный взлет ввысь в архитектуре стихового пространства и в траектории стихотворного сюжета» и, учитывая все солнечные пушкинские ассоциации, символизирует здесь Пушкина самого. Адмиралтейство как «солярный символ города, его архитектурное солнце» совмещается с Пушкиным – солнечным центром мандельштамовского поэтического мира. «Тишина и статика “солярной вертикали” <…> ставит Адмиралтейство вне событийного ряда, где “правовед садится в сани”, северный сноб таскает обузу тоски по Адмиралтейскому бульвару и чудак Евгений “бензин вдыхает и судьбу клянет”. Адмиралтейство, стало быть, пребывает там, где “событий рассеивается туман”», то есть, добавим от себя, принадлежит вечности, как и Пушкин. При «символически значимом отсутствии» Медного Всадника в панораме «Петербургских строф», Адмиралтейство становится историко-культурным, эмоциональным, поэтическим центром образа города в этих стихах Мандельштама – образа, столь непохожего на Петербург символистов, гибельный и гибнущий.
Особый разговор – «чудак Евгений» в последней из «петербургских строф». Давно замечено, что помещая героя «Медного Всадника» в современный контекст, Мандельштам называет его так, как Пушкин называет неоднократно другого Евгения – Онегина[27]: «Что он опаснейший чудак», «Чудак, попав на пир огромный», «Чудак печальный и опасный», «Иль корчит так же чудака?», «Мой неисправленный чудак». В романе в стихах это слово употреблено Пушкиным восемь раз, а в «Медном Всаднике» «чудака» нет вообще. Мандельштамовский перенос неслучаен – в 1927 году в статье «Яхонтов» он снова называет героя «Медного Всадника» «чудаком» и заодно поясняет причину: «Наши классики – это пороховой погреб, который еще не взорвался. Чудак Евгений недаром воскрес в Яхонтове; он по-новому заблудился, очнулся и обезумел в наши дни». (Актер Владимир Яхонтов, друг Мандельштама, читал со сцены классику, лучшей его работой Мандельштам назвал в той статье композицию «Петербург», «сплетенную из обрывков “Шинели” Гоголя, “Белых ночей” Достоевского и “Медного Всадника”».) Итак, Евгений не просто продолжает свои скитания в мандельштамовском Петербурге – он «обезумел» «по-новому», и слово «чудак» говорит о труднопостигаемом, парадоксальном инобытии героя на новом витке петербургской истории. Классика не наследуется как родовая вотчина – в художественном мире Мандельштама она порой взрывается как «пороховой погреб».
И в то же время в «чудаке Евгении» слышится что-то личное, автор «Петербургских строф» вжился в него больше, чем в других героев – «правоведа» или «северного сноба». На это Надежда Яковлевна Мандельштам дала свою отповедь: «Кто выдумал, что он олицетворил себя в строчках: “Чудак Евгений бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу клянет”? Мандельштам не “самолюбивый, скромный пешеход”, он для этого слишком любил ходить пешком и любоваться миром, куда входили и машины. Это Парнок самоутверждается и робок, как горный козел. <…> Не могло быть и секунды, чтобы этот человек сказал про себя, что он “судьбу клянет”…» – и дальше с той же горячностью она защищает Мандельштама, как будто может всерьез идти речь о тождестве автора и героя, о буквальном применении этих стихов к самому поэту. Но, как и в случае с упомянутым ею Парноком, героем «Египетской марки» (1927), Мандельштам личной интонацией приближает к себе воскресшего Евгения – такого же чудака, как он сам.
Это самый «чудак» – почти тот «иностранец», каким именует себя поэт в первой, впоследствии отброшенной строфе стихотворения «…Дев полуночных отвага…» (1913), второго в «петербургской публикации «Гиперборея» и петербургской подборке «Камня»:
- В душном баре иностранец,
- Я нередко, в час глухой,
- Уходя от тусклых пьяниц
- Становлюсь самим собой.
И «пьяницы» и «душный бар» – блоковские мотивы, эпитет «глухой» тоже напоминает конкретно о «Незнакомке» (1906), и на этом фоне расставание с первой строфой в последующих изданиях «Камня» выглядит не просто как творческое решение, но как жест отказа от символистского взгляда на мир, символистской поэтики, символистского Петербурга. «Становясь самим собой», поэт выходит из «душного бара» на петербургские улицы:
- Дев полуночных отвага
- И безумных звезд разбег,
- Да привяжется бродяга,
- Вымогая на ночлег.
- Кто, скажите мне, сознанье
- Виноградом замутит,
- Если явь – Петра созданье,
- Медный всадник и гранит?
- Слышу с крепости сигналы,
- Замечаю, как тепло.
- Выстрел пушечный в подвалы,
- Вероятно, донесло.
- И гораздо глубже бреда
- Воспаленной головы
- Звезды, трезвая беседа,
- Ветер западный с Невы.
Выйдя из блоковского Петербурга, поэт попадает в Петербург пушкинский – в мотивах и интонации этих стихов отчетливо слышны пушкинские петербургские хореи – «Город пышный, город бедный…» (1828) и «Пир Петра Первого» (1835): «Медный всадник и гранит» – «Скука, холод и гранит», «Слышу с крепости сигналы» – «Отчего пальба и клики…» Пушкинские строки подхватываются, перепеваются Мандельштамом, все стихотворение ими полнится и звучит, как и мотивами «Медного Всадника», вступления к нему. Но своя тема здесь идет вразрез с пушкинским прославлением примирительного царского пира («Пир Петра Первого») или «пирушки холостой» («Медный Всадник») – это тема трезвости, тема ясного сознания, оппонирующая, конечно, не Пушкину, а Блоку и вообще символистскому «бреду воспаленной головы». Именно это подчеркнул Гумилев в своем отзыве на первое издание «Камня»: «С символическими увлечениями О. Мандельштама покончено навсегда, и как эпитафия над ними звучат эти строки: “И гораздо лучше бреда / Воспаленной головы / Звезды, трезвая беседа, / Ветер западный с Невы”»[28]. Аргументом в споре Мандельштама с символизмом стал в этих стихах Петербург – Мандельштам увидел в нем такую сверхреальность яви, какая сравниться не может ни с какими хмельными видениями.
Мандельштамовская ранняя зависимость от символизма проявилась в продуктивном отталкивании, в трудном споре, в преодолении. Это спор расслышать непросто – ведь одно мировоззрение рождалось внутри другого, вырастало из него, как и поэтика акмеистическая рождалась внутри символистской, из нее вырастала. Пример тому – петербургская тема. Мы узнаем у Мандельштама образы Блока и Мережковского, но они если не отторгнуты, то радикально переосмыслены и включены в собственные мандельштамовские связи.
Мандельштамовское видение Петербурга формировалось тогда же, когда и его акмеистическая теория, которую, собственно, он один из акмеистов смог внятно обосновать. В этом обосновании первую роль сыграла архитектура как образ культурного строительства в противовес футуристической игре со словом или «прогулке в “лесу символов”». «Акмеизм – для тех, кто, обуянный духом строительства, не отказывается малодушно от своей тяжести, а радостно принимает ее, чтобы разбудить и использовать архитектурно спящие в ней силы. Зодчий говорит: я строю – значит я прав»; «Камень Тютчева, что “с горы скатившись, лег в долине, сорвавшись сам собой, иль был низвергнут мыслящей рукой”, – есть слово. Голос материи в этом неожиданном паденьи звучит как членораздельная речь. На этот вызов можно ответить только архитектурой. Акмеисты с благоговением поднимают таинственный тютчевский камень и кладут его в основу своего здания»; «Мы не летаем, мы поднимаемся только на те башни, какие сами можем построить» («Утро акмеизма», 1912, 1913?). С архитектурной идеей связаны стихи того времени – «Айя-София», «Notre Dame» (оба – 1912) и два петербургских архитектурных стихотворения – «Адмиралтейство» и «На площадь выбежав, свободен…».
В захаровском шедевре Мандельштам увидел апофеоз культурного строительства, творческой деятельности человека:
Адмиралтейство
- В столице северной томится пыльный тополь,
- Запутался в листве прозрачный циферблат,
- И в темной зелени фрегат или акрополь
- Сияет издали, воде и небу брат.
- Ладья воздушная и мачта-недотрога,
- Служа линейкою преемникам Петра,
- Он учит: красота – не прихоть полубога,
- А хищный глазомер простого столяра.
- Нам четырех стихий приязненно господство,
- Но создал пятую свободный человек:
- Не отрицает ли пространства превосходство
- Сей целомудренно построенный ковчег?
- Сердито лепятся капризные медузы,
- Как плуги брошены, ржавеют якоря;
- И вот разорваны трех измерений узы,
- И открываются всемирные моря!
Стихотворение выдержано в торжественной интонации спокойного восхищения, сдержанного восторга. Масштаб центрального архитектурного образа растет от строфы к строфе, и в последнем стихе поэтическое пространство размыкается пушкинской реминисценцией, но речь уже идет не о скромном «окне в Европу», а об открывающихся «всемирных морях». Архитектурное творение Захарова, заложенное Петром, совмещается с городом, творением Петра, и становится символом безграничных творческих возможностей человека, среди творцов присутствует и Пушкин – как певец Адмиралтейства, Петербурга, Петра, создатель «Медного Всадника», сотворец того величественного и прекрасного образа, который вырастает в стихотворении[29]. Кроме реминисценции из «Медного Всадника», пушкинские мотивы слышатся и в характеристике венценосного «простого столяра» («то мореплаватель, то плотник» – «Стансы», 1826[30]), и в противопоставлении его художнику-полубогу – здесь Мандельштам, опираясь на «Моцарта и Сальери», заостряет столь важное для него различие двух типов художества (один ассоциируется у него с символизмом, другой – с акмеизмом; ср.: «Сальери достоин уважения и горячей любви. Не его вина, что он слышал музыку алгебры так же сильно, как живую гармонию. На место романтика, идеалиста, аристократического мечтателя о чистом символе, об отвлеченной эстетике слова, на место символизма, футуризма и имажинизма пришла живая поэзия слова-предмета, и ее творец не идеалист-мечтатель Моцарт, а суровый и строгий ремесленник мастер Сальери, протягивающий руку мастеру вещей и материальных ценностей, строителю и производителю вещественного мира» – «О природе слова»).
Сияющее, как и в «Петербургских строфах», Адмиралтейство обрастает гроздью метафор – фрегат, акрополь, ковчег – все они значимы в мифологии Мандельштама. Фрегат – вариация темы корабля-государства его исторического движения, только здесь Россию символизирует не воинственный «броненосец» («Петербургские строфы»), не тяжелый «корабль», который «ко дну идет» («Сумерки свободы»), а легкий «фрегат», устремленный в открытое время и пространство. Акрополь – часто встречающийся в стихах и статьях Мандельштама символ укрепленного «верхнего города», крепости культуры («В разноголосице девического хора…», 1916, «Tristia», 1918, «За то, что я руки твои не сумел удержать…», 1920, «О природе слова»[31]). Но главная и самая сильная здесь метафора – Адмиралтейство как «целомудренно построенный ковчег», и опять нужно вспомнить Мережковского, ту уже упомянутую нами сцену романа «Антихрист (Петр и Алексей)», где Петр в Адмиралтействе, «одетый, как простой плотник», «с топором в руках» лично участвует в спуске на воду большого корабля. Эту сцену описывает в своем дневнике фрейлина Арнгейм: «“Тружусь, как Ной, над ковчегом России”, – припомнились мне слова царя»[32]. Библейская реминисценция из Мережковского закрепляет масштаб образа: ковчег Адмиралтейства – это ковчег Петербурга, ковчег России, спасительный среди всемирного потопа (ср. «всемирные моря»).
Не всадник смерти и не Антихрист видится Мандельштаму в Петербурге, а ковчег спасения у начала новой истории – образ, неслучайный для Петербургского текста с его устойчивой символической темой наводнения («Медный Всадник»). Чуть позже, уже на первом сломе мандельштамовского петербургского сюжета, восприятие города качнется у него к другому полюсу этой темы, от ковчега к потопу:
- Императорский виссон
- И моторов колесницы —
- В черном омуте столицы
- Столпник-ангел вознесен.
- В темной арке, как пловцы,
- Исчезают пешеходы,
- И на площади, как воды,
- Глухо плещутся торцы.
- ……………………………….
Как пишет Д. Сегал, «эта картина оказывается символом некоей вселенской катастрофы, потопа, гибели Петербурга, его ухода под воду – картины, которая сразу же вызывает в памяти парадигматические пушкинские образы страшного наводнения в Петербурге, запечатленные в “Медном всаднике” и связанные с идеей империи, ее символов, ее власти, безнадежного бунта против нее»[33]. Но в этих стихах империя еще стоит – ее «черно-желтый ло1скут» еще «злится» в вышине.
Петербургский потоп – это картина 1915 года, в 1913-м Петербург пока воспринимается Мандельштамом по-другому: прекрасный, совершенный, «целомудренно построенный ковчег» Адмиралтейства символизирует чудо строительства Петербурга – не того города, которому, по старинному проклятию, «быть пусту», а того, который воспет Пушкиным: «Красуйся, град Петров, и стой / Неколебимо как Россия, / Да умирится же с тобой / И побежденная стихия…» Только амбиция победы над стихией Мандельштаму не близка: «Нам четырех стихий приязненно господство, / Но создал пятую свободный человек…» Человек сотворчествует Создателю четырех стихий, и его пятая – рукотворная красота архитектурного творения, застывшей музыки. Творцы Адмиралтейства И.К. Коробов и А.Д. Захаров здесь не названы, но назван Петр, он и есть главный герой стихотворения – это подсказывают реминисценции из пушкинского «Медного Всадника», «Стансов» и романа Мережковского о Петре. Укажем на еще одну из них, чтобы убедиться: отталкиваясь от Мережковского, Мандельштам игнорирует его тему Петра-Антихриста, но тщательно отбирает из романа черты Петра-строителя. Петр, как известно, задумав Адмиралтейство в начале 1700-х годов, сам начертал его первый чертеж. Мандельштам как будто прямо об этом и говорит: «Служа линейкою преемникам Петра…» У Мережковского читаем: «У царя страсть к прямым линиям. Все прямое, правильное кажется ему прекрасным. Если бы возможно было, он построил бы весь город по линейке и циркулю»[34].
Петр как «строитель чудотворный» отвечает акмеистической идее культурного строительства, зодчества в широком историческом смысле – эту идею и воплощает Мандельштам в «Адмиралтействе» в образе совершенного творения «свободного человека». Но свобода творца-строителя не безгранична, его строительная деятельность должна быть «целомудренной» – этим неожиданным словом описано бережное отношение к трем измерениям пространства; комментарий к этому скрытому мотиву «Адмиралтейства» находим в «Утре акмеизма»: «Для того, чтобы успешно строить, первое условие – искренний пиетет к трем измерениям пространства – смотреть на них не как на обузу и на несчастную случайность, а как на Богом данный дворец. В самом деле: что вы скажете о неблагодарном госте, который живет за счет хозяина, пользуется его гостеприимством, а между тем в душе презирает его и только и думает о том, как бы его перехитрить. Строить можно только во имя “трех измерений”, так как они есть условие всякого зодчества. Вот почему архитектор должен быть хорошим домоседом, а символисты были плохими зодчими. Строить – значит бороться с пустотой, гипнотизировать пространство. Хорошая стрела готической колокольни – злая, потому что весь ее смысл – уколоть небо, попрекнуть его тем, что оно пусто». Стрела колокольни в родстве с «Адмиралтейской иглой», с «мачтой-недотрогой», и все эти идеи в родстве с поэтическим образом Адмиралтейства, идеально вписанного в «три измерения» пространства. Вдохновенное создание Петра, Коробова и Захарова переживается Мандельштамом как внутреннее событие, как торжество творческого духа в материальном, вещественном образе красоты; ср. чуть раньше в «Notre Dame»: «…Из тяжести недоброй / И я когда-нибудь прекрасное создам…» Такое же торжество духа в архитектурном творении передано в стихотворении 1914 года «На площадь выбежав, свободен…» – о Казанском соборе А.Н. Воронихина[35].
Одно из петербургских стихов Мандельштама долго не поддавалось внятному истолкованию:
- Заснула чернь! Зияет площадь аркой.
- Луной облита бронзовая дверь.
- Здесь арлекин вздыхал о славе яркой,
- И Александра здесь замучил Зверь.
- Курантов бой и тени государей…
- Россия, ты на камне и в крови,
- Участвовать в твоей железной каре
- Хоть тяжестью меня благослови!
Главная загадка здесь – образ «Зверя», который проясняется, если вспомнить название трилогии Мережковского о русской истории: «Царство Зверя» – в нее входят пьеса «Павел I» (1908), роман «Александр I» (1911–1912, отд. изд. 1913) и роман «14 декабря» (1918)[36]. Зверь – также ключевой образ не раз уже упомянутого нами романа «Петр и Алексей» из трилогии «Христос и Антихрист»[37], фигурирует он и в пьесе о Павле I[38]. Зверь – это страшный дух русской истории, ведущий ее к последней катастрофе; в романе о Петре I Зверь ассоциируется непосредственно с Петром, в романе об Александре I – это дух мятежа, заговоров, революций, цареубийства; его носителями, подчас невольными, являются декабристы (и одновременно – Аракчеев)[39]. Этот самый «Зверь» и «замучил» Александра I в романе Мережковского, им пугают царя Аракчеев и архимандрит Фотий: «Число звериное 666. Се – тайна последних времен, тайна великая. На 1836 год готовится царство Зверя… Пароль на всё наложен: раскопать алтари и разрушить престолы… Под видом тысячелетнего царствования, феократического правления – новая религия во грядущего Антихриста… всемирная революция»; тайное общество сравнивается в романе со «зверем, грызущим ему (царю – И.С.) внутренности», этот «страшный зверь» может «загрызть его до смерти»[40]. Александр I в романе – царь страдающий, мысль о тайном обществе и страх возмездия за отцеубийство 11 марта мучат его постоянно, от этого он по сюжету романа и умирает[41].
«Заснула чернь…» – как будто конспект русской истории по Мережковскому: «арлекин» – Павел I, который предстает в его пьесе шутом, показывает язык и рядится в нелепые одежды, «Александр», как уже ясно, – Александр I, замученный призраками мятежей и революций, тема крови в основе Российской империи – главная, сильная тема всех исторических сочинений Мережковского (кровавое правление Петра, подробно описанное убийство Павла I, кровожадность Аракчеева, кровавые цареубийственные планы декабристов). «Россия, – ты на камне и крови…» Камень – это уже личный, «строительный» мотив Мандельштама, вместе с тем шифрующий и «строительную» (рядом с «кровавой») ипостась Петра, «железная кара» восходит, вероятно, к библейскому образу карающего «жезла железного»[42] и одновременно может быть связана с «железной» темой Аракчеева в статье Мережковского «Аракчеев и Фотий» (сб. «Больная Россия», 1910)[43]. Последние два стиха – начало важнейшей темы Мандельштама, темы личной жертвы, которая все сильнее будет звучать в его лирике 1920–1930-х годов («своею кровью склеить / Двух столетий позвонки», «Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе»). Так в Петербургском сюжете соединяются личная судьба поэта с судьбой России.
Как видно, пессимистическая концепция русской истории Мережковского произвела на Мандельштама тяжелое впечатление, надолго осела в памяти, стала предметом рефлексии и была отторгнута; в этом контексте становится понятным недописанное стихотворение 1915 года:
- Какая вещая Кассандра
- Тебе пророчила беду?
- О будь, Россия Александра,
- Благословенна и в аду!
Если Мандельштам отвечает Мережковскому в этих стихах, то не только на его романы и пьесу, но наверняка и на публицистику – на такие статьи, как «Зимние радуги» (сб. «Больная Россия»), где Мережковский буквально пророчествуя, рассказывает о петербургском знамении, предвещающем апокалиптического Бледного Коня и всадника, имя которому – смерть: «Смерть России – жизнь Петербурга; может быть, и наоборот, смерть Петербурга – жизнь России?»[44] Для Мандельштама определенно жизнь Петербурга означает и жизнь России, и свою собственную судьбу он от этой жизни не отделяет.
Резкий перелом петербургского сюжета Мандельштама приходится на стихотворный диптих 1916 года, вошедший затем в сборник «Tristia» (1922):
- Мне холодно. Прозрачная весна
- В зеленый пух Петрополь одевает,
- Но, как медуза, невская волна
- Мне отвращенье легкое внушает.
- По набережной северной реки
- Автомобилей мчатся светляки,
- Летят стрекозы и жуки стальные,
- Мерцают звезд булавки золотые,
- Но никакие звезды не убьют
- Морской воды тяжелый изумруд.
- В Петрополе прозрачном мы умрем,
- Где властвует над нами Прозерпина.
- Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
- И каждый час нам смертная година.
- Богиня моря, грозная Афина,
- Сними могучий каменный шелом.
- В Петрополе прозрачном мы умрем, —
- Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.
Эти стихи, по словам М.Л. Гаспарова, «как бы опровергают былой оптимизм “Адмиралтейства”: вода отвратительна, воздух прозрачен, как в царстве теней, в этом воздухе – опасные стрекозы-аэропланы, звезды по-прежнему враждебно-колючи, и Афина (чья статуя стояла в вестибюле Адмиралтейства) уступает власть царице мертвых Прозерпине»[45]. Действительно, этот прозрачный Петрополь – не тот Петербург, который наполнял своими архитектурными образами мандельштамовские эстетические идеи первой половины 1910-х годов. Теперь идет речь о смерти в городе смерти. Н.Я. Мандельштам видела в этих стихах «первый приступ эсхатологических предчувствий» Мандельштама[46]; если это и так, то пока эти предчувствия не имеют вселенского масштаба (как будет позже в «Стихах о неизвестном солдате», 1937) – пока они локализуются в Петербурге. Живой каменный город, несущий в своем облике историческую память, еще недавно населенный для Мандельштама героями прошлого и литературными персонажами, превращается вдруг в прозрачное и призрачное[47] залетейское царство (в мандельштамовских стихах 1920 года «прозрачность» станет устойчивой характеристикой загробного мира). Меняется имя города: реальный Петербург, уже к тому времени переименованный в Петроград, становится у Мандельштама стилизованным Петрополем (именно это название, первоначально данное Петербургу[48], закрепилось как поэтическое имя города в стихах Ломоносова, Державина, в «Медном Всаднике» Пушкина), а затем постепенно Петрополь превращается в некрополь в сознании Мандельштама. Когда в 1922 году Н.П. Анциферов приписал постскриптум к своему исследованию «души Петербурга»: «Петрополь – превращается в Некрополь»[49], – он имел в виду реальную историческую судьбу Петербурга в послереволюционные годы. Но в 1916-м – что могло так резко повлиять на мандельштамовское отношение к любимому городу?
Быть может, ответ скрыт в первоначальном варианте диптиха, в котором был и третий, центральный фрагмент, обращенный к женщине, – в нем происходит переход от Я к Мы внутри этого маленького цикла. Позже этот фрагмент был из него исключен вместе с любовным сюжетом, связанным с Мариной Цветаевой. Сюжет оказался московским – 20 января 1916 года Мандельштам впервые приехал в Москву, к Цветаевой, и это был момент открытия и обретения Москвы и начала первой разделенной любви поэта. В Москву переносится центр душевной жизни, пишутся первые московские стихи с их «русской», исторической и любовной темой («В разноголосице девического хора…», «На розвальнях, уложенных соломой…», «Не веря воскресенья чуду…») – и вот уже Петербург воспринимается как холодная и безжизненная альтернатива Москве, разгоревшейся любви, православию и московским страницам русской истории, ассоциативно связанным с героиней романа. Об этом эпизоде биографии Мандельштама его вдова писала: «Дружба с Цветаевой, по-моему, сыграла огромную роль в жизни и работе Мандельштама (для него жизнь и работа равнозначны). Это и был мост, по которому он перешел из одного периода в другой <…> Цветаева, подарив ему свою дружбу и Москву, как-то расколдовала Мандельштама. Это был чудесный дар, потому что с одним Петербургом, без Москвы, нет вольного дыхания, нет настоящего чувства России…»[50]
Москва одушевляется – Петербург пустеет и умирает, город камня и совершенных архитектурных форм теперь видится как город бесформенной невской воды, уподобленной медузе (или Горгоне Медузе)[51]. Пушкинская реминисценция в первых строках («Еще прозрачные, леса / Как будто пухом зеленеют» – «Евгений Онегин», 7 – I) создает контраст основному звучанию стихов – пушкинская деталь оживающего весеннего леса поглощается смертью в городе смерти. Не только «Петрополь», но и «Прозерпина» поддерживают пушкинский подтекст («Медный Всадник», «Прозерпина»), но самая сильная и значимая пушкинская реминисценция в этих стихах – «И каждый час нам смертная година» (у Пушкина: «День каждый, каждую годину / Привык я думой провождать, / Грядущей смерти годовщину / Меж их стараясь угадать»)[52]. Мандельштам апеллирует к пушкинскому личному опыту, воплощенному в слове, к его языку, к его смертным предчувствиям – с учетом этого сигнала становится понятнее знаменательное МЫ в этих стихах: это не обобщенно-безличное, риторическое тютчевское МЫ, а конкретное обозначение союза тех, кто объединен именем Пушкина, кровно связан с завершающимся петербургским периодом русской культуры и умирает вместе с ним. Пока это предощущение совместной гибели смутно, но уже через четыре года оно зазвучит в полную силу: «В Петербурге мы сойдемся снова, / Словно солнце мы похоронили в нем…»
Объективные исторические обстоятельства, предвосхищенные Мандельштамом в первых стихах 1916 года о Петрополе, вскоре и наступили[53] – поэт, как сейсмограф, точно фиксирует будущее, узнает его в явившихся образах. «“Петербургское” как бы открыто пророчествам и видениям будущего – и потому что оно – та пороговая ситуация, та кромка жизни, откуда видна метафизическая тайна жизни и особенно смерти, и потому что знамения будущего, судьбы положены в Петербурге плотнее, гуще, явственнее, чем в каком-либо ином месте России»[54].
После октябрьского переворота 1917 года Петербург стал стремительно меняться, действительно превращаясь в город смерти. У Мандельштама этот перелом отражен в декабрьских 1917 года стихах, обращенных к Ахматовой:
- Когда-нибудь в столице шалой
- На скифском празднике, на берегу Невы,
- При звуках омерзительного бала
- Сорвут платок с прекрасной головы…
- Больная, тихая Кассандра,
- Я больше не могу – зачем
- Сияло солнце Александра,
- Сто лет тому назад сияло всем?
«Солнце Александра» – «одновременно, по принципу наложения», солнце Александра I и Александра Пушкина – померкло; погибла враз та самая «Россия Александра», «Россия европейская, классическая, архитектурная»[55]. «Сто лет» – для Мандельштама не метафора и не риторика: ориентируясь во времени, выясняя свои отношения с ним, он и впоследствии будет часто и точно оперировать понятием «века», главным понятием его личного летоисчисления, так что, по личным же отношениям с Пушкиным, столетие его гибели будет зимой 1937 года переживаться Мандельштамом как собственное предсмертие («Куда мне деться в этом январе?») [56].
Но теперь, в 1917–1918 годах переживается гибель Петербурга – уже очевидная, реально происходящая на глазах, она переживается как смерть живого, близкого существа, человека, брата. Прямое продолжение петербургского диптиха 1916 года в составе «Tristia» – стихотворение, написанное в начале марта 1918 года, в дни немецкого наступления на Петроград:
- На страшной высоте блуждающий огонь,
- Но разве так звезда мерцает?
- Прозрачная звезда, блуждающий огонь,
- Твой брат, Петрополь, умирает.
- На страшной высоте земные сны горят,
- Зеленая звезда мерцает,
- О, если ты звезда, – воде и небу брат,
- Твой брат, Петрополь, умирает.
- Чудовищный корабль на страшной высоте
- Несется, крылья расправляет —
- Зеленая звезда, в прекрасной нищете
- Твой брат, Петрополь, умирает.
- Прозрачная весна над черною Невой
- Сломалась. Воск бессмертья тает.
- О, если ты звезда, – Петрополь, город твой,
- Твой брат, Петрополь, умирает.
С первого стиха, с первого слова ясен масштаб трагедии: «на страшной высоте» – это и на очень большой высоте, и на той, что вызывает страх. Страшно еще и потому, что таинственный «блуждающий огонь» не похож на обычную звезду – «разве так звезда мерцает?» «Прозрачная звезда, блуждающий огонь» – это явление смерти, и брат ее, Петрополь, умирает. Но в рефрене, четырежды повторенном в завершение каждой строфы, поэт как будто и себе самому говорит: «Твой брат, Петрополь, умирает». Город был братом «воде и небу», соединяя стихии жизни в образе архитектурной красоты («Адмиралтейство») – и вот стал братом смерти. Узнавая прежние образы петербургской лирики Мандельштама, мы можем ощутить единство и непрерывность сюжета – умирает тот самый город, прекрасный, некогда воспетый. «Прозрачная весна» – «сломалась», каменный город сначала становится «прозрачным» («В Петрополе прозрачном мы умрем…»), а затем и вовсе ломается, как что-то хрупкое. Узнается и «чудовищный корабль» – в «Петербургских строфах» с ним сравнивалась сама Россия, и вот теперь ее «чудовищный корабль» зловещим образом вознесся на «страшную высоту», «несется, крылья расправляет». Этот воздушный корабль и одновременно «зеленая звезда» – много в себя вобравший образ. Помимо источников литературных, поэтических («Корабль призраков Цедлица, «Воздушный корабль» Лермонтова), есть у него и библейский подтекст: «Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая, подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде полынь; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки» (Откровение св. Иоанна Богослова, 8: 10–11)[57]. Эсхатологические ощущения ищут подтверждения, поэт как будто гадает, та эта смертоносная звезда или не та: «О, если ты звезда…»
Вместе с тем образ этот и вполне конкретен, он опирается на реальные впечатления жителя Петрограда начала марта 1918 года: в эти дни «над Петроградом стали появляться немецкие аэропланы, сбрасывавшие на город бомбы, о чем, в частности, извещала и ежедневная пресса. Именно это обстоятельство и отражено в стихотворении Мандельштама»[58]. 2 марта 1918 года Александр Блок записывает: «Без меня звонил Петров-Водкин. Говорит – сегодня в 5 час. аэроплан (немецкий?) сбросил бомбы – на Фонтанке убито 6 человек»[59]. Но в 1918 году аэропланы воспринимались уже вполне привычно («Летят стрекозы и жуки стальные»), уже не так поражали воображение, как новое германское оружие – военные дирижабли, тоже атаковавшие в те дни Петроград. 4 марта Блок записывает: «Ночью я отодвинул занавеску, вслушиваясь: раздался глухой далекий взрыв (вероятно, цеппелин, прилетевший вчера)»[60]. С цеппелином связано ожидание катастрофы, он очень уязвим – достаточно попадания пули, чтобы наполненный водородом «чудовищный корабль» взорвался и сгорел. «На страшной высоте блуждающий огонь» – образ, быть может, связанный с гибелью цеппелина, смертоносный «воздушный корабль» и сам обречен, как обречен его «брат, Петрополь», – в смерти они братья. Здесь начало мандельштамовской темы «смерти в воздухе» – темы колоссального культурно-исторического и религиозного объема, получившей мощное развитие и завершение в «Стихах о неизвестном солдате»[61].
«На страшной высоте блуждающий огонь…» – первое петербургское стихотворение Мандельштама, в котором совсем не присутствует человек, в связи с этим важно воспоминание Надежды Яковлевны: «Мандельштама мучила мысль о земле без людей. Она впервые появилась в обреченном городе Петербурге, а Воронеже прорвалось еще в стихах о гибели летчиков»[62]. И это первое петербургское стихотворение, в котором совсем не присутствует Пушкин – как будто пушкинская душа города действительно умерла, погасло солнце, сто лет назад сиявшее всем.
«Воск бессмертья тает» – тему бессмертия Мандельштам соединяет с традиционным образом сгорающей свечи как символа человеческой жизни и смерти («И в полдень матовый горим, как свечи» – «Лютеранин», 1912; «Что ж, гаси, пожалуй наши свечи…» – «В Петербурге мы сойдемся снова…», 1920). Здесь умирает не человек, а город, но умирает как человек, как брат, и все бессмертное, что он нес в себе, умирает вместе с ним.
Апокалиптическое видение Мандельштама возникает на фоне петербургского голода и холода зимы и запоздалой весны 1918 года, на фоне всеобщего ожидания скорой, неотвратимой физической гибели города[63]. Но мандельштамовское поэтическое ощущение превышает реальность. Поэту в его углубленном созерцании открывается истинный смысл происходящего, его «земные сны горят» «на страшной высоте», и он в стихах ближе подходит к сути событий, чем самые точные газетные сводки. Это стихотворение для Мандельштама необычно – в нем нет внутреннего развития, зато есть цепь избыточных повторов, из-за чего оно звучит как плач, как похоронная песня. Поэт хоронит не Петербург, не Петроград, а именно Петрополь – поэтическую сущность города, его высшую реальность, его бессмертную душу[64].
Из всех имен города, отразивших его судьбу (ср. с Москвой, никогда не менявшей имени), Мандельштам ни разу не упомянул в творчестве имя Петроград[65], прожив именно в Петрограде, с перерывами, около семи лет. И когда, похоронив Петрополь, он пишет: «В Петербурге мы сойдемся снова…» – это означает возврат именно в Петербург, в город Пушкина, «Петербургских строф» и «Адмиралтейства», и «снова» означает то же, что «опять» в «Петербургских строфах», то есть круговую повторяемость жизни. Но время этой встречи – неопределенное будущее после конца:
- В Петербурге мы сойдемся снова,
- Словно солнце мы похоронили в нем,
- И блаженное, бессмысленное слово
- В первый раз произнесем.
- В черном бархате советской ночи,
- В бархате всемирной пустоты
- Всё поют блаженных жен родные очи,
- Всё цветут бессмертные цветы.
- Дикой кошкой горбится столица,
- На мосту патруль стоит,
- Только злой мотор во мгле промчится
- И кукушкой прокричит.
- Мне не надо пропуска ночного,
- Часовых я не боюсь —
- За блаженное, бессмысленное слово
- Я в ночи советской помолюсь.
- Слышу легкий театральный шорох
- И девическое «ах» —
- И бессмертных роз огромный ворох
- У Киприды на руках.
- У костра мы греемся от скуки,
- Может быть, века пройдут,
- И блаженных жен родные руки
- Легкий пепел соберут.
- Где-то хоры сладкие Орфея
- И родные темные зрачки,
- И на грядки кресел с галереи
- Падают афиши-голубки.
- Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи
- В черном бархате всемирной пустоты.
- Всё поют блаженных жен крутые плечи,
- А ночного солнца не заметишь ты.
Время стихотворения – ночь после похорон солнца (похорон Пушкина), пространство – ночной советский Петербург— Петроград, город, в котором совмещаются советские реалии (патруль, часовые, пропуск) с атмосферой пира поэтов, братства обреченных, с апологией «блаженного, бессмысленного слова», с пиршеством театральных впечатлений и звуков, перекрывающих звук «злого мотора» как предвестия рока. «Легкий пепел» – реминисценция из задорного пушкинского послания «Кривцову» (1817)[66], где юный поэт призывает друзей пренебречь страхом смерти на пиру жизни: «Смертный миг наш будет светел; / И подруги шалунов / Соберут их легкий пепел / В урны праздные пиров». Этой эпикурейской эскападе сложно отзывается мандельштамовское согласие на смерть: «Что ж, гаси, пожалуй наши свечи / В черном бархате всемирной пустоты». Свечи, горевшие «в полдень матовый» («Лютеранин»), гаснут теперь «в черном бархате советской ночи, / В бархате всемирной пустоты», где все еще можно «аукаться» именем Пушкина, как скажет чуть позже Владислав Ходасевич в речи «Колеблемый треножник» (1921). Говоря о затмении пушкинского солнца, он завершит свою речь образом надвигающейся советской тьмы, наступающей ночи без Пушкина: «…это мы уславливаемся, каким именем нам аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мраке»[67]