Декаденты бесплатное чтение
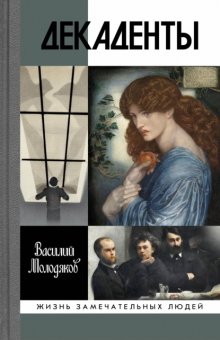
© Молодяков В. Э., 2020
© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2020
* * *
Пролог. Замечательные декаденты?
Французское слово «décadence» означает «упадок» или «разложение». Стало быть, декаденты – «упадочники» или вовсе «разложенцы». Могут ли такие люди быть замечательными? На протяжении целого столетия многие уверенно отвечали: нет!
Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо, Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Федор Сологуб – замечательные люди? Ответ: да! – и не только потому что их биографии выпущены в соответствующей серии. Все они – декаденты? Безусловно. Как же быть?
Они не ограничивались декадентством и даже преодолели его, – скажет иной, повторяя расхожую формулу. И вообще мы любим их не только за это! Любить или не любить – дело индивидуальное, а вот относительно «преодоления» декадентства вопросы возникнут после прочтения… хотя бы справок об этих поэтах в Википедии, чтобы далеко не ходить.
Действительно, не все герои этой книги были только декадентами. Но все они были декадентами в определенные периоды жизни, и это сближает их. Они читали, изучали и переводили друг друга. Старшие влияли на младших, младшие толковали и популяризировали старших. Многие были знакомы друг с другом, любили, порой ненавидели. Поэтому отобраны они не случайно.
Как в строгих рамках заданного объема рассказать о жизни и творчестве десятка ярчайших личностей, каждая из которых достойна отдельной книги, причем о большинстве такие книги уже написаны? Как сделать так, чтобы после всего автору было интересно писать, а читателю – интересно читать? Пересказ общеизвестных сведений – явно не выход. К тому же это должна быть цельная книга, а не с бору по сосенке.
Не претендуя на полноту описания явления, автор отобрал ключевых или знаковых, как принято выражаться, его представителей. Не всех, но важных и, главное, связанных друг с другом, поскольку декадентство было всемирным явлением, захватив не только большинство европейских литератур, но американскую, китайскую, японскую. «Всемирная история декадентства» – вот о чем мне мечталось, но техническое задание сдерживало мечту.
Кто был первым декадентом? Среди претендентов на это почетное звание – древнегреческая поэтесса Сафо и древнеримский поэт Катулл. Декадентами называли поэтов, не вписывающихся в рамки общепринятого, выламывавшихся из них. Мы все же будем рассматривать декадентство не как «порыв» (фр. élan), не как «трепет» (фр. frisson) – любимые слова самих декадентов, а как пусть и не строго определенное, но все же определяемое литературное и культурное явление и поэтому начнем с гениального одиночки Шарля Бодлера (1821–1867), известного в России больше других собратьев по декадентству. Отношения Поля Верлена (1844–1896) и Артюра Рембо{1} (1854–1891) часто описываются знаменитыми словами Катулла «odi et amo» – «ненавижу и люблю». Фрагменты их истории Валерий Яковлевич Брюсов (1873–1924) пересказал в пьесе «Декаденты» (1893), опубликованной лишь недавно. Собственные отношения Брюсова с Федором Сологубом (Федором Кузьмичом Тетерниковым; 1863–1927) и Константином Дмитриевичем Бальмонтом (1867–1942) до такого экстрима не доходили, хотя между «братом Валерием» и «братом Константином» порой летали не просто искры, но целые молнии. Бодлер сыграл значительную роль в литературном становлении Бальмонта и Брюсова (его урбанизм не только от Верхарна{2}, но и от автора «Картин Парижа»), Верлен – Брюсова и Сологуба. Если «русский Бодлер» существовал во многих вариантах, то Верлена у нас на протяжении семидесяти лет знали только в версиях Брюсова и Сологуба, затмивших остальные попытки. Александр Михайлович Добролюбов (1876–1945), друг семьи Брюсовых, знакомый Бальмонта и Сологуба, стал первым в России декадентом в жизни, предвосхитив своим поведением символистское жизнетворчество 1900-х годов. Александр Николаевич Емельянов-Коханский (1871–1936), не друг, но лишь приятель остальных, назвал себя «первым смелым русским декадентом», не просто сделав осмеянное слово узнаваемым, но «раскрутив» его в качестве общеизвестного бренда. Конечно, надо говорить и о других, но объем ограничен, а ограничиться только Францией и Россией несправедливо.
Алджернон Чарлз Суинбёрн (1837–1909) был декадентом еще до того, как это слово получило права гражданства в литературе, снискал признание как великий мастер английского стиха и неоднократно выдвигался на Нобелевскую премию по литературе (Бальмонт – единожды, в 1923 году). Он открыл англичанам Бодлера, как сам Бодлер открыл французам Эдгара По, предтечу всех декадентов. Германское декадентство подарило миру сразу двух Эверсов – но я выбрал не поэта Франца, которым на короткое время пленился Брюсов, а прозаика Ханса Хейнца Эверса (1871–1943), куда более известного и популярного в России. В Новом Свете настоящих декадентов не водилось – за исключением Джорджа Сильвестра Вирека (1884–1962), последователя (злые языки говорили – эпигона) Суинбёрна и друга Эверса.
«Тонкие властительные связи»{3} между героями автор решил подчеркнуть тем, что произведения иностранных декадентов по возможности цитируются в переводах их русских собратьев, а в изложении их биографий широко использованы русские источники декадентской эпохи. Как справедливо отметил Всеволод Багно, «обращение русского литератора, в частности символиста, к творчеству поэта-современника, поэта-единомышленника, близкого ему по складу творческой личности, литературным взглядам и симпатиям, нередко наделяло его переводческие опыты неоспоримыми и уникальными достоинствами»[1]. В свою очередь, русские декаденты показаны прежде всего через призму восприятия ими западных декадентов и ученичества у них. Иными словами, о жизни Верлена я рассказываю словами Брюсова, а в жизни Бальмонта выделяю творческий диалог с Бодлером, а не с По или Шелли.
Удалось ли таким образом сделать книгу единым целым, «с головой, туловищем и хвостом», как сказал об одном из своих сборников Брюсов, а не просто «собраньем пестрых глав», судить читателю.
Термин «декадент» вошел в обиход во французской литературе в конце 1870-х годов для обозначения поэтов, противопоставлявших себя парнасцам (Теофиль Готье, Шарль Леконт де Лиль, Жозе Мариа де Эредиа). Однако именно вождь парнасцев Готье десятилетием раньше, в очерке жизни и творчества Бодлера, дал превосходное определение «стиля декаданса», применимое к большинству героев нашей книги и к их творчеству. Читаем внимательно и запоминаем:
«Искусство, достигшее той степени крайней зрелости, которая находит свое выражение в косых лучах заката дряхлеющих цивилизаций: стиль изобретательный, сложный, искусственный, полный изысканных оттенков, раздвигающий границы языка, пользующийся всевозможными техническими терминами, заимствующий краски со всех палитр, звуки со всех клавиатур, усиливающийся передать мысль в самых ее неуловимых оттенках, а формы в самых неуловимых очертаниях; он чутко внимает тончайшим откровениям невроза, признаниям стареющей и извращенной страсти, причудливым галлюцинациям навязчивой идеи, переходящей в безумие. Этот “стиль декаданса” – последнее слово языка, которому дано всё выразить и которое доходит до крайности преувеличения. Оно напоминает уже тронутый разложением язык Римской империи и сложную утонченность византийской школы, последней формы греческого искусства, впавшего в расплывчатость. Таким бывает, необходимо и фатально, язык народов и цивилизаций, когда искусственная жизнь заменяет жизнь естественную и развивает у человечества неизвестные до тех пор потребности.
Кроме того, этот слог, презираемый педантами, далеко не легкая вещь: он выражает новые идеи в новых формах и словах, которых раньше не слыхивали. В противоположность “классическому стилю” он допускает неясности, и в тени этих неясностей движутся зародыши суеверия, угрюмые призраки бессонницы, ночные страхи, угрызения совести, вздрагивающей и озирающейся при малейшем шорохе, чудовищные мечты, которые останавливаются только перед собственным бессилием, мрачные фантазии, которые способны изумить весь мир, и всё, что скрывается самого темного, бесформенного и неопределенно-ужасного в самых глубоких и самых низких тайниках души»[2].
Это определение принадлежит не какому-нибудь заправскому декаденту, но писателю, который, по характеристике Брюсова, «в словесном искусстве достиг великого совершенства и не знал соперников в богатстве своего запаса слов, в мастерстве построения строфы (и фразы. – В. М.), в умении извлекать эффекты из неожиданных выражений»[3].
Слова «декадент» и «декадентство» поначалу использовались иронически и даже сатирически, хотя, как заметил британский критик Артур Симонс, сам декадент, «редко в каком-либо определенном значении»[4]. Сами поэты обычно так себя не называли или делали это с вызовом, как Верлен: «Нам бросили этот эпитет как оскорбление; я его подхватил и сделал из него боевой клич; но он, насколько я знаю, не обозначает ничего особого»[5]. Для определения нового течения его глашатай Жан Мореас придумал в 1886 году слово «символизм», решительно открестившись в своем манифесте от декадентства. Однако слово прижилось и перешло в другие языки – в немецкий (нашумевшая книга Макса Нордау «Вырождение» (1892), сразу же переведенная в России) и в русский, где его подхватил маститый Владимир Стасов, борец за «здоровое» искусство против «больного» – «гадкой инфлюэнции». «Больным» он объявлял всё, что ему не нравилось и чего он не понимал.
Почти полвека спустя художник Игорь Грабарь в мемуарах «Моя жизнь» утверждал: «Словечко это стало обиходным только в середине [18]90-х годов. Заимствованное у французов… оно впервые появилось в России в фельетоне моего брата Владимира “Парнасцы и декаданы”, присланном из Парижа в “Русские ведомости” в январе 1889 года. Несколько лет спустя тот же термин, но уже в транскрипции “декаденты”, был повторен П. Д. Боборыкиным и с тех пор привился. “Декадентством” стали именовать все попытки новых исканий в искусстве и литературе. Декадентством окрестили в России то, что в Париже нашло название “L’art nouveau” – “новое искусство”. <…> Декадентством было всё, что уклонялось в сторону от классиков в литературе, живописи и скульптуре»[6].
Некоторые возражения вызывает только первая фраза. Уже в 1892 году редакция не самого изысканного журнала «Петербургская жизнь» писала о своем сотруднике – поэте Сергее Сафонове: «Вооружен бичом сатиры и лирою поэта-декадента. Человек, который смеется над тем, над чем он плачет, и плачет над тем, над чем смеется»[7]. Писала, не объясняя, кто такие декаденты. Вынужденно отдавший жизнь газетной поденщине, Сафонов был талантливым поэтом-лириком, ярким представителем предсимволизма, но никаким не декадентом – если не путать это слово, как часто делали, с богемой и просто пьянством. Ибо по свидетельству критика Любови Гуревич, редактировавшей в те годы самый передовой – с точки зрения «новых течений» – русский литературный журнал «Северный вестник», «никто в нашей молодой литературе того времени еще не следил по-настоящему за тем, что творилось тогда во Франции и Германии. Слова “декадентство” и “символизм” носились в воздухе; становилось уже ясно, что и у нас зарождаются декаденты и символисты. <…> Но людей, которые основательно знали бы новейших декадентов – Малларме, Рембо и др., уже шумевших тогда во Франции, именно среди литераторов я не встречала»[8]. В 1880-е годы, особенно после смерти Тургенева, русская литература утратила постоянную связь с европейской и сделалась весьма провинциальной. Многие только «слышали звон»…
Атмосферу эпохи безукоризненно передают два стихотворения, ставшие знаменитыми, хотя их авторов первоклассными поэтами не назвать. Здесь уже есть почти все «ключевые слова», которые потом будут повторять как заклинание.
В 1887 году Николай Минский завершил свой сборник декларацией:
- Как сон, пройдут дела и помыслы людей.
- Забудется герой, истлеет мавзолей.
- И вместе в общий прах сольются.
- И мудрость, и любовь, и знанья, и права,
- Как с аспидной доски ненужные слова,
- Рукой неведомой сотрутся.
- И уж не те слова под тою же рукой —
- Далёко от земли, застывшей и немой, —
- Возникнут вновь загадкой бледной.
- И снова свет блеснёт, чтоб стать добычей тьмы,
- И кто-то будет жить не так, как жили мы,
- Но так, как мы, умрет бесследно.
- И невозможно нам предвидеть и понять,
- В какие формы Дух оденется опять,
- В каких созданьях воплотится.
- Быть может, из всего, что будит в нас любовь,
- На той звезде ничто не повторится вновь…
- Но есть одно, что повторится.
- Лишь то, что мы теперь считаем праздным сном —
- Тоска неясная о чем-то неземном,
- Куда-то смутные стремленья,
- Вражда к тому, что есть, предчувствий робкий свет
- И жажда жгучая святынь, которых нет, —
- Одно лишь это чуждо тленья.
- В каких бы образах и где бы средь миров
- Ни вспыхнул мысли свет, как луч средь облаков,
- Какие б существа ни жили, —
- Но будут рваться вдаль они, подобно нам,
- Из праха своего к несбыточным мечтам,
- Грустя душой, как мы грустили.
- И потому не тот бессмертен на земле,
- Кто превзошел других в добре или во зле,
- Кто славы хрупкие скрижали
- Наполнил повестью, бесцельною, как сон,
- Пред кем толпы людей – такой же прах, как он, —
- Благоговели иль дрожали, —
- Но всех бессмертней тот, кому сквозь прах земли
- Какой-то новый мир мерещился вдали —
- Несуществующий и вечный,
- Кто цели неземной так жаждал и страдал,
- Что силой жажды сам мираж себе создал
- Среди пустыни бесконечной.
Семь лет спустя Дмитрий Мережковский напечатал в респектабельном журнале «Русская мысль» стихотворение «Перед зарею», которое через полтора года открывало его сборник «Новые стихотворения» (1896) – под заглавием «Дети ночи»:
- Устремляя наши очи
- На бледнеющий восток,
- Дети скорби, дети ночи,
- Ждем, придет ли наш пророк.
- Мы неведомое чуем,
- И, с надеждою в сердцах,
- Умирая, мы тоскуем
- О несозданных мирах.
- Дерзновенны наши речи,
- Но на смерть осуждены
- Слишком ранние предтечи
- Слишком медленной весны.
- Погребенных воскресенье
- И, среди глубокой тьмы,
- Петуха ночное пенье,
- Холод утра – это мы.
- Наши гимны – наши стоны;
- Мы для новой красоты
- Нарушаем все законы,
- Преступаем все черты.
- Мы – соблазн неутоленных,
- Мы – посмешище людей,
- Искра в пепле оскорбленных
- И потухших алтарей.
- Мы – над бездною ступени,
- Дети мрака, солнца ждем,
- Свет увидим и, как тени,
- Мы в лучах его умрем.
«Голос Музы его напоминает крик петуха, – позже писал о Мережковском Александр Блок (у которого «пенье петуха» зазвучит в гениальных «Шагах Командора»). – Кругом еще холодная ночь, все искажено мраком. Петух бьет крыльями и неудержимо, еще нестройно кричит голосом, отвыкшим от крика»[9]. Откликаясь в письме критику Петру Перцову на составленный тем сборник «Молодая поэзия» (1895) – смотр поэтов, затронутых «новыми веяниями», от Минского до Брюсова[10], – Брюсов посчитал это стихотворение Мережковского (разумеется, включенное в «Молодую поэзию») наиболее подходящим эпиграфом[11]. Не только к книге, но и к эпохе, добавлю я.
«Некоторым молодым людям в разных странах нравилось называть себя декадентами, – констатировал в 1908 году Симонс, – со всем возбуждением неудовлетворенной добродетели, изображающей непостижимый порок. <…> Несомненно, извращенность формы часто сопровождалась извращенностью содержания, и эксперименты далеко заходили не только в направлении стиля, особенно у фигур масштабом поменьше. Однако движение, которое в этом смысле можно назвать декадентством, неизбежно оказывалось в стороне от столбовой дороги литературы. <…> Декадентство отвлекло внимание критиков от того, что готовилось нечто более серьезное. Со временем это более серьезное выкристаллизовалось в форме символизма, в котором искусство вернулось на свой единственный путь, который ведет через красивые вещи к вечной красоте»[12].
Слово «символизм» неизбежно всплывает при любом разговоре о декадентстве. Как эти понятия соотносятся друг с другом? Какие между ними «соответствия», если вспомнить к слову знаменитый сонет Бодлера, хотя в нем идет речь о «соответствиях не предметов, но ощущений»[13]:
- Природа – строгий храм, где строй живых колонн
- Порой чуть внятный звук украдкою уронит;
- Лесами символов бредет, в их чащах тонет
- Смущенный человек, их взглядом умилен.
- Как эхо отзвуков в один аккорд неясный,
- Где всё едино, свет и ночи темнота,
- Благоухания и звуки и цвета
- В ней сочетаются в гармонии согласной.
«Чаще всего употребляются термины декадентство, если хотят говорить с полным пренебрежением, и символизм, если к “новым течениям” относятся с известной долей почтительности, – указывал в 1914 году Семен Венгеров во введении к коллективному труду «Русская литература ХХ века. 1890–1910». – Но и эти термины едва ли приемлемы. В особенности “декадентство”, от которого все открещиваются. Кто такие, собственно, “декаденты”? Мережковский, Минский, Гиппиус, Сологуб, Брюсов, Бальмонт, Вяч. Иванов? Но они энергичнейшим образом отвергают эту кличку и сами во всех своих теоретических выступлениях говорят о декадентстве как о чем-то внешнем и поверхностном. Что касается “символизма”, то его, правда, те же самые писатели, которые открещиваются от декадентства, приемлют с гордостью»[14]. «Символизм, прежде всего, диаметрально противоположен декадентству, – утверждала Гиппиус (правда, под псевдонимом) еще в 1896 году. – <…> Эти два понятия так печально смешались в умах людей даже наиболее почтенных, что невольно хочется разделить их навсегда»[15].
«Русские литераторы, примкнувшие к новому направлению, ничего не имеют, по-видимому, против того, чтобы их признавали символистами, а рецензенты упорно уличают их в декадентстве как в чем-то неумном и, пожалуй, зазорном, – парировал Сологуб. – <…> Возникая из великой тоски, начинаясь на краю трагических бездн, символизм, на первых своих ступенях, не может не сопровождаться великим страданием, великой болезнью духа. И так как всякое страдание, непонятное толпе, презирается и осмеивается ею, то и это страдание получило презрительную кличку декадентства. <…> Для меня несомненно, что это презираемое, осмеиваемое и даже уже преждевременно отпетое декадентство есть наилучшее, быть может единственное, орудие сознательного символизма. <…> Будущее же в литературе принадлежит тому гению, который не убоится уничижительной клички декадента и с побеждающей художественной силой сочетает символическое мировоззрение с декадентскими формами»[16]. Полемический ответ остался неопубликованным. Зато Емельянов-Коханский – «автор спекулятивных подделок под декадентство», как охарактеризовал его Венгеров[17], – с гордостью называл себя именно «декадентом»… дискредитируя само это слово.
Желая внести ясность в вопрос об отношениях романтизма, символизма и декадентства, принадлежавший к младшему поколению символистов критик Модест Гофман в 1907 году попытался четко отделить одно от другого. «Между декадентством и символизмом столько же общего, сколько общего между упадком творчества и развитием его. Символизм является всегда творческим, богатым, религиозным, между тем как бессилие и безрелигиозность составляют отличительные свойства декадентства. <…> Подобно символизму и декадентство пользуется образами (не в этом ли и кроется причина смешения символизма с декадентством?), но эти образы не являются символами, форма-образ в декадентстве не соединяется с содержанием, он является пустым, бледным и ничего не выражает, а потому – никому не понятен, да и не может быть понятным. С внешней стороны декадентство сближается с символизмом в пользовании образами, тогда как с внутренней стороны их разделяет глубокая пропасть, и в этом смысле мы можем назвать декадентство ложным символизмом». Разграничив то, что он считал разными явлениями, Гофман, однако, признал всех ведущих русских поэтов современности (умолчав об Александре Добролюбове, который отрекся от литературы) «символистами с одной стороны и декадентами с другой», распространив «декадентство: и на младших символистов – Иванова, Белого и Блока»[18]. Много позже литературовед Дмитрий Обломиевский выдвинул концепцию «декадентского перерождения символизма», прежде всего в творчестве Бодлера, который, согласно ей, сначала стал символистом (и в этом его новаторство!), а потом декадентом, что автор оценивал как творческий регресс.
Вдаваться в споры критиков и литературоведов, зачастую принимающие схоластический характер, я не намерен. Но и обойти данный вопрос не могу, поэтому временно предлагаю рабочую трактовку. Символизм – литературное направление, школа, со своей оригинальной эстетикой, поэтикой и стилистикой. Декадентство – в большей степени – опыт бытового и литературного поведения с заметной примесью игры и эпатажа, что не исключало «полной гибели всерьез». Символизм как понятие стоит в одном ряду с романтизмом, декадентство – с дендизмом. Все герои этой книги были декадентами, но не все были символистами.
За мной, читатель, – в пейзаж эпохи!
Шарль Бодлер. «Поднимем якорь, Смерть, в доверьи к парусам!»{4}
В начале 1931 года на литературном диспуте в Париже старый позитивист и либерал Павел Милюков беседовал с патриархом декадентства, пусть давным-давно от декадентства ушедшим, Дмитрием Мережковским. Разговор зашел о творчестве Шарля Бодлера как одном из главных источников русского декадентства. «Это были наши грязные пеленки!» – воскликнул Мережковский «к великому, скажу даже – к горестному изумлению некоторых слушателей», как свидетельствовал один из этих слушателей Георгий Адамович. «Милюков шутливо перебил его: “Да ведь это вы Бодлера и в люди-то вывели!” Не знаю, только ли хотел Милюков пошутить, – в словах его был заключен и другой смысл: “Как, – можно было возразить Мережковскому, – вы открещиваетесь от лучшего из всего того, что было вами “открыто”, от самого глубокого и трагического поэта новой Европы? Если – “грязные пеленки”, то, значит, вы и до сих пор в Бодлере ничего, кроме эстетизма, сатанизма и дендизма, не нашли? Право, всего этого не стоило и “открывать”»[19].
Первую биографию Бодлера меньше чем через год после его смерти написал тот, посвящение которому открывало «Цветы Зла» («Les Fleurs du mal»):
«Непогрешимому поэту, всесильному
чародею французской литературы,
моему дорогому и уважаемому
учителю и другу ТЕОФИЛЮ ГОТЬЕ
как выражение полного преклонения
посвящаю эти болезненные цветы».
В 1902 году британский критик-модернист Артур Симонс писал, что эта статья «остается единственным удовлетворительным обобщением, хотя и не разгадкой, той загадки, которую представлял из себя Бодлер, а также самой красочной и благоуханной вещью из написанного Готье»[20]. Сверяясь с одной из лучших позднейших биографий поэта, написанной известным мастером жанра Анри Труайя[21], мы последуем за рассказом Готье в переводе поэта-символиста Эллиса (Лев Львович Кобылинский; 1879–1947), страстного «бодлерианца», который в 1908 году предварил им свой перевод «Цветов Зла» – наиболее полную и совершенную декадентскую версию великой книги на русском языке. Годом раньше Эллис перевел знаменитый дневник Бодлера «Мое обнаженное сердце» («Mon coeur mis à nu»), затем его «Стихотворения в прозе». Переложение цельного поэтического мира, сделанное одним талантливым автором, даже при отдельных неудачах предпочтительнее, чем мозаика, составленная из работ переводчиков разных школ и эпох. Поэтому Бодлер Эллиса (позднее Вадима Шершеневича), Верлен Брюсова и Сологуба (позднее Георгия Шенгели) лучше любого «избранного». Не случайно Михаил Кудинов настоял, чтобы издание Рембо в серии «Литературные памятники» включало только его переводы, которые он запрещал перепечатывать вперемешку с другими.
Готье был старше Бодлера на десять лет, а его главная поэтическая книга «Эмали и камеи» («Emaux et Camées»), в первом издании опередившая «Цветы Зла» лишь на пять лет, приняла окончательную форму только после смерти Бодлера и незадолго до кончины самого автора. В юности разница в возрасте значит много больше, чем в зрелости. «Между нами завязалась дружба, в которой Бодлер всегда хотел сохранить отношения любимого ученика к благосклонному учителю, хотя он был обязан своим талантом только самому себе и почерпал всё только из своей собственной оригинальности». Пожилой, по тогдашним понятиям, 56-летний Готье оплакивал поэта следующего поколения… а заодно не свою ли литературную жизнь, подходившую к концу?
Для французских писателей принадлежность к школам и направлениям значила многое. Готье начинал среди романтиков, ослепленный блистательным Виктором Гюго. Красный жилет, в котором восемнадцатилетний Теофиль 25 февраля 1830 года появился на премьере пьесы Гюго «Эрнани» в театре «Комеди Франсез», вошел в историю французской литературы так же, как желтая кофта Маяковского и, добавлю, бурка и папаха Емельянова-Коханского – в историю литературы русской. Однако в истории романтизма Готье был обречен оставаться младшим. Не случайно его дружеский кружок назывался «Малый Сенакль» – в pendant к «Сенаклю» Гюго, которому не требовались определения. Готье покинул ряды изживавшего себя романтизма и стал основоположником новой, «парнасской» школы, манифестом которой можно считать «Эмали и камеи». Похожий путь прошел и его лучший русский переводчик Николай Гумилев, декадентствующий юноша и выученик символистов, основавший акмеизм на смену символизму. Образцом для него стал именно Готье.
Кем в этой системе был Бодлер? Склонный к систематике Брюсов так определил его «обособленное место»: «Романтик по воспитанию, парнасец по стилю, реалист по приемам творчества, он не принадлежал ни к какой школе, он создал свою. Он не лирик, пересказывающий в своих стихах личные горести и радости, как большинство романтиков; но он и не спокойный воссоздатель исторических и экзотических картин, как парнасцы: он первый поэт современности. Бодлер первый посмел воплотить в поэзии, в стихах всю сложность, всю противоречивость души современного человека. Он заглянул в темную сторону человеческой души, нашел красоту и поэзию там, где до него видели только отвратительное: во зле, в пороке, в преступлении. В то же время Бодлер одним из первых создал поэзию современного города, поэзию современной жизни, ее мелочей, ее ужаса, ее тайны. Бодлер воспринял всю ту правду, которую принесли с собой писатели-реалисты, но его острый взор всегда устремлялся сквозь реальность, в надежде усмотреть нечто большее. Поэтому образы Бодлера так часто обращаются в чистые символы. <…> В свое время Бодлер остался одиноким и непонятым. <…> Настоящие последователи нашлись у Бодлера только в последнее время, среди поэтов-символистов, над которыми его образ властвовал, как дух-покровитель»[22]. «Он – перекидной мост от романтизма к символизму, лишнее подтверждение преемственности литературного развития», – писал о Бодлере филолог Борис Соколов в несправедливо забытой книге «Очерки развития новейшей русской поэзии. В преддверии символизма» (1923); ценность ее еще и в том, что развитие русского модернизма удачно увязано в ней с эволюцией французской поэзии[23].
Шарль Бодлер родился в Париже 9 апреля 1821 года, в «одном из тех старых домов на улице Отфёй, на углах которых возвышались башенки в виде перечницы и которые, вероятно, исчезли совершенно благодаря городским властям, слишком приверженным к прямой линии и широким путям{5}. Он был сын г. Бодлера, старого друга Кондорсе и Кабаниса, человека выдающегося, образованного и сохранившего обходительность XVIII века».
Жозеф Франсуа Бодлер (1759–1827) остался в истории только благодаря сыну. Выходец из семьи виноделов, он стал священником, подрабатывая частными уроками, в том числе рисования, которое в зрелые годы стало его главной страстью. К началу революции ему было уже 30 лет. В великий и страшный 1793 год он оставил служение Богу, затем женился на художнице, а позже поступил на службу в канцелярию сената. Овдовев в 1814 году, в год крушения Первой империи, через пять лет он снова женился – на Каролине Дюфаи (1793–1871), даты жизни которой могут порадовать адепта нумерологии, поскольку охватывают период от якобинской диктатуры до Парижской коммуны, о которой она, живя в провинции, успела узнать из газет. Из-за тридцати четырех лет разницы в возрасте их единственный сын Шарль назвал брак родителей «патологическим, старческим и несуразным», продемонстрировав явную неблагодарность.
Отец умер, когда Шарлю еще не исполнилось и шести лет, но будущий поэт все же запомнил совместные прогулки в Люксембургский сад. Через полтора года, по окончании установленного законом срока вдовства, Каролина вышла замуж за подполковника Жака Опика (1789–1857), родившегося в год начала революции и умершего за несколько недель до выхода «Цветов Зла», только благодаря которым его сегодня помнят. Так нелюбимый пасынок взял реванш над ненавистным отчимом, который считал его бездельником и обузой, а себя – генерала, посланника в Константинополе, посла в Мадриде, сенатора Второй империи (вспоминается его коллега по сенату Жорж Дантес) – гордостью и столпом общества, достойным благодарной памяти за труды на благо отечества. Впрочем, Опик посмертно отомстил Шарлю, которого похоронили в одной с ним могиле на кладбище Монпарнас.
Отношения привязанного к матери мальчика с отчимом – «любезным, но чопорным и словно вросшим в свой мундир человеком» с фамилией, «похожей на название куста с острыми колючками» и «безапелляционными высказываниями обо всем на свете», как несколькими штрихами описал его Анри Труайя, чьими меткими характеристиками я и воспользуюсь, – не задались сразу. В ХХ веке такие отношения легко объясняли эдиповым комплексом, но и веком раньше служака-военный явно не годился в воспитатели мечтательному сыну художника. «По убеждению этого человека коллеж является не более чем этапом на пути к казарме. Для того чтобы вырос мужчина, достойный называться мужчиной, необходимы строгий режим, барабанный бой, обтирание холодной водой, отвратительная еда и непременно грубые простыни». В коллеже Шарль учился неохотно и потому неровно и не отличался примерным поведением. Это не вписывалось в картину мира Опика, «рожденного для роли победителя на конкурсах, для роли круглого отличника» и требовавшего того же от пасынка. Мать пока смягчала их конфликты, но тревожилась о будущем сына, который 12 августа 1839 года получил звание бакалавра. На следующий день полковник Опик был произведен в бригадные генералы.
Извечный вопрос: кем быть? Военным или дипломатом, по мнению отчима, – только так и никак иначе. Дипломатом – считала мать, понимавшая, насколько любимый сын не создан для военной службы. К ужасу обоих, Шарль заявил, что станет писателем. Сводный брат Альфонс, сын отца от первого брака и судейский чиновник, предложил ему поступить в Школу права, где можно приобрести полезную профессию, не отказываясь от занятий литературой. Пришлось согласиться.
Литературная карьера часто начиналась в среде богемы и нередко там же заканчивалась. Богема – это не только «словесных рек кипение и шорох», но абсент, морфий, публичные дома. Бодлер рано приобщился к этому; результат – наркомания и сифилис, которые свели его в могилу. Послушаем Труайя, писавшего о том, о чем умолчал Готье: «Раньше, когда он еще не знал плотской любви, единственной женщиной в мире была для него мать. И дабы ей не изменять, он стал выбирать в качестве партнерш для постельных забав тех, кто казался предельно далек от идеала, каким всегда представлялась ему мать». Здесь один из ключей и ко многим будущим стихам, и к странным отношениям поэта с женщинами.
Беспутная жизнь, которой юный денди Шарль нарочито бравировал перед товарищами и особенно в «хороших домах», быстро закончилась гонореей и долгами, особенно у портных. В 1841 году отчим, по просьбе Альфонса и для сохранения хоть какого-то мира в семье, оплатил долги пасынка и отправил с глаз долой – в Индию, как бы для занятий торговлей, чтобы, по изящному выражению Готье, «дать другое направление его мыслям, в которых он упорствовал». До Индии Шарль не добрался, уговорив капитана во время стоянки на острове Бурбон (ныне Реюньон) отправить его домой. В этом был прямой резон: в апреле 1842 года ему исполнялся 21 год, и, достигнув совершеннолетия, он вступал во владение своей долей отцовского наследства. Путешествие дало Бодлеру многое – своими глазами он увидел то, чего не видел ни один из героев нашей книги, за исключением Бальмонта и Эверса. Путешественник Готье так написал об этом:
«Его пленяло небо, на котором блистают созвездия, неизвестные в Европе; великолепные исполинские растения с всепроникающим ароматом, прекрасные причудливые пагоды, смуглые фигуры, задрапированные в белые ткани, – вся эта экзотическая природа, такая знойная, мощная и яркая; в своих стихах он часто вновь и вновь возвращается от туманов и слякоти Парижа к этим странам лазури, света и ароматов. В его самых мрачных произведениях вдруг точно откроется окно, через которое, вместо черных труб и дымных крыш, глянет на вас синее море Индии или какой-нибудь золотой берег, где легкой поступью проходит стройная фигура полунагой жительницы Малабара, несущая на голове глиняный кувшин. Не желая вторгаться в личную жизнь поэта, мы все-таки позволим себе выразить предположение, что именно во время этого путешествия он создал себе культ Черной Венеры, которому и остался верен всю жизнь».
Наследство, полученное по возвращении на родину, составило 75 тысяч франков. Много это или мало? Смотря для какой жизни, но в любом случае это была внушительная сумма, и Шарль почувствовал себя богатым. «Поселившись в маленькой холостяцкой квартире, – продолжил рассказ Готье, – …он начал вести ту жизнь, полную беспрестанно прерываемой и возобновляемой работы, бесплодного изучения и плодотворной лени, ту жизнь, какую ведет каждый писатель, ищущий своего собственного пути». За два года он растратил половину наследства, и семья добилась установления вечной опеки над оставшимся капиталом, вернув Бодлера в состояние несовершеннолетнего, не имеющего права распоряжаться своим имуществом. Матери он этого не простил, отчима окончательно возненавидел. Сложнее были отношения с нотариусом Шарлем Анселем, который отныне вел его дела и выдавал деньги. Далекий от литературы и тем более от богемы, строгий и ответственный Ансель серьезно относился к порученному капиталу, стремясь сохранить его для клиента, за что многие биографы изображают его бессердечным скрягой и чуть ли не садистом. Бодлер бывал резок по отношению к нему – и сам же писал ему подробные письма, называя адресата «мой милый».
В 1844 году художник Эмиль Деруа нарисовал своего друга Бодлера, уже пишущего стихи, но еще не заботящегося о их публикации. Знавший поэта в те же годы Теодор де Банвиль вспоминал: «Портрет, написанный Эмилем Деруа, – один из редких шедевров новейшей живописи – изображает нам Бодлера в 20 лет (правильно: в 23 года. – В. М.), в то время, когда богатый, счастливый, любимый, уже прославленный, он писал свои первые стихотворения, признанные Парижем, диктующим законы остальному миру. Редкий пример лица поистине неземного, в котором соединилось так много счастливых задатков, столько силы и неотразимой обворожительности. Чистая, удлиненная, мягко изогнутая линия бровей над веками, дышащими восточной негой; продолговатые черные глаза с несравненным блеском, ласкающие и властные, которые точно обнимают, вопрошают и отражают в себе всё окружающее; изящный нос, в строгих очертаниях которого было что-то ироническое, слегка округленный и выдающийся на конце. <…> Изогнутые и одухотворенные губы своей яркостью и свежестью еще напоминают пышный плод. Очертания круглого подбородка говорят о высокомерии и силе. <…> Всё лицо покрыто знойной, смуглой бледностью, сквозящей розовыми оттенками богатой и прекрасной крови; его украшает юношеская безукоризненная борода молодого бога; высокий, широкий и великолепно очерченный лоб обрамлен черными, густыми, прелестными волосами, вьющимися от природы».
«Не следует принимать этот портрет в буквальном смысле», – сделал оговорку Готье. Посмотрите на портрет Деруа, потом на фотографию, сделанную через 18 лет. «Его лицо исхудало и как бы одухотворилось; глаза казались больше, нос заострился и получил более резкие очертания; губы таинственно сомкнулись и, казалось, хранили саркастические тайны в своих углах. <…> Что касается лба, слегка лишенного волос, он выиграл в величине и, так сказать, в твердости: он казался высеченным из какого-то особенно твердого мрамора. Тонкие, шелковистые, длинные волосы, уже поредевшие и почти совершенно седые, придавали этому лицу, в одно и то же время и уже состарившемуся, и еще молодому, почти жреческий вид». Этому измученному человеку, похожему на Эрнста Теодора Амадея Гофмана и Андрея Платонова, 41 год. Но что это были за годы…
В чаду кутежа с богемными приятелями и «дамами полусвета», одна из которых «наградила» поэта сифилисом, начался мучительный роман с Черной Венерой – квартеронкой Жанной Дюваль, статисткой мелкого театра. «Бодлер, увидев ее, – пишет Труайя, – сразу влюбился в это смуглое тело, в кошачьи движения и душистую гриву метиски. <…> Настоящий денди, он ценил в Жанне Дюваль то, что она позволяла ему выделиться из толпы и продемонстрировать свое презрение к мнению обывателей». Истинно декадентский подход!
Черная Венера вдохновляла на стихи, а Бодлер всегда находил время для литературы. Что он писал? В рукописях почти нет датировок, поэтому приходится полагаться на первые публикации и свидетельства современников. Согласно одному из них, в 1843 году написано «Вино убийцы»:
- Чтоб пить свободно, я убил
- Свою жену: она, бывало,
- Всю душу криком надрывала,
- Коль без гроша я приходил.
- .............................
- Я бросил труп на дно колодца,
- И груду целую камней,
- Сломав забор, воздвиг над ней.
- О, где же столько сил найдется!
- .............................
- Вновь одинокий и свободный,
- Я буду вновь мертвецки пьян;
- Забуду боль сердечных ран,
- Улягусь на земле холодной
- И буду спать, как грязный пес.
- Быть может, тормозом вагона
- Или острой шиною колес
- Мне череп раздробит: без стона
- Я встречу смерть; не все ль равно,
- Когда над Богом, Сатаною
- И Тайной Вечерей Святою
- Я богохульствовал давно!
Что стоит за этим стихотворением из цикла «Вино» кроме того, что говорит «ролевой герой», а не сам автор?
Как читатель убедится еще не раз, многие отвратительные, страшные и соблазнительные картины в стихах декадентов, при всей выразительности и пугающей достоверности, имеют литературное происхождение. «Вино убийцы» – из их числа. Бодлера вдохновил его старший приятель Петрюс Борель, автор эпатажного сборника «Шампавер. Безнравственные рассказы» (1833; русский перевод – 1971), написанного в духе «страшилок» поздних романтиков, вроде романа Жюля Жанена «Мертвый осел и гильотинированная женщина» (1829; русский перевод – 1996), которым заинтересовался Гоголь. Добавлю, что возможные источники кладбищенских мотивов Бодлера Дмитрий Обломиевский, автор первой советской книги о французском символизме, находил у Теофиля Готье (поэма «Комедия смерти») и Шарля Леконта де Лиля («Fiat nox»{6}, «Мертвецам»)[24]. Наш поэт никого не убивал, но щедро отдавал дань «коню-вину», «рыжим нищенкам», которые «всем обнажают свою нищету и красоту», гашишу, затем опиуму, «который впоследствии заставляет так дорого расплачиваться за искусственно вызванные экстазы» (наркотики Бодлера – это целый мир).
Жестко ограниченный в средствах, но не желавший ни отказываться от привычек, ни тем более возвращаться в родительский дом, Бодлер продолжал вести богемную жизнь, на которую пытался заработать статьями о живописи и сатирической прозой в мелких журналах. Наконец он решился отдать в печать стихи и даже анонсировал книгу, которая пока лишь смутно грезилась автору. Не остался он и в стороне от политических страстей, которыми бурлил Париж в последние годы Июльской монархии. По словам Труайя, «Бодлер не любил ни Луи-Филиппа, ни толпу, ни солдафонов, ни левых ораторов-утопистов, но и его увлекла анархистская агитация товарищей». «Бодлер, – утверждал Готье, – чувствовал непреодолимый ужас перед филантропами, прогрессистами, утилитаристами, гуманистами, утопистами и всеми, кто тщится что-нибудь изменить в неизменной природе и в роковом устройстве общества». Однако в силу натуры и жизненного опыта «ненавидел всей этой жизни строй, позорно-мелочный, неправый, некрасивый», как более чем через полвека скажет Валерий Брюсов. Если считавший себя революционером не в политике, но в духе Брюсов на баррикады не выходил, то Константин Бальмонт за стихи и участие в революционных демонстрациях поплатился ссылкой и эмиграцией. Декадентство и революция не раз шли рука об руку. Цель у них одна, средства – разные. Тем более разными были мотивы, не исключая и личные. «Русский Бодлер» – и революционер, и декадент, но об этом позже.
Готье, с котором Бодлер познакомился в это время, вспоминал: «Наружность его поразила меня. Он очень коротко стриг свои прекрасные черные волосы, которые, образуя правильные выступы на ослепительно белом лбу, облегали его как чалма; взгляд его глаз цвета tabac d’Espagne{7} был полон ума, глубины и проницательности, может быть, даже слишком настойчивой; рот, с очень большими зубами, скрывал под легкими шелковистыми усами свои живые, чувственные и ироничные изгибы; <…> изящная и белая, как у женщины, шея свободно выступала из отложного воротничка, подвязанного узким галстуком из легкой клетчатой шелковой индийской материи. <…> Всё было изысканно-опрятно и корректно, всё носило на себе умышленный отпечаток английской простоты и как бы подчеркивало намерение выделить себя из артистического жанра мягких войлочных шляп, бархатных курток, красных блуз, запущенных бород и растрепанных волос. <…> Дендизм Шарля Бодлера чуждался всего слишком нарядного, слишком показного и нового, чем так дорожит толпа и что так неприятно истинному джентльмену». Это уже не «молодой бог» портретов Деруа и Банвиля, но еще и не «измятая, увядшая маска, на которую каждое страдание наложило свой стигмат или синевой, или морщиной». Впрочем, заметил Готье, «этот-то последний образ, полный своеобразной красоты, и остается в памяти».
Декадент и денди – это прежде всего поведение. В «Моем обнаженном сердце» четко сказано: «Денди должен жить и спать перед зеркалом». «В противоположность несколько распущенным нравам артистов{8}, Бодлер строго держался самых узких условностей, и его вежливость доходила до такой чрезвычайности, что могла казаться деланой. Он взвешивал фразы, употреблял только самые изысканные выражения и некоторые слова произносил таким тоном, как будто бы желал их подчеркнуть и придать им таинственное значение: в его голосе слышались курсивы и заглавные буквы. <…> С видом очень простым, очень естественным и совершенно безучастным, точно он приводил какое-нибудь общее место о красоте в духе Прюдона{9} или говорил о погоде, Бодлер ронял какую-нибудь сатанинскую аксиому или отстаивал с ледяным хладнокровием какую-нибудь теорию математически нелепую, так как он и в развитие своих безумств вносил строгий метод. Ум его, минуя слова и черты, видел вещи со своей особенной точки зрения». Вспомните это описание, когда дальше будете читать про Валерия Брюсова, Александра Добролюбова или Джорджа Вирека.
За участие в революционных событиях 1848 года: членство в «Центральном республиканском обществе» вечного бунтаря Огюста Бланки, участие в радикальных газетках «Общественное спасение» и «Национальная трибуна», присутствие на баррикадах в июне – советская критика выдала Бодлеру «свидетельство о благонадежности», хотя в 1970 году председатель редколлегии серии «Литературные памятники» академик Николай Конрад должен был предпослать изданию «Цветов Зла» извиняющееся предисловие. Бунтарский характер поэта, закаленный в неравной борьбе с ненавистным отчимом и его присными, «жажда мести» и «неизменное стремление к разрушению» («Мое обнаженное сердце») не делали из него идейного революционера. Впрочем, и мятежная парижская «улица» не была сплошь идейной. «Конечно, Бодлер, сочувствуя рабочим, придерживался, как мы бы сказали теперь, анархически-бунтарских взглядов и ценил рабочих как непримиримых врагов буржуазии…» – оборву на этом цитату из статьи «Легенда и правда о Бодлере» Николая Балашова, без которой «Цветы Зла» не появились бы в «Литературных памятниках»[25].
Не столь прямолинеен и более справедлив к поэту был Обломиевский: «Тема поражения революции, тема столкновения и борьбы революции с реакцией определяет не только отдельные мотивы, но и самую суть поэзии Бодлера, ее внутреннюю противоречивость, ее двойную направленность. Революция определила, во-первых, гуманистический характер символизма Бодлера, во-вторых, особую внимательность его лирического героя, тоже связанную с человечным отношением к другим людям, особенно к нищим и страдающим, и, наконец, в-третьих, бодлеровское богоборчество, также направленное на защиту человека. Поражением же революции, победой политической реакции определены и другие, противоположные стороны бодлеровского творчества – его пессимистический колорит, его религиозное перерождение, его декадентская окраска»[26]. Можно спорить, революция ли определила эти черты, но они охарактеризованы верно.
Последней вспышкой «общественника» в Бодлере стало присутствие на улице 2 декабря 1851 года, когда уже никакие баррикады не остановили государственный переворот президента Луи Бонапарта, провозгласившего себя императором Наполеоном III. Поэт презрительно высказывался о «ничтожном племяннике великого дяди», но лишь в записях для себя, потому что не мог делать это открыто, как эмигрант Гюго или британец Алджернон Чарлз Суинбёрн – едва ли не единственный иностранец, оценивший «Цветы Зла» при жизни автора. «2 декабря вызвало у меня физическое отвращение к политике», – писал Бодлер другу. Он сосредоточился на литературе: помимо критики публиковал стихи и выпустил трехтомник сочинений Эдгара По в своем переводе, который считается классическим, в сопровождении программных статей. В «безумном Эдгаре» он чувствовал брата, с которым никогда не встречался, поэтому к переводам относился как к собственным оригинальным произведениям. Так позже Брюсов и Сологуб будут совершенствоваться как поэты, переводя Верлена.
К середине 1850-х годов у Бодлера окончательно сложился замысел книги «Цветы Зла», ставшей его главным произведением. Знаменитое название впервые появилось в 1855 году в «Журналь де деба» («Journal des Débats») над подборкой из восемнадцати стихотворений. Придумал его, кстати, не сам поэт, а его приятель – писатель и критик Ипполит Бабу. «Одно из тех счастливых заглавий, – писал Готье, – которые найти бывает труднее, чем обычно думают. Оно резюмирует в краткой и поэтичной форме общую идею книги и указывает ее направление». «Темами своих поэм Бодлер избрал “Цветы Зла”, но он остался бы самим собой, если бы написал “Цветы Добра”, – отметил Брюсов в предисловии к переводу Эллиса. – Его внимание привлекало не зло само по себе, а Красота Зла и Бесконечность Зла. С беспощадной точностью изображая душу современного человека, Бодлер в то же время открывал нам всю бездонность человеческой души вообще». Бодлеровские «образы всегда вырастают из действительности, но всегда претворяются в символы, – добавил Эллис, – находя соответствие между своим объективным бытием и субъективным значением в душе поэта»[27].
«Зло всегда рисуется у Бодлера активным, наступающим на человека. <…> Не менее существен и образ активно обороняющегося от зла человека»[28]. Так поэтизировал Бодлер Зло или нет? Любовался им или нет? Что на самом деле привлекало его, что вызывало его восхищение? На чьей он стороне «в постоянных метаниях между светом и мраком», по выражению Труайя?
Вот самое первое стихотворение, программное «Предисловие». Выхватим несколько строф:
- Сам Дьявол нас влечет сетями преступленья,
- И, смело шествуя среди зловонной тьмы,
- Мы к Аду близимся, но даже в бездне мы
- Без дрожи ужаса хватаем наслажденья;
- Как грудь, поблекшую от грязных ласк, грызет
- В вертепе нищенском иной гуляка праздный,
- Мы новых сладостей и новой тайны грязной
- Ища, сжимаем плоть, как перезрелый плод;
- У нас в мозгу кишит рой демонов безумный,
- Как бесконечный клуб змеящихся червей;
- Вдохнет ли воздух грудь – уж Смерть клокочет в ней,
- Вливаясь в легкие струей незримо-шумной.
Послушаем Готье: «Книга открывается обращением к читателю, которому автор вместо того, чтобы ублажать его, как это обыкновенно делается, говорит самые жестокие истины, обвиняя его, несмотря на его лицемерие, во всех пороках, которые он порицает в других… обличает в чиновнике Нерона, в лавочнике Гелиогабала».
Вот стихотворение «Падаль» – «концентрация отвратительного», по определению Обломиевского, – шокировавшее ханжей, но восхитившее Флобера:
- .............................
- Труп, опрокинутый на ложе из камней.
- Он, ноги тощие к лазури простирая,
- Дыша отравою, весь в гное и в поту
- Валялся там и гнил, все недра разверзая
- С распутством женщины, что кажет наготу.
- .............................
- Неслось жужжанье мух из живота гнилого,
- Личинок жадные и черные полки
- Струились, как смола, из остова живого,
- И, шевелясь, ползли истлевшие куски.
- Волной кипящею пред нами труп вздымался;
- Он низвергался вниз, чтоб снова вырастать,
- И как-то странно жил и странно колыхался,
- И раздувался весь, чтоб больше, больше стать!
За этой натуралистически выписанной картиной следует обращение к возлюбленной, которую ждет та же участь.
- Но ты скажи червям, когда без сожаленья
- Они тебя пожрут лобзанием своим,
- Что лик моей любви распавшейся из тленья
- Воздвигну я навек нетленным и святым!
«С легкой руки католического романтика-парадоксалиста Барбе д’Оревилли и опираясь на последнюю строфу стихотворения, его провозглашали произведением самого пламенного спиритуализма и трактовали как религиозный призыв поэта», – неодобрительно заметил Балашов. Обломиевский прямо связал «религиозное перерождение» поэта с «декадентством», объявив и то и другое «реакционными тенденциями». Да и само «Зло» у Бодлера – не столько зло, сколько несчастье:
- Над крышами домов уж начал дым всползать;
- Но проститутки спят, тяжелым сном обвиты,
- Их веки сомкнуты, их губы чуть раскрыты;
- Уж жены бедняков на пальцы стали дуть,
- Влача к огню свою иссохнувшую грудь;
- Вот час, когда среди и голода и стужи
- Тоска родильницы еще острей и туже…
Где же тут упоение пороком? Сострадание – основная черта печальных стихов Бодлера из циклов «Картины Парижа», «Вино» и «Смерть» (это относится и к стихотворениям в прозе, достойным отдельного рассказа). «Именно при соприкосновении поэта с миром несчастных, подавленных, отверженных как бы просыпается гуманизм Бодлера, – справедливо писал Обломиевский, – ибо этот гуманизм связан с уважением к человеку, с сочувствием и жалостью к его бедам и его плачевному состоянию. <…> Сочувствие и сострадание лирического героя Бодлера обращено к люду окраин Парижа, к неимущим, к беднякам. <…> Очень показательна неприязнь, а иногда и прямо агрессивное отношение Бодлера к миру богатства»[29]. Поэт не отворачивается от неприглядных картин, но и не любуется ими, не осуждает «падших» («не судите, да не судимы будете»), не винит их высокомерно, но, напротив, считает виноватым и себя. Молитва фарисея – это не про него.
«У Бодлера грех всегда сопровождается укорами совести», – отметил Готье. «Тяжесть мучительных страданий от ноющей тоски увеличивается мучительными угрызениями совести, – столь же справедливо писал Соколов. – Но о чем же свидетельствуют эти муки угрызения? Где их источники? Ясно, что человек, весь погрязший во зле, и не осознает его. Отличить это зло, выделить его позволяет присутствие в душе, в сознании каких-то иных велений, исканий, идеальных устремлений. И их-то надо уметь подслушать и уловить в поэзии Бодлера. Они-то дают выход из того безысходного пессимизма, ужасной темной пропасти – провала, каким обычно представляется Бодлеру весь мир. <…> Всё увядающее, отверженное (но не злое и порочное! – В. М.) манило к себе Бодлера, и он умел видеть красоту там, где другие ее не видели. <…> Бодлер хотел вещать о добре, но мрак и ужас слишком оцепеняли его, лишали сил его голос, и в этом была его трагедия. <…> К сожалению, этот мрак был слишком силен. Он давил, всюду преследовал поэта, и оттого-то, что он сам уподоблялся всепроникающему солнцу, назойливее и нахальнее казался ему этот мир мрака, гнили, гадости»[30].
Первый и самый большой раздел «Цветов Зла» называется «Сплин и Идеал». Идеал здесь не менее важен, чем Сплин. Тоска поэта – тоска по Идеалу, поскольку «Идеал почти всегда в “Цветах Зла” оказывается побежденным, он – отступает перед натиском зла, врага, мрака»[31]. Идеал – Красота, с заглавной буквы, непосредственно связанная с Небом, тоже с заглавной буквы. Как все декаденты, их общий отец Бодлер – эстет. «Два стихотворения Бодлера означают пределы его поэзии, а может быть, и поэзии вообще: “Красота” и “Соответствия”, – писал Брюсов. – В одном из них поэт преклоняется перед Красотой мира, в другом – перед его Тайной. Человечество от века знает эти два направления, эти два идеала. Античный мир преклонялся перед Красотой, мир христианский – перед Тайной. Борьба этих двух идеалов и составляет всю историю человечества. <…> Бодлер принадлежал к числу тех немногих, кто искал примирения этих двух вековечных противоречий, – стремился воплотить тайну в явной красоте».
Сонет «Соответствия», который Эллис назвал «квинтэссенцией бодлеризма», я цитировал в прологе этой книги. Приведу «Красоту» в переводе Брюсова, в стихах которого Эллис находил то же самое «чувство самоотречения перед Красотой»:
- О смертный! Как мечта из камня, я прекрасна!
- И грудь моя, что всех погубит чередой,
- Сердца художников томит любовью властно,
- Подобной веществу, предвечной и немой.
- В лазури царствую я сфинксом непостижным;
- Как лебедь, я бела, и холодна, как снег;
- Презрев движение, любуюсь неподвижным;
- Вовек я не смеюсь, не плачу я вовек,
- Я – строгий образец для гордых изваяний,
- И, с тщетной жаждою насытить глад мечтаний,
- Поэты предо мной склоняются во прах.
- Но их ко мне влечет, покорных и влюбленных,
- Сиянье вечности в моих глазах бессонных,
- Где всё прекраснее, как в чистых зеркалах.
Программный характер стихотворения очевиден – не случайно его, кроме Эллиса и Брюсова, также переводили Бальмонт и Вячеслав Иванов.
Как многие, но не все, декаденты, Бодлер – моралист. Утверждение может показаться странным, ибо «все знают», что декаденты или аморальны (отрицают мораль и существуют вне ее), или антиморальны (противопоставляют себя ей и борются против нее). Это верно только в том случае, если понимать под моралью набор общепринятых банальностей в духе господина Прюдома. Если общество, в котором столько зла и страдания, «морально», то Бодлер против него. Исполненный жалости и тепла к униженным и оскорбленным, он негодует на унижающих и оскорбляющих, как и большинство героев этой книги. Их мораль гораздо ближе к десяти заповедям, чем мораль их врагов.
Но как же быть с богоборческими и даже богохульственными мотивами?
- Творец! Анафемы, как грозная волна,
- Несутся ввысь, к твоим блаженным серафимам,
- Под ропот их ты спишь в покое нерушимом,
- Как яростный тиран, упившийся вина!
- Творец! Затерзанных и мучеников крики
- Тебе пьянящею симфонией звучат;
- Ужель все пытки их, родя кровавый чад,
- Не переполнили еще твой свод великий?
Подобные мотивы присутствуют у великих предшественников от Мильтона до Гюго, достигнув особой остроты у романтиков. Нет оснований считать поэта атеистом, то есть отрицающим существование Бога, – он же к нему обращается, пусть с инвективами и проклятиями. «Именно потому, что он противостоит Творцу, – напомнил Труайя, – он признает Его власть». Нет оснований считать Бодлера противником христианства, как Суинбёрн, – его религиозные переживания, включая богоборческие, развивались в русле католической традиции, откуда, возможно, и их исступленность. Не могу я назвать его сатанистом, в современном понимании слова, даже с учетом стихотворения «Литании Сатане», мастерски переведенного Бальмонтом:
- Хвала великому святому Сатане.
- Ты в небе царствовал, теперь ты в глубине
- Пучин отверженных поруганного Ада.
- В безмолвных замыслах теперь твоя услада.
- Дух вечно-мыслящий, будь милостив ко мне.
- Прими под сень свою, прими под Древо Знанья,
- В тот час, когда, как храм, как жертвенное зданье
- Лучи своих ветвей оно распространит,
- И вновь твою главу сияньем осенит,
- Владыка мятежа, свободы и сознанья.
«Поэзия Бодлера – титанический порыв к совершенной и бессмертной Красоте, – восклицал Эллис в предисловии к переводу «Моего обнаженного сердца», – внутренняя сущность ее – бессознательно-религиозное искание. <…> Отсюда неизбежность низвержения и великий ужас раздвоения!.. Отсюда превращение пути теургического в путь богоборческий, обращение служения невозможной на земле Красоте в теорию искусственного и чудовищного, порыва к перевоплощению в культ разрушения, отсюда же превращение служителя совершенного мира в рыцаря зла, пророка бессмертия в учителя небытия!.. Безумная попытка вернуть утраченный Рай не удалась!.. Одновременно и жертва и палач самого себя, одновременно и Прометей и коршун, и жрец, приносящий жертву, и жертвенное животное, Бодлер, не достигнув Рая, сознательно и бесповоротно предпочел Ад земле, неумолимо обрек себя на ежечасную, нечеловеческую пытку, предпочел искать бесконечное в бездне Зла успокоению в конечном. Великое Зло более вдохновляло его, чем ограниченное Добро, созерцание ужаса было более любезно ему, чем наслаждение мгновенными, земными радостями! <…> Поэт хочет молиться… и богохульствует, но вслед за неслыханно-дерзкими словами отверженника следует детски-чистая и жалобная молитва».
Выслушаем и другую сторону – Обломиевского, стремившегося подчеркнуть «антирелигиозный смысл стихов Бодлера»: «Из мысли о людских несчастьях и мучениях исходит Бодлер и в “Литаниях Сатане”, ибо Сатана представляется поэту покровителем человечества. И это в отличие от бога-отца – врага человеческого рода, самолюбивого и жестокого существа, и от Христа – существа чересчур робкого, не способного на активные действия. <…> Образ дьявола, возникающий в “Литаниях Сатане”, вместе с тем имеет двойственный характер. С одной стороны, этим образом усиливается изображение нищеты, страданий, одиночества человека, покинутого Богом и обреченного на мучения. С другой стороны, образ Сатаны акцентирует слабость человека, его неспособность к самостоятельным действиям. <…> Богоборчество приводит Бодлера не к возвышению человека, не к его прославлению, а к апологии Сатаны». Однако в позднем творчестве поэта трактовка Сатаны меняется, что признал тот же критик: «Дьявол утрачивает черты античного Прометея, врага богов, отца искусств. Вместо прославления гордого дьявола, выступавшего союзником человека против Бога, Бодлер выдвигает теперь образ Сатаны, близкий средневековой, ортодоксально католической трактовке. Дьявол – лицо, порождающее все пороки людей. Он держит в руках все нити, движущие людьми-злодеями. Это злой дух и соблазнитель. Сатана оказывается первопричиной Зла»[32].
«Поэт, – заметил Готье, – которого стараются ославить сатанинской натурой, отдавшейся злу и извращенности (разумеется, в литературном смысле{10}), был способен на самую высокую любовь и поклонение. А ведь отличительное свойство Сатаны именно в том, что он не может ни поклоняться, ни любить».
Кто прав? Решите сами.
30 декабря 1856 года Бодлер подписал с Огюстом ПулеМаласси и Эженом де Бруазом, владельцами типографии в городке Алансон, контракт на выпуск «Цветов Зла» (101 стихотворение) тиражом 1100 экземпляров плюс 23 авторских на голландской бумаге. Местом издания указывался Париж. В корректуру поэт внес столько поправок, что книгу пришлось перенабирать; она поступила в продажу 25 июня 1857 года. Реакция оказалась бешеной, чему способствовал состоявшийся в январе – феврале того же года процесс против Гюстава Флобера и издателей журнала «Ревю де Пари» («Revue de Paris»), где в октябре – декабре 1856 года печатался роман «Госпожа Бовари». Прокурор Эрнест Пинар обвинял их в оскорблении морали, но суд оправдал ответчиков – хотя и вынес автору моральное порицание, – что позволило сразу выпустить отдельное издание романа. Вердикт успокоил поэта и разозлил недругов. «Бодлер предвидел возможность процесса, но вначале надеялся, что его минует чаша сия, – писал Балашов, рассказу которого мы последуем. – Когда угроза возросла, он всё же уповал, что другие заботы остановят правительство, и наивно полагал, что при дворе могут посчитаться с мнением литераторов, занимавших высокое положение, таких как Мериме{11} и Сент-Бёв. Когда Бодлер узнал через Леконта де Лиля о намерении правительства во что бы то ни стало начать преследование, он обратился к своим издателям с просьбой срочно укрыть от конфискации нераспроданную часть тиража», то есть 200 экземпляров. Кстати, именно столько издатели допечатали втайне от автора и в нарушение контракта, когда книга «пошла».
5 июля в газете «Фигаро» («Le Figaro») журналист Гюстав Бурден обрушился на книгу, назвав ее «больницей, открытой для всех безумий духа, для всей гнили сердца», где «гнусное соседствует с непотребным, а отвратительное – с мерзким». Через два дня прокуратура по приказу министра внутренних дел Огюста Адольфа Бийо начала следствие по обвинению в преступном оскорблении общественной и религиозной морали. Дело поручили Пинару, стремившемуся взять реванш. 14 июля газета «Монитёр юниверсель» («Le Moniteur universel») поместила восторженный отзыв критика Эдуара Тьерри, который акцентировал внимание на нравственном смысле «Цветов Зла» и сравнил автора с Данте; в 1868 году отзыв перепечатан в приложении к первому посмертному изданию книги. На следующий день в газете «Журналь де Брюссель» («Journal de Bruxelles») появился форменный донос: «Недавно мы рассказывали о “Госпоже Бовари”, скандальный успех которой – это в одно и то же время позор литературы, моральное бедствие и симптом социального неблагополучия. Но этот гнусный роман всего лишь благочестивое чтение в сравнении с тем томом стихов, который вышел в эти дни под заглавием “Цветы Зла”. Автором тома является некий г-н Бодлер, переводчик Эдгара По, вот уже десять лет пользующийся репутацией великого человека в одном из тех мелких кружков, которые наводняют печать нечистотами беспутства и реализма»{12}. 17 июля генеральный прокурор потребовал запретить продажу книги и конфисковать остаток тиража. Публикации в ее защиту более не допускались.
Никто из предполагаемых покровителей не вмешался. 20 августа поэт, «весь сжавшись от стыда и гнева», предстал перед уголовным судом. Пинар сделал акцент на «реализме» (сейчас это называют натурализмом) и богохульстве: «Быть за отречение Петра против Иисуса, за Каина против Авеля, взывать к сатане против святых!» Поэт должен был понимать, чем рискует, – во Второй империи вольность нравов допускалась далеко не во всем. «Противодействуйте вашим приговором этим растущим и уже определенным тенденциям, этому нездоровому стремлению изображать всё, описывать всё, рассказывать обо всем так, как если бы понятие преступного оскорбления общественной морали было упразднено и этой морали не существовало бы», – заключил прокурор. Ответчик проиграл. Признанный виновным в «грубом и оскорбляющем стыдливость реализме» (авторитарные режимы всегда так стыдливы!), Бодлер был приговорен к штрафу в 300 франков (издатели – по 100 франков) и к уплате судебных издержек{13}. Хуже было то, что суд постановил изъять из книги шесть стихотворений («Лесбос», «Проклятые женщины. Ипполита и Дельфина», «Лета», «Слишком веселой», «Украшения», «Метаморфозы вампира»){14}. Их пришлось вырезать из нераспроданных экземпляров и перенабрать соседние страницы, чтобы продажу разрешили.
Из зала заседаний поэт вышел мрачным. «Вы ожидали, что вас оправдают?» – спросил его приятель Шарль Асселино. «Оправдают! – ответил Бодлер. – Я ожидал, что передо мной извинятся за попрание чести!» Пораженный и возмущенный, он в течение трех месяцев ничего не предпринимал для выполнения судебного решения, пока ему не пригрозили арестом. 6 ноября Бодлер написал прошение на имя императрицы Евгении с просьбой о снижении суммы штрафа, который был уменьшен до 50 франков. Надо было бороться за книгу, но для начала обеспечить себе заработок. Мэтры хвалили «Цветы Зла» в частных письмах, но денег это не приносило. Издатели и редакторы настороженно относились к вспыльчивому и одиозному литератору, мишени злых нападок и карикатур. «В столице жизнь состояла из сплошных интриг, из требований оплатить векселя и из осложнений в отношениях с женщинами», – суммировал Труайя.
Второе издание «Цветов Зла» (127 стихотворений), снабженное портретом автора, вышло в том же издательстве в 1861 году. Именно на него откликнулся в Лондоне восторженной статьей Суинбёрн. Поэт предпослал сборнику весьма двусмысленное предисловие: «Эта книга написана не для моих жен, дочерей и сестер, равно как и не для жен, дочерей и сестер моего соседа. Я уступаю это тем, кому нравится смешивать свои добрые дела и прекрасные слова. <…> Мне показалось любопытным – и тем более приятным, чем труднее была моя задача – заняться добыванием Прекрасного из Зла. Эта книга, по самой своей сущности бесполезная и совершенно невинная, написана с единственной целью усладить и развить мое странное влечение к преодолению препятствий. <…> Сначала я предполагал дать должный ответ своим бесчисленным критикам{15} и одновременно выяснить несколько вопросов, самых несложных, но окончательно затемненных при свете современности. Что такое поэзия? В чем ее цель? О разграничении Добра и Красоты; о Красоте в Зле. <…> Я остановился перед ужасающей бесполезностью объяснять что бы то ни было кому бы то ни было. Те, кто знают меня, поймут всё; для тех же, кто не хочет или не может меня понять, я стал бы лишь бесполезно нагромождать свои объяснения».
Власти решили не делать книге рекламу новым преследованием, и она прошла почти незамеченной. Лишь единицы оценили новаторство, которое удачно охарактеризовал Готье: «Для изображения этой ужасающей его извращенности он сумел найти болезненно-богатые оттенки испорченности, зашедшей более или менее далеко, эти тона перламутра и ржавчины, которые затягивают стоячие воды, румянец чахотки, белизну бледной немочи, желтизну разливающейся желчи, свинцово-черный цвет зачумленных туманов, ядовитую зелень металлических соединений, пахнущих, как мышьяковисто-медная соль, черный дым, стелющийся в дождливый день по штукатурке стен, весь этот адский фон, как будто нарочно созданный для появления на нем какой-нибудь истомленной, подобной привидению головы, и всю эту гамму исступленных красок, доведенных до последней степени напряжения, соответствующих осени, закату солнца, последнему моменту зрелости плода, последнему часу цивилизаций». Вспомним данное им же определение «стиля декаданса», которое я привел в прологе.
Долгие часы над очередными рукописями за столиком кафе с трубкой в зубах, бильярд, кабачки, дешевая продажная любовь – и одновременно работа над элегантными и печальными стихотворениями в прозе «Парижский сплин» и книгой признаний «Мое обнаженное сердце». Восторги молодых поклонников радовали, но ничего не могли изменить в жизни, которую поэт воспринимал как сплошной кошмар, моральный и физический. Попытка выставить кандидатуру во Французскую академию в 1861 году была воспринята то ли как злая провокация, то ли как неудачная шутка, поэтому кандидат отказался от баллотировки, не дожидаясь выборов. Планы поправить материальное положение и занять «положение в обществе», в возможность осуществления которых верил, кажется, только сам Бодлер, рушились один за другим. В реальности ему пришлось навсегда продать издателям за небольшие разовые платежи то, что еще можно было продать, включая переводы из Эдгара По с предисловиями и примечаниями.
Ум поэта по-прежнему занимала главная книга. Известно, что в 1865 году Бодлер составил проект третьего, итогового издания «Цветов Зла», но авторский экземпляр его не сохранился. Готовя книгу для «Литературных памятников», Балашов попытался реконструировать замысел – насколько удачно, судить не берусь. В 1866 году в двух сборниках «Современный Парнас», ставших триумфом парнасской школы, появились 16 стихотворений Бодлера под заглавием «Новые / Цветы Зла», напечатанным по просьбе автора в две строки с целью указать, что это не новое произведение под таким названием, но дополнение к прежнему. О нем восторженно писали два юных поэта – Поль Верлен и Стефан Малларме… имена которых ничего не говорили жившему в Бельгии и оторванному от парижской жизни Бодлеру.
В том же 1866 году Пуле-Маласси выпустил в Брюсселе (куда он перебрался после банкротства, ареста и суда) под маркой «У всех издателей» сборник Бодлера «Обломки» («Les Épaves»; 23 стихотворения) с ультрадекадентским фронтисписом работы Фелисьена Ропса, с которым поэт познакомился в Брюсселе. Отдельным разделом в него вошли «Осужденные стихотворения из “Цветов Зла”». В предисловии говорилось: «Этот сборник составлен из стихотворений, по большей части осужденных судом или неизданных, которые г-н Шарль Бодлер не счел нужным включить в окончательное издание “Цветов Зла”». Тем не менее некоторые из них были включены в первое посмертное издание книги, которое в 1868 году подготовили друзья автора Асселино и Банвиль. Именно в этом варианте читали «Цветы Зла» несколько поколений русских переводчиков. Что касается «Обломков», то после переиздания 1868 года суд города Лилля признал сборник оскорбляющим общественную мораль и постановил уничтожить тираж, а издателя приговорить к году тюремного заключения и штрафу в размере 500 франков. Значит, эта книга страшнее «Цветов Зла»? Судите сами, благо в 1993 году опубликован ее полный русский перевод[33], доступный и в интернете.
Пример Пуле-Маласси побудил Бодлера весной 1864 года попытать счастья в Бельгии[34]. Он надеялся на протекцию Гюго, присылавшего ему велеречивые письма, а деньги рассчитывал заработать чтением лекций, хотя прежде никогда этим не занимался. Затея окончилась провалом, принеся вместо ожидавшихся гонораров только новые долги, резкое ухудшение здоровья из-за прогрессирующего сифилиса и вспышку ненависти к неоценившей его стране. «Что за шайка негодяев! – писал он 13 октября Анселю, ведшему его дела. – А я-то считал Францию вполне варварской страной, и вот принужден сознаться, что есть страна еще более варварская, чем Франция!» Бодлер решил отомстить памфлетом. «Заметки накоплялись грудами на его столе. Не хватало лишь энергии собрать в одно произведение весь этот смешанный материал. <…> Под влиянием болезни ум Бодлера, склонный к меланхолии, омрачался все более и более». В его записях, по словам Балашова, «отдельные образы и острые мысли переплетаются с каким-то мизантропическим бредом душевнобольного человека».
Понимая безнадежность своего положения, поэт спешил подвести итоги. 29 марта 1866 года в письме он еще давал указания издателям «Современного Парнаса», но состояние ухудшалось с каждым днем. 31 марта последовали паралич половины тела (гемиплегия) и афазия; 3 апреля его положили в больницу. Приехавшая в Брюссель мать забрала сына, плохо понимавшего происходящее, в гостиницу, где постаралась окружить уходом, но ее присутствие лишь раздражало его. В начале июля Бодлера, находившегося в почти бессознательном состоянии, перевезли в парижскую клинику доктора Эмиля Дюваля. Больной не мог ни говорить, ни писать, хотя был подвержен приступам гнева, вскоре перестал кого-либо узнавать и почти не покидал постели. Тьма поглотила его сознание, затем и тело перестало сопротивляться. «Бодлер жил и умер одиноко, замкнуто, исповедник грехов, о которых никогда не рассказал всю правду, аскет страсти, отшельник борделя», – суммировал Симонс[35]. «Видимо, стремление человека гиперболизировать себя имеет известные пределы, и природа наказывает тех, кто не хочет считаться с ограниченными ею рамками физической и духовной организации человека», – подытожил Соколов[36].
Во всех изданиях «Цветы Зла» заканчиваются большим стихотворением «Путешествие», наиболее известным в переводе Марины Цветаевой под заглавием «Плаванье». Перевод отличный, да и магия имени переводчика прибавила ему славы. Лучшего эпилога к истории жизни Бодлера не придумать, но я предпочитаю другой перевод, сделанный не менее прекрасным, но куда менее известным поэтом графом Василием Комаровским в 1903 году и десять лет спустя включенный в его единственную книгу «Первая пристань». Вот первая часть:
- Мир прежде был велик – как эта жажда знанья,
- Когда так молода еще была мечта.
- Он был необозрим в надеждах ожиданья!
- И в памяти моей – какая нищета!
- Мы сели на корабль озлобленной гурьбою,
- И с горечью страстей, и с пламенем в мозгах,
- Наш взор приворожен к размерному прибою,
- Бессмертные – плывем. И тесно в берегах.
- Одни довольны плыть и с родиной расстаться,
- Стряхнуть позор обид, проклятье очага.
- Другой от женских глаз не в силах оторваться,
- Дурман преодолеть коварного врага.
- Цирцеи{16} их в скотов едва не обратили;
- Им нужен холод льда, и ливни всех небес,
- И южные лучи их жгли б и золотили,
- Чтоб поцелуев след хоть медленно исчез.
- Но истинный пловец без цели в даль стремится.
- Беспечен, как шаров воздушных перелет.
- И никогда судьбе его не измениться
- И вечно он твердит – вперед! всегда вперед!
- Желания его бесформенны, как тучи.
- И всё мечтает он, как мальчик о боях,
- О новых чудесах, безвестных и могучих,
- И смертному уму – неведомых краях!
Вот последняя часть, восьмая и главная:
- Смерть, старый капитан! нам всё кругом постыло!
- Поднимем якорь, Смерть, в доверьи к парусам!
- Печален небосклон, и море как чернила,
- Полны лучей сердца, ты знаешь это сам!
- Чтоб силы возбудить, пролей хоть каплю яда!
- Огонь сжигает мозг, и лучше потонуть.
- Пусть бездна эта рай или пучины ада?
- Желанная страна и новый, новый путь!
Шарль Бодлер умер 31 августа 1867 года в Париже. «До того, как он испустил последний вздох, его причастили. Вечный бунтарь почил спокойно, без мучений и являл присутствующим умиротворенное лицо человека, преуспевшего в жизни и бесстрашно ушедшего в мир иной», – завершил печальный рассказ Труайя. Похоронами 2 сентября распоряжался Ансель. Траурную процессию возглавили Поль Верлен и издатель поэтов Альфонс Лемер; Асселино и Банвиль произнесли восторженные речи; Готье, Леконт де Лиль и Сент-Бёв не явились. Только после смерти Бодлера, но именно благодаря ему, «французская поэзия вышла, наконец, за пределы нации, – писал Поль Валери. – Она понудила мир читать себя; она предстала в качестве поэзии современности; она вызывает подражания, она оплодотворяет многочисленные умы»[37].
Обратной стороной славы стало появление эпигонов, стремившихся «перебодлерить Бодлера» – перенять и развить самые кричащие и бросающиеся в глаза стороны его поэзии, благо их легче всего имитировать. Наиболее заметным из них стал Морис Роллина́, чья книга «Неврозы» (1883; русский перевод – 2012{17}) пыталась повторить «Цветы Зла» в новой литературной ситуации. По мнению Брюсова, Роллина родствен Бодлеру «беспощадностью своего анализа, смелостью своих реалистических описаний, глубоким пессимизмом мировоззрения. <…> Человеческая душа поэту кажется “клоакой, которую не измерил еще ни один зонд”. <…> Внимание поэта привлекают прежде всего преступники, развратницы, лицемеры, все формы безобразия и смерти, всё, в чем затаен ужас»[38]. Роллина – талантливый поэт, но его стихи нередко кажутся пародией на Бодлера, многих важных качеств которого, включая сострадание, он лишен. Таково «Чудовище»:
- Вот перед зеркалом, в него кидая взгляды,
- Сдирает женщина затейливый парик,
- И череп, как лимон желтеющий, возник
- Из мертвых локонов, весь жирный от помады.
- Под лампой яркою освобождая рот
- От пары челюстей (они слюной покрыты)
- И глаз фарфоровый извлекши из орбиты,
- Их с осторожностью в бокал с водой кладет.
- Нос восковой слущив и пышный бюст из ваты
- Сорвав, швыряет их, скрипя, в ларец богатый
- И шепчет: «Он меня (вуаль и туалет!)
- Нашел хорошенькой, он стиснул мне перчатку!»
- И Ева гнусная, обтянутый скелет,
- Отвинчивает прочь резиновую пятку{18}.
Брюсов пародировал «перебодлеренные» штампы в стихотворении «À la Charles Baudelaire» (8 июля 1898 года), опубликованном посмертно и всего единожды[39], а потому малоизвестном:
- Низменный, грязный вертеп,
- Стены нависли, что склеп,
- Лужи пивные, как гной,
- Сумрачен сумрак ночной.
- Вот в полусне тишины
- Видит он призрак жены:
- Там у камина она
- Ждет безответна, бледна,
- Угли слегка шевелит.
- Тихое пламя дрожит,
- Тихо летает вокруг
- Плачущий, плачущий дух…
- Странная сладость – мечтой
- Вызвать тот призрак святой,
- Лежа во мраке ночном
- С пьяной подругой вдвоем.
Литературная судьба Бодлера в России оказалась долгой, причудливой и счастливой. «Русского Бодлера» можно уподобить «русскому Байрону» или «русскому Гейне», зажившим собственной, отдельной от оригинала жизнью[40].
Первыми автора «Цветов Зла» заметили поэты-демократы. В 1870 году Дмитрий Минаев опубликовал перевод «Каина и Авеля» в сатирическом журнале «Искра», что в очередной раз привлекло недоброе внимание цензуры; Николай Курочкин – перевод «Призраков» годом позже в «Отечественных записках». Резонанса они не вызвали, и Бодлер еще добрую четверть века оставался на периферии читательского сознания. Изменил положение народоволец-каторжанин Петр Якубович, он же «П. Я.», «П. Ф. Гриневич», «М. Рамшев», «Л. Мельшин», – человек трагической судьбы, самый талантливый революционный поэт последней четверти XIX века и яростный гонитель «декадентщины» как критик.