Гулистан бесплатное чтение
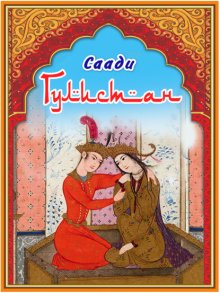
Перевод с персидского Е. Бертельса
Предисловие С.Ф. Ольденбурга
© ИП Воробьёв В.А.
© ООО ИД «СОЮЗ»
Предисловие
Персидская литература богата замечательными произведениями: ее поэты чаруют и прелестью стиха, и дивными образами, и глубиною содержания, – всем, чем чарует нас поэзия. Среди ее главных поэтов есть один, который стоит особняком, совершенно особенной простотою и общедоступностью: его читают дети в школах, его стихи повторяют на базарах и больших дорогах, в его же поэмах тонкие ценители прекрасного, которых всегда было не мало в Персии, ищут семьдесят два смысла, какие в них, по персидской поговорке, заключены. Всюду, где раздается персидская речь, славится имя этого поэта – Саади.
Если персы чтут и читают своих поэтов, то, к сожалению, они мало интересуются подробностями их жизни, и потому о жизни Саади мы знаем очень мало, притом главным образом то, что в виде случайных заметок разбросано в его произведениях. Однако, несмотря на это, образ Саади чрезвычайно ясен, также, как и ход его жизни.
Шейх Муслих-Эд-Дин Саади, – таково полное имя поэта, – родился в 1184 году в Ширазе, в юго – западной Персии. Шираз – один из красивейших городов Персии, где в декабре цветут розы, жасмины, гиацинты и в темной листве блестят золотые апельсины. Не даром Саади так часто и с такой любовью описывает родной Шираз, о котором он никогда не забывал:
- «Утренний ветер и земля Шираза – огонь.
- Кого он охватит, тот уже не знает покоя».
Детство Саади, видимо, было счастливое и потому явилось источником того ясного и простого отношения к жизни, которое отличает поэта. Отец его, Абдуллах, состоял на службе правителя – Атабека – провинции Фарс, Саада Зенги, в честь которого поэт и принял имя Саади: он воспитывал сына с любовью, но и со строгостью; помня о ней, поэт неоднократно говорит в сочинениях своих о пользе строгости в деле воспитания. Детские воспоминания поэта – картинки жизни, и мы приведем некоторые целиком.
«Помню я, как отец подарил мне золотое кольцо. Какой-то продавец выманил его у меня за финик; ребенок ценности кольца не знал и легко променял его на сладость». Саади прибавляет нравоучение: «Не знаешь ты, как драгоценна жизнь, которую ты отдал сладострастью».
«Помню я, что в детстве я был очень набожным, бодрствовал по ночам, был склонен к воздержанию и отшельничеству. Как-то ночью прислуживал я отцу и всю ночь не смыкал глаз и обнимал Коран. Вокруг нас все спали. Сказал я отцу: «Никто из них даже головы не поднимет, чтобы совершить молитву; так крепко спят они, что скажешь – это мертвецы». Отец мой сказал: «Душа моя, лучше бы было, если бы и ты спал, чем хулить других».
«Ребенком пошел я однажды с отцом на праздник. Дивился всему и затерялся в толпе. В страхе и смятении я закричал. Нашел меня отец и разбранил: «Сколько раз, смельчак, надо тебе повторять, чтобы ты держался за мое платье». «Ребенок один идти не может, трудно идти по дороге, которой не знаешь. И ты – дитя на пути, иди и держись крепко за полу благочестия», прибавляет Саади в нравоучение.
Есть у него и трогательное воспоминание о матери: «Как-то раз крикнул я из юношеской глупости на мать. Огорчилась она, села в угол и, рыдая, сказала: «Забыл ты разве детство, что теперь грубишь?»
- Сыну прекрасно сказала старуха,
- Видя, что стал он силен и могуч:
- «Разве забыл ты счастливое детство?
- Я на руках ведь носила тебя…
- В те времена ты б меня не обидел,
- Стал ты героем – стара стала я».
(Перевод Е. Бертельса)
Так прошло счастливое детство и юность и настало время для занятий в высшей школе. Саади отправился, мы не знаем при таких обстоятельствах, в Багдад, в знаменитую высшую школу, основанную во второй половине XI века. Юноша много работал и, благодаря выдающимся способностям, выдвинулся среди товарищей, вследствие чего был приглашен в помощники преподавателя. Об этом времени его жизни, особенно важном для выработки характера, у Саади сохранился ряд воспоминаний. Студент уже обладает всеми теми чертами, какие мы встретим потом в молодом поэте и в старике. Саади, по – видимому, умел соединять с юных лет большую вдумчивость и склонность к созерцанию с большой жизненностью и житейской наблюдательностью. Он сам в одном из своих стихотворений говорит, что «сущность его – давать советы». Сперва он любил выслушивать добрые советы мудрых людей, а потом постепенно, накопив знания и продумав их, он сам стал давать советы, облекая их в форму изящных рассказов, притч, изречений в стихах и прозе.
Мы не знаем точно, когда Саади начал писать, но, вероятно, первые его попытки относятся еще к пребыванию в высшей школе. В это время он любил веселье и пировал в кругу товарищей. Мы знаем, что несмотря на возражения строгого учителя, он увлекался музыкой; его сочинения показывают нам небольшой интерес к живописи: в его время персидская живопись уже находилась под влиянием китайского искусства, о котором не раз говорит и Саади.
Что Саади, по крайней мере в юные годы, отличался большою сердечной отзывчивостью и был полон нежных чувств, об этом говорят многие его стихотворения. Временами, под влиянием переживавшихся утрат – мы знаем о глубоко его поразившей смерти молодого товарища и друга – у Саади появляется тяжелое раздумье относительно жизни, и тогда мы чувствуем, что в нем усиливается стремление к религиозной мистике, которая в Персии была представлена суфиями. Суфии были пантеисты – всебожники, для них бог проникал все, был всем, душою мира, к единению с которой стремились отдельные души людей. Мы не знаем, вправе ли мы считать Саади вполне суфием, но несомненно, что идеи суфиев были ему близки и дороги, и к самим суфиям он стоял близко и дружил с многими из них. Таков приблизительно облик молодого Саади, вернувшегося из высшей школы в Багдаде на родину в Шираз. Сколько времени он пробыл здесь, мы не знаем точно, не знаем и чем он занимался.
Азия в те годы переживала большие политические бури: под влиянием нашествий монологов падали одни царства и создавались другие; по картинному выражению Саади «мир пришел в беспорядок, как волосы эфиопа»; «люди стали подобно волкам». Саади говорит, что такое положение дел на его родине, в Ширазе, заставило его скитаться по чужим землям. Если это даже и было так, то, несомненно, были к тому и другие личные причины, о которых мы ничего не знаем, но которые сделали Саади странником и притом, по – видимому, на несколько десятилетий, так как в Шираз он вернулся, вероятно, только к пятидесятым годам XIII столетия.
Когда мы из отдельных замечаний Саади, разбросанных по его произведениям, стараемся восстановить картину его странствований, то нас поражает громадность тех трудностей, какие он преодолел, ибо в те времена путешествия были делом чрезвычайно трудным, а Саади прошел страны от Восточного Туркестана и Индии на востоке до Северной Африки на западе. Дорожник странствований поэта не восстановим, ибо мы для этого не имеем никакой руководящей нити; мы только приблизительно можем догадываться о том, из каких стран в какие он переходил. Мы не знаем, что побуждало его к выбору того или иного местопребывания, и почему он их менял. Мы можем только догадываться о том, что вероятно большая любознательность побудила Саади к странствованиям: Саади был большой сердцевед, и его всегда глубоко интересовали люди и их поступки и побуждения, и потому, вероятно ему и хотелось сравнивать людей разных стран и пародов. Вывод, который он сделал из этих сравнений, если судить по его сочинениям, тот, что люди всех народов и стран мало чем друг от друга отличаются: одинаково, как ему казалось, и любят и ненавидят. Нас не должен удивлять этот вывод, если мы примем в соображение, что Саади не старался углублять своих наблюдений; он брал обыкновенно человека в простейших проявлениях его природы, брыл то, что мы бы теперь назвали средним человеком. Саади смотрел на людей и на жизнь чрезвычайно трезво; в этом, может быть, тайна его необыкновенной популярности. Громадный жизненный опыт, чрезвычайно многосторонний, вызывал большое доверие к поэту: чувствовалось, что Саади действительно знал очень многих и весьма разных людей и знал их хорошо, так как преодолевал постоянно преграды чужих языков и наречий; персидский он знал в совершенстве, увлекаясь и его наречиями и говорами; арабский знал прекрасно и писал арабские стихи; так же он знал хиндустани, основной язык современной ему Индии, и, по – видимому, писал на нем стихи. Вероятно, он знал и турецкий и, может быть, монгольский, кроме того, имел представление и о целом ряде других языков.
Из личной жизни Саади мы за это время знаем немногое: он был, по – видимому, несколько раз женат: странствующие мусульмане часто женятся в разных посещаемых ими городах, обыкновенно разводясь при отъезде. Он упоминает, как был выкуплен из плена у франков в Триполи мусульманином, женившим его на своей дочери в Алеппо. Брак был несчастный. В Иемене, в Аравии, он был тоже женат и здесь потерял сына – младенца, памяти которого посвятил несколько трогательных и прекрасных стихов. Отец стоит, тоскуя перед могилой мальчика, точно детский голос говорит:
- «Если перед мраком ты в ужасе стоишь,
- Смотри, чтобы тебе туда войти со светом».
И поэт прибавляет:
- «Если ты хочешь, чтобы ночь могилы была
- как день светла,
- Свет добрых дел твоих зажгли».
Если странствования принесли Саади большой опыт и знание человеческой природы, то они все же оставили его тем узко правомерным мусульманином, каким он был, по – видимому, еще в юности; суфизм, видимо, мало дал ему религиозной широты и терпимости. Ему ненавистно и непонятно то, что он считает идолопоклонничеством в Индии. Он равно презирает христиан и евреев:
- «Если вода в пруду христианском и не чиста,
- Еврейский труп омыть я ею не стесняюсь».
В этом отношении Саади был вполне средним человеком своей среды и своего времени; но на его же родине чуткие поэты, проникнутые страстным исканием истины и потому глубоко терпимые к тем, кто своими путями искал эту истину, говорили:
- «Всякое сердце, в котором зажжен свет любви, —
- Молится ли оно в мечети или в синагоге, —
Имя его записано в книге любви
- И свободно оно от страха ада и от мечты о рае».
Время шло. Не раз уже тоска по родине мучила поэта на далекой чужбине. К сожалению, и тут, как и по отношению к отъезду из Шираза, мы не знаем, что было непосредственной причиной возвращения Саади.
Вернулся он на родину стариком, но бодрым, свежим и жизнерадостным. В Ширазе в это время жилось хорошо, благодаря мудрому управлению сына первого покровителя поэта Абу-Бекра; этот правитель сумел не только водворить порядок внутри страны, но и уплатою дани монголам сохранить ее от их посягательств.
Возвратившись в Шираз, Саади приступил к написанию двух главных своих воспроизведений: «Бустану» («Плодовый сад»), в стихах, и «Гулистану» («Цветник Роз»), в прозе и стихах. Первая книга окончена в 1257 году, вторая в 1258 году. Нечего удивляться этой быстроте работы, творчества. Саади был опытным художником слова, в совершенстве владевшим формою и много уже написавшим; к тому же, он во время странствований вел записи, которые и использовал: слишком уже живы некоторые из его рассказов, чтобы можно было предположить, что они написаны на память, через много лет. Годы старости Саади провел в кругу друзей, на родине, в почете и известности. Но слава мало повлияла на Саади: мы видим его и в эти годы тем же скромным созерцателем и вдумчивым участником жизни, тем же неизмененным советчиком, учителем житейской мудрости, что и прежде, также трезвым, но и также доброжелательным и внимательным к людям. Теперь особенно ярко сказалось то, что особенно замечательно в Саади: несмотря на свой великий талант, он был средним человеком. Мы не видим в нем страстного богоискательства суфиев с их широкой терпимостью и требованиями высокой отшельнической нравственности. Саади понимал суфиев, но для него они были недостаточно уравновешены. Если, с одной стороны, ему были чужды поэты – богоискатели, то столь же чужды были его трезвому уму поэты, увлекавшиеся земною любовью или мирскою славою и почестями. Он не избегал общения с великими мира сего, но и не искал его. Мы не найдем у него низкой лести, которая часто так уродует произведения даже великих персидских поэтов. Спокойно он идет своим срединным путем, говоря о нравственности и о благоразумии.
Часто нам, и притом справедливо, может показаться, что мораль его произведений как будто низменная; нас временами возмущает то спокойствие, с которой он передает отвратительные проявления самых грубых человеческих страстей. Но впечатление это не будет правильным, если мы истолкуем его как сочувствие Саади этим отрицательным явлениям: глубокий сердцевед, он знает хорошее и дурное, он знает, что где есть розы, там непременно будут и шипы, где добро, там и зло, и он не боится говорить о зле: он настолько уверен, что его читатель знает его основные взгляды на то, как должен жить человек, что считает излишним, при каждом рассказе давать свое толкование – похвалу или порицание. Нам, может быть, иногда хотелось бы услышать из уст большого поэта что-нибудь «возвышенное», подобное тем красотам чувства в мысли, которыми так богаты персидские поэты – суфии. Но Саади сознательно берет жизнь как она есть, и считает, что не дело поэта постоянно морализировать и говорить о том, какою жизнь должна была бы быть. Как восточный поэт, его внимательно, поймет его основное отношение к жизни и не припишет ему сочувствия дурному и отвратительному только потому, что он не подчеркнул своего несочувствия.
Временами Саади овладевает особое вдохновение, он отходит на время от обыденного и становится действительно великим – творцом прекрасного, вечного.
Мы не знаем точно ни времени, ни обстоятельств смерти Саади: он умер, по всей вероятности, столетним слишком старцем в конце XIII века. Его похоронили возле самого Шираза и могила его существует до сих пор. Теперь могила Саади сильно запущена, как и большинство исторических памятников Персии, но и в наши дни и персы и иностранцы посещают могилу шейха – учителя в милом ему Ширазе, где как и семьсот лет тому назад, цветут его любимые розы.
«Гулистан» был написан, как уже сказано, в 1258 году, и Саади сам рассказывает повод к его написанию в изящном введении к книге. Саади стал чувствовать старость, ему начало казаться, что жизнь его прошла пусто и бессодержательно, и он решил остаток дней посвятить Богу, занимаясь созерцанием и размышлениями о божественном, вдали от мира, в одиночестве. Пришел к нему друг, которого он, погруженный в размышления о Боге, встретил против прежнего обыкновения полным молчанием. Пораженный друг начал ему горячо доказывать, что такие люди, как Саади, которым есть столько сказать хорошего и полезного людям, не имеют права молчать. Друг увлек затем Саади в сад, где цвели розы, – был апрель, – соловьи пели в кустах, а на цветах блестели капли росы, многоцветные тюльпаны, как ковром, покрывали землю. И, как часто это бывало с Саади, природа оживила его, любимые цветы – Саади особенно любил розы – вернули его к мыслям о земной жизни. Далее рассказ введения в «Гулистан» изложен таким образом, что трудно сказать, отражает ли он действительно происходившее или же является только поэтическим вымыслом. Во всяком случае он говорит нам о намерениях Саади при составлении его книги, а потому мы окончим этот рассказ. Однажды друг его набрал в саду цветов и собирался нести их в город. Саади сказал ему на это, что цветы, которые он уносит, и те, что остались в цветнике, скоро завянут, и затем прибавил, что может создать «Цветник Роз» – книгу, листы которой не смог бы уж развеять ветер осенний и в которых радости весны не сменяются, так здесь в саду, разорением осени. Обрадованный друг говорит: «Благородный человек, когда что – либо обещает, держит свое обещание». Саади после этого быстро принимается за работу, в несколько дней написав две главы. По – видимому, это были две последние главы книги. Розы еще не все отцвели в саду, когда был готов весь «Цветник Роз».
Рассказ Саади близок, вероятно, к тому, что происходило в действительности; чувствуется, что «Гулистан» написан сразу, что отдельные части его сплочены в одно единообразное целое. Глав восемь, по – видимому, в соответствии с восемью вратами мусульманского рая. Недаром главы называются «вратами» – «баб». Вот их название: 1. О поведении царей. 2. О нравах дервишей. 3. О превосходстве довольства. 4. О пользе молчания. 5. О любви и молодости. 6. О слабости и старости. 7. О влиянии воспитания. 8. О правилах общежития. Кроме последней главы, они состоят из небольших рассказов: воспоминаний и впечатлений из путешествий Саади и из исторических и житейских анекдотов, рассказанных с целью поучения. Глава 8-ая состоит из нравоучительных изречений и почти не имеет рассказов.
Если вообще позволено гадать там, где мы не имеем точных и несомненных современных сведений, то можно было бы сказать, что «Гулистан» сперва был задуман по плану 8-й главы, но затем живому и замечательному рассказчику Саади показались скучными эти нравоучения и наставления без жизненных картин; остальные главы он оживил рассказами. Это действительно рассказы, переданные с мастерскою простотой, украшенные, точно жемчужинами, изящными стихами.
Саади с гордостью указывает, что он не заимствует у других поэтов, зато в «Гулистане» мы находим ряд стихов, известных нам и из других произведений самого Саади – здесь поэт следует привычке всех вообще больших поэтов, которые любят повторять особенно излюбленные ими слова, выражения, образы.
С «Гулистаном» Европа познакомилась сравнительно рано: уже в XVII веке появился сперва французский перевод, потом латинский – одного немецкого ученого и затем немецкий – известного путешественника в Персию, Олеария, проехавшего в эту страну через Россию. Перевод Олеария еще в XVII веке был переведен на русский язык, но в печати полный русский перевод «Гулистана», сделанный Холмогоровым, появился только в XIX столетии. Перевод этот, несколько тяжеловатый, ныне устарел. Потому и сделан новый перевод, но уже в выдержках, достаточно, однако, обширных, чтобы дать полное представление о знаменитом «Цветнике Роз», широко известном не только на востоке, но и на западе, и переведенном на большое число самых разных языков.
С. Ольденбург
Глава первая
О свойствах царей
Один из царей Хорасана[1] увидел во сне султана Махмуда Себуктегина[2] через сто лет после его смерти. Все тело его уже разложилось и превратилось в прах, только глаза вращались. Все ученые были бессильны истолковать этот сон, кроме одного дервиша[3], который почтительно поклонился царю и сказал: «Ему смотреть осталось, что царство другим осталось».
- Много людей именитых закопано в землю,
- А на земле и следа уж от них не осталось.
- Черви точили их падаль в глубокой могиле,
- Нынче в земле и костей уж от них не осталось.
- Имя живет Нуширвана[4] и славен он благом,
- Хоть и следа от него, уж давно не осталось.
- Делай добро, человече, и пользуйся жизнью,
- Иначе скажут: «Его и следа не осталось».
Захворал на старости один из арабских царей и исчезла надежда на жизнь его. Внезапно вошел в дверь гонец и принес радостную весть, что завоевали для счастья царя такую-то крепость, взяли в плен врагов, а все войско и подданные той страны приведены в повиновение приказу царскому. Царь, услышав эти слова, испустил вздох отчаяния и сказал: «Не мне эта радостная весть, но врагам моим – наследникам царства».
- В такой, увы, надежде вся жизнь моя прошла;
- Мечтал я, что желанья, свершатся, наконец.
- Свершились все желанья, но только пользы нет —
- Могу ли питать надежду отсрочить свой конец?
Один год я творил молитву в Дамасской[5] мечети перед гробницей пророка Яхьи[6], мир да будет с ним. Внезапно прибыл на поклон туда один из арабских царей, известный своей несправедливостью. Сотворил он намаз[7] и стал просить о милости.
- Дервиш и богач перед этим порогом в смиреньи, —
- Тому, кто богаче, нужнее Господне прощенье.
Затем обратился он ко мне и молвил: «Так как дервиши разумны и искренность их свойство, пожелай мне добра, ибо страшусь я грозного врага. – Отвечал я: «Будь милостив к слабым подданным твоим, дабы не увидеть бедствия от сильного врага».
- Сильной рукою и мощью десницы —
- Грех беззащитную руку ломать.
- Тем, кто несчастным помочь не желает,
- В бедах не станет никто помогать.
- Кто, зло посеяв, добра ожидает,
- Будет напрасно его ожидать.
- Будь справедливей, вынь хлопок из уха,
- Скоро придется отчет тебе дать!
- Лишь члены единого тела Адама сыны:
- Из этой же материи все ведь они созданы.
- Лишь только один заболеет болезнею злой,
- Тотчас же должны и другие утратить покой.
- Коль горе чужое тебя не заставит страдать,
- Возможно ль тебя человеком тогда называть?
Появился в Багдаде[8] дервиш, молитвы которого доходили до Бога. Известили об этом Хаддажаджа, сына Юсуфа[9]; тот позвал его к себе и сказал: «Пожелай для меня добра». Дервиш воздел руки и молвил: «Боже мой! возьми его душу!» – Хаддажадж воскликнул: «Бога ради! это что за молитва?» – Молвил дервиш: «Пожелание добра для тебя и всех мусульман».
Слышал я про одного царя, что сделал он Как-то раз ночь днем, проводя ее в усладах, и в опьянении говорил:
- «Лучше мгновенья вовек не желаю,
- Я беззаботен и горя не знаю»
На дворе спал на холоду нагой дервиш. Он воскликнул:
- «По правде, безмерна удача твоя, —
- Но только, ведь, горя не знаю и я».
Понравилась эта речь царю, бросил он ему в окошко кошелек с тысячей динаров[10] и сказал: «Держи полу». Молвил дервиш: «Откуда мне взять полу, коли нет у меня одежды?» Сострадание царя к нищете его еще возросло, добавил он к дару одежду и выслал ее ему. Дервиш в скором времени истратил эти деньги и вновь пришел.
Сообщили царю о дервише в мгновение, когда ему было не до забот о нем. Разгневался он и нахмурился; недаром сказали опытные и знающие люди: «Надо остерегаться самовластия и горячности царей, ибо разум их преимущественно занят трудностями государственных дел, и не переносят они толпы простого люда».
Молвил царь: «Гоните этого нагого нищего, мота, который растратил такой дар в короткое время. Не знает он, что сокровища казнохранилища – пища для несчастных, а не доля для братьев сатаны.
- Безумец жжет светоч средь белого дня,
- А ночью без масла останется он.
Один из визирей[11] молвил: «О, повелитель! Вижу я правильный исход в том, чтобы таким людям необходимые средства, давались в определенные промежутки времени, дабы не стали они расточительными в расходах. Но то, что ты теперь повелел относительно изгнания и воспрепятствования, несогласно с обычаями мудрых людей. Нельзя подать кому-нибудь надежду щедростью своей, а потом вновь заставить его терзаться безнадежностью».
Один из друзей стал жаловаться мне на несчастную судьбу и говорил: «Достаток у меня малый, а семья большая, и нет у меня сил переносить тягость нищеты. Много раз западала мне в сердце мысль переселиться в другую страну, чтобы, как бы я там ни жил, никто не знал, хорошо ли, плохо ли мне живется.
- «Спит он голодным, да кто он – не знают,
- С жизнью проститься, – над ним не рыдают».
«Но страшусь я злорадства врагов, которые с попреками будут смеяться мне вслед, будут приписывать все мои заботы о семье отсутствию мужества и говорить:
- «На этого гнусного мужа взгляни,
- Судьбы ему доброй вовек не знавать.
- Покой и довольство себе он избрал,
- Оставил жену и детей горевать».
«Как известно, есть у меня кое – какие познания в математике; если благодаря вашему разуму будет возможно сделать что-нибудь, что стало бы причиною душевного спокойствия моего, то до конца жизни не отступлю я от обязанности благодарить».
Я сказал: «Друг мой, служба царям имеет две стороны: одна – надежда на хлеб, другая – страх за жизнь, и несовместимо с благоразумием разумных из-за надежды впадать в страх.
- «Никто дервишу бедному не скажет:
- «За дом и сад скорей мне подать ты давай».
- Иль будь своей доволен нищетою,
- Иль печень воронью свою ты подавай».
Молвил он: «Не сказал ты слова, подобающего моему положению, не дал ответа на мой вопрос. Разве не слышал ты, что говорят: «У того, кто проявляет коварство, затрясется рука при отчете. А мудрецы сказали: четыре рода людей боятся других четырех и страшатся за жизнь свою: разбойник боится царя, вор пастуха, мошенник доносчика и блудница полицейского. Но тем, у кого отчет в порядке, почему им бояться дознания?»
Сказал я: «Подходит к положению твоему рассказ о лисице, которую увидели в то время, как она спасалась и бежала, что есть духу. Сказал ей кто-то: «Что такое случилось, что ты так смутилась?» – Молвила она: «Слыхала я, что силой хватают верблюда». – Отвечали ей: «О, бестолковая, что общего между тобой и верблюдом, какое сходство между ним и тобой?» – Молвила она: «Умолкни. Если завистники скажут, что я верблюд, и попаду я в плен, кто позаботится о моем освобождении или расследует мое дело? Пока прибудет из Ирака[12] противоядие, укушенный змеей успеет умереть». – Сказал я: «Есть в тебе совершенства и достоинства, но завистники притаились в засаде, сидят по углам недоброжелатели.
Если опишут они то, что составляет красоту нрава твоего, не в соответствии с действительностью и разбранит и упрекнет тебя царь, у кого хватит силы заступиться за тебя? Вижу я благоразумие в том, чтобы ты охранял сокровище нетребовательности и отказался от главенствования, ибо мудрецы сказали:
- «Сокровища несметные сокрыты в глубинах,
- Но хочешь ты спасения, – ищи на берегах».
Выслушал друг эти слова, разгневался, нахмурился и начал говорить резкие речи: «Что это за разум и рассудительность, рассудок и предусмотрительность? Верно сказали мудрецы: «Друзья проявляют себя в темнице, а за столом все враги – друзья».
Увидел я, что гневается он и с неудовольствием выслушивает мои слова, пошел я к начальнику дивана[13] и на основании старинного знакомства рассказал ему обстоятельства дела его, прося, чтобы назначили его на должность мухтасиба[14]. Прошло несколько дней, увидели его превосходный характер, одобрили рассудительность его, пошло его дело, и достиг он высокой должности. И так стала подниматься звезда счастья его, что достигла вершин желания, стал он приближенным к особе царя, стал доверенным и известным. Радовался я успеху его и говорил:
- Не скорби о неудачах, сердца скорбью не терзай,
- Ведь сокрыт во тьме глубокой жизни вечной ручеек.
Тем временем случилось мне с друзьями моими отправиться в Мекку[15]. Когда возвращался я назад с поклонения Меккским святыням, вышел тот друг мне навстречу за две остановки. Увидел я в облике его смятение, заметил, что он в облачении дервишей, и молвил: «В чем дело?» – Отвечал он: «Все случилось, как ты сказал. Стали завидовать мне, обличать меня в коварстве, а царь не счел нужным расследовать истину, прежние же друзья и искренние предатели умолчали о правде, забыли старую дружбу. Так пришлось мне перенести разные кары, пока на этой неделе не пришла весть о благополучном прибытии паломников. Тогда освободили меня от тяжких уз, а унаследованное мною имущество отобрали».
Молвил я: «Не принял ты тогда моего указания, что служба царям подобна морскому путешествию – и прибыльна и опасна: или добудешь сокровище или погибнешь в страданиях».
Не счел я нужным более терзать раны его сердца и сыпать на них соль, ограничился только этими стихами и сказал:
- «Не знал ты, что в оковы попадешься,
- Коль ухом не воспримешь ты совета.
- Не сунешь скорпиону в норку пальца,
- Коль выносить укусы силы нету».
Дружил я с несколькими людьми, они отличались добродетелями. Один вельможа проявлял много доброжелательности к этим людям и установил для них определенную милостыню. Как-то раз один из них сделал неприличествующее дервишу движение.
Мнение покровителя о них испортилось, и стал их рынок вялым[16]. Хотелось мне как-нибудь вернуть друзьям их пропитание и попытался я пойти на поклон к тому человеку. Не пустил меня привратник, грубо обошелся со мной. Я простил его, потому что говорят:
- Идти к эмирам[17] мощным, царям и визирям.
- Без связей и знакомства не пробуй, милый мой;
- Привратник и собаки, завидев бедняка,
- Одни за полы схватят, а за ворот другой.
Но когда приближенные этой особы узнали о моем деле, впустили меня с почетом и предназначили мне лучшее место. Я же со смирением уселся пониже и сказал:
- «Прости, я лишь слуга ниЧто жный,
- С прислугой посидеть мне можно».
Тот молвил: «Аллах, Аллах[18], что это за речи!» Я уселся и стали мы беседовать о различных вещах, пока не зашла речь об ошибке моего друга. Тогда я сказал:
- «Какой же проступок видал благодетель,
- Что стали рабы ненавистны ему?
- У Господа лишь совершенно величье,
- И грешнику хлеб он дает своему».
Понравилась эта речь вельможе и приказал он, чтобы пропитание друзьям моим выдавали, как прежде и вознаградили их за пропущенные дни.
Поблагодарил я за милость, поцеловал землю почтения и попросил извинения за дерзость.
Рассказывают, что один притеснитель пустил камнем в голову смиренному человеку. Не было у дервиша возможности отомстить и спрятал он этот камень у себя. Пришло время, когда царь разгневался на того человека и вверг его в колодец. Дервиш пришел и бросил камень ему на голову. Тот молвил: «Кто ты таков и зачем бросаешь мне на голову камень?» – Дервиш ответил: «Я Такой-то, а камень этот – тот самый, которым ты пустил мне в голову тогда – то». – Молвил узник: «Где же ты был столько времени?» – Дервиш ответил: «Опасался я высоты сана твоего, теперь увидел я тебя так низко и счел это удобным случаем».
- Коль увидишь ты, что счастлив негодяй,
- Ты на Бога все надежды возлагай!
- Если острых не дал Бог тебе когтей,
- То разумней сторониться злых людей.
- Кто с булатною рукою вступит в бой,
- Со своей простится белою рукой,
- Пусть врага скует судьбина по рукам,
- Сможешь ты его тогда прикончить сам!
Один из царей заболел ужасной болезнью, о которой рассказывать неприлично. Собравшиеся греческие врачи единогласно решили, что нет для этой болезни лекарства, кроме желчи человека, который бы отличался такими – то и такими приметами. Царь повелел разыскать такого человека. Нашли сына одного дикхана[19] с теми приметами, о которых говорили ученые. Царь призвал его родителей и удовлетворил их несметными милостями. Кади[20] дал решение, что дозволено пролить кровь одного из подданных ради спасения жизни царя, и палач собрался казнить мальчика.
Мальчик поднял лицо к небу и засмеялся. Царь сказал: «Разве уместно смеяться в твоем положении?» – Молвил мальчик: «Заботиться о детях обязанность родителей, жалобы подают кадию, а справедливости ищут у царя. Теперь родители предали меня на смерть ради благ мирских, кади дал решение казнить меня, а царь видит спасение свое в моей смерти. Не вижу я покрова, кроме Господа Всевышнего».
Сжалось у царя при этих словах сердце и навернулись на глаза слезы. Молвил он: «Лучше мне погибнуть, чем пролить кровь невинного». Поцеловал он его в чело и в глаза, прижал к груди, одарил несметными благами и отпустил на волю. Говорят, что царь в ту же неделю исцелился.
Бежал один из рабов Амра ибн Лейса[21]. Отправились в погоню за ним и привели его назад. Ненавидел его визирь[22] и дал приказ казнить его, чтобы другой раз рабы не решались на такой поступок. Раб пришел к Амру, склонил голову к земле и сказал:
- «Что ты захочешь, пусть со мной свершится,
- Противиться не смею хозяина деснице».
«Но так как вскормлен я милостями этого дома, не хочу я, чтобы в день Суда ты ответил за мою кровь. Если хочешь ты казнить раба, приложи к этому закон, дабы не ответить в день Воскресения».
Царь молвил: «Какое же приложение закона могу я дать?».
Раб ответил: «Дай мне дозволение убить визиря, а тогда повели убить меня в наказание за это, чтобы иметь право на казнь».
Царь рассмеялся и сказал визирю: «Что ты на это скажешь?»
Тот отвечал: «О повелитель, заклинаю тебя могилой отца твоего, оставь этого негодяя в живых, чтобы не вверг он меня в беду. Моя вина: не внял я словам мудрецов, говоривших:
- «Если ты с пращником драку затеешь,
- Череп проломит тебе он, гляди.
- Если врагу ты стрелу посылаешь,
- Сам ты на месте его не сиди».
Был у царя Зузана[23] один мудрец, благородный душою и добрый нравом, который всем присутствующим оказывал услуги, а обо всех отсутствующих хорошо отзывался. Однажды случилось ему совершить какой-то поступок, который пришелся царю не по нраву. Отобрал он у мудреца его имущество и велел наказать его. Военачальники царя помнили прежние благодеяния его, были обязаны ему благодарностью и поэтому, пока он был в темнице, проявляли к нему доброту и ласку и избегали попреков и резкостей.