Странная история доктора Джекила и мистера Хайда бесплатное чтение
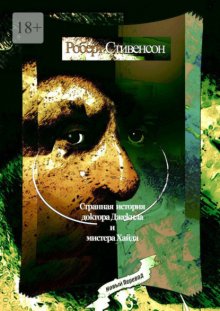
Дизайнер обложки Алексей Борисович Козлов
Переводчик Алексей Борисович Козлов
© Роберт Стивенсон, 2022
© Алексей Борисович Козлов, дизайн обложки, 2022
© Алексей Борисович Козлов, перевод, 2022
ISBN 978-5-0056-1280-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Дверная История
Мистер Аттерсон, нотариус, чей брутальный лик никогда не освещался даже лёгким отблеском улыбки, был воистину вещью в себе, шкафом, замкнутым на все замки, молчуном, из которого можно было вытянуть слово только под пытками, увальнем, чья неловкость в обществе была притчей во языцех, вытянутым, иссохшим, как мумия, пыльным, скучным и мрачным типом, но по сути, человеком в чём-то чрезвычайно симпатичным. В хорошей, тёплой компании, под любимое винцо, его мрачные, стеклянные глаза постепенно начинали оттаивать, и в конце концов оттаивали до такой степени, что в них начинал загораться маленький огонёк трепетной человечности, которой, впрочем, никогда не отражался в его речах. Эта доброта концентрировалась не только в патетическом до благодушия послеобеденном молчании, но и в его добрых делах, причём в делах даже ярче и громоподобнее, чем где бы то ни было. Ему была присуща неукротимая требовательность к самому себе: обедая всегда в одиночестве, он, укротив неудержимую тягу к элитным винам, принципиально глотал джин, и изнемогая от влекущего магнетизма театральных искусств, не менее двадцати лет не считал нужным даже одним глазом заглянуть в предбанник театра. При этом слабости ближних отражались в нём неискоренимой снисходительностью, выражавшейся в лёгкой зависти, с которой он присматривался к их цветущему жизнелюбию их навязчивых грёз, и дождавшись часа расплаты, обычно ограничивался поддержкой, но никогда не порицанием.
– Каинова ересь – моя излюбленная фишка! – вбивал он тезисы, как вбивают гвозди мерными ударами молотка, – Не мой удел мешать братьям по крови выбирать наиболее эффективные пути погибели! Они сами должны определиться со своими предпочтениями и вкусами!
Странным образом судьбе было угодно сделать его последним товарищем множества некогда очень высоких, но со временем опустившихся людей, источником последних высоконравственных влияний в их жизни. И когда они в очередной раз появлялись в его жизни, он вёл себя с ними точно так же, как всегда.
Такого рода поведение давалось мистеру Аттерсону шутя, потому что он никогда не выходил из себя и был весьмма сдержан во всех своих проявлениях и казалось, что даже его дружелюбие проистекает из его всепроникающей благожелательности.
Прирождённой скромности свойственно брать свой ближний круг из рук Провидения, и нашему нотариусу ничего не оставалось, кроме как поступать именно таким образом. Вокруг него кучковались либо только родственникик, либо давнишние знакомцы. Его привычка к определённым людям, как ползучий плющ, питалась пристрастием времени и никоим образом не свидетельстовала ни о душевных, ни о человеческих свойствах окружающих.
Именно такими, по всей вероятности, и были старые узы, которыми нотариус был связан со своим дальним родственником мистером Ричардом Энфилдом, знаменитым предводителем записных лондонских бонвиванов. Окружающие всё время ломали голову, что может связывать столь разных представителей человеческой породы с таким разным воспитанием и пристрастиями. Видя их во время обычных воскресных прогулок, люди вспоминали потом, что они всегда шли рядом с таким отчаянно скучающим видом, как будто только что оба проглотили кочергу. При этом из вид был полн такой скуки, что встреча какого-нибудь общего знакомца исторгала из двух пыльных грудей вздох общего облегчения. Как ни странно, при этом они оба чрезвычайно любили эти прогулки, никогда не пропускали их, и готовы были пожертовать ради них всем, чем угодно. Эти прогулки считались у них венцом и украшением финала недели, они задолго планировали их и были готовы ради их проведения жертвовать даже самым необходимым, например, сопутствующими развлечениями, которые могли отложить сразу и на неопределённое время.
В одно из таких волшебных воскресений ветер странствий занёс их на какую-то мутную, мелкую улочку в одном деловом квартале на окраине Лондона. Улочка была маленькая, и прямо надо сказать, тишайшая, несмотря на то, что в будние дни тут кипела бурная торговая толкотня. Судя по всему, жители улочки не то, что не бедствовали, но явно преуспевали, не собираясь останавливаться на достигнутом и мечтая достичь ещё большего преуспеяния и богатства. Было видно, что здесь царило довольство и преуспеяние, которое пускалось на красоту, а посему бесконечныевитриныпо обеим сторонам улицы блистали благодушием, похожие на улыбающихся манекенщиц.
В воскресенье, когда улица представала в своём наиболее тихом и спокойном виде, и все её торговые прелести были не видны. Но и временно пустынная, по сравнению с убожеством окружающих улиц она сверкала подобно тому, как сверкает костёр в ночном лесу или рождественская ёлка в Сочельник. Может быть то, что кругом царила абсолютная пустота, взор зрителя поневоле останавливался на девственном, нестерпимом блеске дверных ручек и мог уловить общую атмосферу невиданной чистоты и нескрываемого веселья, которые, конечно же, не могли не очаровывать взгляды случайных прохожих.
Если смотреть по левой стороне улицы и двигаться в восточном направлении, там прямо через две двери с угла общий ритм фасада нарушается аркой, ведущей во двор, пройдя через которую сразу упираешься в мрачное, массивное здание. Собственно говоря видна только глухая стена, в этом двухэтажном здании нет ни одного окна, довольно унылая картина, состоящая из невнятной двери внизу и угрюмого, серого, наморщенного, заляпанного грязью лба стены наверху. Общая картина, так же, как детали её, свидетельствовали о крайней степени запущенности и нескрываемому наплевательству хозяев к своему имуществу. Облупленная, в каких-то мрачных разводах, дверь не содержала ни единого намёка ни на звонок, ни на молоток. Вид двери сразу начинал манить бродяг расположиться на отдых в глубокой дверной нише, чем они, судя по затёртым их спинами панелям, и всегда пользовались. Здесь сразу начинал ощущаться дух животной вольницы, не свойственный всей улице и даже противной ей. Бродяги лениво чиркали спичками по её шершавым панелям, ребятня играла здесь в свои немудрёные игры, предпочитая игру «в магазин» на расшатаных ступенях крыльца, школяры по привычке демонстрировали приятелям остроту своих перочинных ножиков, вырезая свои инициалы на резных облезлых под дождями балясинах, и уже долгие годы никто не сталкивался с тем, чтобы эти бесчинства были кем-то пресечены. Никогда не открывалась дверь, никто не прогонял незванных гостей и некому было исправлять случайные последствия их бесчинств. Общая картина этого владения создавала впечатление, что имение покинуто и в нём давно нет ходяина, да и вообще никакого присмотра.
Мистер Энсфилд шёл рядом с нотариусом по соседней стороне улицы, но когда здание поравнялось с ними, его трость поднялась в направлении дома.
– Вам попадалась на глаза эта дверь? – внезапно спросил он, и когда услышал утвердительный ответ, как будто поколебавшись, продолжать ли этот разговор, добавил, – С этой дверью для меня была связана очень необычная, даже можно сказать, престранная история!
– Да что вы говорите? – заинтересовался мистер Аттертон, мгновенно изменив тон, – Какая же из них?
– Всё произошло так! – начал мистер Энсфилд, – Я как-то раз принуждён был возвращаться домой тяжкой зимней ночью, примерно часа в три утра, в самые, как вы понимаете, в самые тёмные часы суток, да ещё с такого края Вселенной, что лучше и не вспоминать! Какого-то чёрта мой путь лежал через самые мрачные, едва освещённые одинокими фонарями районы, с улицами, названия которых я не знал, да ине мог знать, улицам, разглядеть на которых было что-либо крайне проблематично, где я ничего ровным счётом не видел, и постоянно опасаясь упасть, должен был идти крайне медленно, да ещё ощупывать и цепляться за заборы и стены облупившихся домов. С величайшими трудностями я преодолевал улицу за улицей, где все давным давно давали храпака, иной раз преодолевая дивно освещённые словно для свадебного представления роскошные улицы, они снова быстро сменялись зловещим трущобным мраком, где торчали только контуры каких-то полуразрушенных складов. Мерная нудность этого путешествия словно стремилась усыпить меня, хотя тревога не проходила. В конце концов, попав в абсолютный мрак каких-то инфернальных трущоб, я погрузился в тревожное ожидание чего- то скверного, постоянно ловя себя на желании встретить на пути дюжего полицейского. Неожиданно я узрел прямо перед собой сразу две человеческие фигуры: строго на восток быстрым шагом шёл какой-то плотный, приземистый мужчина, а по перпендикулярной улице стремительно бежала запыхавшаяся девочка лет девяти. Их траектории пересекались, и как можно предположить, строго на углу они столкнулись и тут случилось нечто совершенно непредставимое, даже не заметив упавшей девочки, этот тип наступил на неё, и не сбавлял шага, пошёл дальше. Меня просто потрясло то, как этот негодяй специально наступил на неё и совершенно не обращая внимания на её громкие крики, не спеша пошёл своей дорогой. Со стороны может показаться, мол, что такого особенного случилось, ну, толкнул мерзавец младенца, чего не бывает, да и рассказ об этом вряд ли может произвести впечатление на придирчивого читателя, но видит бог, это зрелище видеть было просто невыносимо. Предо мной пронёсся какой-то грязный, мерзкий Джаггернаут, а не человек, пусть даже очень злой! Я заорал во весь голос, бросился вслед за этим мерзавцем и за воротник потащил его назад, тудап, где около плачущей девочки уже начинали собираться люди. Он практически не оказывал сопротивления и его лицо хранило такую невозмутимость, что мне стоило большого труда сдержаться и не провезти его физиономией по тротуару. При этом он одарил меня как-то раз злобным взглядом такой силы, что я с ног до головы покрылся холодной испариной, как бывает после долгого бега и внезапной остановки. Выяснилось, то все столпившиеся подле лежащей девочки – её ближайшие родственники, а вскорости появился и врач, которого вызывала девочка, чтобы он шёл к больному. Осмотрев девочку, врач сказал, что с ней не случилось ничего серьёзного, просто на сильно испугана. Тут бы закончить эту историю, и всем удовлетворённо разойтись, да одно чрезвычайно странное обстоятельство воспрепятстовало этому. Вам трудно будет представить, каким омерзением, каким презрением я проникся к этому гнусному субчику! Родные девочки тоже смотрели на него свирепыми взорами, что вовсе не удивительно. Меня, честно говоря, поразил этот лекарь, совершенно выцветший тип, человек, которого совершенно невозможно выделить из толпы, а тем более запомнить, его возраст было невозможно определить, не молодой и не старый на вид. Говорил он с сильным шотланским акцентом, и имел столь спокойный, нет, такой равнодушный вид, что казалось, что в брошенной волынке больше человечности. Да, о чём это я, сэр? С ним тоже случилось чудо – стоило этому соляному столпу взглянуть на арестованного, как он сразу ощерился, побледнел и в лице его мелькнуло выражение человека, готового убить врага на месте. По его лицу было понятно, он чувствовал точно то же, что ощущал и я – хорошо бы убить этого негодяя на месте, но нет, этого к величайшей досаде сделать нельзя. Всё же при наших ничтожных возможностях мы постарались наказать мерзавца. Мы поставили его в известность, что сделаем всё, чтобы о его подлом поступке стало известно всему Лондону, ославим его, опорочим его имя и репутацию, и сделаем это обязательно. Если он известен в обществе, если у него есть друзья и покровители, мы сделаем всё, чтобы лишить его этого. Всё это время нам приходилось сдерживать женщин, которые, как фурии, всё время бросались к нему, готовые порвать негодяя на месте. Никогда в жизни мне не приходилось видеть такой огненой ненависти, такой агрессии на стольких лицах разом, а этот мерзавец спокойно стоял в середине круга, окружённый со всех сторон людьми, готовыми каждое мгновение броситься на него, и сохранял не просто невозмутимость – невозмутимость с привкусом презрения. По косвенным проявлениям я видел, что в глубине души он испуган, но держится великолепно, и я думал, что сам Сатана позавидовал бы такому потрясающему самообладанию.
«Если вам взбрело в голову наживаться на всяких казусах и инцидентах, – процедил он ровным голосом, – мне остаётся только удивляться! Тут я бессилен! Но, джентльмены! Если вы и в самом деле джентльмены, вам подобает избегать любых публичных разборок! Итак… Сколько вы хотите?» После долгих торгов и препирательств из него удалось выудить сто фунтов для родных девочки. Торговался он умело, но наглухо припёртый к стенке, вынужден был пойти на попятный и согласиться. Дело было за малым – взыскать с него деньги, и вот что самое потрясающее – это то, куда он нас в конце концов привёл! Вот к этой самой двери! Оказавшись перед дверью, он достал ключ, он отпер её, прошёл внутрь и через короткое время снова вышел к нам с десятью гинеями в руках и чеком на предъявителя в банк Куттса, и фамилией на чеке, какую можно назвать, только закрыв рот рукой, чтобы никто не слышал, столь значительна и знаменита была эта фамилия. Собственно говоря, я столь долго рассказывал эту историю исключительно ради этой фамилии, ибо в ней и сосредоточена вся соль моего рассказа. Скажу лишь, что эту фамилию знает любой англичанин и она не сходит со страниц всех лондонских газет. Истребованная с него сумма и в самом деле была немалая, но будь эта подпись настоящей, под неё дали бы и не такие деньги. Всё это выглядело чрезвычайно подозрительно, и я не преминул высказать свои соображения по этому поводу, поскольку это было очень странно, что какой-то бедный проходимец заходит в подвальную дверь какой-то трущобы и тут же выносит оттуда чек на сто фунтов. В лице мерзавца не дрогнул ни один мускул.
– Не волнуйтесь! – сказал он с плохо скрываемым презрением, – Я готов торчать тут с вами, пока не откроются банки, и сам готов получить ваши деньги по этому чеку!
Вслед за этим все мы – девочка, её родственники, врач и я отправились ко мне домой и просидели там до той поры, пока не открылись отделения банков, а потом той же компанией пошли в банк. Когда я отдавал кассиру чек, я предупредил, что по моему мнению, чек может оказаться поддельным, и у меня есть все разумные основания так считать! Отнюдь не бывало! Чек оказался подлинным, точно так же, как и подпись.
– Да уж! Интересно! – заинтересовался мистер Аттерсон.
– Я вижу по вашему поведению, что вы разделяете мои чувства! – после недолгой паузы сказал мистер Энфилд, – Да, согласен! История мерзкая! Этот тип несомненно негодяй из негодяев, что же касается подписанта чека, поверьте мне, тут не может быть сомнений – человек высочайших моральных качеств и порядочности, я много знаю о нём, и очень широко известен в самых высоких кругах, он чрезвычайно популярен (от этого ситуация только хуже) и по праву считается настоящим королём филантропов. Думаю, тут мы имеем дело с последствием натурального шантажа, а иначе чем объяснить, что честнейший из смертных вдруг платит огромные деньги за чьи-то не слишком привлекательные шалости и готов пойти на это ради сохранении в тайне имени шантажиста? «Замок Шантажа» – вот как бы я нарёк после вашего рассказа этот дом с его обшарпанной дверью. Но до конца я всё равно не могу объяснить то, что произошло! – сказал это, мистер Энфилд надолго замолк и погрузился в задумчивость. Эта его задумчивость была прервана мистером Аттерсоном с его неожиданным вопросом:
– Скажите, а вам случайно неведомо, живёт ли в этом доме человек, чья подпись стоит на чеке? Или, может быть, он просто зашёл к этому типу в гости?
– Это в этой-то развалюхе? – почти полыхнул возмущением мистер Энфилд, – Вы в своём уме? Знаете, ведь на чеке стоял его настоящий адрес, это какая-то площадь…
– И вам не пришло в голову… как-то… навести справки о хозяине дома с такой дверью? – осторожно спросил мистер Аттерсон.
– Ни в коем случае! Это не очень порядочно было бы, по-моему! Такие расспросы не в моём стиле! В наведении справок о людях, которые не поставлены об этом в известность есть нечто от Судного дня! Задавать тайные вопросы подобно киданию камешков с горы, вы почиваете на лаврах на вершине горы, а ваш камешек уже катится вниз, увлекая за собой всё новые камешки, пока они не превратятся в лавину, а в это время у себя в палисаднике какой-нибудь ухоженный благообразный старикашка-пенсионер копается в грядках и не подозревает, что через мгновение на него свалится целая лавина камней, в результате чего его семейству придётся бежать и менять фамилию. Нет, и ещё раз нет, сэр, в этом смысле я воспитан так, что неукоснительно следую правилу – чем сомнительнее дело, тем меньше от меня дождёшься вопросов!
– Прекрасное правило! – кивнул головой нотариус.
– Но при этом я, разумеется, не мог отказать себе в удовольствии понаблюдать за этим домом – заметил мистер Энфилд, – по правде говоря, это строение с большой натяжкой можно назвать жилым домом! В доме есть одна дверь, она же перед нашими глазами, и как оказалось, пользуется ею, да и то страшно редко, исключительно только наш молодчик. Три окна этого дома глядят во двор, все они расположены на втором этаже, как вы видите, на первом этаже вовсе нет никаких окон. Ни одно из окон никогда не открывалось, но по моим наблюдениям все окна всегда хорошо вымыты. Из каминной трубы дома дым идёт довольно часто, из чего можно заключить, что в доме кто-то бывает, хотя бы иногда. Хотя мне следует признать, что моё свидетельство не обязательно можно считать доказанным, так как в этом районе дома расположены столь тесно, что определить, где кончается один дом и начинается другой, в самом деле, довольно проблематично.
На какое-то время друзья углубились в свои мысли и шли молча. Но выдерживать длительное молчание особое искусство и им владеет не всякий, так что первым нарушил молчание мистер Аттерсон:
– Энсфилд! – пробормотал он, – Ваше правило несравненно!
– Мне, честно говоря, самому так кажется! – сказал Энсфилд.
– Меж тем, надеюсь, – продолжил напирать нотариус, – вы позволите мне задать вам один вопрос? Скажите, вам известна фамилия человека, который наступил на упавшую девочку?
– Отчего ж не назвать! Никаких причин скрывать фамилию этого негодяя у меня нет! Хайд! Его зовут Хайд!
– Хм! – передёрнул плечами мистер Аттерсон, – Вы можете описать, как он выглядит?
– Это довольно сложно сделать! В его наружности наличествует нечто странное, скорее что-то крайне неприятное, даже скажу больше – нечто совершенно отвратительное! Пожалуй за всю мою жизнь я ни к кому не испытал такой гадливости, хотя, если бы вы спросили, чем она вызвана, я, пожалуй, затруднился бы ответить! Я полагаю, ему свойственно некое внутренее уродство, которое все чувствуют, не осознавая, отчего оно происходит и в чём заключается. Но любой увидевший его, скорее всего, и испытывает чувство омерзения именно потому, что ощущает его глубинное, непонятное уродство. В его внешности скрывается что-то необычное, но эта необычность весьма расплывчатая, трудно определимая. Я сейчас напряг свою голову, сэр, и вдруг понял, что при всём своём желании не смогу описать его внешность, и какой он с виду. Вам трудно меня будет понять, это не потому, что я ничего не помню, наоборот, я слишком хорошо запомнил его. Он и сейчас словно стоит перед глазами.
Мистер Аттерсон снова втянул шею в панцирь и пошёл молча, как будто что-то старательно переваривая в мозгах.
– А вы уверены, что у него был собственный ключ от двери?
– Ну, как это… – на секунду опешил отчего-то растерявшийся Энфилд.
– Разумеется! – прервал его Аттерсон, – Кажется, я как-то не очень удачно выразился… Понимаете, я не спрашивал вас о фамилии того, чья подпись стоит на том чеке, по простой причине – я его знаю! Как ни странно, Ричард, но ваша история в некоторой степени затрагивает и меня! Единственное, подумайте, не было ли в вашем рассказе каких-либо неточностей или ошибок? Это важно!
– Могли бы по старой памяти предупреждать меня о своих шутках! – попытался обидеться мистер Энфилд, – но в данном случае педанта, выразившегося точнее, надо поискать! Ключ этот тип имел свой! И даже более того, он у него был и есть! Пару дней назад я видел, как он вставлял его в замочную скважину!
Мистер Аттерсон издал глубокий вздох, и этим ограничился, а его собеседник воспользовался его молчанием и сказал:
– Ещё один довод, что молчание – золото! Сейчас я испытываю острое чувство стыда за свою болтливость. Давайте заключим пари никогда, ни при каких обстоятельствах не возвращаться к этой теме?
Розыски мистера Хайда
Тем вечером мистеру Аттерсону пришлось возвратиться в свой холостяцкий чертог в тягостных раздумьях, и потому он пообедал, не как обычно, без всякого аппетита. Обычно воскресный обед располагал к дальнейшему размещению его подле камина за пюпитром с каким-нибудь иссушенным до невероятности богословским трактатом. За этим занятием его можно было застукать до часа, когда колокол на соседской церкви извещал полночь, после чего он не спеша и с чувством глубокого морального удовлетворения шёл на боковую. Однако в тот вечер, едва скатерть была снята со стола, мистер Аттерсон, взяв свечу, поспешил в свой кабинет, где сразу же отпёр сейф, вынул из него плотный запечатанный конверт с чёткой надписью «Завещание д-ра Джекила», и с хмурым видом начал его изучать. Бумага была написана собственноручно самим завещателем, потому что в своё время мистер Аттерсон категорически отказался участвовать в его составлении, из завещания плавно вытекало, что по воле завещателя всё имущество Генри Джекила, доктора медицины, права и Члена Королевского Общества и всё в том же духе, плавно переходит во владение его другу и благодетелю Эдварду Хайду, как в случае его смерти, так и в результате «исчезновения или необъяснимого исчезновения без всякого предупреждения, и по убытию доктора Джекила в течение не менее трёх календарных месяцев», вышеуказанный Эдвард Хайд должен сразу вступить во владение всем имуществом доктора, без всяких условий и каких-либо ограничений, что, естесственно, не распространяется на некоторые выплаты слугам доктора. Это завещание было источником сильных душевных мук для бедного нотариуса, и он очень жалел, что согласился быть его хранителем. Бумажка была просто плевком в лицо ему не только как опытному, серьёзному, уважающему себя юристу, для которого любой немотивированный шаг в сторону от сложившихся традиций был ударом под дых всему, что основано на следовании славным давно устоявшимся обычаям делопроизводства, что в его глазах было за гранью добра и верхом непристойности. До сего дня его негодование ограничивалось тем, что ему ничего не было известно и мистере Хайде, теперь же негодование обрело новую пищу, поскольку теперь он много узнал о нём. Пока нотариус ничего не знал о своём клиенте, положение было в меру скверным, но как только оно стало обрастать живой плотью фактов о мерзкой сути мистера Хайда, и из туманной дали стал выступать воистину совершенно сатанинский лик.
– Каким бы безумием не могло показаться это, – прошептал нотариус, пряча опостылевший документ в сейф, – Но, кажется, за всем этим скрывается что-то преступное!
Мистер Аттертон погасил свечу, одел пальто и отправился в сторону Кавенлиш-Сквера, этому цветнику знаменитых медицинских светил, где проживал и имел обширную практику его лучший друг – доктор Ланьон.
– Если кому-то по силам пролить на это какой-то свет, то им может быть только Ланьон! – подумал он.
Сама солидность, дворецкий отворил дверь и, почтительно поклонившись мистеру Аттерсону, немедленно провёл его в гостиную, где доктор Ланьон наслаждался бокалом полуденного вина. Перед Аттерсоном восседал щеголеватый, краснолицый, дюжий щёголь с будто прилипшим к лицу вечно добродушным выражением и пышной белой гривой вздыбленных волос, громогласный и нагловатый.
Сразу узнав мистера Аттерсона, он сорвался с места устремился навстречу, радостно растворив руки. Этот жест свидетельствовал не столько об истинном дружелюбии доктора, но и об исстари усвоенных им театральных привычках, хотя в данном случае никто не мог бы усомниться в искренности его радости – как-никак, мистер Аттерсон и доктор Ланьон были старинными друзьями, и их пути пересекались ещё в школе, потом они вместе заканчивали один и тот же университет, и ничто уже не могло поколебать того искреннего уважения, какое они испытывали друг к другу. К тому же, (что довольно редко у тех, кто прежде всего уважает самого себя) их общение всегда было очень интересным для обоих. Короче говоря, они очень любили общаться друг с другом.
Какое-то время они живо обменивались интересными новостями, а потом нотариус плавно переключился на тему, столь встревожившую и взволновавшую его.
– Слушай, Ланьон, – обратился он к другу, – Пожалуй, ближе друзей, чем мы, у Генри Джекила, и нет! Мы – его самые старые партнёры!
– Лучше бы остались молодыми! – засмеялся Ланьон, – но, не буду спорить, скорее всего вашими устами глаголет истина. Но к чему вы его упомянули? Я уже забыл, когда последний раз мы с ним виделись!
– Неужто? Как всё запущено! Мне казалось, что вас связывают общие интересы!
– Так раньше и было! Но лет десять назад Генри Джекил стал вести себя очень странно! Его поглотили какие-то нелепые фантазии. В конце концов, само собой разумеется, выбор есть у каждого! Он, по-моему мнению, свернул с верного пути, скажу точнее – путей, и с тех пор наши встречи можно пересчитать по пальцам, в общем, виделись мы с ним дьявольски мало! Все эти антинаучные взбрыки могли бы даже Дамона заставить отрешиться от Финтия! – закончил доктор, багровея и всё больше хмурясь.
Этот всплеск отчасти развеял неуверенность мистера Аттертона, – «Размолвка явно случилась на почве научных несогласий, – мелькнула в его голове мысль, а ввиду того, что его никогда не увлекали научные интересы (за исмключением теоретических воззрений на основы передачи право собственности от одного владельца другому), он с облегчением вздохнул и прибавил, втайне успокаиваясь, – Чепуха какая-то!
Замолкнув не несколько мгновений и дав приятелю успокоиться, мисер Аттерсон почуял моент, когда удобнее всего задать вопрос, ради которого, собственно говоря, и затевался этот визит:
– Слушай! Тебе известен его протеже, некий мистер… Хайд?
– Хайд? – повернул голову Лайвон, – Нет! Никогда о таком не слышал! Может, он послужил заменой мне?
Это было всё, что нотариус Аттерсон смог выудить из своего визита к доктору Лайону, и теперь у Аттерсона было скольк угодно возможностей, испытывая бессонницу, ворочаться на кровати, со всех сторон обсмаковывая полученные им сведения и пытаясь уложить их хоть в какую-то стройную систему, что у него никак не получалось. В таких тягостных раздумьях его застало встающее из-за гор Солнце. Эти полуночные бдения, может быть, потому, что не приводили ни к какому результату, может быть из-за болезненной горячности его мыслей, всё сильнее увязали в какой-то тёмной, непроходимой материи, уводили его в бесконечный запутанный лабиринт, из которого не было никакого выхода.
Колокол церкви, располагавшейся в удобной близости от домовладения Аттерсона, пробил шесть часов, а мистер Аттерсон так и оставался ни в одном глазу, всё сильнее ломая голову над выпавшей ему шарадой, и хотя она сначала зацепила его только своей интеллектуальной стороной, теперь он залипал в ней так, как будто были затронуты его личные мотивы. Эти липкие размышления всё более увлекали, а вернее сказать, порабощали его воображение. Не находя себе места от нервного возбуждения, Аттерсон всё стремительнее вращался на кровати своей закрытой от мира, тщательно зашторенной тяжёлыми коричневыми шторами спальни, не имея сил прогнать от себя полыхающие огненные картины, последовательно пролетавшие перед его мысленным взором и бывшие иллюстрациями удивительного рассказа мистера Энфилда. Его фантазия стремилась разыграться всё более, превращая реальные и очень простые события в непредставимую огненную феерию. Гигантское поле бесконечных Лондонских фонарей загоралось пред ним, и на это поле вступала тёмная фигура, с другого конца от врача бежала маленькая девочка, Вот они сталкиваются и Джаггернаут в человеческом обличье наступает на её лежащее тело и спокойно продолжает движение под фонарями, как будто даже не заметив стоны ребёнка. Эта картина гасла, и вместо неё вспыхивала другая, не менее чёткая и живописная -.он, как птица застывал перед окном роскошного особняка, и заглядывал в спальню, и смотрел через стёкла на лежащего на кровати своего доброго друга доктора Джекила – тот сладко улыбался во сне, так хороши, так сладки были его полночные грёзы. Вдруг дверь его спальни приоткрывалась, и сразу занавеска кровати взмывала вверх, спящий пробуждался и слышал повелительный оклик того, чья грозная, таинственная фигура взрастала пред ним из ночного морока. Ради чего спящий был вынужден вскакивать с постели в такой поздний час и словно слуга, исполнять все желания этого типа? Эта фигура без лица в своих двух ипостасях не оставляла нотариуса всю ночь, и если ему удавалось на короткое время забыться тревожным сном, каждый раз фигура снова и снова тёмной кляксой возникала пред ним. Беззвучно она кралась по тёмным улицам, всё время убыстряя ход, с тем, чтобы в конце концов с нечеловеческой стремительностью нырнуть в бездонные, запутанные лабиринты слабо освещённых фонарями улица, и выворачиваясь на перекрёстках на смежную улицу, всякий раз опрокидывала ребёнка и с осознанной злобой наступала на него, чтобы даже не заметив его, и не слушая стонов, тут же ускользнуть и раствориться в пространстве. У фигуры не было лица, и сколько бы нотариус не пытался взглянуть тёмному контуру в лицо, чтобы опознать и запомнить. Его удивляло, что даже во время сна лицо этого типа было либо скрыто непроницаемой мглой, либо расплывалось перед глазами в бесформенное, клубящееся, расплывающееся пятно прежде чем он успевал рассмотреть ускользающие черты. И в душе нотариуса с каждым явлением этого страшного образа крепло жлание увидеть настоящее лицо этого странного мистера Хайда, желание сильное, притягивающее, практически непреодолимое. Мистер Аттерсон был почему-то уверен, что если ему это удасться, то тайна будет сразу раскрыта, и вся эта загадочная история станет понятной, так всё загадочное, тёмное и не понятное, когда оно предстаёт в ясном свете и детали картины можно хорошо разглядеть. Возможно, тогда наконец проясниться причина такой странной близости, если не зависимости (не всё ли равно, что есть на самом деле) его друга от этого Хайда, а может быть и разъяснит то, что он обязан знать, как нотариус – смысл такой странной оговорки, сделанной завещателем в своём тестаменте. К тому же ему, много пожившему и много видевшему человеку просто интересно взглянуть в глаза человеку, который не знает даже слова «милосердие», один взгляд на которое так ощерился флегматичный и всепрощающий мистер Энсфилд, преисполнившись к нему мгновенной неприязни, переходящей в лютую, неизбывную ненависть.
С этого мгновения мистер Аттерсон не покидал своего наблюдательного поста на торговой улице. Утром ли, до того, как начиналась работа в конторе, в обед ли, когда, казалось, дел невпроворот, а времени в обрез, вечером, под меланхолическим ликом восходящего месяца, при дотошном Солнце и таинственном сумраке фонарей, в часы затишья и час пик нотариус всякий раз оказывался на своём посту.
«Прячься – не прячься, а от меня не скроешься! – с фанатическим упорством твердил он, закусывая губу. Через довольно долгий срок его упорство наконец было вознаграждено. Ясным, ранним вечером, когда холод надвигающейся зимы уже начинал кусать щёки, а улицы благодаря своей необычной чистоте казались бальными залами, в которых яркие фонари рисовали на мостовой и домах свой прихотливый узор из узорчатых пятен света и теней. В десять часов, час закрытия всех магазинов, улочка сразу стала пустой, и вокруг воцарилась могильная тишь, хотя вдали ещё слышался глухое мерное рычание Лондона. Сейчас даже малейшим шум разносился на довольно большие расстояния, пустые тротуары с двух сторон улицы прислушивались к едва слышным отголоскам звуков, которые вырывались на улицу из домов и рассказывали о ночной жизни обыватетелей лучше любых свидетельств, а шарк подошв далёкого пешехода возвещал о его визите задолго до его явления воочию. В этот день мистер Аттерсон провёл на своём посту всего пару минут, как вдруг услышал вдали лёгкий звук каких-то странных своим ритмом приближающихся шагов. Множество раз обходя дозором эту улочку, мистер Аттерсон уже прекрасно знал её аккустические особенности, и не раз уже испытал странное впечатление оттого, когда далёкие шаги человека, сливашиеся до того в невнятный гул, вдруг резонировали и начинали резко выделяться из всех остальных звуков улицы, становились громче и внятнее мощных звуков вибрирующего города. Но никогда ещё этот эффект не звучал столь поразительно резко в его ушах, никогда ещё ничьи шаги так не завораживали его слух, никогда звуки не приковывали вк себе внимание так властно, и ощутив в одно мгновение такую гамму чувств, мистер Аттерсон мигом сообразил скрыться в проёме арки, ощущая суеверное предчувствие абсолютного успеха.
Шаги звучали всё громче, и Аттерсон услышал, как кто-то свернул в улочку. Нотариус высунул голову из ворот и вдруг увидел того, кого, по всей видимости, он столь долго караулил. Это был невысокий мужчина, в простой почти рабочей одежде, но даже находясь на довольно приличном расстоянии, нотариус вдруг поймал себя на том, сколь ему чем-то очень отвратителен этот человек. Да, в этом типе, может быть, в манере его поведения было что-то омерзительное. Такое чувство тошноты он ощутил однажды в детстове, когда в мастерской напротив раздались звуки, как будто пилили пилой по стеклу. Пересекая мостовую наискось, неизвестный направлялся прямо к двери очень торопливо, вероятно, он очень спешил, на ходу вытаскивая из кармана длинный ключ, точно так, как вытаскивает хозяин, возвращающийся в свой дом. Когда он проходил мимо ворот, мистер Аттерсон выступил вперёд и ткнув его пальцем в плечо, сказал:
– Мистер Хайд? Не так ли?
Нотариус Аттерсон почуял, как целая волна ненависти прошла через него, а мистера Хайда перекосило, он стал пятиться и втянул в себя голову от испуга. Однако этот испуг длился только какое-то мгновение, и даже не оглянувшись на нотариуса, он ответил в олимпийским спокойствием:
– Да, вы угадали! Меня зовут именно так! Чем обязан?
– Я полагаю, вы хотите войти внутрь? – ответил нотариус, – Я старинный друг доктора Джекила! Я мистер Аттерсон с Гонт-Стрит! Я полагаю, вы уже слышали моё имя и, коль нам повезло столь удачно столкнуться, позволите войти вместе с вами!
– Заходить вам не стоит, ведь доктора Джекила сейчас нет дома! – спокойно ответил Хайд, подув в ключ, а потом, так и не соизволив поднять голову, добавил, – простите, а меня вы откуда знаете?
– Прежде чем я удовлетворю ваше любопытство, – сказал мистер Аттерсон, – не соизволите ли вы оказать мне одну любезность?
– Любезность? Какую же, если не секрет?
– Позвольте мне взглянуть на ваше лицо?
Мистер Хайд, помолчал несколько мгновений и, словно испытывая сильные колебания, наконец решился на что-то, и с дерзким, вызывающим видом поднял голову. Какое-то время они пристально смотрели друг другу в лицо.
– Мне теперь будет легко узнать вас! – сказал мистер Аттерсон, – Это может очень пригодиться в будущем!
– Да, – миролюбиво ответил мистер Хайд, – пожалуй, вы правы! Неплохо, что мы так удачно столкнулись! Вообще, а propos, надо на всякий случай дать вам мой адрес…
Не дожидаясь согласия, он быстро назвал улицу в Сохо и номер дома.
– Всемогущий боже! – мелькнула в голове мистера Аттерсона ужаснувшая его мысль, – Неужто и ему пришла в голову мысль о завещании? – но он нашёл в себе силы сдержать своои эмоции, и только выразил скомканую благодарность за любезное предоставление адреса.
Мистер Хайд же уткнулся своими буравящими глазками в лицо Аттерсона и потребовал:
– А теперь доложите мне, как вы меня узнали?
– Есть описание!
– И кто же этот описатель, позвольте узнать?
– Общие друзья есть у многих!
– Общие? Друзья? – с унитазным сипом сказал Хайд, – И кто это, позвольте осведомиться?
– Ну, Джекил, к примеру! – пробормотал нотариус.
– Не лгите! Он вам не сказал ни слова! – налившись кровью, как клоп, воскликнул мистер Хайд, – Мне, что, и вас во лжи прикажете подозревать?
– Я очень попрошу вас фильтровать… подбирать выражения, – прикинулся дурачком мистер Аттерсон.
Мистер Хайд выплюнул в лицо мистеру Аттерсону совершенно омерзительный смешок и с какой-то космической скоростью отперев дверь, мигом скрылся за ней. Не ожидавший такого финала разговора нотариус ещё долго стоял перед дверью, как будто не веря, что мистер Хайд испарился, и на лице его переливались чувства досады и недоумения. Он как будто не осознавал, что произошло, потом медленно повернулся и побрёл по улице, то и дело останавливаясь и хлопая руками, как человек, затрудняющийся решить, что ему делать. Не была ли задача, которую ему предстояло решить, вообще разрешимой? Вид мистера Хайда вызывал слишком сильные, слишком отвратительные ощущения. Его лицо, как какой-то зеленоватой патиной, было налито нездоровой бледностью, он был слишком коренаст, это, может быть, и было одной из причин того, что он производил впечатление урода, хотя, сколько ни пыжился нотариус, пытаясь припомнить в нём признаки явного уродства, этого ему не удалось. Он улыбался какой-то деланной, механической, противной улыбкой, поведение его при разговоре с нотариусом было не то, чтобы просто натянутым – противоестественным, особенно бросалось в глаза странное сочетание его забитости, робости и в то же время нагловатого хамства, говорил он едва слышным голосом, прерывисто, иногда заглатывая слова – не было ничего, что могло бы вызвать симпатию и уважение. Понятно, почему мистерук Аттерсону и в голову не могло прийти завести дружбу с таким типом, и он после этого разговора был преисполнен только отвращения, брезгливости и гадливого страха, как будто столкнулся на лесной тропинке с греющейся на Солнце гадюкой или гигантской сколопендрой на стене своего дома.
– Вот где бы собаке порыться! – почесал он голову, – Вот где! Нет, здесь что-то совсем другое! – растерянно бормотал нотариус, то останавливаясь в нерешительности, то пробегая вперёд, – Непонятно! Нет, здесь не то, здесь совсем что-то иное, чего я пока совсем не могу понять! Но, бог ты мой, в этой твари нет ни одной человеческой черты! Он только старается придать себе человеческий облик, а на деле это не человек! Троглодит какой-то! Натуральный троглодит! Но, хотя, возможно, что мы просто противоположные по характерам человеческие особи и поэтому испытываем такую агрессивную антипатию друг к другу! Возможно, здесь его чёрная, преступная душа, несмотря на его попытки завуалировать впечатление, как иголка из мешка, вылезает наружу, вылезла наружу, прорвав его телесный облик, и столь диким, ужасным образом трансформировала, преобразила его облик. Да, с этим трудно спорить, скорее всего было именно так, и ты, мой бедный Гарри Джекил, как жаль, что именно мне перидётся открыть тебе, что под оболочкой твоего друга явственно вытупает лик самого Сатаны.
Он уже подходил туда, куда намерен был попасть. Он свернул за угол дома и пред его глазами предстала площадь, застроенная старинными, прекрасной архитектуры особняками, впрочем, похоже отжившими свой век и превратившимися в обреталище разных вселившихся сюда людей – резчиков, архитекторов, нотариусов, давно коррумпированных адвокатов и всяких тёмных, непонятных личностей. Лишь одному из этих домов, второму от угла удалось в полной мере сохранить своё прежнее благородство и остаться аристократической персоной в окружении опустившихся, облупленных ублюдков. Особняк оставался в идеальном состоянии и дышал богатством и благоустроенностью. Вот перед одним из входом в него и остановился внезапно мистер Аттерсон. Хотя весь дом уже и был погружён в абсолютную тьму, полукруглое окно над входом светилиось неярким медовым светом. Мистер Аттерсон постучал в дверь, и пожилой, прекрасно одетый слуга тут же отворил ему.
– Пул! Дома мистер Джекил? – быстро спросил нотариус.
– Сейчас осведомлюсь, мистер Аттерсон! – ответствовал ему Пул, запуская нотариуса в очень уютную, с каменными полами, низким потолком, и как это бывает в сельских помещичьих усадьбах, прихожую, где жарко пылали дрова в чудовищного размера камине. Здесь явно обретался отнюдь не бедняк. Вдоль стен стояли роскошные резные дубовые шкафы и дорогие горки.
– Вы дождётесь здесь, у камелька, сэр, или вам поставить лампу в столовой?
– Не стоит беспокоиться, Пул! Я побуду здесь, если позволите! – ответил нотариус, и застыл, опираясь на высоченную каминную решётку. То место, где теперь ожидал приёма нотариус, была гордостью его друга, доктора Джекила, да и самому Аттерсону она представлялась самым приятным помещением во всей Англии. Но сегодня она не казалась Аттерсону таковой, холод царил в его душе, и куда бы он ни бросал взгляд, изо всех углов выглядывала мерзкая физиономия Хайда, и к его удивлению, теперь он не испытывал никаких иных чувств, кроме тошнотворного отвращения к жизни, и чем дольше продолжалось его ожидание в совершенно мёртвом доме, тем всё более угрожающим казалось ему его окружение – даже в языках огня, весело метавшихся в очаге, ему мерещилась какая-то угроза, как и в отблесках огня на стенах и в трепете теней на потолке. Только когда послышалось шарканье подмёток Пула, и он сам появился в дверном проёме, мистер Аттерсон вдруг с тайным стыдом ощутил чувство сильного облегчения. Пул поставил его в звестность, что доктор Джекил куда-то ушёл.
– Пул… – неуверенно сказал нотариус, – Мне пришлось увидеть, что мистер Хайд вошёл в дверь секционной… Там всё нормально? Ну, раз уж доктора Джекила дома нет…
– Ничего страшного, сэр! У мистера Хайда есть свой ключ!
– Доктор Джекил, как я вижу, очень доверяет этому юноше… Пул…
– Да, сэр, это так! – ответил дворецкий, – Мы должны беспрекословно выполнять его указания!
– Если мне изменяет память, мне так и не пришлось встречаться здесь с мистером Хайдом? – осведомился Аттерсон.
– Нет! Ничего странного, сэр! Он никогда здесь не обедал! – преувеличенно напыщенно сказал дворецкий, – Он, по своему обыкновению, практически никогда не бывает у нас дома, он всегда приходит и уходит через лабораторию!
– Хорошо, Пул! Всего доброго!
– Спокойной ночи, мистер Аттерсон!
Аттерсон вышел на улицу озадаченным, и с отягощённой душой отправился домой.
«О, мой бедный, бедный доктор Джекил, – билась в мозгу мысль, – Похоже над ним сбирается страшная беда! Молодость его прошла в бурных приключениях, вроде бы это было уже страшно давно, но счёт Провидения не знает срока давности. Несомненно, тут вот что: пятно какого-то древнего проклятия, вражий сглаз, тайная язва давнишнего греха, неминуемая кара, которая настигла его спустя много лет после того, как он обо всём забыл, тогда как тщеславное любование позволило ему простить себя…»
Нотариус уже не мог отрешиться от своих мыслей, и они всё больше пугали его. Испуганный этой мыслью, нотариус замер и стал копаться в чердаке своего прошлого, боясь на что-то наткнуться в тёмных углах, уже почти ужасаясь того, что как чёрт из табакерки, оттуда выпрыгнет какая-нибудь отвратительная штуковина. И это при том, что он наверняка знал, что мало у кого есть такой безупречный послужной жизненный список. И хотя он знал о том, что ничего крамольного там нет, всё равно, в этой обстановке воспоминания о малейших упущениях и дурных поступках много раз погружали его в ад самобичевания. Сейчас единственным самооправданием ему служили постоянные напоминания совести о том, от скольких пучин, скольких острых углов и скольких проступков он смог в своё время удержать себя. Затем пред ним снова возникла тень Хайда, и вдруг луч надежды осветил потёмки его души.
«Это не просто так! Этим штукарём Хайдом следует заинтересоваться, как ни крути, глядя на него, совершенно отчётливо видно, что он не так прост, у него есть какие-то преступные секреты, без сомнений, это чёрные секреты, рядом с которыми прегрешения Джекила предстанут солнечным нимбом. Оставить всё так, как есть, невозможно! Как страшно даже представить, что эта мразь крадётся к изголовью Гарри! Что тогда будет? Гарри! Мой Гарри! Бедный Гарри! Проснётся ли он как-нибудь после такого? Ему грозит немыслимая опасность, ведь узнай этот фрукт про его завещание, не захочется ли ему ускорить получение этого наследства? О, да, без моего вмешательства тут не обойтись! – решительно добавил он, – Позволь он… Только бы он послушал меня! Только бы!
И перед умственных взором мистера Аттерсона снова, как строки на огненном гигантском плакате, взмыли пылающие в небесах условия странного завещания друга.
Спокойствие доктора Джекила
Недели через две череда счастливых обстоятельств позволила доктору Джекилу дать один из самых запоминающихся приёмов, в каких мне только приходилось участвовать. На обед было приглашено шесть старинных друзей хозяина, все как на подбор люди самые почитаемые в обществе, умницы и к тому же великие ценители хороших вин. Когда гости стали расходиться по домам, мистер Аттерсон, воспользовавшись каким-то смешным предлогом, остался и уходил последним. Так получалось, что это не вызвало никакого удивления, он традиционно задерживался у хозяина и всегда покидал его дом последним. Там, где тебя любят, тебя любят вместе со всеми твоими странностями и причудами. Именно так любили все мистера Аттерсона, хотя, казалось бы, сухой нрав какого-то нудного нотариуса вряд ли мог привлекать многих. Но меж тем хозяин дома почти всегда просил суховатого в обращении нотариуса задержаться, и тот всегда стоял позади, когда хозяин выпроваживал и раскланивался с покидающими его гостями. Как ни странно, многим нравился этот контраст, контраст между весёлым времяпровождением и мгновенно наступавшим в его обществе лёгким одиночеством, подобный контрасту между горячей парилкой и охлаждением в проруби. В обществе с нотариусом было так тихо, так покойно, и здесь по другому оценивалось безудержное веселье былых минут, по другому ценилось его оплодотворяющее буйство молчание. Доктор Джекил вполне был подчинён господстующему в этом обществе правилу, и теперь с удовольствием располагался с другой стороны камина. Доктор Джекил был довольно крупным, ладно скроенным, вполне ещё моложаво выглядящим мужчиной лет около пятидесяти, обладателем лица скорее не открытого, что было бы странно в этой среде, но умным и доброжелательным, и когда он рассаживался в своё кресло, мало кто бы мог сомневаться, что он испытывает к мистеру Аттерсону какие-то иные чувства, кроме самый глубокой искренней и тёплой привязанности.
Мистер Аттерсон сразу взял быка за рога и приступил к разговору.
– Джекил! – сказал он, глядя прямо в глаза друга, – Мне очень давно уже надо было переговорить с вами! Речь идёт о вашем завешании, как вы поняли!
Будь у камина сторонние наблюдатели, от них бы не ускользнуло, как дорктора кольнула эта тирада, и он напрягся, может быть оттого, что тема беседы была ему чем-то очень неприятна, однако он старался не показать своих истинных чувств и отвечал Аттерсону с шутливой непринуждённостью.
– О-у! Бедняга Аттерсон! – в сердцах откликнулся он, – Что делать, дружба дружбой, но уж простите меня, на сей раз вам, похоже, с клиентом крупно не везёт! Могу только представить, как вы расстроились, едва раскрыв конверт с моим завещанием! К несчастью, мне порой приходиться быть причиной беспокойств для моих друзей, и это огорчало меня. Это касается не только вас, мой милый друг, но и к примеру доброго Лэньона, которого просто перкорёжило от моей учёной ереси, как он выразился. Если бы вы знали, каким чудесным человеком я его почитаю! О, не надо хмуриться, прошу вас! Он чудесный, да, не спорьте со мной, в моих словах нет ни йоты иронии, и стоит только огорчаться, что нам надо видеться в последнее время столь редко, это надо делать много чаще, но по здравому размышлению, он всё равно остаётся мерзким педантом, и его несравненные достоинства – только напыщенность, раздутое невесть чем самомнение и глупость! Мне ни в ком не приходилось так разочаровываться, как в нём!
– Вы же прекрасно в курсе, что эта бумага не могла не произвести на меня самое странное впечатление, не так ли? – мистер Аттерсон упрямо направлял разговор в прежнее русло, не считаясь с намереньем собеседника улизнуть от темы.
– Завещание? Моё? – округлил глаза доктор, и его голос окреп и стал почти металлическим, – Да… Разумеется, в курсе! Если мне не изменяет память, вы уже как-то говорили мне об этом!
– Я завёл этот разговор, чтобы ещё раз сказать вам об этом! – холодно сказал Аттерсон, – Я не говорил вам другое – мне стало кое-что известно о мистере Хайде!
Большое, ладное лицо доктора Джекила как будто сморщилось и стало бледно. Его глаза вдруг замерли, стали серьёзны и потемнели.
– Я больше не хочу ничего знать об этом! – сказал он, Если мне память не изменяет, мы сразу договорились избегать этого вопроса!
– Однако то, что мне привелось узнать, мерзко!
– Что это может изменить? Вы ведь не знаете, в каком щекотливом положении я уже давно нахожусь! – вдруг сбился он, поперхнувшись и заговорив каким-то незнакомым дискантом, – В крайне неприятном и щекотливом! Поверьте, в ужасно щекотливом и странном! Но дело обстоит так, что тут слезами делу не поможешь!
– Джекил! – серьёзно произнёс Аттерсон, – Вы знаете меня возможно лучше, чем я знаю вас! Вы знаете, сколь возможно положиться на меня! Но вам следует довериться мне до конца, только в этом случае, можете не сомневаться в этом, я смогу помочь вам!
– Дорогуша Аттерсон, – ответил доктор Джекил крайне деликатно, – Разумеется, вы слишком добры, добры так, Что у меня нент слов благодарности, чтобы выразить вам мои чувства признательности! Нет пределов моего доверия вам, и я бы не стал поручать вам своё завещание, если бы моё преклонение преклонение перед вами было не столь безусловно! Я полагаюсь на вас даже больше, чем на себя, но поверьте, у меня нет никакого выбора! Но тут дело совсем в другом, чем вы думаете, и всё не так скверно, как вам кажется, я скажу вам прямо и начистоту, чтобы вы пришли в себя и немного успокоились, стоит мне только захотеть и ноги мистера Хайда здесь не будет, никто и никогда больше его не увидит. Я очень легко могу избавиться от него! Я благодарю вас за вашу заботу и внимание! Но… есть ещё одна вещь, возможно более важная для меня, я хочу прямо сказать вам, Аттерсон, и полагаю, вы находитесь в здравом уме, чтобы уразуметь меня правильно – это целиком и полностью моё частное дело, и я очень, очень прошу вас в него не вмешиваться!