Дада – искусство и антиискусство. Вклад дадаистов в искусство XX века бесплатное чтение
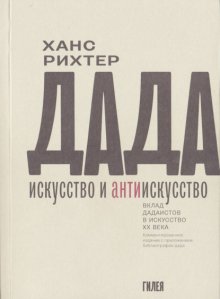
Перевод осуществлен при финансовой поддержке Гете-Института
Перевод с немецкого выполнен Татьяной Набатниковой по изданию:
Hans Richter. Dada – Kunst und Antikunst. Der Beitrag Dadas zur Kunst des 20. Jahrhunderts. Köln: Verlag M. Dumont Schauberg, 1964
Научная редакция, редакция перевода, примечания и библиография Константина Дудакова-Кашуро
© Ханс Рихтер, наследники, 2014
© Книгоиздательство «Гилея», перевод, примечания, 2014
От научного редактора
Первая попытка историзации дадаизма как самостоятельного и цельного феномена искусства и культуры была сделана одним из участников цюрихского, а затем берлинского дада – Р. Хюльзенбеком еще в 1920 г. Его небольшая книжка “En Avant Dada. Eine Geschichte des Dadaismus” представляла собой самый ранний монографический очерк истории дадаизма, хотя и не вполне удачный с точки зрения именно исторического анализа. Другим примером можно считать большую статью участника парижского дада, поэта Ж. Рибмон-Дессеня “Histoire de Dada”, опубликованную в нескольких номерах журнала “La Nouvelle Revue Française” за 1931 г., которая была посвящена почти исключительно парижскому периоду. Наконец, первым полноценным монографическим исследованием истории дада стала небольшая книга Ж. Юнье “L’aventure Dada 1916–1922”, изданная с предисловием Т. Тцара в 1957 г. Юнье – поэт, критик, художник и кинорежиссер – был близок кругу сюрреалистов, и, несомненно, французский опыт дада, и шире, сюрреалистический контекст не мог не отразиться на взглядах автора. Кроме того, в исследовательском фокусе Юнье находилось, главным образом, изобразительное искусство. Таким образом, даже учитывая тексты Хюльзенбека, Рибмон-Дессеня и Юнье, а также каталоги ряда выставок, и, конечно, антологию текстов “The Dada Painters and Poets” (1951), вышедшую под редакцией американского художника Р. Мазеруэлла (в сборник включены и упоминаемые выше тексты Хюльзенбека и Рибмон-Дессеня в переводе на английский, см. библиографию в наст. изд.), можно сказать, что книга Рихтера, изданная в 1964 г., стала основой для всех последующих работ по истории движения. Истории, которая, во-первых, полностью отделена от сюрреализма (к началу 1960-х было написано уже несколько общих работ по истории сюрреализма, тогда как дадаизм рассматривался, прежде всего, как его предтеча, причем плохо изученный и мифологизированный). Во-вторых, хотя это и было сделано ранее Юнье, структурирована последовательно по нескольким периодам (цюрихский, нью-йоркский, берлинский, ганноверский, кёльнский, парижский, послевоенный, связанный с различными проявлениями т. наз. неодадаизма). В-третьих, которая излагается с максимально возможной объективностью, а значит без акцентирования собственной роли автора в этой истории и без излишнего углубления во французский материал. Наконец, впервые во всей культурно-исторической полноте открылось наследие швейцарского-немецкого дадаизма. Именно сочетание этих черт заложило фундамент всех будущих многочисленных историй дадаизма, а также обзоров: будь это выставочные экспозиции и каталоги к ним или антологии текстов. Вместе с тем, история Рихтера имеет и очевидное преимущество по сравнению с появившимися позднее более полными и детальными монографиями по истории движения. Оно заключается в том, что Рихтер (в отличие от Юнье) был не только современником дада, но и активным его участником, свидетелем и цюрихского, и берлинского периодов, контактировавшим также с дадаистами в Кёльне и в Париже. Опыт инсайдера, с одной стороны, и большие теоретические способности Рихтера, с другой, сделали «Дада – искусство и антиискусство» уникальным исследованием, открывшим дадаизм во всем его многообразии как широкому читателю, так и исследователям, и предопределившим пути его научного осмысления. Способствовали этому и многочисленные отрывки оригинальных текстов с богатым иллюстративным рядом, и переводы книги на другие языки (прежде всего, на английский и французский, 1965 г.), и многочисленные ее переиздания.
Русскоязычное издание отличается от других подробным комментарием, приложением с библиографией, уточненными подписями к репродукциям (исправлены как названия работ, так и датировки); там, где было возможно, воспроизводятся репродукции более высокого качества, чем в оригинале и переизданиях. Перевод книги на русский язык сверен также по английской версии, которая, очевидно, редактировалась самим Рихтером, так как в некоторых местах несколько отличается от немецкого оригинала.
К. В. Дудаков-Кашуро
Предисловие
Года два назад, когда я навещал в Париже моего старого товарища по дада Тристана Тцара, он сказал мне на прощанье, так сказать, в качестве последнего напутствия:
– Не забывай, что элемент полемики всегда играл в дада большую роль.
Несомненно, это так, и прежде всего в том, что касается литературной стороны дада. Но, к сожалению, до сих пор дада слишком часто и слишком избыточно понималось как полемически-литературный стиль, имеющий целью разрушение существующих форм. На самом же деле в тылу крикливого литературного движения происходило нечто другое, неполемическое: полное перелопачивание изобразительного искусства, которое было радикальнее, чем в литературе (хотя и находилось в постоянной взаимосвязи с ней).
Жизнь, которую мы вели, наши заблуждения и подвиги, наши провокации, какими бы полемическими и агрессивными они ни были, всё равно оставались постоянно связанными с неутомимым поиском. То, что мы искали, было антиискусство, новое мышление, новое восприятие, новое знание: новое искусство в новой свободе!
Чтобы описать этот поиск, эту свободу,
людей, которые делали дада,
их повседневные переживания,
их событие [Zusammensein],
их вдохновение,
их духовную независимость,
их художественные открытия,
их веселое презрение к банальности,
и отторжение, да что там – ненависть, которую порождало это презрение…,
я не смогу придерживаться норм академического труда из области истории искусства, а буду следовать скорее моим личным воспоминаниям и воспоминаниям моих еще здравствующих товарищей тех времен. Сведения и факты тех лет, высказывания и лозунги, антилозунги, теории и произведения искусства и антиискусства – всё это есть приметы живого дада, – этого бунта искусства против искусства.
Поскольку я и сам был вовлечен в этот бунт, то попытаюсь рассказать, что и как я переживал, как слышал и как помню.
Я надеюсь быть справедливым по отношению к тому времени, к истории искусства и к моим умершим и живым друзьям.
Введение
Сегодня, по прошествии более чем пятидесяти лет, образ дада всё еще полон противоречий. Это неудивительно. Дада приглашало к недоразумениям, создавало их и поддерживало всякого рода путаницу: из принципа, по настроению, из-за присущей ему оппозиционности.
Дада пожало ту путаницу, которую само же посеяло.
Но эта путаница была лишь ширмой. Наши провокации, демонстрации и оппозиции были лишь средством привести обывателя в состояние ярости, а через ярость – к пристыженному пробуждению. То, что, собственно, двигало нами, было не столько шумом, протестом и «анти» само по себе, сколько совершенно элементарным вопросом тех дней (как и сегодняшних): КУДА?
Дада было не направлением в искусстве в традиционном смысле, – то была гроза, разразившаяся над искусством того времени, как война над народами. Она разразилась без предупреждения в душной атмосфере сытости… и оставила после себя новый день, в котором энергии, скопившиеся в дада и излученные им, проявились в новых формах, новых материалах, новых идеях, новых направлениях, новых людях и были обращены к новому человеку.
Дада не имело единых формальных признаков, как другие стили. Но оно обладало новой художественной этикой, из которой затем – весьма неожиданно – возникли новые формы выражения. Эта новая этика находила в разных странах и в разных индивидуальностях совершенно разное выражение в зависимости от внутреннего ядра, темперамента, художественного происхождения, художественного уровня конкретного дадаиста. Она являлась то позитивным, то негативным образом, иногда как искусство, а потом снова как отрицание искусства; иногда глубоко морально, а иногда совершенно аморально.
Понятно, что историки искусства, в силу профессии воспитанные на формальных признаках определенных стилевых эпох, не знают, что делать с противоречивой сложностью дада. Они хотя и готовы были измерять длину, ширину и глубину дада, но лишь с трудом управлялись с его содержанием. Это можно сказать как о тогдашних современниках, так и о мальчиках, которые в то время еще только ходили в школу. Обученные искусствоведы описывают дада как «переходную стадию» искусства. Журналисты принимают шум, учиненный дада, за его содержание. Сами дадаисты рассказывают очень добросовестно каждый про свой вклад в дада с той скромностью, которая никогда не была присуща сути этого движения. Так из дада поначалу получалось изрядно расплывчатое зеркальное отражение его самого. За минувшее время разбилось и само это зеркало. Но если кто находил осколок, он мог вложить туда, исходя из своих собственных эстетических, национальных, исторических или личных убеждений и предпочтений, СОБСТВЕННУЮ картину дада. Так дада становилось мифом.
Но дада являлось никак не мифом, а вполне реальным делом, которое двигало нами всерьез и каждодневно. Чтобы сегодня понять, насколько серьезно и реально было дада, пришлось бы сперва воспроизвести те правила игры, которые обеспечили бы известную меру верности истории. Поэтому всюду, где сведения и факты о дада буйно поросли всяческими толкованиями, я хотел бы положить в основу моего изображения три различные категории доказательства фактов:
1. сведения и факты, зафиксированные публикациями, дневниками и т. п. из того времени;
2. сведения и факты, на которые хотя и отсутствуют документы времени, но которым есть самое меньшее два незаинтересованных свидетеля или свидетельства;
3. сведения и факты, которые могут быть подтверждены исключительно автором или другом.
Я далек от того, чтобы дискредитировать правдивость тех или иных свидетельств или персон. Некоторые факты и события сегодня при всем желании не поддаются установлению иначе, как через свидетельство самого автора. Никто из нас не думал, что дада – это «навек». Напротив, мы ценили мгновение и проживали современность, вместо того чтобы ее фиксировать. То, что, несмотря на это, сохранилось так много свидетельств, доказывает, что среди беззаботных стрекоз водились и озабоченные муравьи.
I. Дада в Цюрихе
1915–1920
Где возникло дада?
Чтобы восстановить полотно сегодняшней картины дада, сотканное из недоразумений и путаницы, надо поставить ряд вопросов. Ответы вряд ли удовлетворят всех моих старых дадаистских друзей, равно как и тех читателей, для которых дважды два всегда равно четырем. Иногда мое собственное понимание и жизненный опыт будут единственным мостиком там, где сведения и факты отсутствуют или сомнительны.
Где и как, собственно, возникло дада, сегодня установить почти так же трудно, как место, где родился Гомер. Так, во всяком случае, пишет Рауль Хаусман, главный шеф берлинского движения дада, в своем “Courrier Dada” в 1960 г. 1 Он, правда, полагает, что сам он, вообще-то, открыл дада еще в 1915 г.!? Клод Ривьер в “Arts” (19.3.1962) автором дада называет Пикабиа: «В 1913 г. мы находим у него (Пикабиа) в ходе поездки в Юрские горы первые признаки того, что позднее назовут движением дада»!? Альфред Барр-младший, директор музея Современного искусства в Нью-Йорке, с такой же долей правоты, как и неправоты, утверждает, что дада «началось в 1916 г. в Нью-Йорке и Цюрихе» 2. Скульптор Габо 3 обращает мое внимание на дадаистские работы в России, которые были созданы еще в 1915 г. Итальянские футуристы еще в 1909 г. публиковали манифесты, похожие на дадаистские как одно яйцо на другое: и полиграфическое исполнение а ля дада, и шум среди общественности по образу и подобию дада 4. Даже Андре Жида 5 порой называли «первым дадаистом». Марк Твен уверял (как это может только дадаист), что человек есть не что иное, как обычная кофемолка… А что с Бриссе, с Альфредом Жарри, Кристианом Моргенштерном, Аполлинером и всеми остальными, о которых рассказывает Андре Бретон в своей «Антологии черного юмора» 6? Где граница? Не был ли и вовсе пресловутый Шульце или Мюллер старинных преданий тем Геростратом, который сжег храм Артемиды в Эфесе, чтобы расшевелить своих сограждан и обратить на себя их внимание, тем дадаистом, который не имел никаких преимуществ перед берлинскими или парижскими дадаистами, так же, как и они перед ним?
Можно без особого труда найти и в отдаленных, и в ближних временах дада-тенденции и дада-манифестации, даже не упоминая при этом дада. Как-никак, твердо установлено, что в 1915–1916 гг. повсеместно в разных частях земли показывались на свет дня или ночи схожие проявления, которые по всем признакам подходили под марку «дада».
Однако лишь ОДНА из этих манифестаций стала движением в силу той магии личностей и идей, которая явно необходима для образования такового. Необычайно уплотненная, полная напряжения атмосфера в нейтральной Швейцарии посреди большой войны составила подходящий фон. Это движение, которое притягивало к себе и влекло за собой, возникло в Цюрихе в «Кабаре Вольтер» в начале 1916 г. Ни национальная, ни эстетическая, ни историческая интерпретация или манипуляция не могли ничего изменить в этом, какие бы определенные установки ни подсовывались тому или другому. Собственный корреспондент литературного приложения к «Лондон Таймс» от 23 октября 1953 г. был совершенно прав, когда вспоминал о том, что «тот факт, что дада начало свою жизнь в Цюрихе, а не в Нью-Йорке или Париже, характерен, поскольку движение многими своими свойствами обязано примечательной атмосфере, которая в то время царила в городе». Это был город в центре НЕ-войны, в котором могло создаться такое положение дел, заданное личностями совершенно разного сорта, которое и привело к «движению». Только в столь плотной атмосфере могли сойтись в деятельном единении столь принципиально разные люди. Прямо-таки казалось, будто разнородность, даже несоединимость характеров, происхождений, биографий дадаистов и создает напряжение, которое, в конце концов, и направило энергию случайно встретившихся людей в единое динамичное русло.
Действенность каждой отдельно взятой частицы этой энергии создает в целом реальную, немифологизированную историю дада. Тут лежит ключ для того «единства противоположностей», которое в дада – как художественном движении антиискусства, как в духовном феномене впервые становится реальностью истории искусства.
Как возникло дада?
К началу Первой мировой войны в Швейцарию приехал весьма истощенный, слегка рябой, высокий и очень худой писатель и театральный режиссер. То был Хуго Балль со – своей подругой Эмми Хеннингс, которая умела петь и читать со сцены стихи (см. илл. 1 и 2). Он принадлежал к народу мыслителей и поэтов, в то время занятому совсем другими вещами. Но сам Балль оставался и тем, и другим; он был философ, романист, артист кабаре, поэт, журналист и музыкант.
- Я не любил гусар мертвоголовых
- (со знаком черепа и костей 7),
- И минометы с девичьими именами,
- И когда всё же настали великие дни,
- Я незаметно устранился.
Нельзя понять дада, не поняв то духовное напряжение, в каком дада росло, не проследив первые шаги и пред-шаги, не пройдя по следам и духовным отпечаткам, оставленным этим примечательным скептиком (дневники этого неординарного человека были изданы после его смерти его женой Эмми Хеннингс в 1927 г. под названием «Бегство из времени» 8). Ведь Балль стал подсознательно – или из-за мук совести – катализатором, который все элементы вокруг себя объединил в человеческую связь, и они, в конце концов, и составили дада.
Много лет спустя, когда он уже лежал, погребенный, в Тичино, в Сан-Аббондио, маленьком местечке, где он жил со своей женой, я впервые узнал о его дальнейшей жизни. Он полностью отрекся от крайностей своей юности, стал очень религиозен, жил с бедными крестьянами, будучи еще беднее, чем они, и помогал им, чем мог. Спустя и 14 лет после его смерти люди в Тессине всё еще с восхищением и признательностью говорили о его порядочности и доброте.
В его неподкупном поиске СМЫСЛА, который можно было бы противопоставить бессмысленности времени, можно не сомневаться. Он был идеалист, чья жизненная вера не пострадала от его глубочайшего скептицизма в отношении окружающего мира.
1 февраля 1916 г. Балль открыл «Кабаре Вольтер». У него была договоренность с владельцем бара «Майерай», господином Эфраимом, встреченным им в Нидердорфе – не столь достославном квартале весьма достославного города Цюриха. Посредством организации литературного кабаре он обещал господину Эфраиму повысить продажу пива, сосисок и бутербродов. Эмми Хеннингс пела шансон. Балль аккомпанировал ей на пианино. Личность Балля тотчас привлекла группу художников и единомышленников, которые исполнили надежду владельца пивной.
Я еще не раз буду цитировать дневники Балля, поскольку не знаю лучших свидетельств эстетических, моральных и философских источников того бунта дада, который исходил из «Кабаре Вольтер». Вполне возможно, что кто-то из других дадаистов – Арп, Дюшан, Хюльзенбек, Янко, Швиттерс, Эрнст, Сернер или еще кто-то – проделал сходный путь внутреннего развития, вступал в те же схватки, был терзаем теми же сомнениями… но никто, кроме Балля, не дал документального доказательства этих внутренних столкновений. Никто даже отрывочно не пришел к сходным ясным формулировкам, как Балль, поэт и мыслитель.
Чтобы понять климат, в котором возникло дада, надо вспомнить о праве свободного проживания, которое тогда действовало в Цюрихе, невзирая на мировую войну. «Кабаре Вольтер» играло и шумело в Шпигельгассе, номер 12, а это значит, что в том же уголке, где кабаре устраивало свои ночные оргии с песнями, стихами и танцами, жил Ленин 10. – Радек, Ленин, Зиновьев могли перемещаться свободно. Я несколько раз видел Ленина в библиотеке, а однажды в Берне, на одном собрании слышал его выступление. Он хорошо говорил по-немецки. Мне кажется, швейцарские органы власти были настроены куда более недоверчиво по отношению к дадаистам – ведь те могли в любой момент учинить что-нибудь непредсказуемое, – чем по отношению к этим спокойным ученым русским… хотя последние планировали мировую революцию и, к удивлению властей, в конце концов ее и осуществили.
Заметка в прессе, 2 февраля 1916 г.:
«Кабаре Вольтер. Под этим названием сгруппировалось общество молодых художников и литераторов, цель которых – создать центр для развлечения художников. Принцип кабаре выбран потому, что во время ежедневных встреч происходят музыкальные и декламационные выступления деятелей искусства, пришедших сюда в качестве посетителей, приглашается сюда и более молодая художественная поросль Цюриха с тем, чтобы тоже проявляли себя со своими предложениями и произведениями без всякой оглядки на какое-то особое направление».
Хуго Балль. «Кабаре Вольтер». Первая публикация дадаизма
(Ball H. Cabaret Voltaire: Eine Sammlung künstlerischer und literarischer Beiträge. Zürich: Maierei, 1916 9)
И они себя проявляли.
5 февраля 1916 г. Балль записывает: «Заведение было переполнено; многие не могли найти свободное место. В 6 часов вечера, когда еще не смолк перестук молотков и прикреплялись футуристические плакаты, появилась депутация восточного вида из четверых человечков, с папками и картинками под мышкой, тактично кланяясь. Они представились: Марсель Янко, художник, – Тристан Тцара, – Жорж Янко и четвертый господин, имя которого я не запомнил. Арп по случайности тоже был там, и понимание возникло без лишних слов. Скоро восхитительные „Архангелы“ Янко висели среди прочих красивых вещей, и Тцара в тот же вечер читал стихи старого стиля, которые он очень мило нарыл у себя в карманах».
Марсель Слодки. В кабаре. 1916. Гравюра на дереве
Кабаре Балля за одну ночь стало цюрихской сенсацией:
КАБАРЕ
- Эксгибиционист расставил перед занавесом ноги,
- а Пимпронелла дразнит его красной комбинацией.
- Коко-зеленый-бог громко хлопает среди публики.
- Сейчас войдут в охоту старшие козлы отпущения.
- Тцингтара! Это длинный духовой инструмент.
- Из него вырываются брызги слюны. На нем написано: «Змея».
- Тут все укладывают своих дам в футляры от скрипок
- и извиняются. Им становится боязно.
- У входа сидит жирная Камедина.
- Она вбивает себе в бедра золотинки, чтоб блестели.
- Дуговая лампа выкалывает ей глаза.
- И горящая крыша падает на ее внуков.
- С заостренного уха осла ловит мух
- клоун, у которого другая родина.
- Через трубочки, которые зеленовато гнутся,
- он имеет связь с баронами в городе.
- В высокие воздушные пути, где негармонично
- пересекаются канаты, на них откидываются плашмя,
- малокалиберный верблюд желает платонически
- взобраться; что сбивает с толку всё веселье.
- Эксгибиционист, который обслужил чем когда-либо
- занавес – терпеливо и с видом на комплименты,
- внезапно забывает ход дела
- и гонит прочь от себя разбухшую толпу девушек 11.
Французские современные поэты, читающие свои стихи, сменялись немецкими, русскими, швейцарскими исполнителями. Давались вечера, игралась современная и старинная музыка, всё вперемешку 12: Сандрар 13 и Ван Ходдис 14, Хардекопф 15 и Аристид Брюан 16, оркестр балалаек и Верфель 17, показывали Делоне 18 и читали Эриха Мюзама 19. Рубинштейн играл Сен-Санса. Читали Кандинского 20 и Ласкер-Шюлер 21, Макса Жакоба и Андре Сальмона 22.
- Он безропотный гость в варьете маргиналов,
- Где топочут чертовки с замысловатой татуировкой.
- Их трезубец манит его сладко обрушиться в ад,
- ослепленным, обманутым, но всё ж очарованным.
Плакат к этому кабаре создал украинский художник Марсель Слодки 23. При случае он участвовал и в прочем – либо личным выступлением, либо художественными произведениями, по сути, не принадлежа к дада. Он был тихий, замкнутый человек, который вряд ли мог «быть услышанным» в шуме кабаре, а позднее и в дада.
Так «Кабаре Вольтер» поначалу стало литературной демонстрацией. Творческая активность группы состояла в том, чтобы создавать, зачитывать и публиковать стихи, рассказы и песни. Все эти стихи, песни и рассказы находили соответствующую им форму выражения.
«Кабаре Вольтер». Его участники и соучастники
То, что у Балля выражалось во вдумчивости, глубине и сдержанности, у румынского поэта Тристана Тцара (см. илл. 5) проявлялось в виде искрометности, невероятной духовной подвижности и напора. Он был невысок и неукротим – этакий Давид, который мог влепить любому Голиафу – камешком ли, комком грязи или дерьма, с шуткой или без, наглым ответом или отточенным гранитным осколком меткой речи – но всегда в самое больное место. Художник языка и жизни, который становился тем оживленнее, чем активнее разворачивались события вокруг него. Он был полной противоположностью Балля, и это несходство лишь подчеркивало и оттеняло свойства другого, так что оба анти-Диоскура стали в ту первую «идеалистическую» эпоху движения единым целым – комически-серьезным, но динамичным. Чего Тцара не знал, то он брал на себя смелость и обязанность придумать. С хитрой улыбкой, полный юмора, но и трюкачества тоже, он никому не давал заскучать. Всегда в движении, болтая по-немецки, по-французски, по-румынски, он был естественным антиподом спокойному, задумчивому Баллю… и был так же незаменим, как и тот. На самом деле каждый из этих состязателей ума и анти-ума был незаменим сам по себе. Чем было бы дада без стихов Тцара или без его неутолимого честолюбия, без его манифестов, не говоря уже о шуме, который он мастерски умел поднять? Он декламировал, пел и говорил по-французски, хотя не хуже мог и по-немецки, перебивал собственные выступления криками, всхлипами и свистом.
Звонки, барабанная дробь, коровий колокольчик, удары по столу или пустому ящику представляли собой неистовое требование нового языка в новой форме и – чисто физически – возбуждали публику, которая поначалу сидела за своими пивными кружками совершенно ошарашенная. Затем из этого состояния оцепенения ее взвинчивали до такого градуса, что она исступленно пускалась в соучастие. ЭТО и было искусством, это и было жизнью, именно этого и добивались.
Правда, футуристы еще раньше ввели в искусство (и в свои мероприятия) понятие и технику создания скандала. Как искусство, они назвали это брюитизмом, который Эдгар Варез 24 позднее возвел в ранг музыки. Варез следовал в этом открытиям шумовой музыки Руссоло – одному из основополагающих вкладов футуризма в современную музыку. Руссоло сконструировал в 1911 г. шумовой орга́н, на котором можно было воспроизвести любые – столь досаждающие нам – шумы повседневности… именно их Варез впоследствии использовал как элементы звучания. Этот своеобразный инструмент был разрушен в Париже, в «Синема-28» на премьере фильма Бунюэля-Дали “L’âge d’or” («Золотой век») в 1930 г., когда “Camélots du roi” 25 и другие реакционные организации бросали в экран, на котором показывали этот «антикатолический» фильм, зловонные бомбы, а потом громили и разбивали всё, что попадалось под руку: стулья, столы, картины Пикассо, Пикабиа, Ман Рэя, а заодно и выставленный вместе с картинами в фойе в качестве экспоната «брюитистский» орга́н Руссоло 26. Этот брюитизм был подхвачен в «Кабаре Вольтер» и обогащен на взлете и в неистовстве нового движения: расширен вверх и вниз, влево и вправо, внутрь (стоны) и вовне (рык).
По громкости и провокационности Тристану Тцара едва ли уступал его анти-друг, медик-поэт д-р Рихард Хюльзенбек. Хюльзенбек (см. илл. 7) был вовлечен в весьма подходящий ему водоворот кабаре в силу своей дружбы с Хуго Баллем, которого очень почитал. Его молодцеватость курсанта тоже способствовала – опять-таки иначе, чем быстрота и живость ума Тцара – приведению публики в раскованное состояние. Для усиления этого ухарского эффекта он обзавелся хлыстом наездника, которым метафорически стегал по крупу публику, сопровождая чтение своих свежесочиненных «Фантастических молитв» ритмическим свистом хлыста.
Хюльзенбек был одержим тактами негритянских ритмов, с которыми он экспериментировал вместе с Баллем еще раньше в Берлине. К своим энергично пружинящим и просмоленным «Молитвам» он предпочитал большой «том-том». Балль: «Он выступал за то, чтобы усиливать ритм (негритянский ритм). Дай ему волю, он избарабанил бы всю литературу дотла». Когда фортепьянные интерпретации Балля и тоненький, искусственный девичий голосок Эмми Хеннингс (она чередовала народные песни с распутными) сводились воедино с абстрактными негритянскими масками Янко, ввергавшими публику в джунгли художественных видений, вырвав их из дебрей оригинального языка новых стихов, то поневоле часть витальности и энтузиазма, оживлявших группу, передавалась и зрителям… «Они одержимые, маниакальные, проклятые за их труды. Они обращаются к публике так, будто она должна взяться за их болезнь, и они выкладывают перед нею материал для вынесения суждения об их состоянии»…, – писала пресса. В то время как Хюльзенбек беззаботно распевал:
- Сокобауно сокобауно сокобауно
- Шиканедер Шиканедер Шиканедер 27
- наполняются ведра с пеплом сокобаунто сокобаунто
- мертвые восстают из него с венками из факелов вкруг головы
- смотрите лошади как они нагнулись над дождевыми бочками
- смотрите парафиновые потоки изливаются из рогов луны
- смотрите море Эресун как оно читает газету и поедает бифштекс
- смотрите кариес сокобаунто сокобаунто
- смотрите плацента как она вопиет в сетях бабочек
- гимназисток
- сокобаунто сокобаунто
- вот закрывает пастор ши-иринку ратаплан ратаплан 28
- ши-иринку и волосы торчат у него и-из ушей
- с неба па-адает катапульта катапульта и
- бабушка приоткрывает грудь
- мы сдуваем муку с языка и кричим и кочует
- голова на вершину
- драткопфгаметот ибн бен закалупп ваувой закалупп
- копчик надут и лопнет
- выпотел о потрох поповский небесный Северин
- гнойник суставной
- голубой голубой всегда голубой цветущий поэт пожелтели рога
- бир бар обибор
- баумабор бочон ортишель севилья о ка са ка ка са ка ка са
- ка ка са ка ка са ка ка са
- болиголов в коже забагрял набух на червячке и обезьяне
- имеет ладонь и зад
- О чачипулала ота Мпота груды
- Менгулала менгулала кулилибулала
- Бамбоша бамбош
- вот закрывает пастор ши-иринку ратаплан ратаплан
- ши-иринку и волосы торчат у него и-из ушей
- Чупураванта буррух пупаганда буррух
- Ишаримунга буррух ши-иринку ши-иринку
- Кампампа камо катапена кара
- Чувупаранта да умба да умба да до
- да умба да умба да 29 умбахихи
- ши-иринку ши-иринку
- Мпала стекло клык трара
- Катапена кара поэт поэт катапена тафу
- Мфунга Мпала Мфунга Коэль
- Дитирамба торо и вол и вол и полные пальцы
- Ярь-медянка у печки
- Мпала тано мпала тано мпала тано мпала тано ойохо мпала тано
- Мпала тано я тано я тано я тано о ши-иринку
- Мпала Цуфанга Мфиша Дабоша Карамба юбоша даба элое 30,
Марселя Янко и его собратьев, как и Тристана Тцара, занесло в Цюрих из Бухареста – этого балканского Парижа.
Прежде, чем приехать в Швейцарию, Янко (см. илл. 6) старательно и ответственно изучал архитектуру. От той тростниковой корзины, которая, как известно, служила Моисею жилищем в первые дни его жизни, от этого передвижного строения – до трактатов о гармонии и перспективе Браманте, до теорий Ренессанса Леона Баттисты Альберти – всё было разложено у Марселя по полочкам.
Это отпечаталось в абстрактных рельефах, которые он производил и которые вскоре уже висели у нас на стенах (см. илл. 11, 14). Иногда они были выполнены в гипсе пуританской белизны, иногда расписаны, иногда украшены кусочками зеркала или вырезаны из дерева. Они воспринимались очень серьезно, считались искусством и имели, как писал в своем дневнике Балль, «свою собственную логику без ожесточения и иронии».
Всё, к чему он прикасался, приобретало элегантность, даже абстрактные устрашающие рожи, о которых Балль пишет:
«Для нового вечера Янко изготовил несколько масок, они были более чем талантливы. Они напоминали о японском или древнегреческом театре и были при этом совершенно современными. Рассчитанные на воздействие на расстоянии, в сравнительно небольшом помещении кабаре они производили огромное впечатление. Мы все были на месте, когда явился Янко со своими масками, и каждый немедленно привязал на себя по одной. И тут произошло нечто странное. Маски не только немедленно потребовали костюма, они стали диктовать и совершенно определенную патетическую жестикуляцию, граничащую с безумием. Еще за пять минут до этого ни о чём не подозревавшие, мы задвигались, выписывая особые фигуры, задрапировались и обвешались немыслимыми предметами, превосходя один другого в изобретательности. Движущая сила этих масок передалась нам с поразительной неотвратимостью. Мы разом поняли, в чем состояло значение таких личин для мимики, для театра. Маски просто требовали, чтобы их носители пришли в движение в трагически-абсурдном танце.
Тогда мы пригляделись как следует к этим вырезанным из картона, раскрашенным и оклеенным предметам и вычленили из их многозначных характерных черт несколько танцев, к которым я тут же сочинил по короткой музыкальной пьесе. Один танец мы назвали „Ловля мух“. К этой маске подходили неуклюжие, тяжелые шаги и несколько быстрых, хватающих, размашистых поз, дополненных нервозной, визгливой музыкой. Второй танец мы назвали „Наваждение“. Танцующая фигура в сгорбленной позе идет вперед, постепенно выпрямляясь и вырастая. Рот маски широко раскрыт, нос широкий и смещенный. Угрожающе поднятые руки исполнительницы удлинены специальными трубами. Третий танец мы назвали „Торжественное отчаяние“. На руках, поднятых сводом, надеты длинные вырезанные золотые ладони. Фигура несколько раз поворачивается влево и вправо, потом медленно кружится вокруг своей оси и, в конце концов, молниеносно в изнеможении падает, чтобы медленно вернуться к первому движению.
Что нас всех очаровало в масках – это то, что они воплощали не человеческие, а сверхъестественные характеры и страсти. Они сделали видимым тот парализующий ужас, который скрыт за покровами происходящего в наше время».
Янко, как и Тцара, участвовал в деле всей душой, но был неповоротливее и тише. К тому времени он был отцом семейства и жил со своей хорошенькой женой-француженкой и двумя младшими братьями в буржуазной квартире за Кройцплатц в Цюрихе. Там он работал, корпя над плакатами дада, которые сочинял главным образом сам, выручал нас, водя экскурсии по галереям, писал сценарии и рокотал со сцены в симультанных стихах. Он всегда был готов прийти на помощь и умел помогать. Ни один вечер, ни одно чтение не обходилось без него.
«В настоящее время Янко мне особенно близок, – пишет Балль 24 мая 1916 г. в своем дневнике. – Это высокий, стройный человек, которого отличает свойство смущаться от чужой глупости и странности всякого рода и затем с улыбкой или мягким жестом просить о снисхождении или понимании. Он единственный среди нас не нуждается в иронии для того, чтобы совладать с тяжелыми временами».
То, что у Тцара оставалось просчитанной (холодно или с жаром) наглостью для того, чтобы бесцеремонно задеть публику, то, что у Хюльзенбека было чем-то вроде подавленной ярости, удовольствием пройтись насчет обывателей, то у Ханса Арпа (см. илл. 4) было поначалу просто – удовольствием ради потехи, потехой ради удовольствия. В фортиссимо обоих – и Тцара, и Хюльзенбека – невозможно было бы расслышать нежные тона флейты этого эльзасского художника, если бы он в передышке двух производителей шума не расчищал себе от случая к случаю место при помощи замечательной магии своего характера и по-детски мудрого шарма своих стихов:
- умер каспар 31
- о горе умер наш добрый каспар.
- кто же вплетет теперь пламенный дым в косу облаков и
- влепит ежедневный черный щелбан.
- кто будет крутить кофейную мельницу в пивной бочке.
- кто приманит теперь идиллическую косулю из закаменевшего кулька.
- кто высморкает ссаки параплюев ветрогонов пасечников
- озоновых веретен и снимет заусенцы пирамид.
- о горе о горе о горе умер наш добрый каспар. праведное небо умер каспар.
- сенные акулы клацают зубами от горя в колокольных амбарах
- как только заслышат его имя. поэтому я выстанываю лишь
- его фамилию каспар каспар каспар.
- зачем ты нас покинул. в какое обличье перекочевала теперь
- твоя большая красивая душа. может ты стал звездой или ожерельем из воды
- на горячем ветру или выменем из черного света или
- прозрачной черепицей у стонущего барабана скалистого существа
- . .
Когда в 1914 г. началась война, Арп находился в Париже. Будучи эльзасцем, родившимся в Страсбурге, он оказался в сложном положении: как-никак с немецким гражданством, хотя Эльзас стал германским только в 1870 г. До своего переселения он времени не терял. В 1915 г. Арп получил задание вдохнуть жизнь в голые стены теософского дома господина Рене Шваллера 32 в Париже. Как он мне рассказывал, он вырезал из бумаги большие искривленные формы разных цветов и декорировал стены этими лирическими абстракциями. Его работы были хорошо приняты и соответствовали духу теософского института. Но поскольку пребывание Арпа в Париже – немца, пусть и из Эльзаса – было рискованным, он отправился в Швейцарию.
«Питая отвращение к бойне мировой войны 1914 г., мы предавались в Цюрихе высокому искусству. В то время как вдали гремели орудия, мы от всей души пели, рисовали, клеили, сочиняли стихи. Мы искали элементарное искусство, которое исцеляло бы людей от безумия времени, и новый порядок, который установил бы равновесие между небесами и преисподней. Мы чувствовали, что стоим костью в горле у бандитов, которым в их одержимости властью даже искусство должно было служить оглуплению людей».
И Янко: «Была потеряна надежда на более справедливые условия существования искусства в нашем обществе. Те среди нас, кто осознавал эту проблему, чувствовали тяжесть повышенной ответственности. Мы были вне себя от страданий и унижения человека».
В Цюрихе, где Арп в 1916 г. примкнул к Баллю, бумажные вырезки вскоре превратились в резьбу по дереву. Его первые рельефы были ярко раскрашенными причудами, изгибами в дереве равномерной толщины (см. илл. 8). У меня самого был такой, пока Арп его у меня «не выменял на что‑нибудь другое, … что потом тоже “потерялось”».
Эти рельефы были без претензий и ничем не напоминали рельефы из истории искусств, – на которую нам было наплевать, – но зато они радовали нас своим юмором, уравновешенностью пропорций и новизной.
Немного позже Арп приколотил деревяшки, которые уже не требовали столярной обработки, на четырехугольную крышку ящика. Где-то подобранные, по-разному изукрашенные стариной и грязью палочки были поставлены в ряд и на свой лад музицировали.
Всем этим нельзя было заработать ни денег, ни славы, но, в конце концов, господин Корай 33, директор женской школы в Цюрихе, пригласил этого странного художника и его старшего друга Отто ван Рееcа 34, который тоже предпочитал цветам и горам красочные пятна и мазки, расписать входной портал его новопостроенной женской школы. Те охотно взялись за это. Так по обе стороны от входа в школу возникли две большие абстрактные фрески (впервые в такой близости к Альпам), которые должны были стать отрадой очей для маленьких девочек, а для граждан Цюриха памятником того, насколько прогрессивен их город. К сожалению, эти фрески были встречены с жестоким непониманием. Родители маленьких девочек были возмущены, отцы города негодовали от подобного безобразия: чтобы стены – а с ними и души маленьких девочек – были запятнаны ничего не изображающими мазками краски. Они распорядились, чтобы эта мазня была немедленно закрашена «приличными» картинками. Это и было сделано… и теперь «матери, ведущие за руку своих детей» красовались на месте гибели творений Арпа и ван Рееcа 35.
Единственная женщина в числе членов «Кабаре Вольтер», Эмми Хеннингс, находилась, как можно было подумать, в трудном положении среди мужского засилья труппы (см. илл. 2). Эмма обладала тоненьким голоском, совсем не похожим на голос оперной дивы, но была яркой личностью. В юности она вдохновляла нескольких лучших немецких поэтов, с которыми была знакома. Сколько я ее помню, (с 1912 г.), она жила исключительно среди богемных художников и писателей. Уже тогда она ходила с затуманенным, устремленным слегка вверх взглядом мистика. Мне всегда было не по себе рядом с ней, так же, как, впрочем, и рядом с Баллем, постоянно одетым по-пасторски в черное. Но по разным причинам. Я столь же мало верил в ее мистическую детскость, сколь и в аббатскую серьезность Балля. Я не мог заниматься разгадыванием ее детского жеманства, ее небылиц, преподносимых со всей серьезностью; это отчуждало меня от нее как от женщины и как от человека. Только Балль с его благодушной человечностью вполне понимал ее характер. И хотя он не мог не замечать ее жеманства, но смотрел на него сквозь пальцы и видел в Эмми простую девочку, чья доверчивость, которой так часто злоупотребляли, обращалась к его мужеству, не особо его обременяя.
Как единственная женщина этого кабаре, нашпигованного поэтами и художниками, Эмми вносила в программу крайне необходимую ноту, хотя (или, может, как раз потому что) ее номера ни по голосу, ни по содержанию не были в традиционном смысле артистическими. Они скорее представляли в своей непривычной пронзительности выпад, который выводил публику из себя не меньше, чем провокации ее коллег-мужчин:
ПОСЛЕ КАБАРЕ
- Я иду рано утром домой.
- Часы бьют пять, уже светает,
- Но в отеле еще горит свет,
- А кабаре, наконец, закрылось.
- В углу приткнулись дети,
- Крестьяне уже выезжают на рынок,
- К церкви направляются те, кто потише и старше.
- С колокольни звонят потихоньку,
- И девка с растрепанными локонами
- Всё еще слоняется, продрогшая и бледная 36.
Итак, оркестр «Вольтера» был шестиголосый. Каждый играл на своем «инструменте», т. е. на себе самом – страстно и от всей души. Каждый, разительно отличаясь от остальных, был своей собственной мелодией, своим собственным текстом, своим собственным ритмом. Каждый пел во всю силу собственную песню… и каким-то чудом в итоге оказывалось, что они представляют собой нечто целое, что все они взаимно нуждаются друг в друге. Мне и сегодня по-прежнему не понятно, как из таких гетерогенных элементов могло образоваться движение. Но в «Вольтере» эти отдельности светились, словно краски радуги, как будто все они возникли из разложения единого света.
Я сам попал в Цюрих и в движение дада лишь по странной случайности.
Вскоре после начала войны в сентябре 1914 г., когда повестка о призыве в немецкую армию уже была у меня в кармане, друзья устроили мне прощальную вечеринку. Среди них были два поэта – Фердинанд Хардекопф и Альберт Эренштейн 37. Поскольку никогда не знаешь, как, где и когда свидишься в следующий раз, Эренштейн предложил, чтобы ободрить меня: «Если мы все трое будем живы, давайте встретимся 15 сентября 1916 г., т. е. через два года, в три часа пополудни в кафе „Де ля Террас“ в Цюрихе». Я не знал ни Цюриха, ни «Террасу», и моя надежда оказаться там казалась меньше самой малой.
Ханс Рихтер. Виолончелист.
1916. Линогравюра
Ханс Рихтер. Теодор Дойблер.
1916. Линогравюра
После полутора лет на войне, ковыляя на костылях, я был комиссован как инвалид войны и вдруг вспомнил о той неправдоподобной договоренности. Дело в том, что в июле 1916 г. я случайным образом должен был участвовать в коллективной выставке у Ханса Гольца 38 в Мюнхене, то есть в какой-то степени на полдороги в Цюрих, к тому же я как раз женился на медсестре, которая выхаживала меня в лазарете, и мы решили устроить наше свадебное путешествие через Мюнхен в Цюрих. В любом случае, посреди войны это было безнадежным предприятием, но благодаря большому терпению, ловкости и массе рекомендаций мы его осуществили. 15 сентября 1916 г. в три часа пополудни я был в кафе «Де ля Террас», и меня там действительно «поджидали» Фердинанд Хардекопф и Альберт Эренштейн. К этой совершенно невероятной встрече, к этой сказочной ситуации тут же присовокупилась еще одна. Через пару столиков от нас сидели три молодых человека. После того, как Эренштейн, Хардекопф и я обменялись первыми новостями, они познакомили меня с этими молодыми людьми: Тристаном Тцара, Марселем Янко и его братом Жоржем. Так я обеими ногами вляпался, так сказать, в группу «Дада», которая тогда уже так и называлась. Мои работы в журнале «Акцион», моя выставка у Гольца, мои картины и рисунки и вызывающая врезка к ним в каталоге узаконили меня:
«Как это увлекательно – быть художником. Если это не захватывает, то для времяпрепровождения есть другие, лучшие возможности… Мы ведь знаем, насколько глубоко значимы все вопросительные знаки, которые ничем не разрешить. В комплексную цену состояния „не беспокойте меня“ входит бюргерская трусость, для которой характерна укорененная обыкновенность, так что для них обращение к негритянской пластике или кубизму кажется кокетливой причудой, на которой им есть где разгуляться с их духовным приговором „мышления по струнке“. То, что кто-то переходит от натурального вида к конструкции, для них лишь драма душевного страха (в действительности, пожалуй, как раз наоборот, конечное освобождение и полновластное управление небывалой материей)» (Ханс Рихтер. Каталог галереи Ханса Гольца).
В последующие дни я был представлен остальным членам группы. Эмми Хеннингс я уже знал по Берлину, по старому «Кафе дес Вестенс» 39. И так я стал членом семьи и оставался им до начала мира и до конца цюрихского дада.
«Кабаре Вольтер» становится дада
«Кабаре Вольтер» безо всякого волевого усилия благоприятствовало когерентности, способствовало энтузиазму, которым участники заражались друг от друга и который сдвигал процессы с мертвой точки, а уж когда они приходили в движение, никто не мог предвидеть, куда кривая выведет. Котел искусства кипел, и однажды ночью в «Кабаре Вольтер» он перелился через край:
Балль: «30.11.1916. Вчера состоялось свидание всех стилей последних двадцати лет; Хюльзенбек, Тцара и Янко выступили с „Симультанной поэмой“. Это контрапунктный речитатив, в котором три или более голоса одновременно говорят, поют, свистят или вроде того, причём так, что их столкновения придают делу то элегическое, то веселое или причудливое содержание. В таком симультанном стихотворении резко выражается своенравие инструмента и точно так же его обусловленность сопровождением. Шумы (долгое ррррр протяженностью в минуту или стуки или вой сирены и тому подобное) имеют экзистенцию, превосходящую человеческий голос по энергии».
И Арп сообщает: «Тцара, Сернер и я написали в кафе „Де ля Террас“ цикл стихотворений: “Гипербола о крокодильском парикмахере и трости”. Этот род поэзии сюрреалисты впоследствии окрестили „автоматической поэзией“. Автоматическая поэзия исходит непосредственно из кишечника или из другого органа поэта, полезные резервы которого накопились. Ни „Почтальон из Лонжюмо“, ни гекзаметр, ни грамматика, ни эстетика, ни Будда, ни шестая заповедь не должны ему в этом препятствовать. Поэт каркает, ругается, вздыхает, заикается, поет на тирольский лад с переливами как ему вздумается. Его стихи соразмерны природе. То, что люди пренебрежительно называют пустяками, для него бесценно не меньше, чем возвышенная риторика; ибо в природе частица так же хороша и важна, как звезда, и люди много на себя берут, определяя, что хорошо, что плохо».
Балль: «Симультанная поэзия основывается на ценности голоса. Человеческий орган выступает от имени души, индивидуальности в ее скитании между демоническими провожатыми. Шумы изображают фон; неназываемое, фатальное, определяющее. Стихотворение стремится разъяснить поглощенность человека механическим процессом. В типичном укорочении оно показывает конфликт vox humana 40 с угрожающим ему, опутывающим и разрушающим его миром, такт и последовательность шумов которого неотвратимы».
Дневник Балля: «2.4. Франк 41 и его жена посетили кабаре. Также господин фон Лабан со своими дамами (танцовщицами школы Лабана).
Один из наших самых неизбежных посетителей – пожилой швейцарский поэт Я. К. Хеер, который своими прелестными цветочномедовыми книгами доставил радость многим тысячам читателей. Он появляется всегда в черной крылатке и, лавируя между столиков, сметает с них своей широкой мантильей винные бокалы».
Симультанное стихотворение Р. Хюльзенбека, М. Янко и Т. Тцара “L’Amiral cherche une maison à louer” («Адмирал ищет дом в аренду», фр.) из сб. «Кабаре Вольтер» (1916)
Балль создал в «Кабаре Вольтер» «ситуацию», которая имела продолжение:
«18.4. Тцара замучил журналом. Мое предложение назвать его „Дада“ было принято. Редакция может чередоваться: общий редакционный штаб, который поручает какому‑то члену заботу о подборе и формировании очередного номера».
Эта фраза Балля, или, вернее, ее импликации имели самые странные последствия. Поныне нельзя установить, кто, собственно, нашел или придумал слово «дада», или что оно означает. Когда я в середине августа 1916 г. приехал в Цюрих, оно уже было, и никого не беспокоило ни в малейшей степени, откуда оно взялось. Правда, я слышал, как два румына – Тцара и Янко – поддакивали друг другу в своем потоке румынской речи: «Да, да». Я тогда безоговорочно полагал (ибо, как уже сказано, никто про это не спрашивал), что название «Дада» для нашего движения имело родственное отношение к жизнерадостной форме славянского подтверждения: «Да, да!»… и находил его во всех отношениях подходящим. Ничто не могло лучше выразить наш оптимизм, чувство новообретенной духовной свободы на том островке жизни посреди моря смерти, чем это крепкое, повторяющееся, жизнеутверждающее «да, да».
Но фраза, которую Балль, ни о чём не подозревая, занес тогда в свой дневник, разворошила осиное гнездо. Его высказывание развязало впоследствии гомерический спор об авторстве этого товарного знака. Спор велся (главным образом со стороны Хюльзенбека) с приложением таких сил (против Тцара), что ими можно было бы сдвинуть цюрихскую гору Ютлиберг. Правда, спустя 40 лет Хюльзенбек с похвальной самоиронией назвал этот спор «тяжбой дада-старцев», но борьба продолжается. Одни утверждают, что слово было «обнаружено» путем раскрытия словаря наугад, другие – что оно означает детскую лошадку-качалку, в то время как сам Балль оставляет открытыми все объяснения. «Дада означает по-румынски „да, да“; по-французски это лошадка на палочке и лошадка-качалка. Для немцев это знак идиотической наивности и оплодотворяющей связи с детской коляской».
18.4.1916, когда движение было еще юным, Тцара дал такую версию: «Слово родилось, сам не знаю как».
Из газет можно узнать, кроме того, что западноафриканский народ кру словом «дада» называют хвост священной коровы; в какой-то местности Италии этим словом называют мать и игральную кость; «дада» – это кормилица, нянька, и еще много чего питающего можно открыть в качестве источника этого слова. И Арп пишет в своем «Дада в Тироле, на свежем воздухе» (Тарренц-Имст, 1921 г.): «Я заявляю, что слово „дада“ изобрел 6 февраля 1916 г. Тцара. Я присутствовал при этом с моими 12 детьми, когда Тцара впервые произнес это слово… это произошло в кафе „Де ля Террас“ в Цюрихе, и у меня в левой ноздре торчал бриош». А Хюльзенбек, напротив, уверяет: «Слово „дада“ было обнаружено случайно Баллем и мной в немецко-французском словаре, когда мы подбирали для мадам Лерой, певицы из нашего кабаре, сценическую фамилию, „Дада“ – французское слово, которое означает лошадку на палочке» 42.
Фактом является то, что слово «дада» впервые было напечатано 15 июня 1916 г. в «Кабаре Вольтер».
В письме к Хюльзенбеку Хуго Балль выразился 28 нояб-ря 1916 г.: «…в конце концов, я описал там и дада, кабаре и галерею. За тобой остается последнее слово для дада, как за тобой же было первое». «То, что мы называем „дада“, есть шутовская игра в ничто, в которую вовлечены все более высокие вопросы, гладиаторский жест; игра с жалкими остатками… казнь позирующей моральности».
Детская пустячность спора заслуживает упоминания лишь в связи с тем, что этот спор не упрощает задачу историков искусства. Но также и потому, что он сводит к минимуму наше уважение к так называемым сведениям и фактам. Как сказал мне однажды рассерженный исследователь дадаизма: «Если вы сами не знаете, как было дело, нам-то откуда это знать?»
Он был прав: эти мелкие ревнивые счеты возникли лишь после того, как дада стало всемирной маркой с филиалами в Нью-Йорке, Берлине, Барселоне, Кёльне, Ганновере и Париже. Некоторые из ведущих членов дада принялись задним числом рыть подкоп под собственное происхождение, и некоторые пытаются делать это еще и сегодня с беспечностью, которая, насколько я припоминаю, была совершенно чужда цюрихской группе.
Журнал «Дада»
Менее оспорим, чем авторство в изобретении названия «дада», тот факт, что Тцара издавал журнал «Дада», руководил им, продвигал, составлял и администирировал. План Балля о сменной редакции не осуществился – просто потому, что никто, кроме Тцара, не мог приложить к этой работе столько энергии, страсти и таланта. Каждый был рад, что дело находится в руках такого блестящего редактора.
Если публикация «Кабаре Вольтер» (15 июня 1916 г.) была в большей или меньшей степени общим делом в руках Балля, то журнал «Дада», начиная с первого номера, был главным образом работой Тцара. Разумеется, не его одного, а коллективным трудом и согласием нас всех – Янко и Арпа, Балля и Хюльзенбека (который, правда, очень скоро вернулся в Германию), меня и некоторых других.
Тцара был идеальным импресарио дада, и его особое качество как современного поэта давало ему возможность найти контакт с современными поэтами и писателями других стран, особенно Франции: с Бретоном, Арагоном, Элюаром, Супо, Рибмон-Дессенем… даже если они, как мы впоследствии узнали, поначалу держались очень холодно и дистанцированно по отношению к этому новому движению в горах Швейцарии. Правда, дада позднее стало благодаря им чем-то бо́льшим, нежели обособленный альпийский цветок, и проявило себя как международное движение.
Форма манифеста, агрессивной полемики была будто специально создана для Тцара. «Новый художник протестует, он больше не рисует символические или иллюзионистские репродукции, а напрямую создает – из камня, дерева, железа. Экспресс-локомотив его организма способен ехать в любом направлении сквозь мягкий ветер мгновенных ощущений». Мы хотя и были, как все «новорожденные», убеждены, что мир начинается с нами заново, но на самом деле футуризм мы проглотили целиком, с черешками и косточками. Правда, в процессе его переваривания, нам потом пришлось выплевывать много разных черешков и косточек.
Обложки ж. «Дада». 1917/18
Юношеский подъем, прямое агрессивное обращение к публике, провокация были также продуктами футуризма, как и литературные формы, в которых это разыгрывалось: манифест и его визуальное оформление. В футуризме уже за несколько лет до этого существовало свободное применение полиграфии, в котором наборщик располагал на наборной пластине текст хоть вертикально, хоть горизонтально, хоть по диагонали, смешивая шрифты, размеры и рисунки. А нашумевшие стихи, в которых слова чередовались со звуками, шокировали публику под футуристическим девизом начала новой эры динамизма.
Но приблизительно на этом и кончается влияние футуризма. «Движение», «динамика», “vivere pericolosamente” 43, «симультанность» хотя и играют роль в дада, но не являются программными. В этом заключается фундаментальное отличие: у футуризма была программа. Из этой программы возникали произведения, нацеленные именно на ее «выполнение». В зависимости от таланта возникали произведения искусства или всего лишь иллюстрации этой программы. Дада же не только не имело программы, оно было в принципе антипрограммным. У дада была только одна программа: не иметь никакой… и это давало в то время и на тот исторический момент этого движения взрывную силу развиваться во ВСЕ стороны без эстетических и социальных привязей. Эта «абсолютная необусловленность» была на самом деле новшеством в истории искусства. То, что эта «райская» ситуация не может длиться, было гарантировано человеческой недостаточностью самой по себе. Но на краткий миг всё же надо принять и абсолютную свободу… которая в конце концов могла привести как к новому искусству, так и к точке замерзания… и должна была привести.
Тезы, антитезы и а-тезы дадаизма выдвигались – не обремененные традицией и свободные от благодарности, которую редко какое поколение питает к предшественникам.
Тцара писал в своих манифестах:
«Я разрушаю черепа мозгов и короба социальной организации. Повсеместно деморализовать, сбросить человека с небес в преисподнюю, устремить взгляд из преисподней к небу, устрашающее колесо всемирного балагана заново направить в реальные могущества и в фантазию каждого индивидуума».
«Порядок = беспорядок; Я = не-Я; подтверждение = отрициание; высшее излучение абсолютного искусства, хаос, абсолютно упорядоченный в чистоте – вечно катиться в секундах без преград, без дыхания, без света, без контроля – я люблю старое искусство за его новизну. С прошлым нас связывает только контраст».
Манифест дада 1918 г.: «Дада означает ничто» – «Дада создается в устах».
«Искусство уснет. Попугайскому вздору искусства придет на смену дада. Искусство необходимо прооперировать. Искусство есть особая потребность, усугубленная слабовыраженной деятельностью мочеиспускательной системы, это истерия, рожденная в мастерской художника».
Эти негативные определения дада возникли из отрицания того, что нуждалось в отрицании. Это отрицание родилось из желания духовной и душевной свободы. Как бы по‑разному ни проявлялась эта свобода в каждом из нас (а она была очень разной – от чуть ли не религиозного идеализма Балля до амбивалентного нигилизма Сернера и Тцара), вперед нас подгонял все-таки один и тот же могучий жизненный импульс. Он подгонял нас к ликвидации, к разрушению всех форм искусства, к бунту ради бунта, к анархическому отрицанию всех ценностей… воздушный пузырь, который прокалывает сам себя, яростное Против, Против, Против, связанное с таким же страстным За, За, За!
Правда, таким образом мы освобождали от цепей смысл, выпуская его в бессмысленность; но всё равно постоянно оставаясь в области смысла. При этом известную роль играло представление Балля о полном охвате произведений, ибо «синтез искусств» сохранялся на всех мероприятиях. Балль пишет в своем дневнике: «Мюнхен приютил тогда одного художника, который лишь своим присутствием дал этому городу первенство в авангарде по сравнению с другими немецкими городами: Василия Кандинского. Кому-то эта оценка может показаться преувеличенной, но тогда я так считал. Что может быть для города лучше и прекраснее, чем приютить человека, чьи работы являются живыми директивами самого благородного вида… многообразие и проникновенность его интересов были удивительны; еще больше была высота и свобода его эстетической концепции. Его занимало возрождение общества через объединение всех художественных средств и возможностей. Не было жанра, в котором он не выступил бы новатором, не обращая внимания на насмешки и издевки. Слово, цвет и звук жили в нем в удивительном единодушии… но его конечной целью было не только создавать произведения искусства, но представлять искусство как таковое… Когда в марте 1914 г. я обдумывал план нового театра, я был убежден: это должен быть театр, экспериментирующий по ту сторону злобы дня. Европа рисует, музицирует и сочиняет стихи по-новому. Соединение всех продуктивных идей, не только искусства… Только необходимо вызвать к жизни из подсознания цвет, слова, звуки и фон так, чтобы они поглотили повседневность вместе с его бедствиями и нуждой».
В конце 1916 г. к дада примкнул новый участник, оторванный от корней привычного, но пускавший корни во всё экстраординарное. Это был д-р Вальтер Сернер (см. илл. 15). – нигилист, издававший соответствующий журнал «Сириус».
Сернер, высокий, элегантный австриец с моноклем или в пенсне, дополнил собой «вольтерьянцев» так, будто был скроен по мерке специально для них. Циничный моралист, филантроп-нигилист, он отождествлял себя с символом веры парижской гризетки Марго: “Naturellement je serais bonne, si je savais pourquoi?” 44. Он был циником движения, отъявленным анархистом, Архимедом, который хотел перевернуть мир, снять его с петель да так и оставить.
Он страдал отвращением к людям (и нехваткой средств к существованию), поскольку обнаружил то, что всю жизнь заявлял Брехт: человек слишком слаб, чтобы быть по‑настоящему хорошим, и слишком хорош, чтобы быть по‑настоящему плохим… всего лишь слаб и из слабости подл.
Его позиция, его зачастую поношенная одежда, его безупречная форма выражения, его замечательный интеллект, его тонкий психологический подход – правда, порой с манерами пещерного человека по отношению к дамам, – делали его своего рода бароном среди дада-простолюдинов. Ни Тцара, ни Хюльзенбек, которые постоянно носили монокль, не могли в этом конкурировать с ним. У Сернера монокль был «естественным». Во многих отношениях он был бо́льшим, чем Балль (идеалист) или Тцара (реалист), воплощением распространяющейся революции в ее, как сказали бы сегодня, экзистенциальной форме. Несмотря на его радикальную программу – или как раз вследствие этой программы, – он был моралистом («Потеря человеческого облика и озверение – еще не одухотворение»), в отличие от практичного Тцара, который смотрел на мир и пользовался его благами, пренебрегая моральными ограничениями. Явление Сернера – ухоженного, хотя иногда и потрепанного – было больше, чем просто антураж «венской гостиной», это было выражение личной чистоплотности, которой он придавал большое значение, несмотря на отрицание всех ценностей. Он стал в высшей степени ценным приобретением для дада, центром и выразителем психологии, девальвировавшей этические и эротические ценности: