Сталин: от Фихте к Берия бесплатное чтение
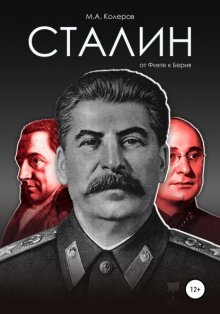
Моему старшему сыну Филиппу
с благодарностью и надеждой
Предисловие
Легко повторить за практиком либерализма и теоретиком индустриализма, обычно глубоким Реймоном Ароном (1905–1983), что «современное индустриальное общество наделило советский режим средствами, которыми не располагала в прошлом ни одна деспотия»1. Но в этой инструментальности виден слишком простой цивилизационный расизм, который отводит сталинскому СССР место и роль принципиально другого. Легко сказать: Сталин – инобытие современного Запада, его Нового времени, Модерна, Просвещения и индустриализма.
Но это – не инобытие. Сталин – родная и естественная часть западного Модерна, его продолжение. Нет ни одного инструмента сталинской власти, который не был выработан ещё до Сталина колониальным, империалистическим, технократическим и социалистическим Западом. Маркс дал революционерам метод, глубоко интегрированный в Модерн. Ленин превратил этот метод в язык немедленной революции. Правящий Сталин вернул этот язык в ландшафт большой истории России.
Настоящая книга очерков выросла из моего предисловия к книге об истории сталинского принудительного труда военнопленных, окончание которой впереди. На этом предисловии я хотел остановиться и обратиться к вопросам экономической истории сталинизма. Но не удалось. Я поставил перед собой ряд вопросов, ответы на которые зажили отдельной от истории военнопленных жизнью и пока далеки от окончания. Первые простые вопросы были связаны с институтами и географией принудительного труда: когда он появился в Советской России / СССР? чем он отличался от иных систем принудительного труда? почему местом его наиболее интенсивного применения стала Сибирь? была ли, когда и почему была особо высокой смертность военнопленных? уникально ли тяжёлыми были их «жилищные» условия? действительно ли был «бесплатным» труд заключённых и военнопленных? был ли он эффективным и почему? чем был принудительный труд в сталинской экономике, управление которой полезно увидеть в категориях административного рынка, где одним из главных ресурсов была рабочая сила? За ними последовали вопросы более общие: какова история стратегического тыла СССР в Сибири? какова историческая практика массовых репрессий? каковы традиции индустриального принудительного труда вообще? каковы истоки и традиции биополитики Нового времени? каков контекст и практический смысл экономической мобилизации СССР периода сталинизма? как присутствует европейский Модерн в практике русского и советского коммунизма? чему научились у него большевики? Ответы на первую часть вопросов я надеюсь дать в будущем – та книга будет основана на контекстуализации архивных материалов «Особой папки» Л. П. Берия в НКВД / МВД СССР из родного для меня Государствен- ного Архива Российской Федерации. Ответы на вторую часть вопросов я пытаюсь дать в этой книге. Для них архивы избыточны.
Картину исторического ландшафта я пытался описывать изнутри его времени. Это, в частности, продиктовало мне многолетний сыск аутентичных изданий 1900–1940-х годов, которые точнее всего выражают осознанное строительство умственной сцены и были отфильтрованы поколениями исторической цензуры. Для своего времени эти издания (в том числе – с положениями Ленина, бывшими в употреблении в несколько ином виде, нежели это отшлифовано позже) – свершившийся факт и фактор. Поэтому они в принципе не следуют указаниям будущих партийных «Кратких курсов» и ближе всего стоят к породившему их ландшафту.
Ещё важнее прямая связь военно-исторических и пропагандистских изданий, например Наркомата обороны СССР, официальной картографии и самой быстрой перемены событий. Она отражается даже в дне сдачи и подписания книг в печать: иной раз политическое высказывание долго ждёт своего часа, чтобы выстрелить. Поражает вряд ли детально прописанный консенсус и коллективная солидарность пропагандистов: если бы не они, уследить за тонкими нюансами их навигации не могла бы даже гениальная универсальная цензура. Потому и кажется, что уверенный в себе сталинский политический язык – при всех колебаниях «линии партии» – десятилетиями живёт по своей независимой логике, а не внутри исторического ландшафта, где решения во многом предопределены. Но он живёт только внутри ему понятного и для него возможного.
Почти тридцатилетняя моя научная работа неожиданно соединила мои занятия историей русской общественной мысли 1890–1920-х годов, бюрократической историей принудительного труда и практикой постсоветских этнократий и национализмов. В их проекции обнаружилась неотделимая связь традиционного, доктринального и возможного, острый скелет которой проступает через любую политическую риторику. О ландшафте и языке исторической борьбы сталинского коммунизма – мои очерки.
Приступая к тексту, окончание и публикация которого так затянулись, я боюсь обойти благодарностями тех, кому за эти годы я стал лично и научно обязан. Благодарю всех – «их имена, ты, Господи, веси». Но более всего благодарю того, кто учил меня изучать сталинизм, и ту, кто помогает мне делом и критическим словом: Владимир Александрович Козлов, Ольга Валериановна Эдельман, низкий поклон вам.
Посвящаю эту книгу памяти тех моих предков, кто в своей судьбе соединил историю старой России, сталинского СССР и современной России. Памяти моего прадеда, русского крестьянина и псалмопевца Ивана Павловича Слесарева (1876–1934), раскулаченного, умученного на строительстве Беломорканала и умершего в тюрьме в Белых Столбах. Памяти его младшей дочери, моей бабушки, русской крестьянки Анны Ивановны Утёнковой (Слесаревой, 1911–1993), пережившей раскулачивание, гитлеровскую оккупацию, военный тыл и голод, образцово верной Русской Православной Церкви, кавалера ордена Отечественной войны. Памяти её мужа, моего деда Фёдора Васильевича Утёнкова (1908–1970), солдата 50 стрелкового полка Красной Армии, 29 октября 1941 года попавшего в гитлеровский плен – и бежавшего из плена, чтобы воевать до Победы. Памяти моей самоотверженной матери, Галины Фёдоровны Колеровой (Утёнковой, 1932–2010), пережившей войну, оккупацию, голод и сорок пять лет непрерывного труда на угольной шахте.
5 мая 2017 года
Ландшафт истории и политического языка
Введение
В целом до сих пор господствует прежний, от прошлого унаследованный и воспринятый тип организационного мышления. И с особенной силой держится он как раз у идеологов класса, ещё в большей степени воспитанников старой культуры, чем те широкие массы, делу которых они служат.
А. А. Богданов2
В области экономической и политической философии не так уж много людей, поддающихся влиянию новых теорий после того, как они достигли 25- или 30-летнего возраста, и потому идеи, которые государственные служащие, политические деятели и даже агитаторы используют в текущих событиях, по большей части не являются новейшими. Но рано или поздно именно идеи, а не корыстные интересы становятся опасными и для добра, и для зла.
Джон М. Кейнс3
Научная совесть автора обязывает его признаться в ограничениях своего метода и в бремени своего идейного выбора, бросающего тень на метод. Вот это признание.
Настоящая книга очерков исследует унаследованный и созданный мир, который открывался в сознании создателей сталинского коммунизма. Особенно – тот мир, который руководил ими – независимо от внешней истории – внутри, часто в подкладке партийной и доктринальной риторики и лексики марксизма-коммунизма, заставляя на практике подвергать их радикальной ревизии и подмене, меняя смысл и даже сам язык своей идеократической власти. Этот метаязык, язык описания общества, сложившийся в России к началу ХХ века, методом проб и ошибок выстроил целостный ландшафт политического языка. Как метаязык, «внутренний язык» описывал, то есть формировал, непосредственно картину мира, доктрины и образы в сознании русских революционеров, пришедших к высшей власти в 1910–1930-е годы. Он был свободен от принуждения к конкретной публичной лексике и риторике. «Наедине с собой» она была свободна от агитации и пропаганды. В этом ландшафте унаследованного ими языка главными были терминология экономической науки, философски обоснованные категории социальной практики, историко-политические аналогии, шаблоны, мифы, образцы, абсолютное большинство которых имело западное происхождение. Центральным моментом в истории этого наследства в России была середина XIX века.
Классик русской славистики В. М. Живов (1945–2013), вслед за общими наблюдениями В. В. Виноградова о том, что в той середине века на первый план вышел газетно-публицистический и научно-популярный язык, определённо указывает, что жертвой этого приоритета стала художественная литературность языка, а рост грамотности и читающей публики создаёт именно книжный рынок и центральное место в чтении – для толстых журналов. Развивая наблюдения современника правящих революционеров над их языком, В. М. Живов отмечает, что они не только вводят в общественно-политическую жизнь книжную философскую, экономическую и социологическую терминологию, но и делают их «коммуникативно избыточными»: «Это означает, что заимствования выполняют не прагматическую, а символическую функцию». Если в царской России «нелюбовь к заимствованиям оказывалась элементом официальной идеологии», то «изобилие заимствований в революционном языке оказывается, следовательно, манифестацией антирусской политики большевиков в 1910–1920-е годы»4. Славист подводит итог тому, какая судьба ждала оппозицию Россию и Запада при коммунистической власти: «русская революция обладает языковым компонентом, а в этот компонент входит усиленное использование «западных» заимствований». Можно смело продолжить этот диагноз, отметив, что такое избыточное, революционное заимствование касалось не только лингвистических, но и уже «натурализованных» в русской науке понятий, исторических образов, метаязыка. Здесь В. М. Живов близко подходит к описанию того, что я называю ландшафтом: «В стандартной коммуникативной ситуации пишущий выбирает из весьма ограниченного репертуара вариантных форм, а степень своего владения языковым стандартом демонстрирует за счёт иных языковых средств – за счёт лексического выбора и стилистики синтаксических конструкций»5.
Ландшафт дан, разумеется. отнюдь не только революционерам. Люди и общества в целом борются за выживание, власть и ресурсы, вырабатывая или наследуя ритуальный, политический и культурный язык. Государство – непрерывная материализация этого языка, результат его бесконечных усилий описать, то есть подчинить себе, окружающий хаос. По ландшафту этих описаний и следующих им перспектив и движется история обществ. Современный британский историк, исследуя аграрные реформы самодержавия, также вводит в свой лексикон понятие «рационального ландшафта», который – как «предзаданный план» – в её описании противостоит ландшафту физической географии и аграрного землепользования в России. Понятие это богаче простого его применения как синонима утопии: внедряя в русское сельское хозяйство фермерский образец, правительственные реформаторы следовали его семантической полноте: «опираясь на убеждение, что земледелие в России призвано пройти тот же путь эволюции к индивидуальному фермерскому хозяйству, какой оно прошло в Западной Европе, были уверены, что “сделали ставку на историю”. Сила этого убеждения не только влияла на цели реформы и правила, по которым она осуществлялась, но и представляла собой рамку, в которой понимались результаты реформы»6.
Семантический и символический ландшафт истории – не только проективное усилие реформаторов, или консервативная лоция обществ в их движении внутри истории, но и тот исторический объём сознания, внутри которого тоже протекает деятельность обществ, ставятся их практические задачи. Независимо от действительного расположения звёзд на небосклоне. В прямой связи с тем, как они расположены в его историческом сознании. Великий французский исследователь Мишель Фуко (1926–1984) ещё радикальней увидел этот ландшафт как архитектоническое единство, заставляя анализировать уже не просто культурную непрерывность влияний и традиций (которая может прерваться), а более глубокую его основу: «внутренние связи, аксиомы, дедуктивные цепочки, совместимости», «единый горизонт для столь различных и последовательно сменяющих друг друга смыслов… проблема не в традиции и следе, а в вырезе и границе»7.
Конечно, ничто в границах этого ландшафта не может удержать народы и государства от гибели. Но фаланги и «большие батальоны» проходят именно по этой ментальной земле. Даже безопасность и выживание обществ прямо диктуются географией и ландшафтом исторических угроз вне их конкретных идеологических толкований. В структуре исторических угроз важнее оказываются факторы их интеллектуального пространства: семантический консенсус, исторические прецеденты, история и география конфликта.
Создатель советской экономической географии,8 марксист конца 1890-х и социал-демократ вплоть до 1917 года Н. Н. Баранский (1881–1963) из глубины сталинского коммунизма, решавшего критически важную для него проблему экономического районирования и экстренного развития «стратегического тыла» перед лицом исторической угрозы с Запада и новой угрозы с Востока, смело соединял физический ландшафт с его общественным переживанием и, главное, почти прямо названной правящей волей: «географически мыслит тот, кто в достаточной мере привык обращать внимание на различия от места к месту не только по природным условиям, но и по историческим судьбам, и по общественным условиям, и по положению, и по хозяйству, кто привык свои суждения “класть на карту” (…) Географическое мышление – это мышление, во-первых, привязанное к территории, кладущее свои суждения на карту, и, во-вторых, связное, комплексное, не замыкающееся в рамках одного “элемента” или “отрасли”, иначе говоря, “играющее аккордами, а не одним пальчиком”…». Похоже, именно это мышление Сталин называл в 1930-е годы «высшей географией»9. Советский последователь Н. Н. Баранского пошёл ещё дальше и прямо соединил экономическую географию, историю и идеологический «отбор»: «Анализ экономико-географического положения приучает, во-первых, “мыслить территорией”, во-вторых, отбирать наиболее существенное, в-третьих, мыслить в историческом аспекте»10.
Это соединение хотелось бы назвать идейно-историческим ландшафтом, если бы перед моим исследованием стояла специальная понятийно-терминологическая задача. Это единое чувство физической земли и нефизической истории, острое понимание их мощной инерции и хрупкой уязвимости – ценная редкость. И оно вполне может быть одним из важных результатов исследования. Но для меня здесь важнее обнаружение исторического ландшафта политического действия, идеологии, творчества, «положенного на карту» суждения, символической власти или претензии на власть над территорией. Всё это вместе выражает себя через описание ландшафта, и такое описание является способом его контроля11.
Если, по точному слову Ханса Зедльмайра (1896–1984), задача истории искусства – получить «целостный рельеф эпохи»12 (а он имел в виду, прежде всего, историю «больших стилей» в искусстве, то есть историю культурных эпох), то главная задача идейно-политической истории – установление её «целостного рельефа» – идейного, институционального, культурного, политического, технологического, производственно-экономического ландшафта. Налицо и обратная зависимость: идейный ландшафт определяет направление потока риторики, образный строй искусства. Понятийный инструментарий политической мысли диктует набор инструментов политики. Исторический ландшафт всегда оказывается глубже и твёрже всех, кто хотел испытать его прочность. «Сломы, разрывы… никогда не разрубают всю толщину истории надвое», – пишет открыватель большого исторического времени13. Ландшафт этот создаёт «зависимость от пути» (path dependence): её описали экономисты С. Либовиц и С. Марголин (S. Liebowitz, S. Margolin), когда заключили важную мысль о том, что перспективы деятелей и их конкурентов в равной степени зависят не только от нынешнего их положения, но и от того, где они находились прежде (where we go next depends not only on where we are now, but also upon where we have been). В применении к истории России главное иностранное знание состоит в понимании того явного обстоятельства её природных и географических условий, что исторически низкая производительность её хозяйства является дефицитом прибыли для свободного экономического развития, требующего обеспечения безопасности: высокая себестоимость её производства есть высокая себестоимость её безопасности14. Другой западный систематик, экономист-институционалист, резюмирует уже общий характер даже этой специально российской зависимости, подводя итог вековому спору идеологов, учёных и практиков об исторической и полити- ческой роли географического фактора: «Спор о сравнительном значении географических и институциональных факторов – это спор не столько о том, влияют ли географические факторы на экономическое развитие, сколько о том, влияют ли географические факторы через формирование институтов или по другим каналам»15.
Но, кажется, внутри России это обстоятельство никогда не было выражено с достаточной экономической ясностью. Осознанная «зависимость от пути» чаще всего носила идеологический характер, который не описывал выживание в отдельных категориях развития и безопасности. Общества реализуют свою свободу, насколько она им дана, внутри языка описания, живя и развиваясь в его жёстких границах, в тех его «камнях, подводных мелях», что определил Велимир Хлебников (1885–1922) для навигации среди людей.
Общество ставит себе только поименованные им самим задачи, использует только понятные ему образы, определяет себе место только в описанной иерархии. Вся ближайшая к нам история говорит на самых революционных языках. Но даже революции, изобретая новый язык и новый порядок, изобретают их сначала в словах, выученных с детства, строя свой новый Вавилон из старого камня, как власти довоенного Ленинграда – тротуарный поребрик из могильных плит, хранящих дореволюционные надписи. И если Ленин говорил, что «коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество», то он вовсе не мечтал распустить свою коммунистическую партию для предварительной переподготовки. Он увенчивал своей Вавилонскою башней предыдущую цивилизацию и проверял унаследованный вокабуляр.
Массовые армии, массовый плен, массовое убийство, массовое колониальное рабство и массовый колониальный террор, который потом назовут геноцидом, – таков был привычный язык общества Просвещения и индустриального империализма, из которого черпала свой марксистский лексикон Советская власть. Современный немецкий философ Герман Люббе, открыто опасаясь реабилитации и самооправдания тоталитарного террора через обнаружение его корней в Просвещении, не может не признать того, что его корни лежат именно в Просвещении. Но тому, кто политически решил выработать «научное» противоядие против такой реабилитации, но не способен отбросить пропагандистское понятие «тоталитаризма», придётся пойти на историческую подделку – и перестать возводить его генезис к тотальности модерного индустриализма. Пока такое «научное» самоограничение разоблачителей тоталитаризма отдельно от разоблачения капитализма не стало фактом. Поэтому следует признать, что в нашем мире, что «возлележит», где государство – неизбежное зло, добровольный грех и единственный гарант доступной общественной свободы, Сталин – зло, равное злу капитализма, колониализма и империализма. Он не создал ни единого инструмента государственного террора, который не создали бы капитализм и Модерн. Осуждая Сталина, нельзя столь же решительно не осудить террор капитализма и колониализма. Как бы ни опасался реабилитации гитлеризма и сталинизма Г. Люббе, этика учёного заставляет его сказать, что «Просвещением порождены концепты как либеральной, так и тоталитарной демократии», что изобретённая просветительской Великой Французской революцией гильотина как инструмент «гуманизации», общественной «гигиены» и прав человека (что было внятно описано ещё Мишелем Фуко (1926–1984)16, но Г. Люббе не принято во внимание), «делает террористическое очищение общества технически возможным»17.
Перед лицом такого Просвещения, которое в ходе индустриальной демократизации в течение XIX века стало тотальным, после практически мгновенной гибели русской революции Октября 1917 года как части революции мировой – сталинский коммунизм в России имел только один исторический ландшафт, по которому ему предстояло идти. Этот ландшафт принуждал к социально истребительной индустриализации, угрожал расистским колониализмом, агрессивным национализмом, империалистическими этническими чистками и, наконец, прямым гитлеровским геноцидом. Здесь сталинский коммунизм пытался остаться в тесной экономической и технологической связи с Западом, ибо иного языка марксизма и индустриализма, кроме западного, не знал. Но Запад, защищая себя от угрозы «мировой революции», обратился к Советской России лицом этнократических диктатур и великодержавных демократий «санитарного кордона», изгнал коммунизм на колониальный Восток, чтобы тот разделил судьбу колониального Востока.
СССР пытался солировать в мировом хоре коммунистического пролетариата и антиколониальных движений Востока, а солировал в антикрестьянской гекатомбе «первоначального накопления» ради индустриализации и подготовки к войне, не выходя за пределы политического языка XIX века, не порывая с синтетическим, социально-экономическим шаблоном марксистского языка, в прописях которого России положено было умереть как государству вместе с царизмом и капитализмом. Но индустриального капитализма оказалось слишком мало крестьянской стране, погибшей великой державе, катастрофически превратившейся в объект колониального передела, – чтобы выжить. В век этнического национализма и национальных самоопределений советский коммунизм был им родной окраиной и провинциально пытался стать вполне «своим», а на деле – встал в один ряд с Китаем и Индией того времени, обречённый бороться за «Красный Восток», чтобы не стать колонией и вновь занять утраченное место среди великих держав. И, утверждая себя как оплот мировой революции, быстро превратил Коммунистический Интернационал из органа мировой революции (где Россия вначале была расходным материалом коммунистического глобализма) в инструмент своей суверенной внешней политики.
Сталинский коммунизм на пространстве Исторической России в главном всегда был языком европейского и модерного радикального индустриализма и традиционной массовой социальной нищеты. Он был обречён преодолевать свой исторический ландшафт, в котором страну, государственность и народ – без экстраординарных усилий – ждали смерть и растворение. И если политический язык Февраля и Октября 1917 года был подражанием французской истории от 1789 до 1871 гг., то язык сталинских 1920-х и 1930-х гг. был немецким – объединяющейся Германии и людоедского «первоначального накопления», протекционизма и колониализма в Англии и Голландии XVI–XIX вв., образцово описанных Карлом Марксом в первом томе «Капитала».
Противостоя колониальной экспансии машины германского милитаризма и индустриализма, Россия умерла в Первой мировой войне, но удивительным образом выжила в СССР и достигла апогея 9 мая 1945 года и в полёте Юрия Гагарина. И вновь умерла в СССР в 1991 году и теперь вновь ведёт историческую борьбу за своё место среди великих держав, чтобы не быть их колонией.
Но Модерн исчерпывает себя, уступая новому «новому средневековью». Ведёт радикальную борьбу против зависимости своего политического языка от того прошлого, что его формирует… Чтобы установить новую монополию на язык описания.
Исследователи слишком долго искали и находили в сталинском коммунизме частное, отдельное и локальное, революционное, присущее культурной и государственной традиции России, что пора найти в сталинском коммунизме и общее, генетически связанное с европейскими Просвещением и Модерном, их экспансией в мире. Общего в эпохе Сталина явно больше, чем частного. В современной политической риторике «западные ценности» – это «Сияющий Град на Холме» США, а до недавнего времени – Иисус Христос, Habeas corpus, Магдебургское право, «Об общественном договоре» Руссо. Однако на практике исторический Запад – это инквизиция, капиталистический геноцид, колониализм, расовая сегрегация и рабство, Гитлер и Хиросима. Нет зла, которое не вошло бы в эту практику. Сталин растёт из неё.
С этим не в силах согласиться те исследователи Сталина, стержневой пафос которых определяется не исследованием, а политической критикой сталинизма. Даже архивные источники встраиваются ими в горизонт исторических разоблачений, подчинённых партийной полемике, принуждающей читателя не к знанию, а к партийному выбору. Новый яркий пример превращения огромного количества переработанных важнейших архивных и иных данных по истории сталинизма в подкладку для пропагандистского примитива являет собой книга известного американского историка СССР Арча Гетти. На глазах читателя внутри одного текста и одного исследователя разворачивается впечатляющая борьба агитатора и историка, а источниковое богатство превращается в то, что академик Б. А. Рыбаков нам, студентам исторического факультета МГУ, на своей лекции квалифицировал как «рог изобилия наоборот». Книга А. Гетти – безусловный апогей западной советологии, ибо концентрирует в себе всё, что сказано в русской и западной публицистике против России за последние 200–300–400 лет, и видит своё достоинство в соединении всех мыслимых помрачений Исторической России в фигурах Сталина и Путина. Можно было бы отнести усилия А. Гетти к разряду лубка, но они на самом деле существенно резюмируют то, что в историографии противостоит той контекстуализации сталинизма, с которой намерен в этой книге выступить автор этих строк. Гетти пишет, что сталинизм выражает российские политические и культурные практики, глубинно, неотъемлемо, живо, фундаментально присутствующие в русской истории сотни лет – и поныне, «независимо от господствующей идеологии, религии или государственной программы»: персонализация политики, симбиоз личного и олигархическо-кланового правления, «пренебрежение к регламентированной бюрократии», простительное лишь в контексте (по сути – колониальной! – М. К.) отсталости России, располагающей её в одном ряду с модернизирующимися странами Азии, Африки и Латинской Америки. И самое, как, видимо, полагает А. Гетти, уникальное в вечных структурах и контурах русской истории, апогеем которых стал сталинизм: «сильное милитаризованное государство, личная автократия, прикрепление крестьян к земле»18. Создаётся устойчивое впечатление, что, находя вечную персонализацию политики в отсталой России, американец А. Гетти в странном полном ослеплении не видит её в истории, культуре и современности США, что он начисто не знает даже азбучных сведений о европейской и особенно западно-европейской истории, что он вовсе лишён представлений об исторической памяти западных народов. Но это нисколько не мешает А. Гетти вступить в заочный спор даже с теми, кто на Западе помещает сталинизм в контекст хотя бы современной ему истории Запада, включая Германию и США, после Первой мировой войны: эти критикуемые им историки, по его словам, игнорируют «глубинные структуры» русской истории потому, что сосредоточились на «идеологии модерна»19… И это значит, что «идеологию модерна» А. Гетти смог обнаружить лишь после Первой мировой войны…
Собственное же исследование сталинизма, предпринятое А. Гетти, способно поразить своим антиисторическим темпераментом даже исследователей и коллекционеров нацистской антикоммунистической пропаганды. Вот образец, так сказать, исторического исследования А. Гетти, увенчивающего собой целую традицию в западной науке о сталинизме:
«Поднимая тост в честь 20-й годовщины большевистской революции, Сталин открыто высказался за коллективную ответственность абсолютно досовременного типа: “И мы будем уничтожать каждого такого врага, хотя бы был он и старым большевиком, мы будем уничтожать весь его род, его семью” (…) Можно сравнить этот тост со словами Чингисхана: “Всякий, кто не подчинится и попытается сопротивляться, должен умереть, вместе с женой, детьми, родными и близкими!” Татарские потомки Чингисхана, правившие Россией, наверняка разделяли его взгляды. (…) Сталинисты исповедовали концепцию “объективной вины”, которая расширяла рамки коллективной виновности за пределы конкретных действий и даже сговора. Эта идея, изложенная наиболее чётко в “Слепящей тьме” Артура Кёстлера, заключалась в том, что даже личные сомнения человека в официальной политике равносильны измене ввиду их объективного эффекта. Русская православная традиция тоже признавала “грех помышлением”. (…) Сталин и большевики не сами изобрели коллективную вину, и Сталин не просто подражал Ивану IV. Практика коллективной ответственности и кары (круговая порука) имеет давнюю традицию в российской истории задолго до Нового времени. Ещё до татаро-монгольского нашествия первый русский свод законов XI в., “Русская правда”, возлагал на общины коллективную ответственность за преступления. (…) Хотя аресты и казни целых политических кланов прекратились, падение одного лица попрежнему влекло за собой падение всей окружающей его группы; как мы увидим, так обстоит дело и при Путине»20.
Тем временем, чуть в стороне от советологического комикса и лубка, тоже политический критик Сталина и, плюс ко всему, адвокат внешней политики США и Британии накануне 1939 года вынужден реконструировать «сталинскую систему мировых координат» как сталинскую картину мира – независимо от бредового винегрета из Чингисхана, Кёстлера, Грозного и Путина – созданную, в том числе, реальностью мировой политики его времени. Критик партийно предлагает видеть её чисто «марксистской», «сугубо классовой, ограниченной, преимущественно представленной в чёрно-белых тонах», диктуемой концептом «враждебного капиталистического окружения». Но даже критику, контрфактически уверенному, что никакого не спровоцированного большевиками «враждебного окружения» СССР не было в природе и что категории государственных интересов для Сталина якобы не существовало, приходится признать, что Сталину и СССР «приходилось считаться» с фактом межгосударственной конкуренции21. Можно сколько угодно верить в самозаконную опасность ленинско-сталинского коммунизма, порождающую даже нацизм (по уверению Эрнста Нольте), но одно лишь указание на его (по вкусу) либо марксистские, либо русские империалистические идейные корни автоматически помещает этот коммунизм в контекст исторической традиции и исторической памяти с их традиционными источниками угроз, конкуренции, центрами силы, приоритетами. Ведь не коммунизм же ХХ века породил мировую борьбу XIX века и мировую войну 1914 года. И не советский же коммунизм породил тот политический язык, на пространстве которого действовали его лозунги, оперировавшие идейными айсбергами империалистического Запада и колониального Востока. Как резюмирует К. Поланьи, созданные в 1917–1920 гг. новые государства и их режимы, «когда дым контрреволюции рассеялся» в Венгрии, Австрии, Германии, Финляндии, Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Болгарии, Италии, решили задачи национального освобождения и аграрный вопрос в духе революций XVIII–XIX вв.: «не только Вильсон и Гинденбург, но также Ленин и Троцкий в этом, широком смысле принадлежали к западной традиции»22. Осталось сказать, что они вообще, во всех смыслах, принадлежали к этой традиции.
Борясь против своего прошлого в его полноте, современный политический язык, оснащённый многочисленными гносеологическими и коммуникативными инструментами, начинает уничтожать своё прошлое так, что в его настоящем, в его практике не остаётся уже ничего, кроме «Краткого курса» любой партии. Исторический ландшафт покрывается новыми интеллектуальными ориентирами, призванными пересоздать язык, но бессильными изменить саму суть правящего социал-дарвинизма, который всё активней манипулирует коллективной памятью. Д. А. Юрьев точно отметил, что теперь человеческое «настоящее в каждый новый момент – одно, а прошлых – бесчисленное множество, и они меняются в зависимости от того, какое в данный момент случается настоящее». Задаваясь проблемой «политики памяти», операционализируя «историческую политику», современный лоцман всё менее нуждается в знании навигации и ландшафта – он всё более противостоит природному разнообразию исторического языка, заменяя его комиксом или лубком. Но, в отличие от мифов прежнего времени, сегодня этот лубок, чаще всего, – результат не массового сознания, а рациональной селекции и рациональной манипуляции им. Автор классического труда об «исторической политике» подчёркивает в связи с этим само свойство человеческой памяти, буквально взывающей к той избирательности, что он называет «политической памятью»:
«В отличие от технических хранилищ знания или архива, память не стремится к максимальной полноте; она вбирает в себя далеко не всё подряд, а всегда производит более или менее жёсткий отбор. Поэтому забвение является конститутивным элементом как индивидуальной, так и коллективной памяти»23.
В современности, особенно в нынешней современности, когда разрушаются даже модерные связи людей и сообществ и речь идёт о претензиях правящих заменить естественную социальную связь, социальную память – её рациональными симулякрами. Механизм таких исторически организованных символов или заменителей (субститутов) социального опыта применим и к рациональному построению идентичности. Они равно реализуются в том, что Поль Рикёр (1913–2005) определяет как «нарративную идентичность»: в процессе, акте «рассказывания» своей символической и мифологической истории. При этом общество в новых событиях само ищет знакомые образы и слова, старые обстоятельства и аналогии. Как сказал бы Марк Блок (1886–1944), ту рассказанную идентичность уже рассказали, придумали, создали другие, даже при том, что рассказ их устарел, а имена ничего уже не именуют: «Всё увиденное состоит на добрую половину из увиденного другими», «изменения вещей далеко не всегда влекут за собой соответствующие изменения в их названиях»24.
Управляемая, творящая, меняющая мир под себя, такая «историческая идентичность» неотделима от «исторической политики» любых властей и обществ, сколько бы ни твердили, что такая политика – дело только авторитарной идеократии. Она в любом случае тотальна и радикальна, принудительна и мифологична. Современный исследователь, излагая мысль польского специалиста по посткоммунистической Европе Гжегожа Экерта (Grzegorz Ekiert) о том, что «иного, кроме nation-building, способа включения сообществ в глобальные взаимодействия и даже просто сохранения за ними хотя бы минимальной субъектности не изобретено», сообщает:
«Nation-building как создание не простого энского общества, но хорошего энского общества, “завершённого политического блага”, требует решить, кто был богом, а кто дьяволом; что из бывшего, сущего и предстоящего должно рассматриваться как благо, а что – как зло»25.
Сегодня под «исторической политикой» в широком смысле в целом понимается политика единых ориентиров, единых формул описания26 прошлого с целью нормативного формирования (не только властью, но и любым институтом) партийного или общенационального единства, «политика памяти», историческая часть «национальной идеи». «Историческая политика» в нейтральном, в узком смысле – это критическое исследование, описание и распространение исторических знаний-интерпретаций. Это исследование первоначально производится как набор фундаментальных описаний и интерпретаций, подчинённых языку интернациональной науки, и лишь затем расширяется, переводится на язык политических задач, «демократизируется» в гамме учебников, имплементируется в широкой сфере культуры и создания идентичности, включая музеи, топонимику, туристические объекты, исторические символы, памятные даты, картографию, внутри и внешнеполитические исторические претензии, общегосударственные или партийные ритуалы, протокольные мероприятия27.
Оба вида «исторической политики» – широкое формирование и узкое исследование – одинаково, но с разной степенью интенсивности, находят или создают для общественного употребления образ общенациональной (партийной) миссии, жертвы, «исторического врага», чужого, другого. И это лишь подтверждает тот очевидный факт, что «историческая политика» – как всякое идеологическое творчество и культурное самосознание – существовала «всегда», во всём обозримом горизонте сообществ, владеющих чуть более сложными, чем простая космогония или мифология, диахроническими представлениями о человеческом мире. Можно сказать, что любые инструменты создания, сохранения и трансляции идентичности уже были инструментами «исторической политики» до того, как её назвали таковой. Так герой Мольера – Журден, на старости лет решив приобщиться к высокой культуре, – с удивлением обнаружил, что уже 40 лет говорит не как-нибудь, а именно «прозой».28
Творящий, избирательный смысл исторического знания, проективный и регулятивный, мифологический и утопический смысл массового исторического сознания давно выяснен как проблема. Чтобы претендовать на частичное отражение научной истины, исследователь должен избавиться от претензий на аутентичное историческое знание, потому что они делают даже прошлое объектом манипуляций, чтобы управлять будущим с большей диахронической глубиной и эмоциональностью. В манипулятивности состоит не только общее человеческих коммуникаций, но и изобретение правил исторического самопознания, осознанное в гуманитарных науках с конца ХХ века. В новом времени уже само именование ключевых фактов истории обнаруживает свою революционную силу, а язык описания так же начинает конструировать общество как «конструируются» нации, этносы, общества и государства. И это касается не только проектирования будущего: «История превратилась в процесс производства не только социальных и прочих интересов, но и коллективных смыслов…»29.
В центр исследовательского внимания с начала 1990-х годов входит «вневременная сила воздействия визуальных образов или символов, а также их историческая сконструированность»30.
В полях новых национальных историй посткоммунистического и постсоветского мира идёт бескомпромиссная политическая борьба, подкрепляемая карательными санкциями государства: например, «советская оккупация» стран Прибалтики в 1940 году служит в Прибалтике государственной истиной, а её отрицание – кодифицированным преступлением. Обычность этих манипуляций для новых национальных государств или новых в них политических режимов доказывает претензии их «исторической политикой» на первичное, лингвистическое проникновение в «самопроизвольную», «естественную», «автоматическую», «органическую» национально-общественную обыденность. Лингвистическое «переписывание истории» в интересах новой исторической перспективы, отмечает исследователь современных западных новаций, «…реконструирует не “историю прошлого”, но, скорее, “историю о прошлом”. Таким образом, история как наука… неизбежно есть акт речевой интерпретации. История как конструкт и “перевод” придала новый импульс исследованию культурного самосознания того и иного сообщества. В академической историографии всё чаще стало встречаться понятие “коллективная память”, напрямую связываемое с понятием “идентичность”. Такой подход, по сути, означает, что феномен социальной сплочённости скорее “изобретается”, а не “обнаруживается”, т. е. является сконструированным, а не объективно существующим и выводимым из реальной социально-экономической структуры общества»31.
Политические селективные манипуляции над исторической памятью не только созвучны естественному для общества самоочищению коллективной памяти от исторической вины (и встречное вытеснение её исторической доблестью)32, но и типологически близки, например, фальсифицированию «истории жертвы», «аутовиктимизации», что блестяще продемонстрировало разоблачение швейцарского писателя Биньямина Вилькомирского, в 1995 году придумавшего себе и художественно описавшего свою биографию как жертвы Холокоста. Исследователь скандала обоснованно привлекает к анализу этого литературно-морального повреждения книгу американского психолога Дэвида Шектера о «Семи грехах памяти», среди каковых выявляются «ложные воспоминания», внушаемость, блокирование «нежелательных» и фиксация на травматических воспоминаниях, избирательность и «выцветание» памяти33.
Лингвистический, понятийный, «ролевой» контроль над избирательностью коллективной памяти эффективен и тем, что может обойтись без сложных схем, обращаясь сразу к обществу в целом и, что особенно важно, делая это в момент порождения в нём навыков коллективного языка и коллективной мифологии. Он эффективен эксплуатацией того, что в теории риторики анализируется как «имплицитная семантика», исподволь встраивающая в систему понятий общества сразу весь необходимый контекст – подсознательные приоритеты именно коллективного исторического сознания34.
Так в главных характеристиках всякой «исторической политики», творящей новую национально-политическую идентичность, проступает заурядная идеократическая диктатура. Здесь вполне обоснованно звучит вывод Л. Г. Ионина, сделанный им в ходе исследования современной западной «политической корректности», контролирующей сознание большинства с помощью конструирования внешних для её интересов ценностей и стандартов: «любой “новояз” существует не сам по себе, а как орудие легитимации реальной политики»35. Учитывая большее творящее усилие не только языка самого по себе, но и руководящего им идеализма, противостоящего миру в процессе творчества, глубоко звучит формула Н. К. Гаврюшина: «Становясь реальностью, идеализм превращается в реализм тирании».
Всё это имеет довольно отдалённое отношение к критической полноте исторического знания, зато ярко описывает творящий пафос политика или историка. Сталинский академик С. И. Вавилов (1891–1951) писал в 1941 году по этому поводу так: «Историки, видимо, даже не имеют понятия о флуктуациях и статистике. Каждый выбирает флуктуации, подходящие под его схему. Представить себе, что так бы делали, например, изучая броуновское движение!»36 Французский историк, чьи суждения о методе следуют за исследуемым предметом, Жак Ле Гофф (1924–2014), как ему кажется, опровергает грубый произвол коллективного или индивидуального самоописания как самоопределения. Он пишет, цитируя:
«История, согласно Хайдеггеру, это не просто осуществлённая человеком проекция настоящего в прошлое, но и проекция в прошлое в наибольшей степени вымышленной части его настоящего; это проекция в прошлое будущего, которое он выбрал для себя, это история-вымысел, история-желание, обращённая вспять… Поль Вен прав в своём осуждении этой точки зрения, говоря, что Хайдеггер “всего лишь встраивает в антиинтеллектуальную философию националистическую историографию прошлого [XIX] века”…»37.
Придётся признать, что, выраженные как политические, претензии Ле Гоффа и Вена к Хайдеггеру не только слишком просты и поверхностны, но прямо противостоят растущей полноте современного знания о том, как сами же политизирующие историки (и Ле Гофф из их числа) подвергают свой предмет эквилибристическому препарированию, чтобы сделать из него острый (на деле – мифологически отупляющий) общественный инструмент.
Они разоблачительно вменили Хайдеггеру «девятнадцатый век»! Но что иное, кроме как XIX век национальных возрождений, национализма, протекционизма и милитаризма, служит сегодня и до сих пор, и всё более контекстом для абсолютного большинства властвующих «исторических политик» в Центральной и Восточной Европе, Прибалтике, Закавказье и Средней Азии? Разве что-то иное служит внешним актуальным образцом для властей современной России в поиске той «исторической политики», что могла бы построить (с учётом российских многонациональности и федерализма) исторический шаблон для общенационального единства? Потому и «академическое» презрение французского историка к утопической и интерпретативной силе истории выглядит неискренней претензией на обладание истиной, свободное от актуальности и контекста. Впрочем, и это академическое высокомерие Ле Гоффа, и моя гипотеза о возвращении контекста национализма находятся внутри единой исторической реальности, давно описанной великим левым мыслителем и – что очень важно, в 1940–1952 гг. – высокопоставленным сотрудником спецслужб и Государственного департамента США, стоявшим у истоков принципиальных решений США о послевоенном мироустройстве в борьбе против СССР и коммунизма. Это он, Герберт Маркузе (1898–1979), писал об этой реальности задолго до того, как она нашла себе частное применение в «исторической политике» США:
«В обществе тотальной мобилизации, формирование которого происходит в наиболее развитых странах индустриальной цивилизации, можно видеть формирование предустановленной гармонии между образованием и национальной целью; вторжение общественного мнения в частное домашнее хозяйство; открытие дверей спальни перед средствами массовой коммуникации»38.
На языке практики этот почти-эвфемизм о «предустановленной гармонии между образованием и национальной целью» означает тоталитарное по своим претензиям, принудительное соответствие полноты национального просвещения задачам национального (а также националистического и этнократического) властвования. Речь идёт о присущем современности – там, где она устойчива и функционирует как консенсус, – государственном, корпоративном и общественном идеологическом диктате в области массовой культуры и грамотности, острие которого и составляет «историческая политика». «Предустановленное», то есть руководящее, рациональное подчинение общенационального просвещения и воспитания – конструируемой национальной мифологии, – это та самая тотальность Модерна, которая демагогически разоблачает тоталитаризм вне себя. Практика же этого тотального Модерна сегодня – тоталитарные и агрессивные претензии новых националистических государств. Исследователь современного национализма в его западной практике, ещё недавно праздновавшей общегражданский «мультикультурализм», а ныне уничтоженной восстанием террористов и радикалов Магриба и Большого Ближнего Востока, свидетельствует:
«Методологический национализм провоцирует веру в изоморфизм пространства наций-государств и пространства культуры, тем самым он препятствует (как минимум, “препятствует”, на деле же рационально и последовательно исключает. – М. К.) видению действительной неоднородности культурного пространства, которое оказывается под контролем того или иного национального государства»39.
Потому лицемерна прикладная, в согласии с практикой «холодной войны» США, борьба, например, Ханны Арендт (1906–1975) в защиту личности против тоталитаризма, когда она сопровождается у неё апологией самозаконного языка, чьё отношение к обществу столь же тоталитарно. В зените своей борьбы против тоталитаризма она так излагала формулу Вернера Гейзенберга: «всегда, когда человек будет пытаться познать не самого себя и не что-то созданное им самим, он в конце концов столкнётся с самим собой, собственными конструкциями и схемами собственного действия»40. Елена Петровская, интегрирующая западную философскую традицию ХХ века в русский контекст начала XXI века, обоснованно отмечает: «всякий объект исследования необходимо построить или создать». Она говорит о том пределе создания и эксплуатации варварства, в коем избегают признаваться себе проектировщики «исторической политики»:
«…массовая культура – это не объект чистого манипулирования, но область активной переработки фундаментальных социальных и политических тревог, фантазий и переживаний. На уровне отдельного произведения эта переработка осуществляется таким образом, что “сырой материал” фантазий и желаний часто архаического толка выходит на поверхность только для того, чтобы подвергнуться вытеснению со стороны символических структур произведения, которые обеспечивают реализацию желаний лишь в той мере, в какой их можно тут же нейтрализовать»41.
Не только выявление, селекция, но и «приручение», эксплуатация и подмена исторического опыта (травмы, гордости, миссии) народа в интересах управления этим народом становятся сутью «исторической политики». Стержнем и текстом такой политики выступает не историческое исследование вообще, а то, что Ф. Р. Анкерсмит анализирует как «идеологический нарратив». Как научный метод – одновременно со становлением «исторической политики» как инструмента «холодной войны» против СССР – этот нарратив деградирует именно с точки зрения его научного качества. Он становится умозрением, «спекулятивной философией истории», не наукой, а предметом веры: «этот тип философии истории, начиная с 1950-х гг., несколько испортил свою репутацию. Спекулятивная философия истории была обвинена в получении псевдознания о прошлом. Говоря конкретнее, было показано, что спекулятивная философия истории есть часть метафизики, поэтому получаемое ею знание не столько ложно, сколько не верифицируемо»42. Но, несмотря на всю его архаичность и ангажированность, этот метод остаётся в центре «исторических политик»:
«Нарративные интерпретации обращаются к прошлому, а не корреспондируют и не соотносятся с ним. Современная философия исторического нарратива околдована идеей утверждений. Язык нарративов автономен в отношении прошлого… Нарративизм – это конструирование не того, чем прошлое могло бы быть, а нарративных интерпретаций прошлого… Нарративные интерпретации являются не знанием, но организацией знания… Современная историография основывается на политическом решении»43.
В этих точных и актуальных словах мало нового, но больше сложного и прикладного, чем по нынешним временам в слишком простых признаниях русского классика Б. М. Эйхенбаума (1886–1959), которые, кажется, прошли мимо сознания его многочисленных поклонников в России:
«…всякая теория – рабочая гипотеза, подсказанная интересом к самим фактам: она необходима для того, чтобы выделить и собрать в систему нужные факты, и только. Самая нужда в этих или других фактах, самая потребность в том или другом смысловом знаке диктуется современностью – проблемами, стоящими на очереди. История есть, в сущности, наука сложных аналогий, наука двойного зрения: факты прошлого различаются нами как факты значимые и входят в систему, неизменно и неизбежно, под знаком современных проблем… История в этом смысле есть особый метод изучения настоящего при помощи фактов прошлого. Смена проблем и смысловых знаков приводит к перегруппировке традиционного материала и к вводу новых фактов, выпадавших из прежней системы в силу её естественной ограниченности»44.
Даже научная, политически нейтральная история – осознанный отбор, речь и деяние. Она обнаруживается и как переживание, то есть изменение мира, и как язык описания практики, язык её изменений, и как создание исторического ландшафта, с которым имеет дело каждый исторический деятель. Этот культурный, языковой, политический, экономический, военный ландшафт и есть, собственно, весь наличный ландшафт истории, кроме её природных условий. Поэтому ландшафту или против него, по этому «дну возможностей», особенно значимому во времена катастроф, и предписывает следовать лоция институтов и пытается следовать навигация идей.
«Пересоздавать» эту и без того полуслепую навигацию по и без того полуслепой лоции с помощью разного рода моделей (абстракций, удобных для дидактики) – самое последнее, что может помочь исследованию. Новое исследование неизбежно устремляется прочь от моделей на ландшафт институтов и языка. Важно, что естественные науки и экономическая наука давно уже поняли, что эти модели и парадигмы – не более чем метафоры45, образы, карикатуры, воображаемое без связи с реальностью46, «эстетический образ парадигмы», предмет веры культурных и языковых сообществ47.
Вне исторической реконструкции языка описания можно увидеть лишь слепое движение примитивных, взаимно изолированных обществ – так, как диктуют им их природные условия, ритуальный опыт и органическое воспроизводство. На деле же доминируют не генеалогия, не диахрония, не рельсы, не русло, а их сеть, среда и ландшафт, исправляемые языком их описания. Поэтому в тех сложных обществах, где тотальный идейный диктат невозможен, «историческая политика» выступает не только как «политика памяти» или историография нации, но и как поле конкуренции разных «исторических политик». Равным образом, политическая сфера международных отношений является полем для инструментализации, навязывания стандартов, борьбы, сотрудничества, экспансии, «присвоения» государственных и общественных, национальных и блоковых «исторических политик», если таковые способны к самоорганизации и рационализации.
Но, учитывая всё выше сказанное, исследователь, по-видимому, должен отказаться от презумпции рационального поведения человеческих сообществ, рациональности их разнообразных интересов – даже с точки зрения простого эгоизма этих сообществ, от презумпции неизбежности или даже «нормальности» исторического выживания. Ничто не может гарантировать государствам и народам инерционного выживания. И рациональность их более чем условна, миметична, не очевидна. И органичность их исторических сознаний и тел столь же органически смертна. Их тела полны болезнями, не совместимыми с исторической жизнью. Но человек и сообщества одинаково ставят над собой эксперименты, где главным инструментом служит то, что Виктор Шкловский (1893–1986) назвал «энергией заблуждения». С чем сталкивается такая псевдорациональность сообществ? С хаосом других человеческих образов и воль, описать и предсказать которые эта рациональность может лишь постольку, поскольку она вообще способна формировать динамическую картину мира – его мыслительный ландшафт. Принудительная навигация по такому ландшафту, как минимум, не сразу приводит к национальному самоубийству и только поэтому создаёт иллюзию рациональности пути. В хаотической борьбе таких навигаций, страшно сказать, побеждает не школьная дидактическая рациональность, а физический потенциал, историческая мобилизация обществ, пафос и жертва, где главное – отнюдь не рациональность.
Русский гений Андрей Белый (1880–1934) в 1921 году в поэме «Первое свидание» так описал свою историческую эпоху, когда Сталин уже вышел на борьбу за высшую власть:
Я вижу – дующие зовы.
Я вижу – дующие тьмы:
Войны поток краснобагровый,
В котором захлебнулись мы…
…Что взрывы, полные игры,
Таят томсоновские вихри,
И что огромные миры
В атомных силах не утихли,
Что мысль, как динамит, летит
Смелей, прикидчивей и прытче,
Что опыт – новый…
– «Мир – взлетит!» —
Сказал, взрываясь, Фридрих Нитче…
Мир – рвался в опытах Кюри
Атомной, лопнувшею бомбой
На электронные струи
Невоплощенной гекатомбой.
Эта предсказанная Андреем Белым Хиросима – для России воплотилась ещё до Хиросимы. Индустриальная культура и биополитическая наука европейской современности, поставившие своей задачей пересоздание самой жизни, тотальная капиталистическая, революционная и военная социальность как тотальный социальный контроль Нового времени – стали вызовом Запада его исторической окраине – России. Перед Советской Россией легла определённая и внятно высказанная перспектива – стать ещё одной Индией и ещё одним Китаем для колониального мирового разделения труда в интересах индустриального империализма. И Советская Россия, став окраиной провалившейся мировой революции, решила стать локомотивом антиколониального восстания «Красного Востока», применив опыт индустриальной эксплуатации, чтобы ответить на вызов капиталистического модерна – утопией изолированного коммунизма. В этой «национализации» коммунизма СССР следовал западному образцу – национально-освободительному и патриотическому мифу Германии.
Отвечая на вызов индустриального Запада, подражая ему, подстраиваясь под него, защищаясь от его миссионерских и колониальных притязаний, технологически и культурно примеряя их к себе, борясь против них за государственное выживание – сначала против империалистической экспансии Швеции и Польши XVI–XVIII вв., затем против экспансии Франции и Германии XIX–XX вв., с опорой на свой тыл на Урале и в Сибири, – Россия, вслед за другими историческими жертвами Нового времени, была обречена на гекатомбу, которая столь естественна для этого времени и уклада, но совершенно не рациональна для любой сферы человеческой деятельности, кроме тотальной войны. И образ этой войны, наряду с образом тотальной мобилизации, оказался способом рационального выживания. Жертвы и логика сталинизма, продиктованные индустриализмом, тотальной войной, национализмом и милитаризмом Запада, получили своё высшее выражение в самоотверженной Великой Отечественной войне нашего народа, когда альтернативой победе был геноцид и смерть государственности Исторической России.
Эта жертва безальтернативна, но никак не может быть принята до конца. Эта жертва незабываема.
Большой стиль Сталина "GESAMTKUNSTWERK ALS INDUSTRIEPALAST"
На всей земле был один язык и одно наречие…
И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли… И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город [и башню]. Посему дано ему имя: Вавилон.
(Бытие. 11, 1–5)
Умолчания
Наиболее популярной и эвристичной формулой описания сталинской культуры (культуры СССР эпохи Сталина, 1920–1950-х гг.) в современной мировой науке является понятие-теория, которую почти 30 лет назад выдвинул известный исследователь современного искусства, выходец из СССР Борис Гройс48. Он подробно, хоть и провокационно, описал, почему культурную эпоху Сталина, равно как и правящий сталинизм в целом, можно назвать Gesamtkunstwerk Stalin – всеобщее / всеохватное – тотальное искусство Сталина49, – потому, что Сталин демонстрировал столь же сильную творческую волю к власти над обществом и природой, как демонстрировал её русский и советский авангард. Независимо от того, как теперь используется эта удачная формула, в восприятии которой, как представляется, преобладает её толкование как целостного, всепроникающего «большого стиля», изначально Б. Гройс поставил перед собой отчасти иную задачу. А именно – «описать сталинизм как эстетический феномен, как тотальное произведение искусства», в котором «тотальное подчинение всей экономической, социальной и просто обыденной жизни страны единой плановой инстанции, призванной регулировать даже её мельчайшие детали, гармонизировать их и создавать из них единое целое, превратило эту инстанцию – партийное руководство – в своего рода художника, для которого весь мир служит материалом, при том что его цель – “преодолеть сопротивление материала”, сделать его податливым, пластичным, способным принять любую нужную форму»:
«совпадают авангард и социалистический реализм, под которым здесь понимается искусство сталинской эпохи, и в мотивации, и в целях экспансии искусства в жизнь – восстановить целостность Божьего мира, разрушенную вторжением техники, средствами самой техники, остановить технический и, вообще, исторический прогресс, поставив его под тотальный технический контроль, преодолеть время, выйти в вечное»50.
Здесь происходит, может быть незаметный с точки зрения теории, но с точки зрения истории и истории искусства – явный сбой: родня сталинскую власть, ставшую личной диктатурой Сталина только на рубеже 1920–1930-х гг., с художественным авангардом, в лице футуризма (особенно) пришедшего к культурно-политической власти в России уже на рубеже 1917–1918 гг., Б. Гройс, похоже, плохо понимает историческую эволюцию диктатуры в абсолютно крестьянской стране, каковой вплоть до начала 1930-х годов была Советская Россия и образцов которой в Европе 1920–1930-х было более чем достаточно. Они оставались авторитарными, пока надстраивались над демографически и социально преобладающими крестьянскими массами, они становились тотальными, когда начинали не только политически, но и экономически подчинять себе крестьянское большинство, например, путём принудительной коллективизации, как в СССР. В таких исторических условиях, перед лицом самодостаточного и социально-экономически всеподавляющего «крестьянского океана», говорить о всепроникающей тотальности власти в СССР не имеет никакого смысла, ибо это не имеет никаких фактических оснований51.
Если творцом-художником коммунистическую диктатуру сделал уже действующий тотальный контроль, то есть «тоталитаризм», а не авангардные тотальные претензии на этот контроль над всем живым и мёртвым как материалом, то речь может идти не о «тотальном подчинении всей… жизни страны», а лишь о желании этого – скорее умозрительном и безответственно художественном, чем о практическом и властном. Потому что «художником» коммунистическая диктатура стала уже в 1917 году – при Ленине, а используемый ею «тоталитаризм» построила лишь после этого – лет через пятнадцать, при Сталине. Но тогда логичнее говорить о «Ленин-стиле», который, при всей его политической революционности, отнюдь не характеризуется тотальностью и, главное, в области искусства совершенно чужд авангарду, оставаясь в художественном отношении, как минимум, консервативным, а на деле – просто творчески ни на что не способным. Но яркой теории прощаются эти натяжки.
Более всего странно то, что – ради превращения русского авангарда в соучастника сталинского коммунизма, выдвигая эту свою яркую теорию в Германии в 1987 году, Борис Гройс умолчал, что образ Gesamtkunstwerk, идущий от «синтетического искусства» Рихарда Вагнера52, за сорок лет до этого громогласно и эффективно (не только для немецкого мира) применил к сфере искусства, культуры и общества классик истории искусства, офицер двух мировых войн и бывший нацист Ханс Зедльмайр (1896–1984). Б. Гройс умолчал, но прибыв в Германию из СССР ещё за десять лет до смерти Х. Зедльмайра, он явно не только следовал его понятию-термину, но, и вступал в полемику с его историческим применением, не называя имени автора. При этом труды и личный политический опыт Х. Зедльмайра заставляют нас увидеть в сталинизме именно то, что в нём присутствует больше, шире, интернациональнее, чем простое умозрительное родство русского авангарда с коммунизмом, его исторический контекст – общеевропейский индустриализм, рационализм и позитивизм. Это умолчание на деле не является случайным и открывает большую историографическую перспективу, равно затрагивая адвокатов революционного авангарда и адептов Большого стиля, которым естественно видеть в сталинизме – исторически последнюю его попытку и отражение.
Например, исследователь теоретиков и практиков советского «коммунистического футуризма» («комфутов») и «производственников» И. М. Чубаров выступает на их защиту от вменяемого им сталинского родства. Он обращает внимание на то, что их апология производства, их индустриализм для масс имеет своим центром обычную проблему организации и человеческого развития труда. Он, видимо, предполагает (и верно предполагает), что для коммунистических практиков, особенно сталинского поколения, в центре системы принудительного труда стояла не философия его модернизации вообще, а проект мобилизации трудовых ресурсов для политико-экономических задач государства, инструментализация давних традиций индустриальной биополитики, а не подчинение её риторическому пафосу «освобождения труда». Конечно, их роднит само просвещенческое и модерное отношение к человечеству как воспитуемо-манипулируемой массе, где все её «воспитатели» – одинаково видят себя творцами истории53, но фокусирование политической воли большевиков в «творческой» фигуре их «теурга» Сталина не может скрыть их, практиков, принципиального отличия от теоретиков авангарда (считать ли важной эту разницу между кабинетным революционером и его военнополевым однопартийцем во главе «железного батальона пролетариата» – дело личного выбора кабинетного исследователя). И. М. Чубаров это отличие считает важным и изящно подменяет проблему проектного творческого произвола – проблемой подчинения творчества произволу:
«Производственники ратовали за новый социокультурный статус художника, предлагая ему… становление пролетарием и, наоборот, становления пролетария художником… Последнее оставалось, конечно, в условиях 1920-х годов не более чем благим пожеланием, слабым звеном в аргументации производственников, которое перехватывалось идеологической машиной государства, легко подменяющей утопии творчества идеологемами труда (…) Из противопоставления труду творчества, а одинокой личности художника – коммунального тела “пролетариата” мы и предлагаем интерпретировать “утилитаризм” производственников, критику ими автономии искусства, только на первый взгляд противоречащие ранним футуристическим манифестациям и теориям ранних русских формалистов. Это соображение опровергает модную идею, что комфуты и производственники были крестными отцами социалистического канона и “стиля Сталин” (Б. Гройс). Различия были здесь принципиальными. Ибо даже рьяно отстаивавшийся производственниками тезис о растворении искусства в общественном производстве не предполагал торжества миметической модели ”Государства” Платона, а отмечал переход искусства от станка, музея и салона в саму социальную действительность в формах художественно оформленных элементов быта, новых вещей и освобождённого от эстетства и иллюзионизма языка (…) Это форма производственного искусства, понимающего себя как вид коллективного художественного труда, т. е. социальной практики, направленной на революционное преображение общества и создание нового типа (ненасильственных) отношений между людьми (…) Имелось в виду возвращение искусства в социальную жизнь, а не наоборот, превращение жизни в род искусства, с сохранением экономических и политических институтов и имущественных отношений, как при фашизме и сталинизме»54.
Так получается, что революционный авангард, ещё вчера риторически побеждавший модерное «пересоздание жизни» футуристической «победой над солнцем», лукаво и смиренно стал дизайном на службе индустриального быта, – лишь бы не делить ответственность с политическим коммунизмом и свести своё участие в социальном перевороте к социальному вегетарианству ненасилия и конформизма, то есть к добровольному подчинению тому же самому коммунизму.
Мне представляется слабой такая линия адвокатирования. Другой современный исследователь русской культуры первой трети ХХ века уместно обращает внимание на то, что – больше библиографически – известная революционная книга Николая Пунина и Евгения Полетаева «Против цивилизации» (1918) создаёт «образ сверхчеловеческой реальности нового героического масштаба. Это новое общество… лишено собственно социального измерения и строится согласно моделям природного и технического автоматизма. Оно будет чисто эстетическим феноменом, сгустком энергии невиданной силы, которая станет источником необычайного расцвета бесцельного и иррационального творчества – чистого активизма по ту сторону искусства и политики. (…) Сила, власть становятся формами искусства. Конструкция государственной машины уподобляется композиции художественного произведения. Искусство, как и власть, имеет дело с чрезмерностью, редкими всплесками энергии, бесцельными и потому прекрасными»55.
Предъявив усилия оппонентов, откроем внутреннюю логику формулы Гройса, хорошо демонстрирующую, почему аргументы против нисколько эту формулу не задевают. В описании Гройса сталинизм и присоединяемый к нему в соучастники русский авангард – это противопоставленный одновременно и пафосу «естественного человека» Просвещения, идеалу Великой Французской революции, и расовой теории нацизма, «проект построения абсолютно нового общества». Проект, враждебный одновременно старому обществу и природе56:
«Там, где была природа, должно стать искусство… Эта воля к радикальной искусственности помещает советский коммунистический проект в художественный контекст… Само советское государство рассматривается здесь как произведение искусства и одновременно его автор… В контексте русской культуры ХХ века, да и в интернациональном культурном контексте, русский художественный авангард занял самую бескомпромиссную и одновременно влиятельную позицию, направленную против природы и естества… Основной целью русского авангарда было создание Нового Человека, нового общества, новой формы жизни… Русский авангард рассматривал себя не как искусство критики, а как искусство власти, способное управлять жизнью российских граждан и всего мира. Эта установка полностью совпадает с установкой социалистического реализма»57.
Изображённый таким образом, но поставленный вне Просвещения и прогресса, совместный проект сталинизма и русского авангарда появляется принципиально из «ниоткуда» и повисает в воздухе, вне контекста и предысторий, интернациональной исторической перспективы. Словно он не имеет никакого отношения к богато явленным на Западе социалдарвинизму, принудительному труду, социальному контролю, милитаризму, информационной войне, социальной гигиене и педагогике, колониализму, «войне на уничтожение», полицейской и индустриальной биополитике, наконец. Словно до русских авангардистов и коммунистов в мире не было сциентизма, индустриализма, национализма, концентрационных лагерей, этнических чисток, массовых пыток и казней колониализма и террора.
Но нет – Гройс о коммунистическом терроре всё же знает и не только делает русский авангард со-ответчиком по историческому делу сталинизма, но и привязывает его к этому самому зловещему и этически уязвимому месту в его репутации – террору:
«Художники русского авангарда тоже были, как минимум, безразличны к физическому уничтожению своих противников в период постреволюционного красного террора, предшествующего сталинскому террору. Разумно предположить, что и их противники вряд ли сильно протестовали бы против уничтожения своих оппонентов в случае возможной победы белого террора».
Б. Гройс верно отмечает, что, по сравнению с русским авангардом, собственно сталинский (послеленинский) культурный проект, «парадигма социалистического реализма менее репрессивна и более плюралистична, нежели, к примеру, парадигма супрематизма, поскольку соцреализм позволяет использовать гораздо более богатый лексикон художественных форм, включая формы, заимствованные из исторических традиций»58. Описывать эти отношения авангарда и коммунизма как отношения децентрализации и централизации – нет ни малейших оснований.
Так почему же Б. Гройс, неуязвимый для критики со стороны мифических «децентрализации» и «ненасилия», хорошо чувствующий тотальный пафос Gesamtkunstwerk, демонстративно отказывается от помещения его в естественное пространство Большого стиля?
Представляется – потому, что одного лишь указания на проективный пафос борьбы с природой явно недостаточно, а идеологические препятствия, создаваемые очередным разоблачением сталинизма как
«утопии у власти», – слишком велики, чтобы найти этому Gesamtkunstwerk адекватное место не только среди его корней, но и в его эпохе. Именно поэтому Х. Зедльмайр, указывающий на соприродность этого сталинского Gesamtkunstwerk его эпохе, и не был востребован в описании Stalinstil – и поэтому Б. Гройс «провокационно» маргинализовал сталинизм как тотальный творческий акт авангардно-коммунистической власти, настолько якобы самодостаточный, что от него даже тени не пало ни на Просвещение, ни на Модерн, ни на индустриализм с его капитализмом59. «Тотальная мобилизация во имя формы» – громко звучит в исследовании Б. Гройса60, но какой формы? Формы чего? Как именно мыслимой и как именно изображаемой формы?
Справедливости ради надо сказать, что красноречивое (громогласное!) умолчание в Германии – при обсуждении Большого стиля – не только о Х. Зедльмайре, но даже о Р. Вагнере, продемонстрировал и такой авторитетный, смелый, отлично интегрированный и административно успешный немецкий философ, как Герман Люббе. Будучи в этом случае либеральным критиком тоталитаризма и исследователем его Большого стиля, Г. Люббе стыдливо возводит проект тотального искусства к Ф. Ницше, к его словно ниоткуда появляющейся фразе «Культура – это, прежде всего, единство художественного стиля во всех жизненных проявлениях народа». При этом в предметном толковании Большого стиля на примере соединения «Авангардистского искусства и тоталитарного господства» Г. Люббе обнаруживает ценную наблюдательность. Например, в области «политики памяти» не произнесённый им Gesamtkunstwerk на самом деле являет собой творящую универсальную волю, подчиняющую себе не только проектируемое будущее, но и представленное в настоящем прошлое: «Тот, кто стремится сделать культурное господство нового действительно универсальным, не имеет права колебаться перед немедленным сносом в духе культурной революции реликтов старого, устаревшего»61. Для столь мощной тотальности Г. Люббе использует заведомо более слабое имя «единство стиля», но описывает его интернациональный и целостный предмет весьма узнаваемо:
«Для утверждения “единства стиля” – внесения как можно большего единства стиля во все жизненные проявления – в контексте общества модерна необходимы тоталитарные средства. Тоталитарную эстетику можно определить как эстетику политически господствующей воли к единству стиля. Архитектурной манифестацией тоталитарной воли к единству стиля нужно, естественно, считать тот богатый на вариации неоклассицизм, которым пользовались фашисты, национал-социалисты и большевики в Европе межвоенного периода с поразительным эстетиче- ским сходством поверх острых идеологических разногласий».
Эта формула точна, но мало применима к истории. Она, во-первых, заставляет искать зыбкую грань между, например, авангардной и конструктивистской эпохой советского коммунизма с её совершенно тотальными претензиями и его же неоклассическим «сталинским ампиром». А во-вторых – обрекает на безрезультатный поиск границ между архитектурой тоталитарных государств и архитектурой современных им столь же индустриальных и европейских (но демократических) государств. Ведь в качестве манифестаций «единства стиля» К. Люббе называет не только постройки тоталитарных государств, но и архитектурную среду Лондонского университета, женевские здания Лиги Наций, городской музей в Париже, парламент Финляндии, упоминает «большое количество» подобных построек того времени в США, Швеции, Норвегии и др. И не только не пытается обнаружить в них тоталитарность, но и фактически признаёт, что «архитектурная манифестация тоталитарной воли к единству стиля» либо присуща всей эпохе, либо присуща всей географии модерна, либо не является специфически тоталитарной:
«Архитектурный монументализм межвоенного периода был общеевропейским явлением, причём таким явлением, которое совершенно индифферентно ведёт себя по отношению к господствующим в разные времена идеологическим и политическим опциям. Либералы, национал-социалисты, интернационал-социалисты – все они в различных модификациях использовали указанный стиль. Поэтому не эстетика этого стиля является фашистской или какой-то ещё тоталитарной, а политическая воля к единому стилю…» 62
Этот пример тщетных попыток Г. Люббе избежать признания архитектурного единства нацизма и сталинизма с демократией ясно показывает, что без понимания тотальности единого ландшафта индустриального модерна (равно для демократий и диктатур) вычленение «тоталитарной воли к единству стиля» специально для диктатур просто не имеет смысла. И сама эстетика гигантизма и мегамасштаб архитектурно выраженной политической воли этой эпохи должны быть признаны равно характерными для либеральных демократий и диктатур63. Это неизбежно заставит искать для них нечто ещё более общее, нежели эстетика и индустриальный уклад, что подвергнет стройную дидактику теории «тоталитаризма» неприемлемому для Г. Люббе сильному риску ревизионизма. И научно разрушит её, как слишком простой комикс.
Фабрика
Обратимся, наконец, к труду Ханса Зедльмайра «Утрата середины» (1948), проигнорированному Б. Гройсом и Г. Люббе в их борьбе против советского коммунизма и тоталитаризма вообще. В нём дано ёмкое определение Gesamtkunstwerk как «истинного стиля» для разных эпох:
«все искусства в своих областях должны нести отпечаток одного и того же основного характера, как бы регулироваться из одного тайного жизненного центра… В полном смысле слова “единый” стиль существует только там, где искусство становится на службу одной совокупной задаче, а обширные области гештальтов остаются за пределами искусства. Отсюда – величественное стилистическое единство всех ранних периодов развитых культур, в которых мощный, сакрально единый гезамткунстверк64 в качестве властной упорядочивающей силы всех искусств – а не только изобразительных – ведёт их своим путём. На Западе это непоколебимая стилистическая надёжность романского искусства, в основе своей знающего только одну задачу: Дом Божий (Dom) [Храм. – М. К.]»65.
Этот Храм, модель мира, реализует себя в разные эпохи как церковь, или замок, или (в барокко) как их синтез в монастыре. Видно, что схеме всепроникающего, тотального стиля историк кладёт живые реалистические пределы, для Gesamtkunstwerk считая достаточной только уже «одну задачу», волю к власти, моноидею, фокус, служащий центром бесконечной экспансии стиля внутри его реальной истории. Далее первое, что бросается в глаза русскому читателю этого труда, – это то, что Х. Зедльмайр в своём впечатляющем исследовании Gesamtkunstwerk – по свежим следам Третьего Рейха и с понятной сдержанностью в отношении советского «Третьего Интернационала» – прямо фиксирует свою интеллектуальную связь с кризисным религиозным, нереволюционным опытом русской социально-христианской и традиционалистской мысли: активно использует формулы Бердяева, Вячеслава Иванова, Владимира Соловьёва. Даже русский авангард и его генетика от Гегеля и В. С. Соловьёва важны для автора потому, что их «основной пафос состоит в требовании перехода от изображения мира к его преображению»66.
В масштабной исторической перспективе Х. Зедльмайр формулирует мощный исследовательский миф, выбирая его кульминационной точкой Французскую революцию. Он пишет, как перед Французской революцией 1789 года, примерно в 1760 году, «разразилась внутренняя революция невообразимого масштаба», «чудовищная внутренняя катастрофа»: «сложившееся тогда положение дел не удалось преодолеть ещё и сегодня, – ни в области духа, ни в практической области». Катастрофа состояла в том, что на второй план в создании искусства и архитектуры ушли главные задачи искусства: строительство синтетически церкви и дворца-замка прежних эпох были заменены на тот момент более дробными и прикладными задачами: строительства ландшафтного парка, архитектонического памятника, музея, театра, выставки, фабрики. «В отличие от прежних общих задач, в отличие от замка и церкви, новые задачи уже не представляют собой гезамткунстверков, которые указывают изобразительным искусствам их прочное место и чёткую тему. (…) Ничто так не иллюстрирует характер [этой] эпохи, как эта триада: памятник – тюрьма – музей. Во времена Французской революции во дни государственных праздников монументализация охватывает и человеческие массы. Вокруг алтарного куба собираются в могучие геометрические блоки безжизненно застывшие войска и народ: впервые именно в режиссуре этих государственных действ подчинение человека толпе становится непосредственно доступным взору»67, пишет историк. Но наступил XIX век – и на волне мощной индустриализации в Англии, Франции, германских землях новый Gesamtkunstwerk стала являть собой индустриальная архитектура:
«В [18]30-е годы утилитарная постройка [фабрика] и жилище становятся на короткое время задачами, таящими в себе лучшие и самые свежие достижения, в 1830–1850-е появляются предмодерные масштабные постройки выставок и рынков – из железа и стекла, авторами проектов которых становятся архитекторы, родившиеся в первые годы XIX века и впитавшие с младенчества образ мира французской революции и Бонапарта. – и так до столетия революции – Всемирной выставки в Париже в 1889 году и строительства Эйфелевой башни. Проект культурно-промышленной выставки появляется как единый Gesamtkunstwerk. Вавилонское соревнование науки и техники с Богом становится в повестке дня: “В течение XIX века всевозрастающее вторжение техники в жизнь Европы и вызванное ею разложение привычной целостной картины мира постепенно привели к переживанию смерти Бога или, точнее, убийства Бога, совершенного новым технизированным человечеством”»68.
Здесь следует добавить, что Эйфелева башня, построенная к Всемирной выставке в Париже 1889 года, отмечавшей столетие Великой Французской революции и внятно конкурировавшей с выставкой 1851 года в Лондоне, могла толковаться не только как ответ на её «Хрустальный дворец» (о его присутствии в идейно-архитектурном контексте см. ниже), но и выглядела как завершённая до небес Вавилонская башня, основанная на мощном фундаменте.
В описании очередной модерной выставки, немецкой художественно-промышленной выставки в Дрездене 1906 года, русский экономист А. М. Рыкачёв (1876–1914) прямо вспоминал опыт лондонской выставки 1851 года, где, по его мнению, «коммерческие успехи молодой капиталистической промышленности стояли в печальном противоречии с качеством продуктов, с их эстетической ценностью». Теперь же, цитирует обозреватель участника выставки в Дрездене, производителя типовой массовой мебели, «мы должны вывести новый стиль мебели из духа самой машины». Несомненно, видя, но не произнося внятную аллюзию на «Рождение трагедии из духа музыки» Ф. Ницше (1872), русский автор договаривает немецкого производителя и ставит культурную задачу: «Вывести новый стиль из духа машины»69.
Новый дворец
Важно, что одновременно с индустриализацией меняется представление о призвании архитектора и, значит, синтетического творца Gesamtkunstwerk: «Архитектор, который превратился в конструктора, хочет быть чем-то большим, чем просто конструктором зданий. Он становится реформатором жизни, реформатором-утопистом»70.
«Смерть Бога» делает необходимой замену религиозной санкции в деле утверждения целостности мира – на технократическую71. При этом зыбкость границ для творческого произвола – даже производимого на позитивной основе инженерной и технической мысли – ясно осознавалась и таким самостоятельно (в рамках коммунистического марксизма) мыслящим философом, как М. А. Лифшиц (1905–1983):
«Представьте себе, что перед нами не художник, а изобретатель. Он руководствуется принципом целесообразности. Это понятно. Но что если бы он однажды начал создавать не целесообразные конструкции, а те, которые соответствуют его эпохе… остаётся только неопределённость с одним критерием – не так было в другие эпохи». Здесь просматривается вопрос о стержне, критерии Большого стиля эпохи, лишённый ясности для М. А. Лифшица как антисталиниста:
«Возможно ли наше участие в эпохе? Почему так фатально? Чем руководствовались те, кто создал эту эпоху, которая подчиняет нас себе? Почему именно такой должна быть наша эпоха? (…) “культ” [Сталин. – М. К.] вынужден был бороться против своей исходной среды, которая сплошь пропиталась мелкобуржуазным “преображением жизни” (Город против крестьянского нигилизма, хотя и деспотически)… Государственный социализм Сталина как протекторат Кромвеля был более широким и прогрессивным (…) Нужно смотреть в корень явления, в истоки его, тем более, что так сейчас во всём мире. Отсюда это распространение модернизма, отсюда этот экзистенциализм, эта жажда свободы от “Man”. И оборачивается это потом тоталитарным Heimatkunst. Это, так сказать, возвращение блудного сына домой»72…
Создал ли евроатлантический индустриализм в целом свой особый Gesamtkunstwerk, которому наследовал Сталин? Или индустриальный Gesamtkunstwerk создал только Сталин? Был ли вагнерианский коммунистический проект «тотального искусства» – ядром сталинского проекта73? Как минимум, видно, что это индустриальное «тотальное искусство» было неотъемлемой частью индустриально-полицейской биополитики Просвещения и Нового времени, в недрах которых вырос, созрел и предельно инструментализировался язык коммунизма и сталинизма.
Уже в XIX веке индустриализм торжествует, распространяя свои претензии на ландшафт, а главными характеристиками новых утилитарных архитектурных мегаобъектов становятся, по словам Зедльмайра, «объединение пространства, единое пространство, подавляющее, чуть ли не космических размеров», «плоский свод, утверждение ширины». Но при этом, по мнению Х. Зедльмайра, в XIX веке отсутствует единый стиль, процветает «стилистический хаос»74… Gesamtkunstwerk Вагнера сам по себе не находит себе центрального образа в фабрике, а она не демонстрирует свои тотальные претензии на организацию не только искусства, но и жизни. Но уже первые аккорды советского коммунизма определённо вменяют вагнерианскому тотальному сверхтеатру, к которому автоматически апеллирует революционная интеллигенция, выросшая в культуре XIX века, именно сверхфабрику как главный экономический и технологический итог XIX века. Когда известный левый, но традиционалистски настроенный историк литературы П. С. Коган – президент РАХН (ГАХН), то есть настоящий генерал советской культурной и научной политики, – выступил с недостаточно революционной доктриной театра, он тут же – и что важно: изнутри глухой интеллигентской оппозиции Советской власти – был подвергнут критике за недостаточную радикальность программы. Вот что писал рецензент в известном органе литературной фронды:
«Заявляя, что “искусство должно стать ликующим трудом, а не развлечением” (стр. 42), П. С. Коган готов превратить театр в некую тоскливую артельную мастерскую в то время, как коммунистические идеалы говорят о фабриках-дворцах, стремятся облагородить повседневный труд искусством, стремятся ввести элементы искусства и красоты в весь будничный обиход человечества»75.
На смену феодальной Вавилонской башне дворца-замка, спасительно замыкающего в себе изолированное биологическое убежище Ноева корабля-ковчега и религиозное единство-убежище храмового ковчега (нефа), приходит агрессивно-индустриальное соединение ландшафта и ковчега – Вавилонская башня большого индустриального объекта, будь он выставкой или фабрикой (и «Титаника» – как индустриального ковчега). Х. Зедльмайр пишет: «Около 1900 года ведущей задачей становится “дом машины”. Впервые ведущие художники начинают оформлять гаражи, фабрики, вокзалы, позже аэровокзалы… На примере фабрики отчётливее всего прочитываются новые идеалы»: «единое пространство, только задним числом расчленяемом на составные части», «отказ от монументального», экономичность. И далее:
«Поколение [архитекторов], родившись около 1885 года, искореняет последние остатки монументального. Это поколение, уравнительски игнорируя сам предмет, переносит сформированный в утилитарном строительстве идеал на все без исключения строительные задачи: на жилой дом, театр, дворец, церковь. Внешне многие постройки теперь уже не отличить от фабрики». Эти «пространства, которые согласно своему существу предназначены для целостного человека, создать в качестве “целого” не удаётся… Они со всей определённостью требуют, чтобы человек преобразился настолько, чтобы мог соответствовать данной сфере машин. (…) Когда накануне 1900 года новые материалы, бетон и железобетон, соединились с “голыми” формами, всплывшими вначале во времена Французской революции, – именно тогда возникает тоталитаризм “нового строительства”. И этот тоталитаризм находит своё самое последовательное выражение в фабриках, гаражах, зданиях под офисы. (…) Кажется, что революция инженеров, направленная против архитекторов, целевого строительства против трансцендентных притязаний “искусства”, закончилась тотальной победой новых сил. Но это объединение было куплено ценой диктатуры одной сферы – сферы фабрики – и продолжением невыносимого насилия со стороны естественных требований отдельных задач, чьи материальные претензии исполнялись, в то время как потребности душевные и духовные оставались неудовлетворёнными»76.
Умеренный французский социалистический политик Поль Луи (1872–1955) так излагал синтетический проект «научного социализма» XIX века в образах индустриализма и резюмировал его «картину будущего»: «Машина освободит рабочего, которого она вот уже больше века порабощает… Машинное производство является для человека неограниченным источником богатств… Грохочущая машина, разрезающий морские волны пароход, испускающая огненные языки доменная печь, мерные шаги пролетариев, идущих на дымящие фабрики или спускающиеся в рудники, – всё это целиком поглощает внимание современного человека. Ему уж не приходится искать за облаками проявлений неземной воли»77.
Консенсуальный образ идеальной Машины как фабрики, завода, комбината может быть применён к исследуемой практике и как логическое фигуративное продолжение общемарксистских догм конца XIX и начала XX века о преимуществах крупного, коллективного, централизованного, сконцентрированного, часто – универсального производства, догм об абсолютном приоритете промышленности, именно тяжёлой промышленности, производства средств производства, технологически сложного производства вообще. «Государство-фабрика» – так резюмирует современный историк социализма78 экономический идеал будущего, созданный главным теоретиком германской социал-демократии Карлом Каутским (1854–1938), которому он следовал и после 1917–1918 гг. И этот идеал был для него – и для массового читателя его пропагандистских трудов, которым большевики остались верны даже после того, как Каутский отлучил их от марксистской ортодоксии79, – не только этатистским и производственным, но и едва ли не экзистенциальным:
«Мы знаем, что на поле труда, удобренном трупами миллионов пролетариев, взойдёт семя новой, более совершенной общественной формы. Машинное производство составляет почву, на которой вырастет новое поколение… Оно не будет рабом природы, каковым был человек в эпоху первобытного коммунизма… Нет, это будет поколение гармонически развитое, жизнерадостное, самодеятельное! Оно будет властвовать над землёй и всеми силами природы и будет объединять всех членов общества узами братской солидарности»80.
Тогда же Карл Каутский так описывал научный образ коммунизма, который на деле оказывается общим образом мира Просвещения:
«Лишь поскольку наблюдение природы становится завоеванием природы… И лишь по мере того, как растёт власть человека над природой, лишь по мере технического прогресса, расширяется также область научного исследования природы (…) Когда средства производства будут вырваны из праздных и бессильных рук капиталистов и станут общим достоянием всей нации, тогда на земле снова наступит счастье и мир для всех. Ибо общество подчинит себе производительные силы, как оно подчинило себе силы природы»81.
Если искать непосредственный образец для этой социалистической картины в исторических образах индустриализма как принципа организации природы, общества и труда, вырастающего из капитализма и преодолевающего его, то он выглядит гораздо привлекательнее и, главное, уже является готовым актом Большого стиля. Здесь следует воспользоваться путеводителем, который составил германский катедер-марксист Вернер Зомбарт (1863–1941). В истории социального движения в ряду крупнейших событий он назвал первую Всемирную торгово-промышленную выставку в Лондоне в мае – октябре 1851 года82, для размещения которой был – практически одновременно с манифестом Gesamtkunstwerk Р. Вагнера – построен из стекла и стали «Хрустальный дворец» (Crystal Palace. Лондон, Sydenham Hill, 1851: Илл. 1.), ставший началом и классикой индустриальной архитектуры и модерна, живым образцом промышленного Большого стиля, который очевидным образом архитектурно и, так сказать, утопически вдохновлялся знаменитым коммунистическим фаланстером Шарля Фурье (1772–1837)83, в котором уже было заложен принцип локального соединения труда и быта. Образцом Запада эта выставка стала и для первого манифеста русских славянофилов – в «Московском сборнике»84. А «Хрустальный дворец» – не только образцом индустриального модерного здания дворца, железнодорожного вокзала, универсального магазина, но и – в зависимости от политических предпочтений – символом прогресса85 —