Сбор клюквы сикхами в Канаде бесплатное чтение
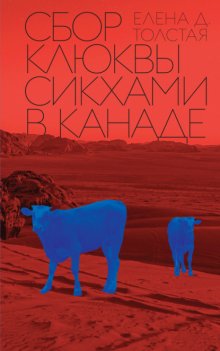
Предисловие
Сикх транзит. Он бросает душную Индию, где ему места нет, его гонят, и на студеных просторах Канады возделывает развесистые клюквенные плантации. Десятки алых, малиновых (фу! Но правда, цвет такой) миль во все стороны, куда ни глянь. Он ее сеет, он и пожинает специальными комбайнами – каждое плечо десятифутового размаха – а потом моет в просторных Великих озерах, и легкая клюква всплывает широкими коралловыми островами неземной красоты.
А сикх – в чалме как Тадж Махал, в бороде как у Хоттабыча, в белой пижаме-джавахарлалке, надеваемой под фосфорическую пластиковую непотопляемую жилетку – окружает веревкой береговую линию острова, скругляет ее, замыкает, тесня ее, чтоб клюква не отбилась от стада. И всасывает ее огромными насосами в холодные, мрачные трюмы, воду сбрасывая обратно в озеро.
На выручку сикх, возможно, покупает себе ностальгический финик. А может быть, наоборот, думает о расширении, задумывается, наводит справки о морошке, находит в интернете лопарей, разузнает ноу-хау, тайно готовит опытную делянку на дальнем болотце, и, наконец, сикхиха, то есть сикхиня – короче, сикха варит желтенькое варенье из морошки, прославленное в русской литературе.
Есть тут что-то, что говорит нам о текущем моменте, что-то вроде дорожной карты нового мира, который образовался кругом, покуда мы зевали.
1
МАКЕТ
Анекдоты, застольные истории, писательские пластинки, театральные байки, семейные легенды – все эти малые жанры устной литературы замечательно сохранялись в холодном климате. Запретность их только полировала, устраняя случайное и лишнее, как и полагается в бесписьменных жанрах. Один приятель спросил себя лет пятьдесят тому назад – что это у нас собирают все фольклор крестьянский да городской? Надо воссоздать недостающее звено, дворянский фольклор! У него получилось: «Не спи валетом с отставным корнетом». Типа Козьма Прутков.
Но на самом-то деле – бегство, изгнание, трогательные сцены величия в нищете, неправдоподобные, отчаянно сентиментальные, но тем не менее правдивые отчеты о самопожертвовании и верности, из которых составилась после Великой революции французская история и которыми кормилась европейская литература чуть ли не до конца XIX века, – что же это, как не фольклор?
Наше новое изгнание порождало сходные сюжеты. В советской России их записывали так, в эмигрантской – эдак. Взять, например, анархистку Ксению Ге. В эмиграции верили, что добровольцы повесили ее как садистку и изуверку, а в советской книге «Женщина в гражданской войне» (1925) она выведена мученицей. Некая девица, прототип «гадюки» А.Н. Толстого, и правда ушла на гражданскую войну, сражаться вместе с женихом – но только на стороне белых. Версии и посейчас не сведены вместе, а это значит, что до настоящей истории мы еще не дозрели.
Но соберем, что осталось. Запишем кое-как по памяти, хоть память, надо честно сказать, так себе. Но ведь не запишешь так и ухнет с концами. Наконец, из подручных материалов соорудим некое подобие мира, которого больше нет. Может быть, клея и строгая, мы что-то вдруг в нем увидим, чего раньше не замечали, что-то сообразим, в чем-то разберемся?
…Ми-ми, Мимишка и просто Мишка. Как-то из этого получилась Мика.
Мика в кроватке. Тут очень опасно. Сетка не защищает: она же дырявая! Не тугая, мягкая, а кругом-то темно. Глаза закрыты, но что-то под веками зыблется, вертится – какая-то пирамида или спираль. Боже! Ведь она из черных ржавых гвоздей, они живые, копошатся, колют, язвят, это ужасно – и вдруг в середке ее беззвучным щелчком загорается страшно яркий свет в виде большого электрического О! Это О растет и поглощает все вокруг себя и жужжит все громче. Мика просыпается оттого, что кричит. Появляется большое прекрасное мамино лицо. Мика говорит: «Автомобильное солнце!» Ну что тут можно объяснить?
…Потом образуется заводной механизм, в нем крутятся маленькие куколки, и механизм с ними что-то делает, одинаковые повороты, одинаковые движения, и это красиво, это завораживает. Но тут что-то не то. Нет, это не куколки, а дети! И этих детей порют. Мика в ледяном ужасе орет и просыпается. Ей страшно и гадко, потому что это было красиво и ей нравилось. Мама дает ей микстуру. Голове теперь прохладнее…
…Появляется коробочка, открывается. В коробочке балерина, она принцесса, она стоит на одной ножке, она голубая, шелковая, серебряная, брильянтовая. И это сама Мика! Этот сон с балериной ей часто снится. И она рисует принцесс и балерин. Ей говорят: «Балерина Фока! Прыгает высоко».
Всюду шерсть. Ее привозят из Риги. Она кусачая. Черный в манишке сибирский кот Васька играет с клубком крашеной красной шерсти. На Мику надевают из этой шерсти колючие чулки, колючий джемпер и колючий капор и сажают в высокую красную коляску, куда-то привозят, там стоит карусель.
Карусель! Она огромная и прекрасная, с громкой музыкой, с золотыми каретками и разноцветными машинками и лошадками белыми, рыжими и серыми в яблоках. Мике очень нравится белая лошадка, вся в золотой упряжи. Ее сажают верхом, и она изо всех сил держится. Это и есть счастье! Карусель тихонько начинает двигаться, это замечательно, ветер в ушах, быстрее, быстрее, и скоро все вокруг уже мелькает и уже почти что невидимо, ничего, ничего, Мика держится… но вдруг в глазах темнеет, все исчезает, и она приходит в себя на грязном, мокром полу, джемпер и чулки изгвазданы. Поднимают, но тут ее начинает тошнить. А она так любит карусель!
В Сортавала розовые валуны. В валунах сияют искры. Под ними радужное озеро. Приезжает папа, они стоят под сосной, и Мика хочет ему сказать что-то вроде: «Давай ты будешь всегда с нами, ты так мне нужен, я тебя безумно люблю. Ты огромный, мудрый и прекрасный. У тебя такой красивый голос, что я просто умираю от счастья, когда его слышу. Вот только начни со мной говорить. Я-то хочу тебе столько сказать, но не могу. Почему ты меня не понимаешь?»
Но он не понимает. А Мика-то даже заговорить с ним не может. Потому что у нее не получается правильный голос – такой, чтоб ее слушали. Всегда не тот звук. Опять, опять. Наверно, она бездарна. И от этой печальной мысли она начинает кричать и плакать. Мика плохая девочка, в четыре года это уже всем ясно.
В шумный летний день завели Мику в какое-то новое место. Внутри очень высоко и все золотое, ходят какие-то с бородами, как веник, в длинных пальто. И гомон страшный, народу битком. Один такой с бородой, вроде Дед Мороза, но борода серая и совсем не добрый, начал ей в рот силком пихать ложку с микстурой. Мика в панике забила ногами и заголосила. С тех пор, стоит проштрафиться, все разводят руками и пожимают плечами: «Ясно же – порченая!»
И папа серьезно озабочен. Как все.
У Микиной мамы мама бабушка Шура, а у нее сестра Аня. Замужем за немногословным лысым человеком дядей Витей (он рисует самолетики в профиль, чтобы не было видно крыльев). Там две дочки, они мамины кузины и дружат с Микиной мамой, но ее моложе. И у них у всех есть ухожоры. Это молодые люди, главным образом грузины и армяне, с крупными чертами лица, имеющие привычку виться вокруг девушек и шептать им на ухо. Очевидно, поэтому они называются ухожоры. Мики и ее братика это не касается, они маленькие.
Их взяли в Сигулду, на песчаные горы. Пока у взрослых был какой-то пикник и они куда-то карабкались с ухожорами, маленькие катались кубарем с песчаных склонов. И Мике впервые было томительно, оттого что и она сама никому не интересна, и все кругом не по ней. Это было такое первое лето.
Все это происходило на Рижском взморье: долгое сидение в мелкой воде, мелкие ракушки, маленькие хорошенькие неопасные медузы с цветочками, крошки янтаря. Лучше, чем дрызгаться в Финском заливе в Репино: там море скучное, неподвижное, острая беловатая осока режется, там Микин папа заплывал так далеко, что делалось страшно. Он теперь с ними не живет.
Он от них ушел, уехал на грузовике.
На даче на Всеволожской веранда с цветными стеклами, чтоб казалось, что солнце, но всегда дождик. Всюду лужи, кругом лес, а в лесу папоротники и горькуши. Можно устроить домик из стульев и пледа, но только дома, потому что снаружи все время сыро. На веранде чай, остывает быстрое варенье из красной смородины. Прошло лето, как не было.
Начались ранние вставания. Не в школу, а еще в немецкую группу. Вокруг яркой электрической лампочки в непроснувшихся глазах радуга. Мика болтает в воздухе ножками, играет ими. Они спросонок как бы не ее – нет, ее, маленькие, веселые. Влезла в себя, побежала.
Микина первая любимая книжка – сказки Ирины Карнауховой. Марья Моревна в малиновом кокошнике. Она ей снится как терем с малиновым верхом. М малиновое, самое лучшее. Р сине-зеленое, морское, бурлит, ревет. МоРЕВна! Б сине-черное сухое. Я красное, нет, оранжевое! Л, конечно, розовое! Н голубое. А, понятно, белое. У желтое. Т защитного или табачного цвета. Ч, Ш, Щ – оттенки коричневого, от густого к жидкому. Ю серебряное. Э золотое, дорогое, не наше.
Мике лет пять, она читает в старом-престаром большом кресле Перро с рисунками Дехтерева. А там Мюнхаузен, рисунки Доре. Потом очень скоро Жюль Верн – «Пятнадцатилетний капитан», ее даже взяли на фильм по этой книге. Сеанс 8.30 утра – встали затемно. Сколько радости было! Какие были кораблики! Какие волны! С тех пор Мика была юнга по имени Джек.
А «Таинственный остров»! – Мы поднимаемся! – Нет, напротив, мы опускаемся!
Чемодан со старыми вещами спускают общими усилиями с антресолей, когда надо что-то сшить. Этот чемодан огромный и невподъемный. Он длиною с человека, и у него поперечные бамбуковые ребра. Ручки у него спереди и сзади, чтоб носить вдвоем. Он твердый и при этом картонный. Даже кардонный! Называется «кофр». Кофр приехал с бабушкой из Берлина в незапамятном году вместе со швейной машиной «Зингер», которая с кружевными ножками из чугуна.
Вот он открывается, и это настоящий праздник. Из него достаются белые босоножки, почему-то пошедшие розовыми подпалинами. Рваное пестрое вязанье. Кусочки платья, в резкую черно-белую полоску, а поверх полосок – розы розовые, как живые, с листиками. Остатки креп-жоржета, жатого вдоль, с лиловыми и коричневыми цветами, а внутрь им в сердечки добавлен и черный, и оранжевый, и чуть-чуть зеленого, так что дух захватывает от невиданной роскоши. Там же хранится и камень тигровый глаз, бесполезный, но изумительный: внутри живут золотые искры. Рубашка-бобочка, с узкими и острыми воротничками-язычками и молнией. А вот сиреневая юбка. Это клеш-солнце, брось ее на пол, и она ляжет полным кругом. Но на ней пятна, и она ждет, чтоб из нее что-нибудь сделали новое.
И им, маленьким, с самого начала ясно, что вот он – источник всего прекрасного, незнакомого, чудного. Такого сейчас не делают. Где такое найдешь. Где?
Мика скоро пойдет в школу. Бабушка впервые берет ее в магазин Дэ эЛ Тэ, где толчется страшно много людей и где всех этих людей на всех этажах видно одновременно.
Она покупает – покупает! Мике! Новое платье! Белое в синий горошек, и парусиновые туфельки на резиновой подошве, белые с синей каемочкой. Необычайное появилось тогда у Мики новое чувство, что она не просто так – ведь ей покупают новые платья, значит, и она чего-то стоит.
У нее раньше было только одно платье навырост, для больших оказий – темно-синее из чего-то переделанное бархатное. А у брата был сшитый всей семьей – мама, бабушка, няня и тетя Зина – костюмчик с брючками гольф, то есть три четверти, из перелицованного старого пальто, твидового в зеленую искру.
Общими усилиями на большом столе стегали и одеяла. Купили темно-розовый шелк, легкую вату, тонкую розовую бумагу (то есть бумажную ткань) на изнанку.
Иногда у всех у нас начинается гастрономическая ностальгия. У каждого своя. Лимонные корочки. Клюква в сахаре. Конфетки «Мечта» кубастенькие. Помадки сливочные. Ммммм. Курабье бакинское свежайшее, только что из той же подворотни, где варят козинаки. Роксы! То есть твердые душистые цилиндрические сосалки с муранским цветочком на поперечном срезе в стиле mille fleurs.
А иногда заедает ностальгия лингвистическая. По ситному хлебу и французским булкам, по рольмопсу (что-то из селедки) и шнельклопсу (что-то из фарша).
Дом их в Ленинграде держался на основных русских стихиях, то есть на кислой капусте и соленых огурцах, но было и присутствие некой немецкости (не тянутся ли исторические корни отечественной кислой капусты к Sauerkraut’у – это отдельный вопрос). Ее, немецкость, внедряла ихняя злая домработница. Она вернулась из немецкого плена. Это она устроила на кухне полку, а на ней банки жестяные одинаковые для круп с надписями. А по низу полки пущены были фестоны сурового полотна, вышитые красной ниткой. Все никак забыть не могла свой уютнейший немецкий плен.
Рольмопс и Шнельклопс приснились Мике. Они были псы. Кругленький Рольмопс с брылями и быстроногий поджарый Шнельклопс. Немецкие псы, они же рыцари. Небогатые, скорее даже бедные. Они служили. Им кидали известное ленинградское блюдо «бедный рыцарь» – булку, размоченную в молоке и поджаренную. В удачные дни к молоку добавляют яйцо. Когда на яйцо нет денег, наступает коллапс.
P.S. (сильно пост-) Сперва в Ленинграде забыли французский, он тут в блокаду вымерз и вымер. Немецкий был, да к концу шестидесятых весь вышел. Зато теперь вся молодежь в Питере говорит с неопределенно иностранным акцентом, для самоуважения и чтобы иностранцы лучше понимали. И, роняя что-нибудь, восклицают: «Упс!»
Очень скучно быть ребенком. Это было летом, в Кисловодске, никаких книг с собой не взяли. Заняться нечем, Мика живет где-то сбоку, всем мешает, никто с ней не разговаривает.
Одно было хорошо – после обеда нянька уводила их в ближние горы, рано вечерело, и сверху станица казалась розовой, зелень – бронзовой, а над ней пирамидальные тополя. На пирамиду, правда, не похожие.
На горе цвели дикие розовые гвоздики. А главное – запахи, ничего прекраснее их не было. Нянька эти травки вспомнила – шалфей и базилик, раньше были такие пряности. Можно было сосать кашку и щавель, а царапки она лечила тысячелистником-матрешкой. Улица в станице травой поросла, машин не было (еще), лошадей тоже не было (уже). Дома хозяин выращивал на продажу гладиолусы и георгины – ненастоящие, без запаха.
Хозяйка сжалилась и принесла Мике с чердака старинные книжки, и она научилась читать с ятем, со старинной буквой «и с точкой» и с твердым знаком. Читали вечером в саду, при керосиновой лампе: светлый круг посреди круглого стола. Тургенев: невозможное, отвратительное – «Муму», чудесное и страшное – «Бежин луг», таинственное и жалостное – «Ася».
«Вешние воды» с симпатичными итальянцами, куда уж лучше? И вдруг коварно, откуда ни возьмись какая-то гадость, и ничего не вышло. И Мика возненавидела такие книжки, в которых вывод тот, что ничего не выйдет и не должно выйти. Никогда.
Иногда они переходили речку Подкумок. А раз пошли в кино, и выяснилось, что все здешнее, и Подкумок тоже, имело какое-то отношение к Лермонтову. В кинофильме участвовали черешни, насыпанные в белую фуражку: поэт, тоже весь в белом, легкомысленно сплевывая косточки, весело шел навстречу смерти.
В городе Кисловодске была роскошь – нарзановые ванны, розы кругом, вкусная еда с острым соусом. Вот и мама устроила званый обед: поставила на попа половинки огурцов, а на них напялила половинки помидоров, как шляпки грибов. Обед, к сожалению, имел успех, и в их жизнь вошел Сергей Горыныч. Ах, сколько раз Мика с братом горевали, что мама не выбрала тогда другого, высокого и худого, доброго и веселого, который ходил за ней все то лето! Но Горыныч уже держал ее, как удав.
Братик-то был маленький, а вот Мике стало не до скуки – Горыныч атаковал ее постоянно, придирался к любой ерунде. Куда там Давиду Копперфилду! Кишка у мистера Мордстона тонка! Горыныч ненавидел бдительно, угодить ему было нельзя, подчиниться, чтоб замирить его, не получалось. Слава Богу, он пока еще не жил с ними.
Взять имя Стива. Сразу ясно: это отрицательный герой. Он расточитель, он безответственный. Он толстый и ленивый, как Облонский и Обломов сразу. А вот Мике рассказали про другого Стиву. Положительного. Несмотря на сибаритское имя. Это был не баловень, а, наоборот, – стоик. Стойкий стоик, оловянный. Стоик и строитель.
Мика никак не могла запомнить, кому и как приходился этот другой Стива. Ей-то никем. Что-то давнее, вроде деду он был как бы брат. Дед-то помер еще до Микина рождения. А Стива сосредоточен был в непонятных тыща-девятисотых годах. А потом куда-то делся. Имя Мстислав было необычайное, научно-фантастическое, и маленькая Мика сначала думала, что он улетел на Марс.
Рассказывала о нем тетя Нюта. Она была очень высокая, всегда в черном, с очень длинным, костистым лицом, а на нем огромные карие глаза. Она была Стивина дочка, Мстиславна. Как Ярославна. Не говорить же Яросла-вов-на! Нет, Вова здесь был бы лишний. Ее звали, когда Мика болела, потому что она была Сестра. Но не просто папина двоюродная, а медсестра, и получше всякого врача. И она сидела рядом, когда был жар. Няня-то с братиком! А когда жар спадал, рассказывала. Потому что по вечерам мама служила в театре.
Так вот: Стива был несчастный мальчик. Потому что отец насильно записал его в морской корпус (Нахимовское училище – про себя переводила Мика), но Стива люто возненавидел этот самый морской корпус, потому что в дни парадов их выставляли на мороз, и они замерзали на ветру.
Мика этого не понимала, сама-то она мечтала стать юнгой и обожала голубое, веселое, как будто танцующее здание Нахимовского училища. Но Стива мечтал стать не моряком, а агрономом. Опять непонятно. Дома у них смеялись, увидев заголовок в газете: «Твори, дерзай, колхозный агроном!» В кино агроном был персонаж противный и комический, с провинциальными усиками. В рубашке с пояском, над которым нависал толстый живот.
Но юный Стива думал о том, что у них заложено поместье под Самарой. (Вишневый сад – переводила себе Мика.) Есть, а на самом деле нет его. И он хотел его выкупить. А потом восстановить. Чтоб восстановить, надо было настоящему делу учиться, а не на парадах без толку простаивать…
И вдруг – бац! Внезапно умирает его отец. И гардемарин Стива в тот же день выходит в отставку. Не хочу служить во флоте! Он все начинает сначала. А это конец лета, все вступительные экзамены в высших учебных заведениях давно кончились. Но оказывается, что в Рижском политехническом на сельскохозяйственном факультете не закончен прием студентов (недобор, переводила себе Мика), и Стива тут же мчится в Ригу. И через три или четыре года он, наконец, получает профессию «агроном». Нанимается управляющим в чужое поместье и все заработанные деньги откладывает. Чтобы выкупить свое.
И так проходит сколько-то лет. Деньги собраны.
Но тут происходит ужасное несчастье. Горит деревня при их, еще заложенном, поместье. Тетя сказала странную вещь. Что мужики выносили из горящих домов деньги и иконы. А что дети? – Что дети? Новых народить всегда успеем.
Тогда Стива – у него же собраны деньги – отстраивает деревню заново. И продолжает работать управляющим. Еще сколько-то лет.
И наконец он выкупает имение и заводит культурное хозяйство. Молочную ферму, парники с клубникой, большой фруктовый сад.
В революцию все это разорили, но при Сталине привели в порядок и устроили совхоз: кто-то должен был снабжать начальство. А поскольку устроено все было с умом, то и изгадить оказалось не так просто, совхоз этот так и остался образцовым хозяйством.
Нюта говорила, как все, но не совсем то, что все.
И Мирке всю ночь снился политехнический, научно-фантастический Мстислав: он восстанавливает Марс! Кругом сгоревшие деревни глупых марсиан, они ничего не успели… а он выращивает в парниках синеньких, как все на Марсе, коровок, кормит их клубникой… Огромный, беловолосый, прекрасный, он хохочет: «Не так-то просто!»
Ах, Карповка, черная, бурая, зеленая; говорят, аммиак полезен. Под деревянным зеленым мостом жижа, в ней родится только малявка-колюшка, по-скобарски «кобзда». На том берегу драная, желтая с колоннами, вся в черных ветлах больница Эрисмана, где все родились. И Мика тоже.
Стоит у воды малокровная, но злобная ленинградская малявка в лыжном костюме в катышках, смотрит нечеловечески чудными бело-голубыми глазами, как качается на воде скользкая радужная сетка поверх черной дряни. Если ему что нравится, говорит «нарський» – от «нарвский», что ли? Не понравится, пихнет локтем, обзовет психовной, а то потребует «Ответь за галстук». На это надо говорить:
- Не тронь мою селедку,
- Не то получишь в глотку.
- Не тронь рабочий класс,
- Не то получишь в глаз.
Это Микину женскую-среднюю слили с хулиганской мужской. Раньше в женской на переменках набегали друг на друга классы, стенка на стенку, пели: «А мы просо сеяли, сеяли» – «А мы просо вытопчем, вытопчем», но теперь запретили некультурные игры, теперь в коридорах драки до крови, девчонок дергают за все места и ругаются непонятными словами.
Классный руководитель оставила после уроков одних девочек и говорит: «Безобразие! У девочек видны штаны!» А потом созвала общее собрание и говорит: «Безобразие! Класс резко делится на мальчиков и девочек!» – и посадила самых липучих подлиз с самыми нахальными хулиганами. Теперь подлизы все время дают отпор: «Нехорошо тебе, Иванов!», а хулиганам все равно хоть бы хны, их могила исправит, у них чуб, оскал, прищур. У них на все один ответ: «Отзынь на пол-лаптя!»
Страшно идти: могут побить. То ли дело раньше в женской: максимум проблема кос, косы обязательно, стрижка – вроде позора. Лиза Калитина по женской школе скучает.
А Мику настигло, как мешком по голове тюкнуло. Почему-то она заобожала училку – их классную. Училка распределяла справедливость, хотелось быть к этому поближе, и Мика лезла выслужиться наперебой с другими. Позже она поняла, что справедливость тут ни при чем. Потому что в той школе был один – всего один, но был – справедливый учитель, математик, который все и вся видел насквозь. Это был бывший штурман авиации, контуженный на войне. Но он-то как раз и не возбуждал никакого обожания, поскольку был ясен, краток, строг и снисходителен. А училка, крашеная блондинка с толстыми щеками кувшинчиком, практиковала с учениками непредсказуемость и загадочность: надо думать, что это была власть в чистом виде, и эта власть ей нравилась, поэтому так и действовало. У Мики скоро прошло, а многие целый год ходили как зачарованные.
Тут было много нового.
Например, ужасные мальчики. Лбы у них низкие, учиться они не могут, неизвестно, знают ли буквы. Дерутся неукротимо, ходят в синяках и царапинах, такие комки злобы, их все время ругают. Есть еще жуткий второгодник, мерзкий и жирный, он самый большой и бьет остальных. Всем им светит тюрьма, как твердит училка, хотя это четвертый только класс.
А есть уютные фамилии – Подойницын, Гречишникова. Эти дети все тихие, белесые, толстоватые, с маленькими глазками. Такие же, впрочем, и дети с немецкими фамилиями Хох и Брум. И те и другие небогатые и неважно учатся. Зато они безмятежные. С ними ничего не случится, это тоже известно наперед. Поэтому они какие-то прочные.
Хорошо учатся только две девочки-отличницы, Берг и Вайсберг, сидят они за передней партой, едят учительницу глазами, клеят переводные картинки в тетрадки, ябедничают, ужасные дуры.
А вот дети поумнее – те учатся на четверку, ни в чем не участвуют, держатся в сторонке, с одним-двумя друзьями. У них чистые руки и воротнички, высокие лбы, хорошая речь. Ничего лишнего – полная замкнутость и незаметность. У них уже решено – этот будет математиком, а та – кораблестроителем.
Еще в классе была большая еврейская фракция. Важнее всех – Володя Гордон, лохматый еврейский крохотный мужчина, с горячим низким голосом, весь – сплошной горбатый профиль. Он один в классе умеет отличить добро от зла, его слово сильнее учительского, так что, если учитель потребует выдать виновного, никто не выдаст, даже толстый мальчик Боря, который от трусости заикается и у него дрожат губы (он потом станет актером). Но есть и худенькая, ощетиненная Шварц, заранее негодующая в ожидании, что ее будут дразнить, – и конечно, дразнят, куда денешься. Интересно – Гордона обожали, притом антисемитизм был. Он, антисемитизм, был узконаправленный – а именно на Шварц. Она как бы сама его порождала, как один полюс должен притягивать другой. А вот остальных евреев антисемитизм совершенно не касался. Например, обеих отличниц, любящих начальство, или рыжего Казовского, туповатого по части наук, но интригана с воображением, и воображением гадким (он-то потом действительно сядет). Или еще двоих ребят – те ни в чем не замечены, учатся никак, в чем-то похожи: взгляд у обоих совсем взрослый, и ничего о них не известно. Как бы они не здесь.
Лиза куда-то переехала, теперь у Мики были две другие подружки. Они играли так: написать фразу, потом наобум всем играющим накидать прилагательных и вставлять их по очереди в фразу. Получается смешно.
Веселый союз вороватых республик сплотила навек лошадиная Русь. Стоит ли нам, пористым, жить так ватно, болтать о синей женской доле, об узелковатом еврейском вопросе?
С тех пор так и прилипло – еврейский вопрос, действительно, он узелковатый…
У одной из них троих замешалась четверть татаро-монгольской крови – на этом основании она была записана и воспитана русской. Другая была стопроцентной еврейкой. Мика считалась, да и была чистой русской. Правда, полностью был вытеснен из памяти не столь давний визит в психлечебницу в Удельное, где их с братиком – правнуков – представили родоначальнице с карикатурно-антисемитским экстерьером. Впоследствии по кусочкам удалось установить, что прабабкиного отца в детстве конфисковали у родителей и крестили, чтоб определить в церковные певчие. Отпев свое, он открыл в Воронеже музыкальную школу, но дочерей выдал все же за богатых старообрядцев, а не за православных. Одна такая дочь, а именно Микина бедная пра, когда в конце двадцатых у них с прадедом отобрали дом и пустили их по миру, чего прадед не пережил, понимать происходящее в стране наотрез отказалась и от греха сдана была детьми в дурку, где спокойно дожила до девяноста с гаком. Несмотря на черные мешки под глазами и лиловый нос, норовивший заклевать подбородок. Ее же дочь, Микина бабушка, мамина мама, давно забыла первого мужа-фабриканта, Микина деда – его посадили еще в конце двадцатых.
Замужем она давно уже была за Соломоном Шапиро. С его женской родней она состояла в сложных соревновательных отношениях, в основном по кулинарной части. Запомнились знойные баклажанные рецепты и неимоверная рыба. А масляное печенье, подобного которому нигде и никогда? Только много лет спустя Мика нашла его в Амстердаме, где оно так и называется – «еврейское печенье», joodenkoeken! О Мокум! (Так амстердамцы называют Амстердам – по-еврейски город, буквально – место, място…). Ах!
Эта часть жизни была как-то в тени. Но – была! Когда Микин братик пошел в школу, няня устроилась домработницей к адвокатам – Анне Израилевне и Марку Израилевичу. И они ее там навещали. Запомнилось братское отчество бездетной адвокатской пары, нечеловеческая чистота квартиры на Невском (а во дворе кинотеатр, где они с братиком, да и мы с вами смотрели трофейный фильм «Королевские пираты») и два фотогеничных портрета – он и она – необычайной, напрасной красоты.
Или – была у Микиного дяди домработница, сектантка Маша, мастерица щей со снетками, селянок и кулебяк с головизною, что дядя по простоте объяснял аутентичным происхождением ее из старообрядческих поморских краев – пока она не выболтала, что раньше служила у богатых ленинградских евреев, тогда и научилась готовить.
Или – однажды попала Мика, сопровождая свою маму к какой-то шапировской свойственнице, совершенно мадонновской красоты (мама учила ее вязать и привезла ей шерсть), в богатые покои, завешанные темными бархатными шторами. Стоял крепкий валерьянский запах. Молочно-восковая свойственница, и сама в сумрачном бархатном салопе, невыразимо печально рассказала, как болеет ее маленький мальчик и как она завертывает его в вату.
Тут Мике безумно захотелось сорвать шторы, выкинуть вату и отправить мальчика (желательно с мамой) в Матвеевский садик с горки кататься (желательно на попе), но по малолетству пришлось помалкивать. Иногда она срывалась и объясняла своей маме принципы правильной педагогики по «Книге для родителей», но это называлось «ужасный характер» и каралось строго и несправедливо.
У Мики имелось необычайное обилие по всем линиям еврейских, полуеврейских и четвертьеврейских дядь, теть, а также двоюродных, троюродных и сводных братьев и сестер: все они произошли от предыдущих браков дедов и бабок, видать, более раскованных по матримониальной части. Имелись и какие-то совсем уже неопределимые родственники – и все это не считая уже упомянутого мощного клана свойственников, а о коллегах и сослуживцах и говорить нечего. Лучше всех их, однако, рассказывал знаменитые лабуховские, то есть еврейско-музыкантские, анекдоты Микин русский папа, замечательно делая бровями. Еврейская тема считалась комической.
Еще он знал музыкантский тайный язык, для особо важных случаев. Как-то десятилетняя Мика что-то ляпнула ему о тогдашних политических неожиданностях. Он побледнел, тряхнул ее и зашипел:
– Кочумай!
Когда началась война, но не эта, а еще одна, та, что раньше, Стива открыл на Урале сукновальную фабрику – делал сукно для шинелей. Тогда многие наживались на военных заказах. Но Стива выпускал прекрасное шинельное сукно, мягкое, теплое и очень дешевое. И об этой фабрике узнали в Петербурге. И царь сказал: «Как это у нас нет честных поставщиков? А Стива?» И его вызывают в Петроград, тогда уже был Петроград, и назначают вице-губернатором по снабжению (это Нюта так сказала.) Так что тетя Нюта была губернаторская дочка, как в «Ревизоре». Но не совсем такая. Когда ей было восемь лет, она сказала матери, что хочет ухаживать за ранеными. Сшили ей халатик, повязку с красным крестиком, косыночку. Поручили кормить-поить раненых, измерять температуру. Работала она упоенно. Так она сказала.
В революцию дом благополучно спалили. Это был чудный светлый особняк с огромными окнами. Специально подожгли, чтоб удобнее было грабить. Чудо был дом, ничего не было так жаль, как его.
И вдруг тетя Нюта сказала: «А сейчас я думаю, Бог сделал все правильно. Если бы я жила здесь, думая, что дом мой там…». И у Мики зашлось дыхание. Она представила, как это – смотреть на свой дом, а в нем живут другие, а тебе нельзя.
Раз Стива раньше был вице-губернатор, хотя бы и по снабжению, ему нельзя было оставаться в Петрограде, его бы сразу арестовали – ведь здесь его все знали. И вот всем семейством они перебрались в Москву и поселились в какой-то брошенной квартире на Староконюшенном, но жить им было теперь не на что. Помог товарищ по рижскому политехническому – вызвал их в Воронеж, он там заведовал Центросоюзом и тонул в делах. Московская квартира после них так и осталась Нютиной гувернантке-англичанке, она там устроила английский дом, а потом уехала.
Англичанка эта, наверно, была замечательная, потому что, когда Мика приходила, тетя Нюта всегда встречала ее, хохоча, – это она перечитывала Диккенса по-английски, чтоб не забывать язык. Только теперь Нюта стала маленькая и худенькая, а Мика вымахала, правда, английский ее продвигался так себе.
В Воронеже становилось все опаснее, и Стиву послали в командировку в Ростов. Туда они поехали на трех подводах, взяв все пожитки. (Мика, конечно, не понимала, что это они бежали из красного Воронежа в белый Ростов.)
Вечером, когда дорога стала безлюдной, они услыхали, что за ними гонятся, и сразу поняли, что это разбойники: тогда разбойники почему-то назывались «зеленые». Не красные и не белые. А Стива пока что отрастил бороду, и разбойники кричали: «Поп с честны́м семейством перебирается». Ясно, что привлекла их поклажа – «наши потрошки на трех подводах», как выразилась тетя Нюта. Тут они увидели огоньки. И на всем скаку, потому что разбойники уже догоняли, влетели в село, а там их ждали полицейские власти – другие ограбленные успели нажаловаться. За разбойниками погнались и схватили их. Соня увидела, как с них снимали показания, и разбойники сказали: «Эх, жаль, ушел поп с честны́м семейством».
Новая эпоха началась с того, что открыли на Льва Толстого бубличную. До того были сушки, которые нанизывались на веревку и вешались на крючок. Бублики были пышные, блестящие, белые с маком, заварные. А в подвальном Гастрономе был томатный сок из стеклянных конусов с сырой серой солью. Теперь Мика могла ходить одна, хоть и недалеко.
И уж, конечно, теперь ей были под силу походы на Ситный рынок с тетей Зиной. На рынке продается картошка. Еще клюква. Соленые огурцы. Капуста в бочках. Ваньтё и Маньтё в белых нарукавниках и в черных чесаных валенках.
Но ее больше завлекали красная калина, морозом битая, кучками, древесный гриб чага, лаковые коробочки, некрасивые каждая по отдельности, красивые все вместе, кружева полоской, машинная вышивка ришелье широкими полосами для подзоров, кружева грубые, вязанные крючком, и красивейшие плетенные на коклюшках, всякое такое. Например, если у тебя воротник на школьной форме в виде стойки, ты можешь пришить к нему такую полоску, а назавтра другую. А какие чувства возбуждали, например, клетчатые шелковые ленты в косах! Их и купить-то было нельзя, можно было только завидовать. И чтоб устранить повод для зависти, дирекция запретила все ленты, кроме черных и коричневых. С вечера их намачивали и наматывали на карандаш, чтоб разгладились. На праздник полагались белые.
Но глухое время оползает, тает снег, обозначаются подвижки; открывается светлое большое небо. Ленинград ложится белесыми, чуть подкрашенными перспективами: вот мясисто-розовый, развратно-потемкинский XVIII век, вот зеленый строгановский. За ним рыжая рустовка, дальше строгая шоколадная, рядом охра, а там лимонно-белые колоннады. Поверх налито бледно-голубое вино. На таком ветру хорошо поплакать – уж слишком зябкая это краса.
Несите, ноги, несите Мику к Артиллерийскому музею, где пушечки допетровские сидят рядком, как жабы, вдоль Кронверки, и снег уже сошел с жесткой мертвой травы, и прутики верб стали вишневые.
Уже можно пойти одной на Ситный рынок, купить раскидай на резиночке, упругий и убогий, и, болтая им, бегом-бегом, мимо Монферрана и Добужинского, мимо Осмеркина, Белкина и Петрова-Водкина – туда, туда, к кино «Арс»! А чуть вглубь Большого, кто помнит контуженного торговца тетрадками у скобяно-москательного подвала? – вероятно, приюта скобарей и москалей? – откуда шел теплый дух мастики? Каждые две минуты этот продавец – чем было опалено его лицо, каким ужасом? – продавец этот содрогался, как будто недонадел свой ватник, и толчками все плотней вдвигался в рукав, и хлопал по себе руками, как пингвин в научно-популярном кино «Свет» или как оперный мужик.
После уроков Мика часами торчала в школьной библиотеке – к ней там привыкли. Про детские книги у Мики была полная ясность. Самые гадкие и несправедливые были о том, как безнадежно страшна жизнь и как все должно кончиться худо: «Детство Темы», и «Гуттаперчевый мальчик», и бесконечная Уйда (потом выяснилось, что она англичанка – вот уж Мика удивилась! Англичанки, по ее представлению, должны быть как Бернетт – про то, как надо быть хорошей). Но и «Без семьи» тоже была о печальном, зато в ней были любовь, и добро, и хрупкие собачки, и обезьянка, и чудесный Виталис в бархатной куртке, как у папы Карло. Нравилось, но и настораживало «Сердце» Де Амичиса, где показано, что и ребенок может сделать что-то со своей жизнью, а необязательно погибает. Позвольте, но это что-то буржуазное! Ведь их-то всех обучали беспомощности, а Де Амичис шел наперекор. Полюбились Маугли и Рикки-Тикки-Тави с чудными черными рисунками. Потому что там говорится об умном и справедливом мире. И говорится так, что можно с любого места наизусть, как стихи.
Хуже всех были «Очерки бурсы», а еще «Детство» Горького, со сладострастно размазанными садистическими эпизодами. (Не зря они так ненавидели друг друга с Сологубом – два сапога пара. Та же садомазохистская отрава есть у Некрасова, у Достоевского, у Лескова, даже у Тургенева в «Муму». Детям это давать вообще нельзя.)
У бабушки были зато «Уважаемые граждане» Зощенко, там Мике больше всего понравились сентиментальные повести. Мишель Синягин! Он стал ее героем. От няни перепадала Чарская. Мику увлекали асимметричные гирлянды из анютиных глазок. Зачерненные глазницы и заштрихованные щечки княжны Нины Джавахи-алы-Джамата. Пелеринки! Волнистые свободно лежащие волосы, перехваченные лентой: не косы – мерзкие, обязательные! Взрослые говорили о Чарской с брезгливостью: «Дурной вкус!» Но все же там было про самое нужное – про потерянность и одиночество в школе, про попытки и неудачи любви. У Мики этих неудач накопилось уже порядочно.
Попозже самыми душевно изобильными оказались мелодрамы Гюго – Гавэн и Симурдэн в «Девяносто третьем годе», Жан Вальжан с епископом Мюриэлем в «Отверженных».
А самой сладкой и самой сопливой из всех мелодрам был «Овод» Войнич. Но даже в очень скоро осмеянном «Оводе» были свои достоинства. Вот Артур просматривает вороха рукописных проповедей в библиотеке духовной семинарии в Пизе, а за окном кричат: «Фрагола!» Солнышко, Италия, золотые вечные города, башни все падают (не путать с Падуей!), но так никогда и не упадут – а кругом едят землянику, поют и бунтуют… И чего бунтуют?
Подключался сюда и Макаренко с «Педагогической поэмой» – рукоприкладство героического педагога оказывалось таким же завышением человека впрок, как и подсвечники епископа Мюриэля. А как Мика наслаждалась его играми с украинским языком!
С другой стороны, упоительное чтение было «Гаргантюа и Пантагрюэль» в обработке Заболоцкого, совершенно пристойное, невиннее Мюнхаузена, но полное целебных витаминов. И еще отличный, замечательный был Уленшпигель. Какое-то издание конца сороковых. Да, в переводе Горнфельда.
Был тревожный, ненадежный Гайдар, не всегда понятный. Слова-то были обычные, но вроде как положены на какую-то другую музыку. И такое же чувство возникало при чтении Фраермана – кстати, они и были приятели.
Она давно уже читала взрослые книжки, но не все они годились. В десять лет нужны приключения и мелодрамы, Дюма и Гюго, Брет Гарт и «Хижина дяди Тома». Но как-то не получалось полюбить русское. Только украинский Гоголь завораживал. Потом папа показал голосом, как читать и петербургского Гоголя. Он делал голосом двусмысленную педаль, надо было насторожить ушки.
А к Пушкину никто из их взрослых и сам приучен не был. Ведь вся сила-то была в театре. А там Пушкин только в виде либретто – да и то чужого. Графиня, ценой одного рандеву!
Можно читать историческое. В исторических романах были цвет, энергия, питательность. Даже в советской литературе. Скоро стало видно, что чем раньше эта литература писалась, тем была лучше. Шел, между прочим, Ян, хоть и не вполне детский, и страшно нравился Леонид Соловьев с «Ходжой Насреддином», совсем не детским и совсем не историческим.
Любимые книги были пародии Флита и Малаховского, «Ибикус» с «Никитой» и «Аэлитой» (четвертый том Алексея Толстого), и от дружественной библиотекарши – запрещенная «Республика ШКИД». Еще «Два капитана» Каверина – с длинными перечнями тем в подзаголовках глав: «Я не сплю, я притворяюсь, что сплю». От старших на слуху были Хармс и Введенский: караси и тараканы. Попался Александр Грин в издании 30-х и очаровал. Его вроде уже и не издавали? Какое же это было издание?
А еще была в школьной библиотеке книжечка, почти брошюрка, которую Мика прочла религиозно, взахлеб, как подрывную литературу, и стала ее тайной адепткой. Это был «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери. И брошюрка «Это не должно повториться» Марии Рольникайте. Ее она тоже прочла религиозно, и ужаснулась, и уверовала, и поклялась, что это не повторится.
В ту зиму Мика болела ветрянкой, потом корью, потом краснухой. Тетя Нюта приходила каждый вечер, поила Мику и рассказывала.
Добрались они, наконец, до Ростова и начали болеть. В Ростове у Стивы было подряд три тифа – брюшной, сыпной и возвратный. А у Нютиной мамы шесть воспалений легких – одно за другим. Она вообще не вставала и ни в чем не участвовала.
В этот момент вступает в действие Нюта. Одиннадцатилетняя, но с восьми лет в госпитале. И вот эта девочка решает, что няню и детей – ее самое с братом Колей – надо отделить от родителей, чтобы и они не заразились. И она распоряжается! И хозяева ее слушаются! И дети с няней переезжают в изолированное помещение в том же доме, с отдельным входом.
Родителей лечили военный врач и две сестры милосердия – никаких денег за помощь не брали. Сестры делали матери уколы. Шприцы они оставляли чистыми, готовыми к употреблению.
Раз вечером Нюта заходит к матери и видит: мать вся синяя и ни на что не реагирует. Нюта велит хозяйке нагреть воды – чтоб была все время горячая вода! Просит у нее старые простыни и полотенца, бросает их в таз и заливает кипятком – с пальцев долго потом сходила кожа. Горячими простынями обмотала тело матери, оставляя только место под левым плечом, а на сердце положила лед. И вдруг слышит шелестящий шепот: «Нюрочка, кажется, я оживаю!»
Тогда она потребовала разогреть камфару, сделала инъекцию в плечо и долго растирала место укола ладонью – как кипятят шприцы и как разогревают камфару, она много раз видела. Так Нюта в одиннадцать лет сделала первую в жизни инъекцию. Стива потом сказал жене: «Нюта будет врачом, мне это совершенно ясно».
Хозяйка дома была простая женщина. «С тех пор она перестала обращаться ко мне “Нюта”, а стала называть меня “Анна Метистовна”», – гордо заключила тетя Нюта.
Так она спасла мать.
А три года спустя спасла и отца.
Из Ростова они добрались до Алупки, там у них было имение. Но скоро все отобрали, и жить стало не на что. Мать давала частные уроки французского, она разбиралась во французском лучше всех. Но в Алупке ну один, ну два урока, даже для нее. И она повезла их всех в Ялту.
Отец и мать плохо понимали, что происходит, но зато Нюта и Коля (а год-то уже двадцатый, ей уже скоро четырнадцать) ходили в школу и знали, что Стиве, не ушедшему с Врангелем, грозит арест: «Ты что, не понимаешь, что тебя могут арестовать? Ты должен бежать и пробраться в Константинополь».
В Ялте оставались еще князь Путятин, придворный, и князь Трубецкой, философ. И вот все трое исчезли из города. (Нюта не знала, а Мика много позже сообразила, что Е.Н. Трубецкой, видимо, именно тогда умер от тифа.)
И долго ничего о них не было слышно.
Но тут «на телеграфе» – наверно, на телеграфном столбе в каком-то центральном месте Ялты – появилась наклеенная бумажка: «Такие-то благополучно приземлились в Константинополе». И Мике долго снится, как она, юнга, ведет Стиву и двух князей, закутанных в плащи из серого солдатского сукна, вниз по каменным ступеням, уходящим в море – там, на закате, пришвартована их маленькая шхуна. Сейчас она увезет их в Константинополь.
Литература ведь воспитывает? Это как же именно она их-то воспитала? Взять, например, Чехова. Чехов воспринимался как смешной писатель. Лошадиная фамилия. И вдруг… Боже, какой неподдельный, какой взрослый ужас ощутила Мика вместе с Каштанкой в ночь смерти ее коллеги-артиста, Иван Иваныча! Хотя этот Иван Иваныч был гусь, ну и что с того? Но самое кошмарное то, что Каштанка от веселого и умного циркового мира во все лопатки удирает к родным садистам. (Как сама Мика исправно каждую неделю ходит в гости к родственным детям, которые ее мучают, и каждый раз с радостью и открытым сердцем.) А Рагин сам оказывается сумасшедшим. А Ионыч так и не женится, а только все толстеет да берет на лапу. И так оно должно быть, иначе и быть не может. Ужас.
То же самое у Лермонтова. Что все ужасно и хуже не бывает.
Казалось бы, противоядие – это Лев Толстой. Мальчики читают про войну, девочки про мир. Как все устроено? У Наташи все, у Марьи ничего. Анатоль, яркое пятно, не для нее. Но у Льва Толстого дело не безнадежно. И Марья, настрадавшись с папашей, зато духовно растет и волшебным образом получает шанс захомутать Николая, который по всем параметрам ничуть не хуже Анатоля. Тоже красавец, и добрый, и веселый, и такой же раздолбай (ведь в эпилоге есть намек, что и у Марьи с Николаем тоже не так все прекрасно…).
Наташа, себя погубившая и кругом виноватая… Зато она, опять-таки, духовно растет, спасает раненых и за это волшебным образом получает обратно своего Андрея. Пьер страдает в плену, но волшебным образом зато духовно вырастает и получает в конце концов Наташу.
А вот романная Соня совершает подвиги любви, верности и терпения всю дорогу и за это получает шиш с маслом. Она, видите ли, пустоцвет! Чему же нас учит писатель? Что это потому, что она духовно не росла? А зачем ей было расти, если она и раньше была хорошая?
Опять же и с войной не так просто. Как надо воевать? Как Кутузов? Ничего не делая? Или как Андрей? Кончая посреди боя с собой? Или как Пьер? Ничего не понимая и путаясь под ногами? А если воевать хорошо, как Тушин, то тебя забудут на хрен с твоей батареей. А если ты поймаешь офицера, как Николай, то тебя век будет совесть мучить. А если махать знаменем, – мол, за мной! – то потом небо тебе скажет: «Все фигня». Спрашивается, зачем тогда все время там говорится, что на войне весело? Один Долохов воюет как следует, но он-то как раз отрицательный.
Кто же воспитывал?
Скажете, Пушкин? Да ведь после всей накопившейся советской литературы теперь уже нельзя было привязаться душевно к страшному Пугачеву, с тем чтоб тот взаимно полюбил и в свою очередь помог, – не поможет ни за что, ему партия прикажет. Ты ему тулупчик, он тебе десять лет без права переписки. Пушкин воспитывал известно чем: «Медным всадником», стройной красотой. Лермонтов – ангельскими стихами. Гоголь – тем, что иначе не скажешь, впечатывался навек.
Погодите, а как же нравственные ценности? Как случилось, что дети выросли более-менее нормальными? И советская мерзость была им мерзка? Кто там под шумок их очеловечил? Несмотря на школу? На пионерскую организацию? На Союз советских писателей?
Приходится думать, что это были Пегготти, и бабушка Бетси Тротвуд, и судья Тэтчер, и вдова Дуглас. Перевод Чуковского-сына, но под ред., конечно, отца. Нет, подумать только. На Диккенсе, да на Гюго, да на Дюма, да на Марк Твене выросло третье поколение, которое знало только девятнадцатый век, но каким-то чудом получило иммунитет от двадцатого.
Потому так ужасно оскорбляли книжки, идеологически выверенные, то есть написанные нарочно криво, с каким-то гадостным отношением к одним, с лебезящими приседаниями перед другими, с жульническим передергиваньем фактов, а главное, с завитушками. Из-за них Мика возненавидела постпозицию прилагательного! Она, постпозиция, хороша была только в «Тарасе Бульбе»! А с тех пор – нет, голубушка! Устарела!
Хуже всех, кривее всех был Горький, но почему-то так же писали еще сто советских писателей, и даже когда все это проходили в школе, читать это все равно было невозможно.
А полюбились зато русские книги, написанные просто и умно, легко и энергично, – Житков! Это часто были книжки научно-популярные. Перельман про физику, Ильин и Сегал про историю вещей, Б. Казанский про древние языки. За ними просматривалась некая желанная, недостижимая нормальность. Никак эти авторы и были для Мики живыми источниками высшего разума, к которым она так тянулась?
Питер как-то держался вокруг своих театров, чего о Москве не скажешь. И при театрах, и при музыке служило много люду. Народ этот, даже если казался простым, был очень специальный. Ведь он потомственно жил при театрах уже две сотни лет. Как будто бы все в Питере, кого Мика знала, были из таких. Ее папа и мама, и все подруги мамины жили Мариинским, даже новая папина теща при малейшей возможности убегала в оперу: «Сегодня же “Пиковая дама”!» Театр всегда театр. В городе, может, все население поменялось, а театр полон. Ложи блещут!
Может, отсюда эта питерская любовь к бутафории. Любимой народной забавой в Ленинграде были макеты: между рам, замазанных на зиму, клали вату, а на нее высаживали игрушечные елочки, гномиков и зверюшек, маленькие домики, вокруг них целые сцены. В Москве таких не видно. Наверно, это потому, что Питер вообще-то город немецкий, всосавший немецкий уют. С молоком матери-чухонки.
И потом, конечно, всеобщая страсть к Иллюминации! Двести пятьдесят лет здесь устраивали иллюминацию – и будьте добры. Ходили смотреть загодя, какие корабли вошли в Неву. С таким же волнением ходили смотреть салют.
Вся жизнь крутилась вокруг театра. Микина мама служила в Мариинском, поэтому их брали иногда в балет. В антракте Мику, крошечную, взяли за кулисы, и она была очарована нечеловечески сияющей улыбкой Феи Сирени, а главное – ее великанскими, прекрасными ногами, которые только что летали по сцене. Мике с ее от горшка двух вершков их было ближе и лучше видно. Фея сидела, так их изумительно сложив, что Мика оторваться не могла – все глядела. А тюлевые пачки! А огромные тупые атласные туфли! Мика бредила «Спящей» целый год. Но с танцем у нее ничего не вышло – она вдруг пошла в рост и стала дылдой.
Даже их нянька ходила в театр Комедии на комика Беньяминова: обожала. У нее была приятельница билетерша. Обе в беретиках, платья из ткани «торшон». А гениальная учительница немецкого (шубейка из фальшивого волка), к которой они два года ходили в группу, на преподаванье плюнула, потому что ее все время гоняла и стращала милиция. А она: а) не хотела платить разорительный налог на частное преподавание, б) была лишенка – мужа ее куда-то девали, и сама она не имела права жить в Ленинграде, и в) ко всему этому была еще и еврейка, ужас какой! В общем, она поступила в театральную кассу распределять билеты по организациям. Вот так! А лучше нее Мика за всю свою последующую жизнь педагога не встречала. Бабушка же (чернобурка, глазки оранжевые стеклянные, лапки болтаются) везла их в ТЮЗ на «Два клена» Шварца и «Волшебные кольца Альманзора» Габбе. А другой-бабушкин (маминой мамы) Соломон Шапиро вообще был администратором выездных эстрадных концертов. Коричневый рябой пиджак в клетку «птичья лапа».
Отсюда и маскарады – платья вертели из креповой бумаги. Особенно волновали допотопные маскарадные костюмы, Снегурочка из какого-то пожелтевшего рыбьего меха в бертолетовой обсыпке. В довоенной шапочке. В знак того, что театры, Снегурочка, Фея Сирени были тут всегда и всегда будут.
На Новый год Мика братику склеила картонные латы (клапаны придали им объем), а поножи позолотила. Даже мама ее зауважала за эти латы, и они с ней даже слегка подружились за этим делом. Мама покупала куски парчи и шила себе концертные платья, а Мике сшила наряд «Царевна Лебедь» из старой занавески. Кокошник Мика сделала сама из дутого жемчуга, нашив на картон. Вдруг в доме появился палантин из страусовых перьев, немного пожелтевший – мама его покрасила голубой краской в бирюзовый и очень полюбила. А все старое темное они красили в черный. Так у Мики возникло замечательное черное суконное платье для театра, бывшее мамино синее (она уже была ростом с маму! Это в одиннадцать лет!) Вдруг мама увлеклась кружевами и накупила ветхих валансьенских воротничков, на которые и дохнуть было страшно, – так она их отбелила, и ничего.
А Мика все делала макеты. Домики с настоящей мебелью (погубила суперобложку от собрания сочинений Гоголя), кусты из мха, деревья из веточек, бархатную травку, – и наверно, по ночам в этих декорациях разыгрывали пьесы Тамары Габбе какие-нибудь мелкие детгизовские феи с человечками из Бориса Житкова. Наверняка их не смущала четвертая стена. Во всех театрах играли так, что не смутила бы и пятая.
Макеты принесли ей легендарную популярность среди коллег брата – третьеклассников. Мика фигурировала в легенде под кодовым наименованием «Колькина сеструха». Однако в своем отечестве, в пятом классе, пророка не оказалось, если не считать лентяя и гада Казовского, который попросил ему помочь с макетом, а когда Мика радостно откликнулась – готовую работу забрал, а ее побил и портфель закинул на шкаф.
Мика спросила однажды хулигана, что значит непонятное слово. Лиза Калитина ужаснулась, он побагровел, объяснять не стал, а научил песенке: «В неапольском порту, с пробоиной в борту», – и велел всегда отвечать так: «Верьте совести». И с тех пор он Мику больше не бил – другие, правда, били.
Мика вырезала какие-то китайские прорезные узоры, копировала все рисунки откуда только можно – от репродукций из «Леонардо» Матвея Гуковского до обложек с незабудками Лидии Чарской.
Но папа принес Мике из букинистического магазина «Мир искусства» – все номера за 1904 год в толстенном кожаном переплете. Мика выучила его наизусть. Теперь надо было быть, как солнце, любить Чехова за грусть, а «Медный всадник» с картинками Бенуа, как написанный прямо сейчас и специально для нее, наконец влез в башку навсегда.
Тут-то ей и попались воспоминания Остроумовой-Лебедевой: картинки ее как будто проросли в Мике и определили ее жизнь. Отныне девизом стало благоговение. Оно перехватывало горло. С ним надо было что-то делать.
На реставрацию была положена жизнь. Наверняка именно Микина тяга к реставрации овладела, как у Маркса, массами и стала материальной силой. Весь воздух проникнут был этой тягой. Новых книжек пока что было мало – но одна из первых посвящена была реставрации Павловска. Весь город принимал душевное участие в восстановлении своих дворцов.
Постепенно проклевывалась мемуарная эпоха, начались Гиляровский, письма Чехова и воспоминания о нем уже в 1952-м, а там второе пришествие Клима Самгина и «Хождения по мукам». Топтались на подступах к Серебряному веку, потом прорвались «Тарусские страницы» и «Прибой», пошел потоп мемуаров вокруг да около – ностальгия по чеховской эпохе До и по комиссарам в каких-то немытых шлемах После. Реставрацией дышало все вплоть до детских передач: помните Клуб знаменитых капитанов? Имя Гумилев не произносилось, но было у всех на уме. Журнал «Костер» – детский, ленинградский – весь пропитан был неупоминаемым Гумилевым.
Наконец шлюзы открываются: выходят Ахматова и Цветаева. Потом приносят «Доктора Живаго» карманного формата на рисовой бумаге. (Это издание заграничное, контрабандное – с идиотским обозначением: «Земля и фабрика».) Еще немного – и появятся стихи Мандельштама в самиздате.
И вот, ностальгия идет уже в разрешенном ключе: поднимается волна революционных фильмов, которые смотрят за костюмы и интерьеры. В шестидесятые ностальгия наступает по всему фронту, не различая право от лево, бога от черта, авангарда от арьергарда. В особенности любят вещи: камера в фильме «Дворянское гнездо» полминуты не сползает с куска рокфора – пускает слюни.
Доходило до полного лакейства. Как та тетка, что охала от интерьеров фильма «Война и мир»: «Убирать бы здесь!» Ностальгию теперь обслуживали целые полки – куда там, дивизии! – реставраторов: икон, украшений, картин, мебели, усадеб и церквей. Везде специалисты по стилям и эпохам. Экскурсоведы и искусствоводы. Все это уже давно определилось по департаменту коммерции либо укатилось в бульварщину. Конец прекрасной эпохи.
Но это, слава Богу, было уже без Мики.
Теперь уже Мика почти большая и сама ходит к тете Нюте. Тетя Нюта по-прежнему худая, с папироской. У нее как всегда – спартанская обстановка, несоветского только альбомы с фотографиями и дивные старинные чашки – от матери. Угощение – вкуснейший самодельный творог и свежайший душистый хлеб. «Выпечка по методу дворян-лишенцев», – хвастается Нюта. Над кастрюлей с кипятком на дне подвешивается дуршлаг, в него кладется черствый хлеб, завернутый в салфетку, и получается чудо, объеденье.
И вот Мика слушает, чем кончилась Нютина история.
Они радовались за Стиву, но жили в Ялте в ужасном страхе: каждую минуту могли прийти за мамой. Она была теперь жена белоэмигранта. И мало того – так ничего и не понимала, что творится. Дети зато понимали очень хорошо – им-то все время напоминали, что они классовые враги.
Первые годы они переписывались – находили пути. Когда стало ясно, что разлука их надолго, может быть, навсегда, Нютина мама сама стала подталкивать Стиву, чтобы он женился. Прошло время, и явился человек оттуда. Он сказал, что Стива просит у жены разрешения на женитьбу. Сам он боится писать, это может им навредить.
Вот какие были нравы. Мать как женщина разумная передала благословение. Больше она ничего о Стиве не слыхала. А Нюта слышала уже потом, что Стива умер, что у него было двое детей и что старший Паша выучился на дипломата. А младшая девочка Вера жила в Париже.
Были они в Ялте очень бедны:
«А мы не знали, как пишется слово “хлеб”!»
Понятно, раньше-то писалось через ять. А нынче хлеба они и в глаза не видели.
Нюта работала санитаркой. В мединститут ее не брали из-за дворянского происхождения. Ей удалось только попасть в медицинский техникум и выучиться на медсестру. Работала она в Ялте, в детском костнотуберкулезном санатории. Оттуда ее постоянно пытались вычистить.
Но из России она не хотела никуда. В тридцатых вернулась под Ленинград, а в первые же дни войны ее мобилизовали на работу в госпитале. Еще бы, с госпитальным опытом с 1914 года! И дали комнату, вот эту.
Теперь она преподает в Первом медицинском, хоть и не врач, но она столько знает про устройство полевого госпиталя, что ее слушать приходят врачи.
А еще она хочет найти свою парижскую сестру.
2
ВСЕ ДРУГОЕ
Мика живет уже в Москве, здесь все другое. И хотя и тут изрядно собралось Микиных родственников, трое- и четверо- и более -юродных, а седьмой воды на киселе и вовсе немерено, скоро выяснилось, что никому из них маленькая Мика не интересна. Так что рисовальная школа, к которой она пока привыкала, стала для нее всем на свете. Хотя приняли ее с превеликим трудом – ее мирискуснические вкусы в Москве как-то не впечатляли, тут в этом видели раскрашенную графику и больше ничего. Тут все были живописцы. Высшей похвалой было «Красиво по цвету».
Когда Мику послали в школьный лагерь – это называлось «на практику» – на все три летние смены, от Горыныча подальше, она была без ума от счастья. Ибо там будет ее четвероюродная кузина, старше на два класса!
Действительно, кузина оказалась мила и взяла Мику в свою компанию к старшим. Они рисовали целый день, а вечером болтали, гуляли, пели. Вырезали шнуровку кедов, превращая их в балетки. Намазывали мылом стекла, накатывали черную краску, вырезали рисунок и на бумаге печатали монотипию. В Ленинграде-то они с Лизой на людях помалкивали, а в новой школе девочки были интеллигентные и даже не скрывали этого. Они читали Бунина и Мопассана. Это были почти готовые девушки, и у всех на глазах развивались их романы. Одна, самая крупная из них, была красива ангельской, совершенной красотой. Но у нее была трагедия – ей приглянулся кто-то из сверстников. Потому что ее классическая, нестерпимая красота никому, конечно, из этих сверстников – пятнадцатилетних мальчиков – была невподъем. И эта пятнадцатилетняя дура оплакивала свое безнадежное одиночество и крах всех надежд и рисовала гибнущих, изломанных, изуродованных женщин. Потому что хоть они были маленькие, но чувства-то ихние были настоящие.
Микиному тринадцатилетнему счастью это не мешало. Она полюбила красавицу – та была добра. А как она пела!
- В саду на ветке песенку пел скворушка,
- Машутку звал на лесенку Егорушка:
- Ах, Машенька, давай пойдем на лесенку,
- Послушаем мы скворушкину песенку!
- Ну что ж, право слово:
- Чего ж тут дурного?
- Он звал ее на лесенку,
- И больше ничего!
Это была совсем новая песня, тогда она страшно нравилась:
- Дарил он ей серебряно колечико,
- А сам тихонько жал ее за плечико…
Она пела глубоким сопрано, разочарованным голосом всезнающей, прожженной женщины из Мопассана, а сама была маленькой растерянной девчонкой.
Но пели и старое – песенки кабаре, которые, наверно, запомнились еще их родителям:
А наутро она вновь улыбалась…
Больше всех любили «Серенькую юбку»:
- Брось, капитан,
- Не надейся на помощь норд-веста!
- Мисс – мисс из знатной семьи,
- Мисс – чужая невеста!
Лагерь был на крутой горке, внизу зеленый луг, по нему вилась речка, а вдоль берега – редкие ветлы. Все рисовали эти ветлы, они образовывали ряд натуральных чисел, его трудно вспомнить, но легко узнать – дымные эти луга и извилистая линия ветел, а вверху размазана розовая пыль облаков. Вид после ужина.
С утра все ходили в ближнюю деревушку и рисовали пруд, старые избы и сваленные много лет назад бревна перед избами. Кто-то привез, а строить не стал и чинить не стал, то ли не вернулся с войны, то ли заболел, то ли замели. Так они и лежали горой, сохшие и мокшие двадцать лет подряд, серебряные от старости. Время было для деревни плохое, хрущевское, и ученики не знали, почему все дома старые, почему все разваливается. Бабы их шугали. Мужиков не было.
Надо сказать, что народные люди из деревни были непонятные, но не противные. У них были скулы, надбровные дуги, сильно потрескавшаяся кожа, выцветшие глаза. Они были одеты в кофты поверх платья или черные рытого бархата жакетки, мужские туфли с калошами, на голове платок. Они и говорили-то не очень понятно. Ученики их стеснялись, только самая умная девочка вежливо попросилась порисовать в избе и вернулась с пачкой узорчатых картинок: полосатые домотканые половики да лоскутные одеяла.
Поколение за поколением они рисовали бледный песчаный бугор и над ним пронзительно-желтый закат сквозь прорехи в черном еловом рукаве. Рисовали глинистый обрыв над рекой, сверху поле, на нем стога. Рисовали кучевые облака на кубовом небе, на теплой подкладке, а внизу красноватая гарь, заросшая кипреем. И все как один рисовали раздвоенную лишайную березу на крутом подъеме в лагерь.
Им не мешали похабные учителя, полностью занятые такими же пионервожатыми. Один из них был вечно пьян. Другого звали Дрыгалин. Третий был физрук и, имея в виду этюд, говорил «утюг».
Особенно хорошо было в дождик: все сидят в палате и пишут друг дружку, или грибы, или рябину, или ромашки. И поют хулиганские песни или списывают в тетрадку песенные слова. Или придумают игру: ты описываешь кого-то и его одежду. Например: вошел Дрыгалин в новом галстуке. А по игре это значит, что ничего другого, кроме галстука, на нем надето не было.
А как-то они встали до рассвета, взяли этюдники и, дрожа от холода и возбуждения, вышли в поле: хотели увидеть прославленный зеленый луч. Но сизое нежное поле и ясное, еще никакое небо вмиг поменялись на розовое и золотое, а еще через минуту начался белый, синий, зеленый день, и они не успели ничего зарисовать, зря все измазали.
Раз посадили позировать маленькую Каплан с оттопыренными ушами в розовом платье. Она сидела на толстом сером брусе, свесив ноги, в июньской зелени застревало солнце, свет дрожал радугами, какая-то мелочь летала и жужжала, и они рисовали солнце и воздух счастья, и в этом волшебном воздушном столбе – розовую девочку, дочь завхоза, которая рада-радешенька была, что с ней общаются большие.
Это и было в школе самое лучшее – ее воздух.
В школе все говорило о тайном и благородном замысле, он проступал сквозь общую зачуханность. Серый холст, аутентично пахнувший рядном и гумном, мебель из простого дерева, старая, залосненная и изящная, жемчужно-серые стены… Навыки штриховки, уже не репинские и не чистяковские отнюдь, а угловатые, легкие… как сейчас понятно – английские, рескинские, воспринятые через Врубеля с Серовым. Тайное знание, полученное тихими некрасивыми училками, не скажут от кого, но тихо же передаваемое по эстафете: ничего, не бойся, не зализывай, пусть будет волосато-волохато, так ты верней поймаешь выражение…
А самое главное, постоянное ожидание чуда. Потому что чудеса то и дело происходили. Вот противный ругатель – тощий, капризный Саша. И вдруг он выдает работы, похожие на россыпь драгоценных камней! Вот одутловатая деваха в прыщах из параллельного – и вдруг появляется ее акварель: город, пасмурный вечер, красный трамвай и его отражение в мокром асфальте. В тусклом мокром воздухе этот трамвай, дважды повторенный, вобрал все краски и теперь светился скрытым светом, это давало надежду.
Но потом чудеса проходили. Рисовать и писать красками все как-то научались, но…
В романе британского японца Исигуро описана чудесная школа: дети там рисуют, пишут сочинения, играют. Они не сразу узнают, что они – клоны, искусственные создания; поскольку у них нет души, то, когда они возмужают, их распилят на органы. А счастливое детство им дают просто чтоб они выросли здоровыми. Дама – патронесса школы собирает их рисунки, и в школе возникает поверье, что это затем, чтоб всем доказать, что душа у них есть.
Интересно, можно ли по работам сказать, что у автора была душа? Поначалу вряд ли. А вот в средних классах, когда дети начинали раскрываться, она точно была. Но уже к старшим классам становилось не так ясно.
Учился у них один мальчик, замкнутый, простоватый. Но когда он брал кисть! Раз летом они пошли на поле рисовать коров. Ну, все изобразили коричневых угловатых коров, с острой холкой, с хвостом, с коленками назад, в разных позициях, пасущихся и лежащих. Корова устроена сложно, это целая наука. А мальчик Петя без всякой науки залил квадрат ватмана глубоким, дрожащим изумрудным цветом, а в середке поместил двух крошечных изящнейших красных коровок, величиною с божьих. Так сказать, вид сверху, из облака. «И увидел, что это хорошо». Боже, как же это было хорошо!
Но в старших классах было уже не так хорошо, и после школы Петя пропал с радаров. Кому нужен гений? Что с ним сталось?
Его бы в ученики к мастеру, тер бы краски и вдруг превзошел бы учителя. Но учителя в школе художники были никакие. Может, в этом все дело?
Короче: в школе они выучились много чему, но к тому, чему именно их учили, приобрели стойкую аллергию.
Все же им сильно повезло: снаружи что-то уже менялось.
Библиотека иностранной литературы была раньше в Зарядье, почти на самой набережной, в желто-белой с колоннами бывшей церкви. Там устроили выставку рисунков Матисса: год еще был пятьдесят какой-то. Мика с мальчиком Володей из класса – маленькие, лет по четырнадцать – на нее пошли. Небо уже налилось сизо-розовым, хотя всего часов пять – дело было в декабре. И на этом небе классическое здание церкви казалось лимонным, а колонны бирюзовыми. Этот вечерний эффект просто с ума сводил – так было нарядно.
И вот они – плотный Володя в школьной гимнастерке и высокая, нелепая Мика в коричневой форме – вот они поднимаются в очень теплые, очень ярко-белые маленькие залы. И такая красота были эти рисунки одной гибкой линией.
Но тут на них, видно, подействовал этот внезапный нагрев после двадцатиградусного мороза, и очень скоро они с ним начали сопеть, сперва исподволь. Ничего не помогало: платка не было ни у него, ни у нее. Вскоре они уже сопели вслух, громко, в унисон.
Пришлось им позорно ретироваться.
Декабрь, Москва, Матисс. Оттепель.
Мика оторвалась от старой семьи – от того, что для себя она определяла как несправедливые преимущества, за что было стыдно. За раннюю грамотность, например. Оторвалась от папы с Бабушкой и тетей Нютой, которые остались в Ленинграде. Но она продолжала быть зависимой от чужого мнения. Просто сейчас это было мнение уже не папы с Бабушкой, а мамы с Горынычем.
Горыныч состоял из длинной толстой шеи. Она оканчивалась небольшой головой с высоким, но, увы, – чисто декоративным лбом и плоскими щеками. За очками маленьких бесцветных злых глазок было не видно, рот был безгубая щель. Ниже шея разветвлялась на накачанные загребущие руки, а сама бочкообразно утолщалась, и это тулово бегало на коротеньких кривых ножках. Он был представительный и любезный, замечательно одевался в ателье – его можно было перепутать с человеком.
Начал он с искоренения папы и Бабушки. «Все это пропахло нафталином», «Да кто это теперь читает», и т.д. А что же нужно? Горыныч утверждал культурные преимущества Москвы. Ладно! Тогда как раз выходили Паустовский, Бабель, Олеша. Это было упоительное чтение, и Мика полюбила «Золотую розу» и Кавалерова. Но все же все это было ничуть не менее нафталинное. По сравнению с тем, что читал и писал Горыныч.
Сам Горыныч читал советские шпионские романы и книжки про спецслужбы. Он смотрел телевизор: «Я должен смотреть то, что смотрит народ». Он восхвалял выступавших по телевизору представителей народа. Ему нравились широкие скулы, он ценил открытые незамысловатые лица. Ему писали сельские учительницы. Он читал в каких-то клубах. Он с наслаждением купался в глупости, и глупость была ему благодарна.
Но в дальнем ящике под ключом у него были Сельвинский и «Мена всех». Когда же Мике чудом вывалился из какого-то второго ряда ранний Пастернак – «Поверх барьеров», она была потрясена. Вот оно, то, что нужно! Зачитала до дыр, переписала в тетрадку, выучила наизусть и гундела в метро и по дороге в школу. Содрогаясь от счастья в предвкушении того, что еще должно последовать. Как в пулю сажают повторную пулю! Почему тогда было это ощущение, что вот-вот – и будет счастье? Без осечки?
Так что Горыныч кое-что знал. До того, как попал в тридцать пятом под покровительство своего покровителя и сделал карьеру. Он мог процитировать и кирсановский «Бой быков»:
- Поворачивая черный бок,
- Поворачивался черный бык:
Бык по какому-то поводу говорил «Му!», а дальше шло так:
- Я бы шею отдал ярмууу
- У меня сухожилья мыыышц,
- Что твои рычаги, твердыыы!
- Я могу для твоих домищщщщ
- Ямы рыыыть и таскать пудыыы!
Неужели Горыныч когда-то был человеком?
На самом деле Горыныч был персонаж в буквальном смысле слова феерический: он разбогател, поставив в цирке феерию. Феерия шла во втором отделении. Вначале пограничники ловили шпионов на суше. Потом цирковая арена заполнялась водой и превращалась в море, и преследование шло вплавь, затем наступала ночь, и оно продолжалось в полной темноте, только по рядам зрителей ходили тревожные прожекторы и высвечивали то тут, то там возникающие очаги шпионажа и измены. По цирковому морю носились моторные лодки и даже что-то над водой летало. Все это кончалось полным посрамлением Запада, стоило несметных денег и собирало полный цирк.
Действие проходило под оглушительное пение армянской певицы. Если бы она была мужчиной, такой акцент сочли бы издевательством и исполнителя раньше (ну не сильно раньше) немедленно расстреляли бы.
По утрам Горыныч победоносно пел в ванной: «Любо, братцы, любо…» – любил себя.
«Жалко только детушек… Матушку-старушку…». Но, конечно, никого ему жалко не было. Он во всем был с веком наравне. Насчет матушки-старушки: на похороны матери он не поехал. Сбежал из родных краев в начале тридцатых и отрезал, со своими видеться не хотел. Взял русское имя, женился на поповне – и устроил ей ад.
Хотя нет, все-таки и он пожалел – один-единственный раз. Мика это видела. Год был пятьдесят седьмой. Откуда-то взялся ссыльный старик Штраус и принялся умолять о помощи. Старик носился по Москве в своей страшной шубе, из нее торчали клочки, склеротические глаза выскакивали из орбит, красные и синие жилки пульсировали. Надо было его вытащить из Александрова, где он со своей старухой мучился на сотой версте без воды и света. Они были возвращенцы из Харбина: там у его жены была вышивальная мастерская. Работали китаянки.
Видно, обезумевший от репрессий Штраус что-то Горынычу напомнил из его детских или юношеских впечатлений. Насчет своего происхождения Горыныч глухо молчал, но вряд ли оно было пролетарское.
Кого напомнил? Да кого угодно. Собственного Горынычева еврейского деда? Или отца?
Когда это могло быть? Да когда угодно. Начало двадцатых, реквизиции и расстрелы? Или их середина – конец НЭПа, выпихивание из жизни? Или конец – обостренье и повторные аресты? Или и то, и другое, и третье?
Как бы то ни было, Штраус со своими жилками, видно, дотронулся до чего-то, что было в нем еще живо. Потому что с утра Горыныч помчался в Союз – помогать!
Вернулся он расстроенный и испуганный. На него нацыкали. Оказалось, что помогать «таким» не только нельзя, но и небезопасно.
Но он ведь подумал, что уже можно быть нормальным! И бегом побежал! И горевал, что нет, вишь, нельзя…
Через несколько дней сообщили, что Штраус вернулся к себе в Александров и умер. Его страшенная рыжая старуха привезла и силой всучила Микиной матери огромную скатерть на двенадцать персон, каких теперь не бывает, из ажурной льняной мережки китайской ручной работы, с купидонами и нимфами (Нимфы? в Харбине?) безумной, совершенно ненужной красоты. Мать Мики этой скатерти боялась – не заразиться бы через нее несчастьем. На самом деле скатерть, которой никто никогда не стелил на стол и которую нельзя было продать, потому что никто не покупал, действительно внушала оторопь. Она была из другого измерения. Сделанная в дурацком, на сто лет запоздалом стиле и слишком хорошо, как уже никто нигде не делает, даже в Китае, она пережила их всех, переживет и всех нас и окажется через тысячу лет в музее – неизносимая, неистребимая, вечная. Никто и не вспомнит, что это китч.
Мика все еще была маленькая, но Горыныч устал ждать и приступил к полному и окончательному ее уничтожению.
Дома Микина жизнь и без того была плотно схвачена, без зазора, машиной «преступление-наказание». Самоходная эта машина не остановится и с пути не свернет – что ни делай, только крутит колесо вперед да ходу поддает.
Теперь надо было убедить Микину мать в Микиной закоренелости. Алгоритм был такой: придраться к любой мелочи и начать изрыгать оскорбления. В какой-то момент Мика не выдерживала и начинала кричать. Умело ведя свою партию, Горыныч развивал скандал, не давая ему затухнуть, только чтоб не дать Мике смириться. Например, уже когда все тихо и, кажется, хорошо, вдруг опять на что-то бешено, страшно отреагировать, а есть повод, нет ли, поди потом разбирайся. В общем, раздувать Микину ненависть, язвить в одну точку, а при этом все время повышать ставку. И очень скоро Микину мать он убедил. Затем и Мика сама должна была в свою собственную порочность поверить. И она поверила, конечно, – была мала. Ну и что? Это же не приближало его к окончательному решению. Тогда пошли разговоры о том, как он сам в шестнадцать лет ушел из дому. И всего добился сам! Человеком стал! (Ну, тут он преувеличил.) Ясно было, он хотел убрать ее из дома. А ей было только четырнадцать.
Тут и проявилась Б.О. Их школьная учительница Б.О. Бывшая комсомольская богиня, а нынче рыжая, полноватая, вялая тетенька с тихим голосом. Но в ней тлело то самое пламя, и время от времени оно возгоралось из искры, и слабый голосок креп, и все кругом дрожало в ужасе. В ней одной хватило бы пороха на целую боевую организацию.
Ей почему-то было не все равно, и она не дала Горынычу угробить Мику, угрожая сообщить в ихнюю пыр-тыр-ганизацию, что он выделывает с падчерицей. Трус Горыныч испугался огласки и притих.