На рубеже веков. Очерки истории русской психологии конца XIX – начала ХХ века бесплатное чтение
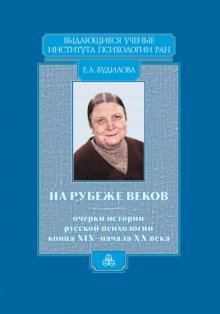
Российская академия наук
Институт психологии
Под общей редакцией
В. И. Белопольского, А. Л. Журавлева
© ФГБУН «Институт психологии РАН», 2019
Е. А. Будилова как историк и методолог психологии
Т. И. Артемьева, А.Л. Журавлев, В. А. Кольцова, О. В. Шапошникова
В серии «Выдающиеся ученые Института психологии РАН» выходит книга Елены Александровны Будиловой «На рубеже веков: Очерки истории русской психологии конца XIX – начала ХХ века». Эта книга, объединяющая избранные труды последних лет жизни Е. А. Будиловой, посвящена 110-летию со дня ее рождения.
Краткие биографические сведения
Елена Александровна Будилова (1909–1991) является одним из наиболее крупных и авторитетных специалистов в области изучения истории отечественной психологической науки. Елена Александровна родилась 12 марта 1909 г. в Москве. В 1926 г. она поступила на историко-философский факультет Московского государственного университета. Две области знания – история и философия – определили направления научной деятельности Елены Александровны. Завершив обучение в университете в 1930 г., она получила диплом по специальности «этнограф». С 1929 по 1941 г. работала литературным редактором в ряде журналов («Антирелигиозник», «Безбожник»), в Сельхозгизе. С 1943 по 1947 г. была редактором отдела агитации и пропаганды Всесоюзного Радио.
Следующий этап биографии Елены Александровны – учеба в аспирантуре Института философии Академии наук СССР (1947–1950). Елена Александровна вспоминала об этом периоде: «Сектор психологии Института философии АН СССР в 1947 г. объявил прием в аспирантуру по психологии. Тогда я и стала аспиранткой С. Л. Рубинштейна. В тот год все мы, поступавшие в аспирантуру, не имели специальной психологической подготовки. Только потом я поняла, на какой огромный труд обрекал себя руководитель сектора, взявшись за наше обучение, и как велико было его стремление помочь психологической науке.
Мне предстояло определить направление моей работы. У меня не было опыта психологических исследований, и я, испытывая почтение перед экспериментальной психологией, в то же время не решалась заниматься экспериментами, хотела углубить свои знания и обратилась к истории» (Будилова, 1989, с. 152). На научную деятельность Елены Александровны Сергей Леонидович Рубинштейн оказал большое влияние, под его руководством она написала и успешно защитила кандидатскую диссертацию (1950).
В 1950–1956 гг. Е. А. Будилова по направлению аспирантуры работала в научно-методическом отделе Государственной библиотеки имени В. И. Ленина. В эти годы она опубликовала несколько научно-популярных статей и брошюр, посвященных научному объяснению психических явлений, религиозных верований и т. п. (Будилова, 1951а, б, 1954; Левина, Будилова, 1954).
В 1956 г. Елена Александровна стала сотрудником сектора философских проблем психологии Института философии АН СССР, в составе которого она перешла в 1972 г. во вновь организованный Институт психологии АН СССР (в настоящее время – Институт психологии РАН). Центральное место в работе коллектива сектора (К. А. Абульханова-Славская, Л. И. Анцыферова, А. В. Брушлинский, Е. В. Шорохова, М. Г. Ярошевский и др.) занимало исследование философских, методологических и теоретических проблем психологии. В работах Е. А. Будиловой эти проблемы рассматривались в историческом аспекте.
В течение всего периода деятельности в Институте Е. А. Будилова вела большую научно-организационную и консультативную работу: занималась подготовкой и проведением симпозиумов по истории психологии на VI, VII съездах психологов, участвовала в организации и проведении юбилейной конференции, посвященной 100-летию С. Л. Рубинштейна (1988, 1989), принимала участие в составлении проекта серии «Психологическое наследие», была членом бюро Научного совета по теории и истории развития психологии при АПН, председателем конкурсных комиссий Института психологии, была профоргом, выполняла обязанности ученого секретаря специализированного совета по защите докторских диссертаций, участвовала во всех психологических форумах и совещаниях. В последние годы стала профессором-консультантом Института психологии Академии наук СССР.
Научный вклад Елены Александровны был высоко оценен ее коллегами в связи с празднованием ее 80-летия: «Ваши книги стали настольными книгами для всех, кто вступает на путь научных исканий; они являются подлинной энциклопедией истории нашей науки, помогают понять глубокую преемственность традиций отечественной психологической науки, по достоинству оценить ее оригинальность и самобытность» (Научный архив ИП РАН. Оп. 4.2.2. Д. № 1. Л. 15).
Вклад в разработку философских и методологических проблем психологии
Научные позиции Елены Александровны формировались под влиянием идеологии советского общества, что во многом определило характер ее научных взглядов. Официальной идеологической базой советской науки был марксизм-ленинизм, и непреложное следование его принципам являлось общепринятой нормой научной мысли. Вместе с тем следует отметить, что именно в советский период в качестве важнейшей задачи выдвигается создание теоретико-методологических основ психологии, центральное место в системе психологической науки занимает разработка методологических проблем, соответствующих как логике науки, так и запросам практики. Идеи марксистской философии творчески осмысливались учеными и выступали в качестве конструктивных общеметодологических оснований развития разных отраслей психологии, в том числе истории психологии.
Разработка методологических проблем велась Еленой Александровной в двух направлениях: в русле методологии истории психологии и истории методологии отечественной психологии в целом. Ее работы имеют большое научное значение, воплощая в себе лучшие традиции отечественной психологии и историографии ХХ в. Она существенно обогатила психологическую науку обширной фактологией, открыв много неизвестных ранее научной общественности имен и представив широкую панораму развития отечественной психологии на разных этапах ее истории.
Стиль научной деятельности Елены Александровны отличается строгой доказательностью и логической обоснованностью положений и выводов; фактуальностью и глубиной методологической проработки исследуемых проблем; системностью и комплексностью их анализа. И именно в силу этого, несмотря на происходящие в последние десятилетия серьезные изменения идейных оснований нашей науки, отказ от многих традиционных исходных постулатов и поиск новых методологических принципов, они сохраняют научную значимость и актуальность для современного историко-психологического знания. Имплицитные методологические положения, лежащие в основе ее исследовательской деятельности, а также отрефлексированные ею принципы историко-психологического анализа представляют большую ценность для разработки конкретных проблем истории психологии и ее методологии.
Елену Александровну отличали новаторский подход к решению научных задач, умение вычленять и исследовать новые и важные аспекты в изучении психологического познания. Именно она впервые обратилась к исследованию психологического наследия И. М. Сеченова, положив тем самым начало целому циклу работ по истории психологии, направленному на изучение вклада ученого в развитие объективного подхода в психологии, его роли в становлении психологии в нашей стране как самостоятельной науки. Елена Александровна рассказывала, как заинтересованно следил Сергей Леонидович Рубинштейн за ходом ее исследования, высоко оценивая полученный результат.
Основное место в творчестве Елены Александровны занимает разработка методологических проблем отечественной психологии, чему посвящены ее монографии «Борьба материализма и идеализма в русской психологической науке» и «Философские проблемы в советской психологии», а также ряд других работ.
Показано, что центром идейной борьбы в русской психологической науке на всех этапах ее развития были дискуссии по философским проблемам психологии – о природе психического, предмете и методе психологии, особенностях чувственного познания и мышления, «свободе воли», о соотношении теории и эксперимента.
Анализируя историю русской дореволюционной мысли, Елена Александровна впервые раскрыла целостную картину развития психологии на этом этапе, выделила и охарактеризовала все основные ее направления. Являясь последовательным сторонником материалистического подхода, она тем не менее не оставила без внимания ни одну значимую персоналию, представляющую идеалистическое течение в психологии, введя это направление в историю и обеспечив его последующее содержательное исследование. Встречающиеся в ее работах чрезмерно резкие оценки отдельных ученых этого направления («реакционер» и т. д.) не являлись отражением только требований времени, но были продиктованы, как представляется, также ее искренним убеждением в продуктивности и исторической перспективности диалектико-материалистической методологии.
Исходным постулатом Елены Александровны было представление о том, что решение философских проблем психологии непосредственно влияет на построение психологической теории и имеет методологическое значение для анализа истории развития психологической науки. Каждая теория связана с определенным решением философских проблем психологии, поэтому анализ философских оснований психологических теорий позволяет глубже исследовать их научное содержание; раскрывать методологические принципы, определяющие способ получения фактов, их обобщение, решение как общих, так и частных вопросов научного исследования; рассматривать взаимоотношение теорий и видеть за их внешним сходством коренные отличия друг от друга или, наоборот, выявлять общую линию их развития, скрывающуюся за внешней противоположностью.
В разные исторические периоды научная мысль в качестве предмета изучения выделяет то одну, то другую сторону познаваемого объекта, что, по мнению Елены Александровны, определяется и условиями общественной жизни, и логикой развития науки, которая в конечном счете детерминируется ее объектом, преломляемым в процессе познания в научные понятия. Соответственно в результате анализа психологических теорий возникает возможность проследить реальную диалектику развития психологической мысли.
Для того чтобы в полном объеме представить проблемы методологии истории психологии, необходимо, как считала Елена Александровна, проследить весь ход научных событий, в конкретно-историческом анализе борьбы идей и взаимодействия теорий раскрыть взаимоотношение основных факторов научного познания. Одной из особенностей ее научного подхода является то, что анализ философских проблем приобретает в ее работах роль методологического принципа.
В круг методологических проблем Елена Александровна вводит прежде всего вопрос о природе психического, что, в свою очередь, предполагает рассмотрение соотношения психики с окружающим миром, психических процессов – с физиологическими, исследование детерминации психики, активности сознания и его связи с деятельностью человека. Вопрос о природе психического оценивается ею как фундаментальный, имеющий основополагающее методологическое значение для изучения сложного и противоречивого пути развития психологической науки, воссоздания адекватной картины ее исторического прошлого.
Научное наследие
Елена Александровна опубликовала около ста научных работ, среди них четыре фундаментальные монографии («Учение И. М. Сеченова об ощущении и мышлении», 1954; «Борьба материализма и идеализма в русской психологической науке», 1960; «Философские проблемы в советской психологии», 1972; «Социально-психологические проблемы в русской науке», 1983), разделы в ряде коллективных монографий и статьи по разным проблемам истории психологии. Ее работы и сегодня являются настольными книгами для историков психологии.
Вершиной научного творчества Елены Александровны стала монография «Философские проблемы в советской психологии» (1972). Книга посвящена основным этапам развития советской психологии, выделены их философско-методологические основания, прослежена история разработки ключевых проблем психологии: развития психики, сознания и деятельности, рефлекторной теории психики, ее детерминации и др. Елена Александровна убедительно доказывает, что введение марксистского учения в психологию определялось не только идеологическими требованиями и субъективным принятием этой философской парадигмы, но и состоянием психологии, уровнем научной рефлексии и разработки ее теоретических проблем, возможностями использования методологических положений диалектического материализма для обоснования конкретно-научных методологических принципов, учитывающих особенности исследуемого объекта и закономерности внутренней логики развития психологической науки.
В книге были выделены и охарактеризованы ведущие философско-теоретические проблемы для каждого из трех периодов развития советской психологии: начального (1917–1931), становления марксистской психологии (1931–1945) и послевоенного. Показано, как благодаря творческим усилиям советских ученых в острых научных дискуссиях рождалось и утверждалось современное представление о природе психического и разных его характеристиках, проявляющихся в многообразии отношений с миром, и как на этой основе формировалась система методологических принципов психологической науки.
Елена Александровна подчеркивает, что реализация положений марксистской философии в психологии происходит в процессе непрерывного развития самой науки, которая по мере своего роста и обогащения новыми фактами ставит новые методологические проблемы, требующие, в свою очередь, дальнейшего развития. Согласно ее мнению, изучение исторического пути советской психологии со всей очевидностью демонстрирует решающее значение диалектического метода в развитии методологии науки.
Монография «Философские проблемы в советской психологии» в 1973 г. была защищена Е. А. Будиловой в качестве диссертации на степень доктора психологических наук (Научный архив ИП РАН, Ф. 20. Оп. 3.2. Д. 1. Л. 125).
Значительное место в работах Е. А. Будиловой занимает рассмотрение собственно системы принципов истории психологии – принципа развития, единства логического и исторического, системного анализа.
Специальное внимание в русле разработки методологических вопросов истории психологии Е. А. Будилова уделяет анализу принципа соотношении логического и исторического. Указанный принцип ориентирует исследователя на поиск фундаментальных оснований развития научного знания, на то, чтобы «в сложной и конкретной исторической действительности найти основную логическую нить развития науки, которая выражает закономерность этого развития» (Будилова, 1988, с. 233). Реализация данного принципа определяет изучение истории психологии в различных аспектах: тех конкретных исторических условий, в которых наука включалась в общественную жизнь; логических теоретических связей, в которых строились психологические знания каждого этапа, с одной стороны, и того соотношения, в котором они находятся в современной психологической науке – с другой. Исследование применения категорий исторического и логического в психологической науке, таким образом, привело к разработке методологической проблемы взаимосвязи этих категорий, реализации принципа единства исторического и логического в изучении истории отечественной психологии и определении актуальных задач современных историко-теоретических исследований.
В статье «Взаимосвязь теории и истории», опубликованной в коллективном труде «Теоретические и методологические проблемы психологии» (Будилова, 1969), ставится вопрос о соотношении проблем исторического исследования с современной психологической теорией, выдвигается и обосновывается мысль о методологическом значении философских основ психологии в оценке историко-психологических явлений.
Е. А. Будилова предлагает методологические подходы к решению проблемы периодизации истории психологии. На основании обобщения историко-теоретических работ ею была разработана периодизация отечественной истории психологии дореволюционного периода (со времени ее выделения из философских наук) и советского времени. Критериями периодизации названы: связь психологии с практикой, выражающаяся в развитии отраслевых психологических дисциплин, а также ее взаимодействие с рядом других наук. Специального внимания, по мнению Е. А. Будиловой, требует рассмотрение вопроса о соотношении периодизации истории психологической мысли, обусловленной внутренней логикой ее развития, и периодизации общей истории, философии и истории естествознания (Будилова, 1976).
Рассматривая вопрос о взаимоотношении истории и теории, Елена Александровна указывает на их диалектическую связь. «Теория благодаря истории пополняется новыми знаниями и поднимается на новые ступени в своем приближении к все более полному познанию изучаемой области действительности. В свою очередь, поднявшись на новую ступень научного познания, теоретическая мысль обращается к истории и с новой точки зрения оценивает все прошлые знания» (Будилова, 1988, с. 232).
В данном издании публикуется последняя по дате публикации, но не по ее значимости монография Е. А. Будиловой «Социально-психологические проблемы в русской науке», вышедшая в свет в 1983 г. небольшим тиражом и давно уже ставшая библиографической редкостью, а также ряд ее статей, объединенных общей темой – российская психология на рубеже XIX–XX вв.
В публикуемой книге впервые рассмотрены истоки отечественной социально-психологической мысли, формирующейся в разных отраслях научного знания и сферах практики конца XIX – начала ХХ в. В ней глубоко на большом конкретном материале обоснованы положения о детерминации психологического знания потребностями и запросами практики, о роли обыденного знания в развитии психологической науки, о вкладе специалистов-практиков в изучение ее различных аспектов.
Само становление и развитие социальной психологии проходило в идеологической борьбе, что отразилось в острых дискуссиях, развернувшихся по поводу ряда положений. Е. А. Будилова воссоздавала в своих работах суть разногласий оппонентов, отмечала сильные и слабые стороны их позиций. Кроме того, она подчеркивала сложность предмета социальной психологии, его многоаспектность. Разработка социальной тематики осуществляется многими отраслями психологии (военной, авиационной, юридической, этнической), социальные вопросы по-своему рассматриваются в ряде наук – социологии, истории, языкознании. Однако социальная психология решает эти проблемы на качественно ином уровне. Книга построена по принципу объединения проблем социальной психологии по мере их возникновения и развития. Как существенная особенность социальной психологии отмечается ее конкретность, связь с практикой, с экспериментом. Раскрываются основные проблемы науки: психологические особенности общности людей, проявляющиеся в их совместной деятельности и общении, взаимодействие личности и группы, действия толпы, управление массами, власть и подчинение, потребность человека в коллективной деятельности, в общении и др. Отдельные главы книги посвящены юридической, военной, этнической психологии, психиатрии, проблемам взаимодействия социальной психологии и православной церкви.
В статье 1974 г. «Проблема личности в русской психологии второй половины XIX – начала XX века» Е. А. Будилова рассматривает значение проблемы личности для развития психологии того времени, место в борьбе двух направлений – идеалистического и материалистического, связь ее разработки с решением методологических вопросов. Приводятся данные о первых экспериментальных исследованиях личности и о методах такого исследования. В трудах русского психолога А. Ф. Лазурского Е. А. Будилова находит истоки некоторых современных идей и тенденций в разработке психологии личности.
В статье «100-летие первой русской экспериментальной психологической лаборатории» (1985) изложено понимание психологии, сформулированное И. М. Сеченовым, который впервые выдвинул задачу развития психологической науки как самостоятельной отрасли знания, опирающейся на экспериментальные методы исследования. Успехи, достигнутые естествознанием в XIX в., прежде всего, в изучении физиологии органов чувств и психофизики, способствовали возникновению экспериментальной психологии. Е. А. Будилова раскрывает роль основателя первой российской психологической лаборатории В. М. Бехтерева и других отечественных ученых в решении этой задачи.
В статье «Полемика о психологическом эксперименте на всероссийских съездах по педагогической психологии» (1988) речь идет о столкновении разных взглядов на роль эксперимента в психологической науке, на соотношение теории и эксперимента, на экспериментальные методы – объективный и субъективный. Приводятся точки зрения на этот предмет ведущих российских ученых (В. М. Бехтерева, А. П. Нечаева, Н. Е. Румянцева, Л. И. Введенского, Г. И. Челпанова, Н. Н. Ланге, А. Ф. Лазурского), изложенные на первых Всероссийских психологических съездах. В ходе этих дискуссий происходило организационное укрепление экспериментальной психологии.
Статья «На рубеже двух веков» написана в 1989 г. в связи со 100-летием журнала «Вопросы философии и психологии». Е. А. Будилова прослеживает процесс становления психологии как самостоятельной науки в России. В 1885 г. было основано Психологическое общество при Московском университете, а в 1889 г. начал выходить журнал «Вопросы философии и психологии», освещавший основные вехи развития психологии. На страницах этого журнала, с одной стороны, провозглашались идеи позитивизма, постепенно вытесняемые новыми принципами энергетизма, а с другой – всесторонне обсуждалось и набирало силу экспериментально-психологическое направление исследований. Автор подчеркивает, что к началу ХХ в. в российской психологии сложились две основные линии исследований: блок интроспективной психологии на основе идеалистической философии под влиянием неокантианства и экспериментально-психологическое движение, находящееся под влиянием теории Сеченова, представленное, в частности, школой Бехтерева. Новый период психологической науки начался с построения марксистской советской психологии и отрицания научного наследия прошлого.
Мы искренне убеждены, что труды Е. А. Будиловой и сегодня не потеряли свою актуальность, являясь источником ценнейшего исторического материала по истории отечественной психологии и примером строгого научного анализа и интерпретации исторических фактов. Настоящее издание избранных работ Е. А. Будиловой сделает это богатое наследие более доступным и для современных психологов, интересующихся историей этой науки.
Литература
Будилова Е. А. Марксизм-ленинизм о религии и путях ее преодоления // Библиотекарь. 1951а. № 4.
Будилова Е. А. Великий русский ученый И. П. Павлов // Пропаганда естественно-научных знаний. М.: Госкультпросветиздат, 1951б.
Будилова Е. А. Что читать по вопросам научно-атеистической пропаганды // Партийная жизнь. 1954. № 12.
Будилова Е. А. Борьба материализма и идеализма в русской психологической науке. Вторая половина Х1Х – начало ХХ в. М., 1960.
Будилова Е. А. О некоторых методологических вопросах истории психологии // Доклад на XVIII Международном психологическом конгрессе в Москве. М., 1966.
Будилова Е. А Взаимосвязь теории и истории // Теоретические и методологические проблемы психологии. М., 1969.
Будилова Е. А. Философские проблемы в советской психологии. М., 1972.
Будилова Е. А. О периодизации истории психологии в СССР // Актуальные проблемы истории и теории психологии. Ереван, 1976.
Будилова Е. А Социально-психологические проблемы в русской науке. М., 1983.
Будилова Е. А Категории исторического и логического в методологии истории науки // Категории материалистической диалектики в психологии. М., 1988.
Будилова Е. А. Интервью к 80-летию // Психологический журнал. 1989. № 2. С. 152–155.
Левина С. С., Будилова Е.А. Как наука объясняет психическую деятельность человека. М.: Государственная библиотека им. В. И. Ленина, 1954.
Научный архив ИП РАН. Личный фонд Е.А. Будиловой. Оп. 4.2.2. Д. № 1. Л. 15.
Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 60. Д. 146. Л. 50.
Социально-психологические проблемы в русской науке
Первое издание: М.: Наука, 1983.
Введение
Методологические установки системного подхода в применении к историко-психологическому исследованию требуют многопланового изучения исторического процесса создания науки, поскольку исторические закономерности не могут быть сведены к однозначной детерминации, хотя всегда можно выделить ведущую детерминацию. Действие тех или иных факторов зависит как от внутренних условий развития науки, ее собственной логики, так и от внешних условий, общей исторической обстановки, вопросов общественной практики. Исследование конкретных исторических условий роста пауки дает возможность раскрыть совокупность всех действующих в ней детерминант.
Системный подход, распространенный на анализ процесса развития психологической науки, предполагает всестороннее изучение ее истории, ее множественных связей с общественно-историческими условиями, а также связей с другими науками. Он означает изучение того, как шло познание различных качеств психического в разных теориях и областях практики, в широком диапазоне – от психофизиологических явлений до положения человека в обществе, до его совместной деятельности с другими людьми, его поведения и психического состояния в коллективе, до социально-психологической жизни людей. Расширение тематики исторических работ открывает новые линии, по которым шло развитие психологии в России, а это позволяет вести разработку новых пластов исторической действительности, ставит перед историками науки новые задачи.
Многостороннее изучение истории психологической науки требует выяснения тех исторических конкретных условий, в которых она включалась в общественную жизнь. Вместе с тем особенностью исторического познания является то, что в нем представлены два времени: время, которое познается, и время осуществления исследования. Принцип единства логического и исторического позволяет найти основную логическую нить, которая выражает закономерность развития науки.
Последовательность разработки истории отечественной психологии такова, что в первую очередь исследованию подверглась главная линия ее развития – материалистическое направление психологии со времени ее самоопределения в 60-х годах прошлого века и до Великой Октябрьской социалистической революции. Борьба за утверждение материалистического направления выдвинула на первый план философские проблемы психологии. Изучению подверглись те вопросы, по которым в свое время шли дискуссии между материалистическим и идеалистическим направлениями.
Психологическое учение И. М. Сеченова давало общие исходные принципы материалистической психологической теории, достаточно широкие, чтобы они стали основанием для материалистического детерминизма в объяснении психики – ее отражательной и регулирующей функции в деятельности человека, ее природной сущности. И в то же время эти принципы были узки, недостаточны для объяснения общественной сущности человека, хотя ни в какой мере не противостояли, а наоборот, предполагали ее. Сам Сеченов настойчиво подчеркивал, что в его теории развитие человека ставится в зависимость от обстоятельств его жизни.
Исследование борьбы двух основных направлений – материалистического и идеалистического – в русской психологической науке досоветского периода открыло связь многих событий в ее истории и позволило оценить значение для нее сеченовской психологической теории и его программы разработки психологии. Ряд историко-теоретических трудов был посвящен психологическому наследию И. М. Сеченова и проблеме детерминизма в истории психологии.
В последовательности историко-теоретических исследований существенна их связь с современной наукой – именно она определяет актуализацию тех или иных проблем. Для современной советской психологической науки характерны усиление связей с общественной практикой и развитие прикладных психологических дисциплин, поэтому не случайно большинство историко-психологических работ последних лет посвящено военной, авиационной, юридической и другим отраслям психологии. Для современной социальной психологии, занявшей столь видное место среди психологических дисциплин и находящейся в связи с рядом разделов общей психологии, важно, чтобы ее прошлое было восстановлено возможно полнее.
Социально-психологические проблемы до сих пор оставались за пределами историко-теоретических исследований. Предпринятое их изучение в историческом аспекте показало, что эти проблемы возникали в разных сферах общественной практики, и требование практического применения социально-психологических знаний направляло развитие социальной психологии, начиная с первых описаний социально-психологических явлений, связанных с теми или иными сторонами жизни общества.
Историческая обстановка в России во второй половине XIX в. обусловила особенности становления отечественной социальной психологии. Социально-психологические проблемы вплетались в общественную жизнь страны, привлекали к себе внимание тех, кто по роду своих занятий соприкасался с ними, работая в разных областях практики или занимаясь исследованиями в разных областях науки о человеке. Особенности психических состояний людей при совместной деятельности и общении между собой, поведение людей в толпе, разного рода общности – большие и малые группы, постоянные коллективы и случайные сборища – становятся предметом изучения. Речь идет о психологии социальных отношений – правовых, бытовых, о власти и подчинении, об управлении массами. Привлекают внимание социальные нормы – принятие их группами и индивидами, нормы поведения больших и малых групп в тех или иных этнических общностях.
Предмет, методы и задачи социальной психологии были определены значительно позже, чем появились описания и исследования социально-психологических явлений. Первым в русской психологии определение предмета, задач и методов социальной психологии дал в 1910 г. В. М. Бехтерев. Обособление социальной психологии как особой психологической дисциплины произошло позже, чем фактически совершилось рождение новой отрасли психологии.
Особенностью формирования социальной психологии явилось то, что ее проблемы были присущи многим отраслям психологии, которые зарождались одновременно с самоопределением психологии. И вместе с тем эти проблемы обнаруживали качественное различие в своих проявлениях, детерминированное родом общественной деятельности, в которой они возникали. Проблемы социальной психологии по-своему ставились и по-своему решались и в специальных отраслях психологии – военной, юридической, этнической, и в таких науках, как социология, история, языкознание и другие, в которых мы встречаемся с попытками специального изучения социально-психологических проблем и сбора эмпирического материала.
На развитие социальной психологии в России повлиял тот факт, что решение вопроса о кадрах психологов-специалистов отразило острую идеологическую борьбу, в процессе которой происходило выделение психологии в самостоятельную науку. Вопрос «Кому и как разрабатывать психологию?», поставленный Сеченовым в его программной статье, носящей это заглавие, оставался злободневным в течение всего досоветского периода психологической науки. После смерти И. М. Сеченова его противник Г. И. Челпанов возвращался к этому вопросу в 1906 г. на I Всероссийском съезде по педагогической психологии, а потом на вступительной лекции по курсу психологии в Московском университете.
Характерной чертой отраслевой психологии оставалось то, что ее развивали специалисты разных областей науки и практики. Соответственно они и подходили к проблемам социальной психологии. Отсюда соотношение психологической теории и наблюдаемых социально-психологических явлений: беспомощность в теоретических вопросах и обилие жизненных наблюдений. Отличие постановки социально-психологических проблем заключалось в их конкретности, это ни в какой мере не были абстрактные рассуждения, оторванные от жизни. Стремление к конкретному социально-психологическому исследованию проявлялось по-разному: обследование по программам, заполнение анкет, наблюдение, включение в жизнь обследуемой группы на правах ее члена, психологический анализ статистических данных, лабораторный эксперимент. Во всех случаях эти первые конкретные социально-психологические исследования были связаны с практикой.
Перед историко-психологическим исследованием встала особенная задача: выделить социально-психологические проблемы не только внутри отраслей психологии, история которых лишь в настоящее время становится предметом изучения, но и в других науках, обращавшихся к вопросам социальной психологии. Таким путем представляется возможность проследить возникновение новой психологической дисциплины – социальной психологии – и пути ее развития в сложившейся исторической обстановке. Трудность изучения социально-психологической проблематики в ее исторически сложившихся многообразных связях заключается в том, что проблемы эти нужно рассмотреть, выделив черты, связанные со спецификой данной отрасли.
Значение социально-психологических проблем в идейной борьбе в пореформенной России, их связь с практикой через специальные отрасли психологии и другие дисциплины, а также признание психологии основополагающей наукой для гуманитарных дисциплин определили то положение, которое заняли эти проблемы. Психология к концу прошлого века завоевала себе как новая «положительная» наука престижное место. В ней надеялись найти объяснение свойств человека, его поступков, его взаимоотношений с другими людьми. Место психологического фактора в структуре социальных отношений вызывало многостороннее обсуждение. В психологии тогда усматривали причину многих общественных явлений. Следствием этого было стремление ряда научных дисциплин опереться на нее в своих построениях – рождаются психологические научные школы в юриспруденции, социологии, истории, литературоведении. Такая психологизация оборачивалась идеалистическими концепциями, которые вступали в борьбу с материалистическими воззрениями.
Для истории психологической науки в нашей стране существенно то обстоятельство, что общественно-историческая детерминация психики как самостоятельная проблема не была выделена в русской дореволюционной общей психологии и вопрос о социальной обусловленности психики сплетался с проблемами социальной психологии.
Изучение социально-психологической проблематики открывает ту сторону истории русской психологической науки, которая в дореволюционный период раньше всех пришла в соприкосновение с марксизмом.
Вопрос об общественно-исторической обусловленности психики был поднят в конце прошлого века марксизмом, укоренявшимся в России по мере роста рабочего революционного движения. Утверждение марксизмом материалистического понимания исторического хода общественного развития и объяснение социально-психологических явлений совокупностью многих причин, восходящих к состоянию производительных сил общества, производственным отношениям и существующим в нем классовым противоречиям, вводило социально-психологическую проблематику не только в идейную борьбу, которая развернулась на рубеже двух веков, но и в практику революционного движения. Социально-психологический анализ входит в арсенал средств руководства действиями революционных масс в первой русской революции, партийной работы большевиков в годы реакции и подготовки Великой Октябрьской социалистической революции. Социально-психологические взгляды В. И. Ленина, Г. В. Плеханова, полемика марксистов с Н. К. Михайловским, полемика Г. В. Плеханова с Н. И. Кареевым, уничтожающая ленинская критика легальных марксистов раскрываются в новом контексте общего развития социально-психологических воззрений в русской научной мысли. Социально-психологические проблемы, в том числе проблемы сознательности масс, психологии массового движения, классовой принадлежности, находили теоретическое решение в трудах Г. В. Плеханова и В. И. Ленина. В революционной практике марксисты придавали важное значение анализу психологии рабочих и крестьянских масс, реализуя тем самым теоретические выводы на деле.
Выделение психологии в самостоятельную науку в середине XIX в. составляет исходный рубеж периодизации истории психологии. Советская психологическая наука, развивающаяся на основе диалектического материализма, открыла новый период истории отечественной науки. Однако в процессе научного познания одно событие подготавливает другое и новое, зарождаясь, завоевывает себе место в борьбе со старым. Поэтому некоторые события, о которых идет речь в данной книге, выходят за рамки избранного периода: они совершались несколько раньше или позже. Так, с одной стороны, социально-психологические исследования, предпринятые по программе Русского географического общества, были начаты еще в конце 1840-х годов и замыслы создания «психической этнографии» владели Н. И. Надеждиным и К. Д. Кавелиным прежде, чем психология приобрела положение самостоятельной науки. С другой стороны, в советский период В. М. Бехтерев продолжал работу над коллективной рефлексологией, начатую в предреволюционные годы, так же и М. А. Рейснер продолжал работу по социальной психологии, которой начал заниматься в дореволюционное время. Вряд ли следовало оборвать изложение взглядов В. М. Бехтерева и М. А. Рейснера на досоветском периоде. В первом послереволюционном десятилетии в психологической науке предстают еще многие теории, концепции, взгляды, выросшие вне марксизма, а их сторонники определяют свое отношение к марксистским методологическим принципам.
Что касается построения книги, то оно подчинено главной задаче – объединить проблемы социальной психологии в той исторической связи, в которой они возникали и развивались. Исследование показало, что важнейшей детерминантой развития социальной психологии явились требования общественной практики, имевшие конкретное выражение в разных ее сферах и обусловливающие многообразие наблюдаемых социально-психологических явлений. Историческое становление социальной психологии как научной дисциплины опиралось на конкретные социально-психологические проблемы, в конечном итоге единые по своему общему содержанию, но включенные в разнородные области знания и общественной практики. Поэтому в книге после первой главы, характеризующей расстановку сил и идейную борьбу в психологической науке, следуют главы, отражающие связь социально-психологических проблем с юридической, военной, врачебной, революционной практикой. В отдельную главу выделен социально-психологический аспект деятельности православной церкви.
Вместе с тем через все главы проходят общие вопросы: психологические особенности общностей людей, проявляющиеся в их совместной деятельности и общении, во взаимодействии личности и группы, обнаруживающиеся у человека как «сочлена человеческого общежития». Общим становится вопрос о толпе и ее действиях, об управлении массами, о власти и подчинении. Жизненные факты заставляли отмечать потребность человека в коллективной деятельности, в «общежитии», в общении. Особенно остро эти потребности выявляются в таких экстремальных условиях, как боевая деятельность, тюремное заключение. Факты настойчиво подводили к мысли о социальной обусловленности психики человека.
Необходимо иметь в виду, что система понятий, связанных с социально-психологическими проблемами, не была еще определена. Можно видеть попытки формирования новых понятий для этой новой области знания, так же как и привлечения понятий из общей психологии, двух ее направлений, боровшихся в русской науке, заимствования понятий из тех областей знания, которые сталкивались с социально-психологическими явлениями, и из тех сфер социальной жизни, в которых социально-психологические явления рождались.
Все изложенные исторические особенности возникновения социальной психологии в России и ее первых шагов обусловили источники, к которым можно было обратиться, чтобы воссоздать начальный период ее становления и получить возможность познакомиться с историей рождения новой дисциплины в науке, современное развитие которой нам известно, а будущее можно предполагать с достаточной уверенностью. Предстояло вернуться к трудам известных деятелей отечественной психологии и выяснить их отношение к проблемам социальной психологии. К этому добавлялись специальные работы по отраслям психологии и труды в тех областях науки, которые затрагивали социально-психологическую проблематику: правоведение, языкознание, этнография, социология, психиатрия. Обследованию подлежали разного рода источники – от специальных монографий до журналистских очерков, от теоретических работ до записей личных наблюдений в практике судебных, военных деятелей, врачей, от сводных трудов, опирающихся на кропотливый статистический анализ множества судебных дел, до описания единичных фактов судебно-медицинской экспертизы и клинических исследований, от материалов научных обществ до дневников офицеров, от протоколов лабораторных экспериментов до впечатлений политических ссыльных в Сибири или записей этнографа в Новой Гвинее. К такому широкому поиску побуждало убеждение в необходимости создания возможно полной картины проникновения психологии в жизнь общества во всех ее проявлениях, с одной стороны, и выявление значения общественной практики в рождении новой научной дисциплины, какой являлась социальная психология, – с другой. При таком изучении новыми данными пополнялись историко-теоретические знания и открывались новые стороны уже известных фактов, концепций, теорий.
Вполне понятно, что столь разные источники содержат разного рода данные, по-разному сообщают факты и обладают разными уровнями обобщения. Чтобы сохранились непосредственность привлеченного материала, неповторимость впечатлений участников событий, своеобразие первых конкретных социально-психологических исследований, проведенных в нашей стране сто и более лет назад, в книге подробно изложены впервые собранные воедино социально-психологические факты, приведены многочисленные выдержки из исторических источников. Помимо указанных побуждений, сказавшихся на построении книги, существенно то обстоятельство, что использованные источники находятся в забытых, малодоступных изданиях, и было целесообразно подробнее ознакомить с ними читателей.
Вне нашего исследования остался один род источников – письма, публицистика и художественные произведения русских писателей. В них содержится богатый материал, подлежащий разработке. Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. П. Чехова, Г. И. Успенского и других писателей глубоко волновали проблемы социальной психологии, у них мы находим отклики на психологические дискуссии, суждения о социальном значении сеченовского учения. Проблемы эти ждут не только историко-психологического, но и литературоведческого исследования.
Глава 1
Два лагеря в русской психологической науке и проблемы социальной психологии
В 1873 г. в «Вестнике Европы» была помещена статья Н. М. Сеченова «Кому и как разрабатывать психологию?», в которой излагалась программа создания психологической науки как самостоятельной отрасли знания, высказывались взгляды на предмет, метод и задачи психологии. Теоретической основой этой программы было материалистическое учение о психике, составившее содержание трактата И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга», опубликованного в 1863 г.
Понять роль и значение психологической теории И. М. Сеченова и его программы построения психологической науки можно только в соотнесении с состоянием науки в годы ее самоопределения.
До середины прошлого века психологическая теория входила в круг философских наук. Особенностью же философии в России того времени являлось то, что она была подведомственна православной церкви. Успехи естествознания рождали стремление применить в психологии методы естественных наук и сделать психологию, как тогда писали, положительной наукой. Когда психологическая наука определилась как самостоятельная научная дисциплина, были созданы две программы ее развития. Обе предполагали внести в нее новые начала и объявляли о союзе с естествознанием. Одна из них – позитивистская – была развернута в своей теоретической части английской ассоциативной школой и в экспериментальной – вундтовской школой. Другая – материалистическая – была развита И. М. Сеченовым.
Английские философы-позитивисты Д. С. Милль, А. Бэн и Г. Спенсер, заявившие о необходимости выделения психологии из философии, призывали строить ее на опытных началах в союзе с естествознанием, обращаясь к принципам и методам естественных наук. Позитивистские положения о том, что наука сводится к описанию непосредственно наблюдаемых явлений, данных в опыте, ограничение научного исследования внешним описанием и классификацией наблюдаемых явлений, отрицание возможности проникать в сущность предметов, сочетаясь с субъективно-идеалистическими философскими взглядами и с интроспективной концепцией психики, приобрели следующий смысл в применении к психологии. Поскольку дух признавался особой субстанцией и психика считалась замкнутым в себе внутренним миром сознания, предметом психологии становилось описание проявлений духа в сознании путем интроспекции или внутреннего опыта, а опытное исследование в психологии сводилось к интроспекции. Субъективный метод утверждался как единственно возможный. Начатые В. Вундтом и его многочисленными учениками и последователями психологические эксперименты вели к сближению психологии с естествознанием, однако прежние методологические принципы сохранялись. Сознание рассматривалось само по себе, обособленно от материального мира и от деятельности в нем человека. Психология сознания реализовалась в разных вариантах разными научными школами, но в пределах, ограниченных общим взглядом на сознание.
В России программу развития психологии как «положительной» науки предложил К. Д. Кавелин, видный представитель русского либерализма, профессор государственного права, который обосновал свое выступление тем, что «психология выдвинулась на первый план, и очень понятно, почему. Она – собственно центр, к которому теперь сходятся и который предполагает все науки, имеющие предметом человека» (Кавелин, 1899, с. 365).
Программа развития психологии, предложенная Сеченовым, строилась на принципиально новом подходе к психике. Ученый выступал против обособления психического от материального мира, или, говоря его словами, против «обособителей» психического. Никак не соглашаясь с «обособителями» психического, Сеченов рассматривал психику в связи с материальным миром и с деятельностью в нем человека. Связь эта представала и как связь психики с мозгом, в которой психика выступала в качестве функции высших отделов нервной системы, и как связь с внешним миром путем его отражения, в которой проявлялась отражательная функция психики, и как связь, выражающаяся во взаимодействии человека с миром, обусловленная регулирующей функцией психики.
Значение сеченовского учения для психологии заключалось в том, что был открыт способ детерминации поведения человека объективным миром посредством психики, которая была поставлена в причинную связь с мозгом, внешним миром и с действиями человека. Преобразованная и принципиально измененная Сеченовым схема рефлекторной деятельности нервной системы включала психические компоненты, начиная от элементарных уровней чувствительности и кончая мышлением. Психика служит, по определению Сеченова, орудием различения условий действия и руководителем соответственных этим условиям целесообразных действий.
В соответствии с решением вопроса о природе психического сеченовская программа развития психологии требовала применения объективных методов исследования детерминации психики объективным миром и изучения внутренних факторов психического развития в их взаимосвязи с внешними воздействиями. Предметом психологического исследования становилось не интроспективное описание явлений сознания, обособленных от материального мира и замкнутых во внутреннем опыте, а изучение процесса возникновения и развития психических явлений как деятельности мозга, обусловленной внешними обстоятельствами жизни человека и его внутренними условиями. Речь шла об исследовании разных уровней психического как отражения объективного мира и согласования с ними разных уровней действий человека, начиная с непроизвольных движений и кончая поступками, наивысшими произвольными актами. В детерминацию психики таким путем включались общественные условия жизни человека. Сеченовская теория подводила к постановке вопроса об общественно-исторической обусловленности психики и к социально-психологическим проблемам.
В построении своей психологической теории И. М. Сеченов опирался на воззрения Н. Г. Чернышевского, который своеобразие положения психологии среди других паук видел в том, что она является звеном, соединяющим естествознание с философией и гуманитарными науками. Чернышевский вводил психологию в область нравственных наук и в то же время предлагал разрабатывать ее способами, принятыми точными науками, понимая под этим установление принципов объективной необходимости, закономерности и причинности. Он видел в психологии науку, которая должна определить условия формирования людей нового склада – волевых личностей, действия которых регулируются высокими общественными моральными принципами революционного дела. Сеченов стал тем ученым, который воплотил идеи Чернышевского в материалистической психологии.
Когда в 1863 г. после ареста Н. Г. Чернышевского и заточения его в Петропавловскую крепость были напечатаны «Рефлексы головного мозга» И. М. Сеченова, читатели увидели в этом произведении развитие взглядов революционной демократии. По словам самого Сеченова, он выступил против «строгих средневековых опекунов общественной мысли», подавлявших «брожение умов», поднял голос в защиту тех, «кому дорога истина», «за бескорыстных искателей будущих истин». К бескорыстным искателям относился и тот человек с идеально сильной волей, действующий во имя высокого нравственного принципа, горячо любящий правду, готовый идти из-за правды на муку, которого Сеченов ярко охарактеризовал в «Рефлексах головного мозга». Формирование волевой личности рассматривалось в связи с нравственной регуляцией ее поступков по отношению к другим людям. «Моя задача, – писал Сеченов, – заключается в самом деле в следующем: объяснить… деятельность человека… с идеально сильной волей, действующего во имя какого-либо высокого нравственного принципа и отдающего себе ясный отчет в каждом шаге, – одним словом, деятельность, представляющую высший тип произвольности» (Сеченов, 1947, с. 111).
Тип волевого человека, «не уклоняющегося от выбранного пути никакими ужасающими силами внешней природы», связывался читателями с теми «новыми людьми», о которых писал Чернышевский в своем романе «Что делать?», а также с автором романа, находившимся в Петропавловской крепости. Передовая русская общественность восприняла «Рефлексы головного мозга» как естественнонаучное обоснование того, что высшие нравственные идеалы могут быть воспитаны у человека в определенных условиях жизни и стать регуляторами его поведения, его действий, движущими силами передовых людей в преобразовании общества. Сеченов нес читателям идеи, которые руководили героями романа Чернышевского.
Для царских чиновников имена Сеченова и Чернышевского также связывались между собой. Цензура запретила печатание «Рефлексов головного мозга» в журнале «Современник» – органе революционной демократии, которому эта статья предназначалась. В отзыве Совета по делам книгопечатания на «Рефлексы головного мозга» отмечалось, что статья развивает общие положения материалистической доктрины, ее содержание соотносилось с романом «Что делать?», где, как писал рецензент, «изложены главные основы этого исповедания веры». Совет нашел, что имеющееся в статье «рассуждение… направлено к отрицанию нравственных основ общества и потрясению догмата о бессмертии души и вообще религиозных начал» (Научное наследство, 1956, с. 59–60). Цензура, запрещая печатать «Рефлексы головного мозга» в «Современнике», определила теорию Сеченова как «крайне опасную». Трактат Сеченова было разрешено опубликовать в таком специальном издании, как «Медицинский вестник».
Когда в 1866 г. Сеченов выпустил «Рефлексы головного мозга» отдельным изданием, книга была арестована, против ее автора возбудили судебное дело. Главное управление по делам печати так сообщало о причинах ареста книги: «Эта материалистическая теория. ниспровергает все понятия о нравственном добре и зле, о нравственных обязанностях, о вменяемости преступлений, отнимает у наших поступков всякую заслугу и ответственность и, разрушая моральные основы общества в земной жизни, тем самым уничтожает религиозный догмат жизни будущей, она несогласна ни с христианским, ни с уголовно-юридическим воззрением и ведет положительно к развращению нравов. Поэтому книга г. Сеченова «Рефлексы головного мозга» представляется направленной к развращению нравов и подлежит судебному преследованию. и уничтожению, как крайне опасная по своему влиянию на людей. Уничтожение книги г. Сеченова, как изложение самых крайних материалистических теорий, опирающихся, по-видимому, на авторитет науки, признано советом гл. управления по делам печати необходимым» (там же, с. 63).
В отношении к прокурору петербургского окружного суда цензурный комитет указывал статью Уложения о наказаниях, которую следовало применить для судебного преследования и уничтожения книги. В окружном суде дело затянулось. Известный адвокат В. Д. Спасович стал по поручению Сеченова хлопотать о снятии ареста с книги. Разбор этого дела в заседании окружного суда привлек столь многочисленную публику, что судебные чиновники побоялись начать суд над книгой и ее автором. Гласное обвинение Сеченова взволновало бы всю передовую общественность, еще более усилило бы интерес к книге. Дело передали в петербургскую судебную палату. Понимая, что судебный процесс может кончиться провалом, управляющий министерством юстиции князь Урусов писал министру внутренних дел П. А. Валуеву: «Гласное развитие материалистических теорий при судебном производстве этого дела может иметь последствием своим распространение этих теорий в обществе вследствие возбуждения особого интереса к содержанию этой книги… Поэтому… я полагал бы более осторожным не давать дальнейшего хода возбужденному Цензурным комитетом преследованию книги…» (с. 71). Валуев согласился. Арест с книги был снят.
Психологическая теория Сеченова для его современников – и сторонников, и противников – имела социальный и социально-психологический смысл. Волна общественного подъема 1860—1870-х годов широко разнесла идеи революционной демократии и прочно связанное с ними психологическое учение И. М. Сеченова.
В первые годы после опубликования «Рефлексов головного мозга» идеологи самодержавия старались своим молчанием ослабить впечатление от этого труда. Когда «замолчать» учение Сеченова не удалось, противники его избрали иные формы борьбы. Поощряемые свыше, они стали выступать против материалистической теории и в печати, и с кафедр учебных заведений. Реакционные деятели нападали на нее, поддерживая, как они заявляли, «существующий порядок».
Один из «казенных» философов, профессор Варшавского университета Г. Струве в 1870 г. при защите в Московском университете своей диссертации «Самостоятельное начало душевных явлений» критическую часть направил против теории Сеченова. Диссертант откровенно заявил, что признание души дает основание религии и «общественному порядку», а отрицание души разрушает существующий порядок, церковь и государство. «От положительного или отрицательного решения этого вопроса зависит два разных мировоззрения, которые заключают в себе враждебные друг другу практические стремления во всех областях общественной жизни…» (Струве, 1870, с. 26–27). В полемике по поводу диссертации Струве отчетливо выявился классовый характер позиций его защитников, объявлявших веру в душу одной из опор самодержавия.
Идею о самостоятельности души под защиту взял К. Д. Кавелин в книге «Задачи психологии». Учитывая требования времени, он стоял за самоопределение психологии, предлагая перестраивать психологию в духе позитивизма. При этом Кавелин отстаивал то представление о человеке, которое было нужно идеологам самодержавия, какими бы либеральными фразами они ни прикрывались. Кавелин прямо объявил о своей задаче: защитить идею самостоятельности души, а следовательно, и все то, что связывалось с ней, – систему взглядов на человека и его взаимоотношения с людьми, со всей иерархией власти, данной богом его помазаннику на земле – царю.
Сеченов ответил Кавелину тремя статьями, точно выразив суть споров в названии своей программной статьи «Кому и как разрабатывать психологию?». В «Задачах психологии», писал Сеченов, содержались нападки на его «психологическую веру». Уничтожающе критикуя идеалистическую психологию, он изложил принципы построения материалистической психологии. Кавелин возражал своему противнику, который вновь опроверг его доводы. Победу в дискуссии одержал Сеченов, это признали даже его враги.
Психологическое учение И. М. Сеченова завоевывало для науки новую область – область психической деятельности человека, разрушая религиозно-философские представления о человеке и его месте в мире. Речь шла о покушении на основы идеологии самодержавия, и в этом было социальное значение нового учения. Поэтому психологическая дискуссия Сеченова и Кавелина, имея социальные корни, вызвала столь большой общественный резонанс, свидетельствовавший о социальном значении психологической науки. Представители идеалистического направления, не считаясь со своими внутренними разногласиями, рьяно защищали постулат о самостоятельности души. Вопросы социальной психологии в этой борьбе, казалось бы, и не возникали. Ведь еще и сама психология только отстаивала право на существование как наука, обладающая собственным предметом исследования и своими задачами. И все же идейная борьба была связана с решением социально-психологических вопросов, подразумевала то или иное отношение к проблемам социальной психологии, хотя они как таковые не обозначались.
Всех защитников идеалистической психологии объединяла социальная установка, неизменно действовавшая в официальной русской дореволюционной психологической науке, предполагавшая за признанием бессмертия души социальную доктрину, утверждаемую христианством, – представление о человеке в его отношении к обществу, включающее отношение к богу, к земным властям, ко всей иерархии социальных отношений. Говоря словами современной социальной психологии, это была модель человека в эксплуататорском обществе, созданная православной церковью и русским самодержавием, предъявлявшая целый ряд социально-психологических требований к человеку. Православная церковь стала первой противницей самоопределения психологии, верно оценивая социальное значение психологической науки, и социально-психологические проблемы играли при этом немаловажную роль.
Для того направления, которое принимало сеченовскую программу развития психологической науки, существовали свой идеал человека, своя модель. То, что методологической основой психологической теории Сеченова было философское учение Чернышевского, означало принятие его общей концепции человека. Столкновение двух противоположных концепций человека имело ярко выраженный политический характер, в нем отражалась борьба основных общественно-политических лагерей – революционно-демократического с реакционным и либеральным.
Самоопределение психологии и ее выход из круга философских дисциплин совершался в России в условиях острой борьбы двух направлений. Борьба эта прослеживается в сложном соотнесении естественнонаучного и социального знания, во взаимодействии передовых и реакционных сил в разных областях практики пореформенной России (времени перехода страны к капиталистическому развитию, отмены крепостного права, военных, судебных и других реформ). Линия Сеченова в русском естествознании и психологии была слита с линией Чернышевского в социально-философском мировоззрении и их такое единство получило выражение в гуманистическом подходе к социально-психологическим проблемам передовых русских ученых – естествоиспытателей, врачей, этнографов, языковедов, юристов и др. Этой линии противостоял реакционный общественно-политический подход к психологической науке, выражавший идеологию самодержавия и опиравшийся на религиозные догмы православия. Идейная борьба получила выражение в ряде дискуссий по узловым вопросам психологической науки, научная и публицистическая полемика стала существенным звеном в борьбе с идеологией самодержавия. Участниками этих полемик, кроме представителей разных отраслей естествознания, были философы, богословы, врачи, юристы, педагоги, видные либеральные и реакционные публицисты, революционные демократы. Предметом дискуссий стали проблемы природы психического, метода и задач психологии, возможности и необходимости психологического эксперимента. Борьба двух направлений – материалистического и господствующего идеалистического – определила развитие русской психологической науки вплоть до Великой Октябрьской революции.
В тех условиях, когда только закладывались основы научной психологии, Сеченов усмотрел вопросы, которые в наше время заняли важное место в общей психологической теории и в социально-психологических исследованиях, – проблемы общения и деятельности. Сеченов вводил общение людей в качестве детерминирующего фактора развития личности и связывал с ним возникновение моральных чувств, определяемых им как «тот комплекс соответственных душевных состояний, который родится из общения людей друг с другом» (Сеченов, 1947, с. 315). По его убеждению, «моральное чувство составляет основу и регулятор всякого общежития» (там же). Воспитание этого чувства в человеке «требует непременно наглядного обучения по образцам и практических упражнений» (там же, с. 315–316), т. е. формирование моральных, нравственных качеств человека происходит в его собственных действиях и поступках по отношению к другим людям.
К социальным отношениям обращается Сеченов и при рассмотрении развития психики ребенка в окружении близких ему людей, при овладении им словом, речью. С того момента, как ребенок овладел речью, происходит величайший перелом в его жизни, он обретает средство «умственного общения», что изменяет весь ход его жизни. Мысли Сеченова об общении людей и его роли в психическом развитии привлекали внимание не только к проблеме социальной обусловленности поведения, но и ко многим социально-психологическим вопросам.
К этим же проблемам подводит и решение Сеченовым проблемы детерминации воли – положение о несвободе воли. Его противники, поддерживавшие теорию свободы воли и связанный с ней взгляд на божий промысел, уверяли, что мысль о несвободе воли опасна, что она угрожает общественному порядку, так как человек получает тогда возможность безнаказанно совершать любые аморальные поступки. Протестуя против обвинения в пропаганде «безнравственных» взглядов, Сеченов резко возражал тем, кто заявлял, что материалистическое учение о воле разрушает устои общества. Отмечая особенную близость психологических вопросов к жизни, он писал, что «учение о несвободе воли, изменяя радикально угол зрения человека на поступки ближнего и его собственные действия, касается всех тех частных и общественных отношений, которые явно или скрыто построены на признании в человеке свободной воли» (там же, с. 309). Признание детерминации поступков человека условиями его жизни было выражено Сеченовым в краткой формуле – «какова почва, таковы и поступки» (с. 328). «Ненормальность почвы», указывал он, полагая, что читатель поймет мысль автора о социальных условиях, скрытую за этой фразой, ведет к дурным поступкам. Неверно приписывать воле, якобы стоящей вне законов земли, выбор действия. Снова и снова Сеченов доказывал «роковую зависимость человеческих поступков от условий внешней и внутренней среды» (с. 327).
Можно выделить три связанных с психологическим учением Сеченова социальных аспекта: во-первых, социальный смысл его учения; во-вторых, социально-психологические проблемы, связанные с деятельностью человека и его отношениями с людьми; в-третьих, общественно-историческая обусловленность психики. Если социальная роль психологии обозначилась сразу, как только был поднят вопрос о ее выделении в самостоятельную науку, а социально-психологические проблемы возникали в условиях общественно-практической деятельности, то общественно-историческая обусловленность психики первоначально не выделяется в качестве специальной психологической проблемы. Лишь в 1880-х годах этот вопрос становится предметом обсуждения. Что касается проблем деятельности и общения, которые Сеченов выделил как важнейшие в формировании психики, то они получили новое развитие в тех областях общественной практики, в которых зарождалась социальная психология.
Психология в России приобретала все большее влияние, к ней обращались как к фундаментальной объяснительной науке другие отрасли знания, в которых возникали психологические течения в русле их собственных проблем. На стыке наук зарождались новые отрасли психологии: юридическая, военная, педагогическая. При этом происходило выделение социально-психологической проблематики, связывающей эти отрасли между собой и закладывающей основу специальной психологической науки – социальной психологии.
В условиях повышенного интереса к психологии начинается отделение университетской психологии от той, которая разрабатывалась в духовных учебных заведениях. К 1880-м годам кафедры философии пополнились молодыми учеными, которые после восстановления университетских кафедр философии (с 1863 г.) получали университетское, а не богословское образование. Многие из них, оставленные при кафедрах философии для подготовки к научной деятельности, специализировались в психологии. Имея общую философскую подготовку (конечно, в духе идеализма), молодые ученые защищали магистерские и докторские диссертации на психологические темы, устанавливали личные связи с западноевропейскими психологами, знакомились с работой экспериментальной психологической лаборатории Вундта в Лейпциге. В Петербургском университете учениками М. И. Владиславлева, занимавшего кафедру философии и руководившего подготовкой психологов, были Н. Я. Грот, А. И. Введенский, Н. Н. Ланге, Я. Н. Колубовский и др. В Московском университете М. М. Троицкий также подготовил группу философов, читавших курсы психологии, – Л. М. Лопатин, С. Н. Трубецкой, Н. А. Зверев и др. Философски образованные молодые университетские ученые постепенно заменили в университетах и педагогических институтах профессоров-богословов.
Складывалось положение, при котором психология в университетах разрабатывалась на кафедрах философии историко-филологических факультетов и на медицинских факультетах, где в клиниках врачами создавались первые экспериментальные психологические лаборатории. Кафедры философии сохраняли верность идеалистической концепции в психологии, а врачи и студенты, работавшие в психологических лабораториях при клиниках, ориентировались на сеченовское учение.
По отношению к социально-психологическим проблемам дело обстояло так, что эти проблемы привлекли к себе внимание ведущих психологов и в том, и в другом направлении. Среди профессоров философских кафедр, занимавшихся психологией, к социально-психологическим проблемам обратился М. М. Троицкий. Социальная психология становится предметом специального изучения В. М. Бехтерева – создателя первой в России экспериментальной психологической лаборатории, невропатолога, психиатра, профессора Казанского университета, а потом Петербургской военно-медицинской академии.
М. М. Троицкий, занимавший кафедру философии в Московском университете, организатор и председатель Московского психологического общества, был представителем того течения в русской психологии, которое соединяло позитивистские установки с религиозно-философским учением православной церкви. Докторская его диссертация, первая русская историко-психологическая работа (Троицкий, 1867), была посвящена критике немецкой школы в психологии и изложению взглядов английской ассоциативной школы, горячим сторонником которой он оставался до конца своей жизни.
Психологическая теория Троицкого изложена в его главном обширном труде «Наука о духе» (Троицкий, 1882). Интересно мнение о книге М. М. Троицкого такого замечательного русского психолога, каким был Н. Н. Ланге, профессор Новороссийского университета в Одессе. В найденной в архиве Ланге рукописи «Непонятый русский психолог», в которой дается анализ книги Троицкого, написано: «Если где, так именно у нас книги имеют своеобразную судьбу. Прилив выносит на наш берег почти исключительно легкие, плавающие и малосодержательные продукты, которые и составляют обыденную нашу умственную пищу. Книги же истинно своеобразные, глубоко продуманные моментально тонут на дно и становятся доступными лишь опытным водолазам, приучившимся выдерживать высокое давление в скафандре. К числу таких потонувших вследствие тяжелого удельного веса или ценности книг мы смело относим вышедшее в 1882 году сочинение проф. М. М. Троицкого «Наука о духе. Общие свойства и законы человеческого духа». Если бы такая работа явилась как-нибудь в ином месте и в других исторических условиях, она несомненно была бы причислена к замечательным явлениям философской литературы и оказала бы, может быть, не меньшее влияние, чем, например, «Система логики» Милля или психологический трактат Бинэ, ибо по важности поднятых в ней вопросов, по глубине и научности их решения она смело может быть поставлена наряду с вышеуказанными знаменитыми творениями. Но, явившись у нас и притом в столь мало благоприятное время, она, как сказано, моментально потонула и не оказала, можно сказать, никакого влияния» (цит. по: Драголи, 1968, с. 105).
Предметом психологии Троицкий считал явления духа и находил возможным их научное исследование, в то время как сущность духа объявлял непостижимой для науки и относил к области веры. «Психология, как наука о духе, должна быть отличаема от метафизики духа, или учений о нефеноменальной сущности души и ее существовании вне связи с телом» (Троицкий, 1888, с. 77). Дух познает себя в различных формах своего существования. Он может быть предметом собственного наблюдения, и в это время он именно то, что называется психическими явлениями.
Отказываясь от рассмотрения сущности души, Троицкий, по его убеждению, превращал психологию в положительную науку, поскольку ограничивал область познаваемого пределами опыта (под опытом разумелся, конечно, внутренний опыт). Что касается метода, то положительным методом он считал индуктивный метод и с его помощью предлагал производить субъективный анализ духа, т. е. интроспективное наблюдение явлений сознания. Позитивистские установки позволили ему отвести место в своей теории проблеме личности и сопряженным с ней социально-психологическим вопросам, формулируемым как отношение личности и общественности, поставить вопрос об общественных отношениях людей. Однако принятые им методологические требования и общие положения развиваемой на их основе теории жестко ограничивали возможность рассмотрения этих вопросов.
К общим свойствам духа, выражающимся в явлениях сознания, Троицкий относил условность, относительность и рефлексивность. Под условностью он понимал образование психических фактов и выделял три рода условностей или зависимостей, действующих в психической жизни, – внутреннюю, внешнюю и органическую. Внутренняя условность – история индивидуального развития; внешняя условность – общественно-историческая; наконец, органическая, или биологическая, условность – история развития человека как организма. Понятие личности он связывал с внутренней условностью и считал коррелятивным вводимому им понятию общественности, которое связывал с внешними условиями, заключающимися в общественных отношениях. Третья условность – органическая – не имеет характера ни личностного, ни общественного. Психические факты, обусловленные этой зависимостью, Троицкий называет нейтральными. К ним он относил родовые явления, связанные с темпераментом человека.
Определяя двоякую зависимость психических фактов от «внутренней условности психического образования человека» и от «общественно-исторической условности», автор указывал, что для него факты индивидуальных психических отношений в их зависимости от внутренних условий – факты или явления личности. Те же факты в их зависимости от внешних условий— факты или явления общественности.
Сама постановка Троицким проблемы личности и общественно-исторических условий ее развития примечательна тем, что она была вызвана той актуальностью, которую приобрели во второй половине XIX в. вопросы о закономерностях общественного развития, о личности и ее роли в истории, о детерминации действий человека и о свободе воли. Эти вопросы рождали споры в разных областях знания. Автор «Науки о духе», коль скоро он брался за проблему личности, не мог обойти вопроса об ее общественных связях. Не так-то просто было подойти к этим вопросам Троицкому. Противоречия возникали сразу, как только делались попытки научного объяснения личности. Личность Троицкий понимал так же, как и другие русские психологи идеалистического направления. Обычно обозначавшаяся как Я, личность считалась носителем души, независимой от законов материального мира, выражающей себя в психических явлениях и управляющей человеческими действиями. Она была проявлением бессмертной души, данной богом. Такое понимание личности выводило ее за пределы науки и относило всю проблему к области религиозных учений. Когда Троицкий переносил вопрос о личности в феноменологический план, он рассматривал личность как «определенное, индивидуальное последствие определенной суммы условий и причин, данных в психических фактах собственного существования каждого человека» (Троицкий, 1882, т. 1, с. 86).
В соотнесении с определением личности, принимаемым Троицким для психологической науки, в котором подчеркивалась индивидуальность, самостоятельность, общественность понималась как психическая зависимость людей друг от друга, от их объединения. Понятие общественности Троицкий считал связанным с понятием личности и в то же время противопоставлял ему: «Общественность и личность людей суть два вида их психического существования, прямо противоположные друг другу или взаимно исключающие: насколько в нем содержится общественности, настолько же нет личности, и наоборот» (там же, с. 39). Личность заключает психическую самостоятельность человека, живущего в обществе, его индивидуальную психическую свободу относительно последнего. Общественность как известная внешняя психическая зависимость людей есть отрицание некоторой доли их психической самостоятельности, психическая связанность их. Отсюда вытекает необходимость или обязательность некоторых психических отношений. Соотнесенность личности и общества Троицкий определяет следующим образом: «Люди суть лица, поскольку они, составляя общество, сохраняют известную индивидуальную психическую самостоятельность; и суть общества или члены общества, насколько они находятся в известной психической зависимости друг от друга» (с. 40).
Что же Троицкий называет общественностью? «Общественность людей есть совокупность свойств так называемого общества людей. Обществом же мы называем союз людей с какою-нибудь целью, достигаемой их общими усилиями и по установленному плану или в установленном порядке» (с. 39). Он ищет корни общественности и «в последнем анализе» определяет их следующим образом: «Общественность людей означает их психическую зависимость друг от друга, наблюдаемую в их обществах, или связывающую людей в общества. Явления общественности или называемой этим именем психической зависимости суть общественные или социальные явления, в строгом смысле этого выражения. Законы общественности или ее явлений суть общественные или социальные законы в собственном смысле» (с. 46–47). Троицкий поясняет: «Так как общественность людей заключается в известного рода внешней психической зависимости их друг от друга, то ясно, что последними условиями общественности служат психические влияния людей друг на друга» (с. 41).
Таким образом общественная зависимость сводится Троицким к зависимости индивидуального сознания от психических влияний тех общностей людей, в которые входит индивид. Она рождается в общественных отношениях и следует их законам. Вводя понятие общественности, Троицкий переводит общественные отношения в социально-психологический план. Согласно статусу науки о духе, принятому Троицким, общественное бытие человека не подлежит рассмотрению, исследование ограничено пределами сознания. Тут Троицкий делает любопытное разъяснение того, как он приходит к «последним условиям общественности», или, иначе говоря, переводит общественные отношения в психологический план. Внешние психические влияния оказываются последними условиями общественности, но сами первоначально не входят в ее сферу, или бывают явлениями личности. Элементами общественности эти влияния становятся только тогда, когда делаются явлениями внешней психической зависимости людей друг от друга, связывающей их в один союз или в одно общество» (с. 44).
Анализ взглядов Троицкого, как, впрочем, и других психологов рассматриваемого периода, на проблемы социальной психологии затруднен тем обстоятельством, что социальная психология как самостоятельная дисциплина тогда не существовала, сфера ее действия не была определена, не были еще выделены явления действительности, которые стали для нее предметом исследования. Поэтому, обращаясь к прошлому с нашими современными понятиями, мы оказываемся в трудном положении, не имея возможности приложить установившиеся понятия к тем воззрениям, которые касались проблем социальной психологии. За принятой Троицким терминологией мы обнаруживаем мысли о детерминации психики социальными условиями жизни, заключающимися, по его определению, в общественных явлениях и их законах, о соотношении индивидуального и общественного сознаний, о связях индивидуальных сознаний, об общении, о коллективах и коллективной деятельности, о значении языка и символики, ритуалов и обычаев в общественной психологии, о регулирующей роли общественных норм в психической жизни индивида. Он поднял вопрос об активности сознания и о связи его с реальной деятельностью человека, последовательно выделял деятельные свойства сознания и соотносил деятельные психические отношения с реальными действиями человека.
Взаимоотношения личности и общественности, если раскрыть мысли Троицкого, понимаются, во-первых, как взаимодействие индивидуальных сознаний между собой – общение; во-вторых, как взаимодействие индивидуального и общественного сознания в разных формах исторических образований; в-третьих, как психические влияния людей друг на друга. В этом взаимодействии сознаний происходит ограничение психической самостоятельности индивида его зависимостью от общественности в том ее понимании, которое мы встречаем у Троицкого.
Психические влияния людей друг на друга осуществляются посредством особых форм психических отношений, отличающих человека от животных. Эти специальные формы человеческого духа обязаны своим происхождением истории общественности и являются культурными формами человеческого духа. Первое место в образовании таких форм принадлежит общественной символике, к которой относится прежде всего язык, затем обычаи, обряды, игры и разные символические действия. Психологический анализ приводит Троицкого к выводам о том, что развитие символизма ведет к существенным переменам во всех классах психических фактов: речь идет о культурных формах человеческого мышления, об образовании новых порядков идей и формировании культуры умственных операций и т. д.
Внутреннюю, личную условность Троицкий считал первичной, общественную – вторичной. Поэтому он различает первичные и вторичные закономерности психического существования. В борьбе этих закономерностей происходит развитие и личности, и общественности. «Мы сказали, – пишет Троицкий, – что развитие личности и ее борьба с вторичными законами общественности ведут к отмене и преобразованию таких законов, которые находятся в противоречии с требованиями личности. С другой стороны, развитие общественности человека и ее борьба с его личностью ведут к культуре личности согласно с принципом сохранения общественности, – культуре, достигаемой именно образованием специальных форм и законов человеческого духа. Потому что все специальные формы и законы человеческого духа, несмотря на величайшую разницу между ними, поразительно сходны в одной черте: все они благоприятствуют общественности или устроены по принципу ее сохранения» (там же, с. 53).
Троицкий отличает от общественности коллективные факты психического существования – наличие у ряда людей одинаковых, сходных психических явлений, получаемых от одних и тех же причин. Он отмечает, что психическое явление не нуждается в коллективности, чтобы быть общественным. «Факты одинокие могут быть точно также общественными и всегда бывают такими, как скоро бывают фактами общественной зависимости людей» (с. 50).
Психические влияния людей друг на друга ведут к соглашению в целях, а значит, и к объединению в ассоциации. Общественные группы людей, как малые, так и большие, опираются в своем возникновении и существовании на какие-либо общие цели. Цели объединяют людей в ассоциации: супружества, семейства, родства, товарищества, дружбы. Существуют ассоциации профессиональные (земледельческие, промышленные, торговые и др.), религиозные, политические. Определение порядка осуществления целей приводит к разделению общественного труда. Троицкий рассматривал личностные изменения, или, как обычно писал он, «превращения личности», в связи с изменением отношения индивида к другим людям, отношения к общественным переменам. Речь идет о социальном положении человека и динамике его отношений в семье, среди родственников, среди членов той или иной корпорации. Принадлежность к общественным группам определяет развитие общественности человека, которая, в свою очередь, влияет на развитие его чувств – чувства долга, симпатических чувств. Общественные чувства становятся мотивами действий человека.
Общественные группы, или, по терминологии Троицкого, «общества», оказывают на своих членов производительное или творческое и просто деятельное влияние. Производительными или творческими влияниями Троицкий называет влияния, которые созидают в других вторичные законы их психического существования. Напомним, что первичные законы он связывал с внутренней условностью – личностью, а вторичные с внешней – общественностью. К производительным влияниям относятся знания, навыки, свойства, способности. Они входят в состав воспитания и обучения, приобретаются в той общности, к которой принадлежит человек.
Деятельные психические влияния – действия вызова и подавления в других людях психических явлений их существования: чувств, идей, готовностей, действий. Троицкий приводит целый ряд примеров вызова и подавления в других людях психических явлений.
Законы общественных явлений как психических фактов Троицкий делит на первичные общие законы человеческого духа, прежде всего законы ассоциации, и частные – законы различных разделов психических фактов: чувств, мышления и т. д. Вторичные законы – установившиеся постоянства самих общественных явлений. К ним относятся исторические формы общественности, сохраняющиеся при смене ее индивидуальных представителей, традиционные формы всякого рода ассоциаций. В то время как первичные законы психического существования неизменны и вечны, вторичные изменяются и вовсе отменяются. Причины преобразования и отмены установившихся общественных отношений в конечном счете лежат в изменениях личных отношений, что отражается на общественных и ведет к преобразованию вторичных, общественных законов. Мы видим последовательность Троицкого – в двух порядках зависимостей ведущей является личностная, или внутренняя, условность, индивидуальность, а не общественность – внешняя условность. Личностные законы первичны. И вместе с тем движущими силами развития личности и общественности является их взаимодействие.
Высшие формы человеческого духа, как, например, культурные формы человеческого мышления, становятся могущественным органом внешнего психического влияния, т. е. общественности. «Понятия людей, связанные с знаками, например, словами, составляют специальный орган внешнего психического влияния, – орган до того покорный, что реагент почти не чувствует, как другие пользуются его психическим аппаратом, обращаясь к нему с речью, и до того тонкий, что при помощи его говорящий или пишущий способен сделать свое психическое существование как бы предметом непосредственного наблюдения для слушателей или читателей. Таким образом, понятия, составляющие культурную форму человеческого мышления, являются могущественнейшим органом общественных отношений» (там же, с. 62).
Культура человеческой чувствительности приводит к образованию новых специальных форм чувствительности и к преобразованию общих форм в специальные. К новым чисто гуманным формам чувствительности человека относятся связанные с общественностью симпатические чувства. «В чувствах симпатии человек входит из области личных чувств в область чувств и интересов окружающего его общества; симпатия есть сочувствие чужому счастью и несчастью, чужой радости и горю, чужим удовольствиям и страданиям» (с. 66). Симпатические чувства сопровождают семейную и родственную любовь, чувство дружбы и товарищества, патриотизма.
Другим последствием культуры человеческой чувствительности, связанной с историей общественности, является факт оценки или критики влияний. К высшим критическим чувствам принадлежат высшие эстетические чувства – чувство художественной красоты, чувство смеха; высшие теоретические чувства – истины и лжи; высшие практические чувства – правды, долга, нравственности. Все эти чувства имеют общественное значение.
Во-первых, преобразование общих чувств под влиянием культуры расширяет способности внешнего психического влияния, обогащает условия общественности; во-вторых, сами общие чувства получают меру, отвечающую симпатическим и высшим критическим чувствам, т. е. общественным чувствам.
Таким образом, историческая культура обнаруживается двояко: образованием новых специальных форм психических фактов и преобразованием общих форм в специальные. В конечном счете все высшие свойства человеческой личности – это внутренние условия культурного порядка.
У Троицкого вопрос социальной обусловленности психики был слит с вопросами социальной психологии. Вернее сказать, проблема социальной обусловленности психики была сведена к социальнопсихологической проблеме, поскольку общественность раскрывалась как психическое взаимодействие, как взаимодействие сознаний. Идеалистическое понимание общественных отношений ограничивало возможность научного исследования этих действительно определяющих личность отношений. Общественное раскрывается только как психическое взаимодействие. И понятна безуспешность его попыток подойти к решению проблемы социальной обусловленности психического, несостоятельность непосредственного соотнесения психического с социальностью, выступающей для него лишь в пределах общения людей, вне материального бытия общества. Однако поднятые им вопросы о социальной характеристике личности, о значении общения человека с другими людьми, об их совместной деятельности для достижения целей, об историко-культурном развитии были теми вопросами, на которые предстояло ответить психологии при решении и проблемы личности в ее психологическом аспекте, и социальной психологии. В психическом влиянии людей друг на друга, в формах этого влияния Троицкий – конечно, в пределах его философских взглядов – намечал вопросы, которые только в современной психологической науке завоевывают свое место.