Язык в языке. Художественный дискурс и основания лингвоэстетики бесплатное чтение
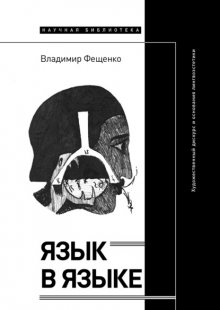
Сурен Золян
ПРЕДИСЛОВИЕ
Работы Владимира Фещенко хорошо знакомы филологам – лингвистам, литературоведам и семиотикам – тем, кто обращается к изучению креативных, порождающих аспектов языковой деятельности. Оригинальность и основательность его работ уже сделали его признанным авторитетом в этой области. Собранные воедино и систематизированные в рамках выстраиваемой в новой книге теории лингвоэстетики, они стали выглядеть даже несколько убедительнее, поскольку то, что казалось недостаточно аргументированным и спорным, в рамках единой системы приобретает дополнительную валидность.
Автор находит свой нетривиальный путь в интерпретации концепций языка как искусства и искусства как языка, что именуется здесь «лингвоэстетическим поворотом» (как частное проявление лингвистического поворота в гуманитарных науках ХХ века), который параллельно осуществляется в двух по-своему полярных областях культуры – теории языка и художественной речи. Призрак такого «поворота к языку» бродил в размышлениях о языке едва ли не с античной философии и риторики, во всяком случае задолго до формирования современных филологических наук. Несмотря на солидную историю, восходящую, наверно, как минимум к Аристотелю, лингвистического интереса к эстетической деятельности, лингвоэстетическое направление все еще в поисках своей идеологии и инструментария. Исследование В. Фещенко есть свидетельство и результат изменения научной парадигмы. Это может быть особо выпукло продемонстрировано, если обратиться к предшествующему этапу. Так, в 1973 году Клод Леви-Стросс, исследователь, сочетавший научный метод с поэтическим и эстетическим, многие страницы которого читаются как литературные произведения, тем не менее счел нужным противопоставить «хороших и правильных» лингвистов «неразумным» философам, искажающим идеи лингвистов, по следующему основанию:
Специфические споры между лингвистами представляют собой особую материю; совершенно иным является неправомерное использование некоторыми философами отдельных высказываний, составляющих содержание этих споров: в своем наивном заблуждении они считают, что, перенося внимание с совокупности правил, относящихся к языку, на процесс выражения тех или иных идей, лингвисты вновь возводят на пьедестал фигуру свободного и творчески одаренного субъекта, престиж которого был подорван его кощунственными предшественниками1.
В этом отношении В. Фещенко поступает именно так, от чего предостерегал неразумных философов Леви-Стросс. Между тем «в своем наивном заблуждении» Фещенко показывает, что процесс выражения неотделим от свободного и творчески действующего субъекта, а языковая деятельность – это не автомат с конечным числом состояний (любимая метафора из 1960‐х), а гумбольдтовская «энергейя», и что многозначность этого слова воспроизводит многогранность и нелинейность языковой деятельности. К этой книге можно применить сказанное самим исследователем о русской поэзии и поэтике начала ХХ века:
Тезис Гумбольдта о языке-«энергейе», а не «эргоне» получает значительное расширение и вместе с тем конкретизацию с особым вниманием именно к слову как важнейшему инструменту поэтической практики и творческого отношения к языку вообще.
На основе методов, принятых в семиотике языка и искусства, автор ищет точки сближения, схожие типологические черты между различными областями интеллектуальной деятельности (в данном случае между наукой о языке и художественным дискурсом), трактуя их в духе современной тенденции к изучению «культурного трансфера» между различными дисциплинами. В итоге эти найденные точки сближения ложатся в основу единого языка описания для языковых и художественных процессов, с одной стороны, и метаязыковых и эстетических (метапоэтических) – с другой.
Существенное достоинство представленной здесь теории – расширение концепции семиозиса и семиотики языкового знака в художественном тексте. Это, во-первых, рассмотрение его как триады, а не бинома. Мир художественных знаков, формирующийся в художественном произведении, моделируется как соотношение между означающей художественной формой, означаемым художественным содержанием и означиваемой внутренней формой. Многомерность отношений между означаемым и означающим дополняется еще и тем, что ей придается динамика – путем возможности вращения так называемого треугольника и инверсии отношений «означаемое – означающее». Кажется весьма естественным дополнить схему и в свете концепции асимметричного дуализма языкового знака.
Весьма продуктивно и вытекающее из характеристик художественного семиозиса рассмотрение художественной коммуникации. Художественная коммуникация, согласно автору, представляет собой внутренне многослойный, внешне многовекторный и прагматически многополюсный процесс. Такой подход позволяет синтезировать существующие противоположные точки зрения и вместе с тем показать возможности перехода от одной к другой (удачные примеры подобных трансформаций, особенно при рассмотрении понятия знака и процессов коммуникации, можно найти в самой книге).
Благодаря использованию применяемых в современной теории систем понятий аутопойесиса и автореференции, Владимир Фещенко удачно дополняет и уточняет представления о характере поэтической функции как установки на выражение (в терминах 1920‐х годов), или установки на сообщение (в терминологии 1960‐х, вплоть до настоящего времени). Отмеченные результаты складываются в цельную картину и позволяют перенести функциональные характеристики на весь процесс и его отдельные компоненты. Автокоммуникативность как обратимость связи «адресант – код – сообщение – адресат» концептуализируется как проявление рефлексивности в художественном дискурсе поэтической (автопоэтической) коммуникации и коммуникации метаязыковой. Как показывают другие работы В. Фещенко, в экспериментальной литературе и искусстве ХХ века происходит сближение собственно поэтической (автопоэтической) коммуникации и коммуникации метаязыковой (метапоэтической) в различных формах междискурсивного взаимодействия. Идея о связи автопоэтической коммуникации и коммуникации метаязыковой (метапоэтической) может иметь перспективное расширение и существенно углубить наши представления о фундаментальных характеристиках языка. В обоих случаях речь идет об установке на выражение, и целесообразность введенного уже позднее Романом Якобсоном разграничения между установкой на код и установкой на сообщение может стать предметом дискуссии.
Комплексное видение проблематики позволяет В. Фещенко найти сердцевину того, что принято называть языком в поэтической функции; это рефлексивность как конститутивная черта художественного дискурса, определяющая более частные рефлексивные механизмы: автокоммуникацию, автореференцию, взаимодействие автопоэтической и метапоэтической функций. Думается, что развитие этой идеи может получить и несколько отличное воплощение при описании семантико-синтаксических и прагмасемантических механизмов коммуникации в целом, если удастся связать рефлексивность с соответствующими механизмами рекурсии и предложить методику подобного описания.
Особо хочу отметить стиль изложения в книге: сложные проблемы излагаются ясно, но и без упрощения, а разнородность используемого материала, цитируемых концепций, эпох и языков не приводит к какофонии, и это, разумеется, дополнительное свидетельство продуманности авторской концепции. Разумеется, есть положения, с которыми можно не соглашаться: учитывая ее одновременно новаторскую и достаточно разработанную проблематику исследования, практически любой концептуально значимый пункт исследования может вызвать полемику. А при похвальном желании автора объять необъятное, и вопросы могут также относиться к области необъятного. Это можно считать еще одним хорошим стимулом – книга приглашает думать, тем самым реализуя креативно-эстетическую установку в профессиональной коммуникации гуманитариев.
ОТ АВТОРА: О «ЯЗЫКЕ» В «ЯЗЫКЕ». ЛИНГВОЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ
Изнутри ‘Языка’ объяснять Язык, в его игре по отношению к Духу, демонстрировать его, без извлечения каких-либо абсолютных выводов (для Духа).
С. Малларме. Заметки о языке
Малларме был прав. И все же, говоря об идеях, Дега подразумевал внутреннюю речь или образы, которые так или иначе могут быть выражены словами. Однако эти слова, эти скрытые фразы, которые он называл своими идеями, эти влечения и интуиции разума поэзии не создают. Есть, следовательно, еще нечто – какое-то изменение, какая-то трансформация, быстрая или медленная, стихийная или сознательная, мучительная или легкая, чье назначение – стать опосредствованием между мыслью, которая порождает идеи, между этой подвижностью, множественностью внутренних проблем и решений и, вслед за тем, речью, совершенно отличной от языка обыденного, какою являются стихи, – речью, причудливо организованной, которая не отвечает никакой потребности, кроме той, какую должна возбудить сама, которая говорит лишь о предметах отсутствующих или тайно и глубоко прочувствованных; речью странной, которая, как нам кажется, исходит отнюдь не от того, кто ее формулирует, и адресуется отнюдь не к тому, кто ей внимает. Эта речь, одним словом, есть язык в языке.
П. Валери. Поэзия и абстрактная мысль
Дискурс – это «язык в языке», но представленный в виде особой социальной данности. Дискурс реально существует не в виде своей грамматики и своего лексикона, как язык просто. Дискурс существует прежде всего и главным образом в текстах, но таких, за которыми встает особая грамматика, особый лексикон, особые правила словоупотребления и синтаксиса, особая семантика, в конечном счете – особый мир.
Ю. С. Степанов. Язык и метод. К современной философии языка
Одна краткая и две пространные цитаты, которыми открывается эта книга, на первый взгляд, повествуют о разных вещах.
Первый афоризм поэта Стефана Малларме, относящийся к 1870 году – времени его университетских занятий лингвистикой, – загадочен и герметичен, но одновременно убедителен; он перформативно указывает нам на главенствующую идею «двух языков» – внешнего и внутреннего – и вместе с тем пророчествует о главном постулате будущей соссюровской лингвистики: «изучать язык в самом себе и для самого себя».
Вторая цитата принадлежит поэту и эссеисту, теоретику модернистского искусства Полю Валери и говорит нам о внутреннем мире произведения искусства. Этот внутренний мир обращен на самого себя и вырабатывает для коммуникации с самим собой особую, внутреннюю речь. Французский писатель использует метафору вложенности: «язык в языке» указывает на особую диспозицию языка искусства (художественного языка) по отношению к языку как таковому (естественному, обыденному языку). Художник, писатель, поэт создает индивидуальную знаковую систему в системе знаков общепринятых и общеупотребимых. Валери и Малларме выражают суггестивно то, что в более строгих понятиях «поэтического языка» и «вторичной моделирующей системы» формулировали русские филологи от Романа Якобсона до Юрия Лотмана (у последнего возникла родственная концепция «текст в тексте»)2.
Третья мысль в эпиграфе высказана лингвистом и философом языка Юрием Сергеевичем Степановым (среди прочего переводчиком ряда текстов Валери на русский). Используется та же «матрешечная» метафора («язык в языке»), но в данном случае для описания специфики того, что представляет собой дискурс по отношению к языку. Манифестируясь в тексте, частный дискурс, в отличие от языка как общей системы, выстраивается в координатах собственной грамматики, семантики и прагматики. Язык погружается в жизнь в виде дискурса (еще одна метафора лингвиста, на этот раз Н. Д. Арутюновой) и обретает в нем свой индивидуальный облик (образ языка, по Ю. С. Степанову).
Целью предлагаемой читателю книги является объединение этих двух трактовок метафорического конструкта «язык в языке» – эстетического и лингвистического. Здесь пойдет речь об искусстве (главным образом о литературе и преимущественно о поэзии) как языке и как дискурсе, о художественном дискурсе и эстетической коммуникации, об основах лингвоэстетики как комплексного подхода к изучению эстетических аспектов языка и к лингвистическому анализу художественного (литературного, поэтического) дискурса3. Формирование такого подхода в лингвистике связано с лингвоэстетическим поворотом в науке и искусстве ХХ века, базирующимся на концепциях языка как искусства и искусства как языка.
Лингвоэстетический поворот будет рассмотрен в двух планах: в историческом разрезе (при рассмотрении эволюции лингвистических и лингвофилософских учений) и в теоретическом ракурсе (как лингвоэстетическое направление в анализе языка и литературы). В области теории этот поворот выражается в направленности лингвистических, семиотических и философских исследований на эстетику словесного творчества. В области художественного дискурса – в ориентации на языковой эксперимент4.
В философии термин «лингвистический поворот» довольно четко определен и охватывает конкретный круг направлений в философских исследованиях5. Однако гуманитарные исследования последнего времени указывают на то, что сам лингвистический поворот был частью более обширной, трансдисциплинарной тенденции в культуре и науке ХХ века, которую можно назвать «поворот к языку»6. Вообще под поворотом в науке понимается междисциплинарная направленность на определенную совокупность явлений, связей и процессов, повышенное внимание к этим проблемам в определенный исторический период. От «научной революции» поворот отличается не столь резкими изменениями взглядов на мир и может охватывать несколько парадигм7. Революция описывается как «изменение взгляда на мир» и «смена понятийной сетки» [Кун 1977]. Последовательный переход от одной парадигмы к другой осуществляется, согласно Куну, через революции.
«Поворот к языку» выразился, в первую очередь, в зарождении теоретической лингвистики в учении Ф. де Соссюра, то есть утверждении лингвистики (а заодно и семиотики) как науки. Художественные процессы начала ХХ века также характерным образом были повернуты к языковой проблематике и к языковому эксперименту8. Выразился поворот к языку и в таких областях, как богословие, искусствознание, литературоведение и даже в естественных науках (например, в физике, ср. с трактатом В. Гейзенберга «Реальность и ее порядок» 1942 года, в котором известный физик рассматривает язык поэзии как особый язык описания реальности). Кроме того, «поворот к языку» стоит в ряду других поворотов интеллектуальной мысли уже более позднего времени, таких как культурный, перформативный, иконический, интерпретативный, переводческий поворот и др. [Бахманн-Медик 2017]9. Одним из недавних таких поворотов, значимых для лингвистики, является когнитивный [Кубрякова, Демьянков 1996], включающий в себя и более частные повороты – к примеру, «жестовый поворот» [Ирисханова 2016] в лингвистических исследованиях. Таким образом, лингвистический поворот был частью более разветвленных процессов в эволюции науки и культуры последнего столетия, связанных с направленностью на язык.
В этой книге мы останавливаемся на спецификации одного из таких поворотов к языку, затрагивающего контакты и соотношения между теорией языка, эстетической теорией и художественно-языковым экспериментом. Под лингвоэстетическим поворотом понимается направленность на научное изучение эстетики словесного творчества, с одной стороны, и на художественное творчество, ориентированное на языковой эксперимент, – с другой. В ХХ веке этот поворот проходит через три фазы: формально-семантическую (1900–1910‐е), функционально-синтаксическую (1920–1950‐е), акционально-прагматическую (1960–1990‐е)10.
Лингвоэстетика сопряжена с «выходами» в две смежные проблемные области. Во-первых, в общую зону вопросов о соотношении теории языка и теории искусства. Эта линия начата в 1910–1930‐е годы в концепциях А. Белого, Г. Г. Шпета, Б. М. Энгельгардта, В. Н. Волошинова, Б. М. Ларина, Л. В. Щербы, Я. Мукаржовского, продолжена в семиотической эстетике Н. Гудмена, У. Эко, Ю. Кристевой, Ю. М. Лотмана, Ю. С. Степанова, О. В. Коваля и развивается в рамках лингвистической поэтики в трудах Р. О. Якобсона, Г. О. Винокура, В. В. Виноградова, В. П. Григорьева, Л. А. Новикова, С. Т. Золяна, Н. А. Фатеевой, Л. В. Зубовой. Вторая область лингвоэстетических исследований относится к эмпирическому плану эстетического и творческого использования языка в повседневной речи (например, в работах Н. Д. Арутюновой, В. З. Демьянкова, О. К. Ирисхановой, а также в пионерской книге в этой области [Гаспаров 1996] и др.).
В настоящей работе развивается главным образом лингвоэстетическая концепция, предметом которой является эстетика словесного творчества. При этом понятие «художественного», согласно этой концепции, обозначает свойства самой творческой деятельности (художественно-языкового материала), а понятие «эстетического» – метаязыковую аналитику этого материала.
Книга состоит из трех глав. В главе I рассматриваются подходы к соотношению языка и искусства, взаимодействию лингвистики и эстетики, которые мы считаем проявлениями лингвоэстетического поворота в западной и отечественной гуманитарной теории. Лингвоисториографический анализ концепций языка как искусства и искусства как языка, а также концептов «язык», «искусство» и «творчество» в их взаимосвязи задает предпосылки и основания лингвоэстетического подхода как интегрального метода изучения эстетической реализации языка.
Глава II посвящена доминирующим теориям и концепциям языка художественной литературы в лингвистике, философии и литературоведении ХХ века, образующим тот историко-теоретический фон, на котором зарождались и развивались лингвоэстетические подходы как таковые. Как показывает анализ лингвистических учений, одновременно со сменой лингвистических теорий и парадигм меняются и взгляды теоретиков языка на художественную литературу как подъязык (или надъязык) по отношению к языку в целом как полифункциональной знаковой системе. Каждый из трех разделов главы соответствует определенной фазе лингвоэстетического поворота в ХХ веке: формальной, структурной и перформативной.
В главе III представлены основные категории лингвоэстетики как подхода к художественному дискурсу, синтезирующего теоретические модели знака, семиозиса и коммуникации, выработанные в лингвистических концепциях, рассмотренных в предыдущих двух главах. Лингвоэстетическая теория базируется на таких основных категориях, как художественный знак, художественный семиозис, художественное сообщение, художественная коммуникация, художественный дискурс. Все понятия рассмотрены в этой главе в общем виде и применительно к художественному дискурсу в его экспериментальной реализации. В авангардно-художественном дискурсе понятие художественного (эстетического) подвергается кардинальной переоценке, а понятия, традиционно исключавшиеся из художественной сферы, становятся эстетическими категориями (в частности, понятие языка и связанные с ними лингвистические понятия). В экспериментальной литературе и искусстве ХХ века происходит интерференция между собственно поэтическим дискурсом и дискурсом метапоэтическим. Это сближение иллюстрируется в последних параграфах книги некоторыми общими лингвокреативными техниками, используемыми в авангардных художественных текстах, с одной стороны, и в теоретических текстах ученых-филологов авангардной эпохи, – с другой.
Глава I.
ЛИНГВОЭСТЕТИКА КАК СИНТЕЗ ТЕОРИИ ЯЗЫКА И ТЕОРИИ ИСКУССТВА
Взаимосвязь языка и искусства, при всей ее возможной очевидности, остается проблемой для современной гуманитарной науки. Каковы функции языка в опыте классического и современного искусства? Что могут сказать художник (поэт, режиссер, перформер) и его произведения о природе человеческого языка? Как осуществляется познание (когниция) и самопознание (метарефлексия) в эстетическом опыте через посредство языковых инструментов? На эти вопросы пытаются отвечать и современные художественные практики, и актуальная гуманитарная наука.
В течение ХХ века к этим вопросам обращались как теоретики и практики искусства (включая писателей и поэтов), так и теоретики языка (включая философов, обращавшихся к языку). В этом взаимном интересе теорий языка и теорий искусства, посредником которого зачастую выступали сами языковые практики художников, нам видится лингвоэстетический поворот как часть общего лингвистического поворота в культуре ХХ века. Этот более частный поворот внутри большого сопровождался формированием лингвоэстетического подхода в межнаучном трансфере между лингвистическим знанием и знанием об искусстве и эстетике. Трансфер этот выражается в интеграции метаязыков лингвистики, литературоведения, искусствознания и философской эстетики. Помимо межнаучных переносов в становление лингвоэстетического подхода вносят вклад также художественные (главным образом вербальные и визуальные) практики, что позволяет говорить также о междискурсивном трансфере в общем, интегративном пространстве гуманитарного знания и творчества11.
Синтетический принцип взаимодействия теорий и практик языка и искусства делает лингвоэстетику «интегративной парадигмой», основанной на «интегративном моделировании языка» (пользуясь терминами из работы [Постовалова 2016]). Зарождению и развитию этого подхода (а точнее – множества подходов в рамках интересующего нас лингвоэстетического научного направления) посвящена данная глава.
1. Искусство и язык, язык и искусство: межнаучный трансфер понятий в истории лингвистики и эстетики
Первая задача этой главы – рассмотреть концептуальные комплексы, в которых понятия «язык» и «искусство», а также ассоциируемые с ними другие понятия выступают как составляющие и определяют соответствующие взгляды на язык («образы языка», по Ю. С. Степанову) через призму искусства, и наоборот – образы искусства, преломленные через язык.
В. З. Демьянков отмечает, что выражение «образы языка» может пониматься двояко. Во-первых, как «образы, которые принимает язык, в котором он предстает перед нами» [Демьянков 2014: 11–12]. В этом значении само понятие языка может изучаться в его различающихся – буквальных и переносных – значениях, что демонстрирует автор в другой статье, показывая, как «лингвистический язык метафоризируется органическим языком» [Демьянков 2000]. В этом же русле ведутся исследования того, как воспринимается конкретный национальный язык либо самими носителями, либо со стороны других языков и культур12, либо в каких-либо отдельных научных или художественных практиках. Во-вторых же, «образы языка» осознаются как «образы, которые принимают иные сущности и в которых мы их принимаем за язык», как, например, «язык танца», который является языком не в лингвистическом, а в семиотическом смысле [Демьянков 2014: 11–12]13. Говоря об образах языка в эстетической деятельности, мы будем иметь в виду обе эти трактовки. Заметим при этом, что и само понятие образа – родом из эстетических учений. Выражение «образы языка» – своего рода понятийный блендинг лингвистического и эстетического знания.
Уделим здесь внимание понятию образа, поскольку оно как раз является наиболее близко ассоциированным с понятием художественности вообще. В теории искусства под «образом» понимается художественная единица, выражающая абстрактную идею в конкретной чувственной форме. Соответственно, образное мышление является особенностью художественной деятельности, выделяющей ее из других видов интеллектуального творчества в культуре. Статья «Образ художественный» в словаре по эстетике сопровождается характерным замечанием об «образном языке искусства», необходимом художнику, чтобы «воплощать и передавать людям определенные ценностно познавательные представления, эстетические идеи и идеалы» [Эстетика 1989: 239]. Образность в произведении искусства связывается, таким образом, с языком в обобщенно-семиотическом смысле. В английской терминологии об образности (iry) говорят как о «фигуративном языке» (figurative language). Еще в начале XVII века мы встречаем в английской эстетике словосочетание «язык форм» (the language of forms) – у видного философа А. Шефтсбери (в трактате «Вторичные признаки»). Представление об особой языковой организации образов в художественной литературе восходит еще к классической эстетике.
Выражение «образ языка» встречается впервые у М. М. Бахтина. Выясняя взаимоотношения языка и литературы в романном жанре, он исследует речь персонажей как проявление того или иного «образа языка», складывающегося в диалогической речи:
Для романного жанра характерен не образ человека самого по себе, а именно образ языка. Но язык, чтобы стать художественным образом, должен стать речью в говорящих устах, сочетаясь с образом говорящего человека.
Формулируется центральная проблема романной стилистики – «художественное изображение языка», «установка на образ языка». Целью романной гибридизации (гетероглоссии), по Бахтину, является создание «художественного образа языка» [Бахтин 2012: 90]). В формировании такого образа и состоит смысл художественной речи, отличной, например, от речи научной:
Литература не просто использование языка, а его художественное познание (соотносительно научному познанию в лингвистике), образ языка, художественное самоосознание языка. Третье измерение языка. Новый модус жизни языка [Бахтин 1996: 287].
Мы еще будем возвращаться к этим тезисным наброскам Бахтина, имеющим непосредственное отношение к предмету нашего исследования. Сейчас отметим, что само представление об «образах языка» возникает в эстетической теории слова. В наше время говорят о самых разных «образах языка», в частности научных, философских и иных. Наше дальнейшее исследование посвящено сопоставлению художественных и научных (включая философские) образов языка на материале различных концепций и поэтик последнего столетия.
Ю. С. Степанов отмечал, что «образы языка» изменчивы и «фасетны» и зависят от определенных культурных и научных констант, принятых в ту или иную эпоху [Степанов 1995б]. В череде таких «фасеток», следуя Степанову, мы можем выделить концептуальный комплекс «язык и искусство» и его вариант «языки искусства». Такой экскурс в теорию терминов и образов приблизит нас к более конкретным взаимодействиям литературно-художественных практик и лингвистических концепций последнего века.
Обратимся к контекстам из истории лингвистических и эстетических учений, в которых понятия «язык» и «искусство» выступают как операторы (взаимосвязанные понятия), по-разному сочетающиеся в зависимости от той или иной концепции. Основные сочетания этих операторов, которые мы рассмотрим, таковы:
язык не есть искусство
язык есть искусство
язык как искусство
язык и искусство
язык искусства
искусство языка
язык-искусство
языки искусства
искусство и язык
искусство как язык
искусство есть язык
искусство не есть язык
В исторической эволюции лингвистических и эстетических концепций понятия «язык» и «искусство» зачастую подвергались трансферам, то есть перемещениям из одной концептуальной системы в другую, из другой – в третью, и так далее, вплоть до возвращения в исходную концептуальную систему. При этом важную роль играли в таких процессах межъязыковые трансферы, когда термины мигрируют в другие научные культуры, видоизменяя систему-реципиента и подчас оказывая обратное воздействие на культуру-донора14.
Какими путями осуществлялся трансфер двух понятий – «язык» и «искусство» – в истории лингвистической и эстетической мысли? Рассмотрим примеры сочетания концептов-операторов «язык» и «искусство».
Язык не есть искусство. Античность и Средние века
Вплоть до Нового времени в западной гуманитарной мысли уподоблять язык искусству (и наоборот – искусство языку) было не принято. В античных теориях языка мы находим два разнонаправленных способа говорить о языке в связи с искусством. С одной стороны, более ранние концепции, основанные на принципе мимесиса, склонны уподоблять звуки речи и музыкальные звуки. У Платона в «Кратиле» встречается рассуждение о том, что в целях благозвучия поэты искажают имена, в результате чего происходит путаница с определением «истинных имен». Этого мнения придерживается в диалоге Сократ при обсуждении самого имени «искусство»:
Сократ. Такое слово, например, «искусство»: очень важно узнать, что оно значит.
Гермоген. Да, это верно.
Сократ. Не значит ли это слово «иметь ум»? Если переставить и изменить некоторые буквы, то и получится «искусство».
Гермоген. Это уж очень скользко, Сократ.
Сократ. Милый мой, разве ты не знаешь, что имена, присвоенные первоначально, уже давно погребены под грудой приставленных и отнятых букв усилиями тех, кто, составляя из них трагедийные песнопения, всячески их изменял во имя благозвучия: тому виной требования красоты, а также течение времени. Так, в слове «зеркало» разве не кажется тебе неуместной вставка этого? Однако, я думаю, это делают те, кто не помышляет об истине, но стремится лишь издавать звуки, так что, прибавляя все больше букв к первоначальным именам, они под конец добились того, что ни один человек не догадается, что же, собственно, данное имя значит. Так, например, Сфинкса вместо «Финкс» зовут «Сфинкс» и так далее [Платон].
В безусловно ироничном ключе Сократ здесь критикует языковую игру, получающуюся от того, что в имени techne поэт переставляет и убирает некоторые буквы и получает в итоге имя echonoe («иметь ум»), чем уподобляет художество и разум. Но в мировоззрении Платона (устами его учителя Сократа) украшательство речи пагубно для языка и для истинной философии. Идея о том, что «прекрасная речь делает вещи сами по себе прекрасными», претит философу. Соответственно, язык надо держать подальше от тех, кто делает его «прекрасным»15.
Аристотель рассуждает в «Поэтике» о звуках речи и звуках музыки в терминах «благозвучное – неблагозвучное». Звуки в «украшенной» человеческой речи и в музыкальном искусстве повинуются, согласно этим воззрениям, одним и тем же законам ритма и гармонии. Кроме того, Аристотель впервые объединяет понятия techne и logos. Сочетание techne tou logou употребляется как определение риторики – «ремесла слов», однако в культуру Нового времени войдет с другим смыслом – технологии как «применения метода». С другой стороны, большинство греческих авторов не считают риторику искусством, подобным музыке или скульптуре. Techne понимается скорее как применение ремесла, нежели как искусство в самом себе. Искусство в самом себе описывается термином poiesis (что корректнее переводить на русский как «творчество», см. об этом в следующем параграфе). Речь, с точки зрения греков, есть факт techne, а не poiesis.
Позднегреческие авторы, пользующиеся в своих умозаключениях принципом аналогии, оспаривают всякую связь речи и искусства, logos и techne. У Секста Эмпирика встречаем размышление о том, что речь сама по себе искусством являться не может, ибо искусство зиждется на неких началах, а обыденная речь таких начал не имеет: «искусство, касающееся эллинской речи, становилось бы безначальным и таким образом не являлось бы вовсе и искусством» [Античные теории 1936: 84]. Речь определяется, согласно такому взгляду, лишь обиходом, а не искусством. Заключение Секста таково: «обиход, служа сам по себе критерием искусства по части эллинской речи, не будет нуждаться в искусстве» [там же: 85]. Искусством в смысле techne может быть лишь грамматика. И именно такой взгляд на язык породил формулу «искусство грамматики».
У александрийских грамматиков поэзия как искусство имело меньшее значение, чем грамматика. Это представление перенеслось в дальнейшем и в римскую филологическую традицию с многочисленными трактатами с названием Ars Grammatica. Соответственно, прослеживаются следующие векторы терминологического трансфера: techne древних греков было связано только с практическим искусством овладения красноречием и воспринято латинской традицией в форме ars. Берущая же начало от Аристотеля поэтика как учение о собственно поэзии преобразовалась в римской и более поздней романской традиции в руководство по поэтическому ремеслу (что отражено в названиях трактата Горация (Ars poetica, ок. 18 г. до н. э.) и Н. Буало (L’ art poétique, 1674). Отметим, впрочем, что в стихотворном трактате Буало уже используются некоторые эстетические оценки образа языка: «очищенный язык», «убогий язык черни», «язык гордого сонета», «вы к языку должны питать благоговенье». Однако они остаются все еще в рамках дидактического стиля римской традиции. А семантика греческого poiesis как творящего действия была транслирована в средневековое представление о creatio, которое оставалось лишь атрибутом божественного творения вплоть до эпохи романтизма. Соответственно, от античности до романтизма мы не встречаем какого-либо иного соседства концептов «язык» и «искусство», кроме как в формуле «искусство грамматики или поэтики».
Искусство есть язык. Новое время и романтизм
Вероятно, первым упоминанием родства языка и искусства в эпоху Нового времени стала фраза Г. Э. Лессинга из трактата «Лаокоон» (1766) о «немом языке живописи»: «Но это то же самое, что удивляться поэтам, почему они, говоря о музах, не пользуются немым языком живописи»16 [Лессинг 1953: 428]. Этот «немой язык» противопоставляется «языку поэзии»: «Но и это на поэтическом языке не должно означать ничего больше, как необыкновенную ярость Ахилла, который ударяет копьем три раза, прежде чем успевает заметить, что врага перед ним уже нет»17 [там же: 437]. Однако в теории Лессинга эти языки – живописи и поэзии – оказываются непереводимыми друг на друга, и весь трактат «Лаокоон» посвящен границам между этими двумя языками.
Идея общего «языка искусства» стала витать в интеллектуальной среде Европы ближе к концу XVIII века. Выше нами был отмечен еще более ранний эстетический контекст словосочетания the language of forms у философа А. Шефтсбери. Еще один британский сенсуалист Дж. Беркли в сочинении 1733 года, посвященном зрению как человеческому органу познания, пользуется сочетанием «зрительный язык» (visual language), говоря о зрении как о «языке творца природы». В заметках другого англичанина поэта У. Блейка, уже близкого к романтизму, встречается сочетание «язык художественного изображения» (the language of art copy): «Выучить язык художественного изображения навсегда – мое правило»18 [The Complete Writings 1957: 446]. Согласно Блейку, с помощью «языка искусства» художник научается традиции в рисовании природы: «Никто не может рисовать, не выучив язык Искусства с помощью готовых изображений и Природы, и Искусства»19 [там же]. О «языке природы» и «языке искусства» говорит другой, уже убежденный, романтик Новалис в одном из своих «фрагментов»: «Общий язык – язык природы – литературный язык, язык искусства»20 [Novalis 2012: 76]21. По словам еще одного немецкого романтика В. Г. Вакенродера, Природа и Искусство суть два языка, подаренных человеку Богом:
Язык словесный – великий дар небес <…> Искусство есть язык совсем иного рода, нежели природа; но и ему присуща чудесная власть над человеческим сердцем, достигаемая подобными же темными и тайными путями22 [Вакенродер 1977: 66–68].
Такие новые представления о «языке искусства» и «языке природы» покоились на философском постулате эпохи романтизма, сформулированном Ф. Шлегелем в статье 1795 года «Письма о поэзии, просодии и языке»: «все, посредством чего внутреннее проявляется во внешнем, можно назвать правильным языком»23 [Schlegel 1962: 152]. А значит, считал романтик, искусство (поэзия, живопись) могут также именоваться особыми языками (Kunstsprache). По мнению Н. Хомского, подобное представление о языке позволяет сделать короткий шаг к установлению связи между «творческим аспектом языкового употребления и подлинным художественным творчеством» [Хомский 2005: 46]. Романтики действительно сделали важные шаги по осмыслению языка как творческого медиума в поэзии, что позволяет современным исследователям говорить даже о «перформативном» измерении слова как действия в трудах романтиков [Esterhammer 2002]. Именно эти представления легли в основу дальнейших теорий языка как творческого действия.
Повлияли эти идеи и на становление, казалось бы, совсем иного типа лингвистического учения, а именно – на теорию языка Ф. де Соссюра, как показано в исследовании [Gasparov 2013]. В частности, соссюровский постулат о «языке, рассматриваемом в самом себе и для себя» согласуется с воззрениями романтиков о «самодеятельной», «самосозидающей» природе языка. Б. М. Гаспаров справедливо возводит эту идею к «Монологу» Новалиса с его утверждением, что «подлинная природа языка заключается в том, что он занят только самим собой» [цит. по: Gasparov 2013: 103]. Язык, согласно немецкому романтику, подобен математической формуле и представляет собой особый, отдельный мир. Именно в силу своей экспрессивности язык уподобляется искусству.
Возводя корни соссюровского учения к раннему немецкому романтизму, Гаспаров, однако, не упоминает важное звено в этом наследовании. Проводником идей романтизма в лингвистике был, разумеется, прежде всего В. фон Гумбольдт, также писавший о «самодеятельном возникновении языка из самого себя». И хотя в целом идеалистическое направление в языкознании было Соссюру чуждо, он несомненно ориентировался на труды немецкого классика, пусть и в критическом ключе. Представление о самоценности языка объединяло воззрения таких, казалось бы, далеких друг от друга ученых, как Гумбольдт и Соссюр, А. А. Потебня и Р. О. Якобсон24. Для целей нашей книги эти исторические связи романтизма и новых теорий языка важны, поскольку они предвосхищают подходы к языку как творческому процессу и динамической системе в новейшее время (к этим подходам мы обратимся в п. 2 настоящей главы). Более того, эти воззрения романтизма получают новую актуальность в лингвоэстетическом повороте (см. далее, п. 3 настоящей главы).
Язык как искусство. В. фон Гумбольдт и гумбольдтианство
Из шлегелевского постулата формируется концепция главного романтика от языкознания – В. фон Гумбольдта. При этом вопросы языка искусства и языка литературы занимают у Гумбольдта немаловажное место, формируя новый терминологический комплекс, составляющими которого служат понятия языка и искусства.
Гумбольдт впервые обращается к проблеме лингвистической природы поэзии в главке «Характер языков. Поэзия и проза» своего известного труда «О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества», переходя от рассмотрения частных сторон взаимодействия в языке к более общим. Он отмечает, что существуют «два проявления языка, где все эти стороны не только самым решительным образом сходятся, но и само понятие частности утрачивает смысл из‐за преобладающего влияния целого. Это – поэзия и проза» [Гумбольдт 2000: 183]. Таким образом, поэзия и проза выделяются им в специфические формы существования и функционирования языка, в которых доминантным становится «преобладающее влияние целого», то есть их особая организованность с определенными целями. Гумбольдт называет поэзию и прозу «проявлениями языка», предопределяемыми его «исконным укладом» и постоянным воздействием на их развитие. Причем тяготение к поэзии и прозе связывается им с «незаурядностью формы конкретного языка», то есть «одинаковому развитию той и другой в соразмерном соотношении». В духе романтического идеализма богатство и совершенство языка определяется здесь развитостью именно обеих форм бытования языка и развитостью «интеллектуальной сферы». Развитость интеллектуальной сферы связывается им с многообразием «проявлений языка»: «Язык литературы может процветать, лишь пока его увлекает за собою духовный порыв, стремящийся расширить сферу своего действия и привести мировое целое в гармоническую связь со своим собственным существом» [там же: 189]. Художественная литература, согласно немецкому лингвисту, является высшим и наиболее гармонично организованным проявлением языка.
В. фон Гумбольдт устанавливает далее следующее соотношение: обыденная речь – научная речь – прозаическая речь – поэтическая речь. В отличие от обыденной речи, прозаическая и поэтическая речь («возвышенная речь», которая после Гумбольдта объединяется в понятие «художественной речи») имеет «внутреннее формальное строение». Однако, отмечает он, для поэзии всегда существенно необходима внешняя художественная форма. Это диалектическое единство и будет в дальнейшем положено в основу лингвистической поэтики и вместе с тем заложит принципы поэзии ХХ века. Но сам немецкий лингвист не идет далее сопоставления поэзии с музыкой и посвящает основное свое внимание историческим истокам прозы и поэзии, а также разграничению научного, философского и поэтического стиля в формах языка. Это направление будет продолжено его русским последователем А. Н. Веселовским в «исторической поэтике» и А. А. Потебней в «поэтике теоретической», в изучении «поэтического и прозаического мышления».
В одной из менее известных статей «О национальном характере языков» (1822) Гумбольдт опять-таки в русле романтической парадигмы уподобляет язык искусству [Humboldt 1963]. Даже чтобы понять искусство, которое осуществляется не через язык, язык необходим, пишет он. Язык, как и искусство, создает представление о невидимом. Поэтому, считает Гумбольдт, можно говорить о «языках искусства» (Sprache der Kunst)25. Но формула «язык искусства» претерпевает перестановку у Гумбольдта, когда он пишет в своих Aesthetische Versuche о поэзии как «искусстве языка» (die Kunst durch Sprache) [цит. по Шпет 2007: 367].
Гумбольдтианство принимает аналогию между языком и искусством, доводя ее до абсолюта в тезисе о том, что язык вообще является искусством и творчеством. Эта эволюция запечатлевается в формуле «язык как искусство» и «язык как творчество». В частности, трансфер этой идеи из немецкой в русскую концептуальную культуру заметен на примере названий трудов Г. Гербера (Die Sprache als Kunst, 1885), Д. Н. Овсянико-Куликовского (Язык как искусство, 1895), К. Фосслера (Sprache als Schöpfung und Entwicklung, 1905) и потебнианца А. Л. Погодина (Язык как творчество, 1913)26.
Романтическая идея о «языках искусства» возникает и у В. Беньямина – философа, далекого от гумбольдтианства, но не от романтической парадигмы в целом – в его эссе 1916 года «О языке вообще и языке человека». Исходя из романтистской мысли о том, что языковая сущность вещей есть их язык («то, что у духовной сущности сообщаемо, и есть ее язык»), немецкий философ приходит к рассуждению о языках искусства как сущностных языках вещей и материалов:
Существует язык скульптуры, живописи, поэзии. Подобно тому как язык поэзии в том или ином смысле имеет основание в человеческом языке имен, пусть и не только в нем, вполне мыслимо и то, что язык скульптуры или живописи имеет основание, например, в разнообразных языках вещей, что в них присутствует перевод языка вещей на бесконечно более высокий, хотя и принадлежащий, скорее всего, к той же сфере, язык. Речь идет о безымянных, неакустических языках, о языках из материала; при этом имеется в виду материальная общность вещей в их сообщении [Беньямин 2012].
Формы искусства трактуются как языки во взаимосвязи с природными языками. Беньямин особо подчеркивает знаковую природу языков искусства:
…очевидно, что язык искусства можно понять лишь в его глубочайшей связи с учением о знаках. Без последнего всякая вообще философия языка остается полностью фрагментарной, потому что связь между языком и знаком (связь между человеческим языком и письмом – лишь отдельный ее пример) изначальна и фундаментальна [там же].
Языки искусства. Символизм и авангард
Гумбольдтовская формула «язык искусства» (вариант: «язык как искусство») обрела новое хождение в текстах русского символизма и авангарда, уже в переосмысленном и более материальном виде.
Одновременно с ранними поэтическими опытами гумбольдтианец А. Белый теоретически осмысляет этот революционный поворот отношения к языку. В статье 1902 года «Формы искусства» читаем:
Перевод действительности на язык искусства <…> сопровождается некоторой переработкой. Эта переработка, будучи по своему внутреннему смыслу синтезом, приводит к анализу окружающей действительности. Анализ действительности необходимо вытекает из невозможности передать посредством внешних приемов полноту и разнообразие всех элементов окружающей действительности [Белый 1994: 90].
Поэзия понимается Белым как «узловая форма, связующая время с пространством» [там же: 91], соответственно, язык поэзии аккумулирует в себе элементы всех прочих форм искусства и знания.
Тезис о том, что «слово само по себе есть эстетический феномен» [Белый 2006а: 205], перенимается А. Белым у А. А. Потебни. Белый был внимательным читателем харьковского ученого-лингвиста и воспринял от него представление о языке как о носителе непрерывного творчества мысли. Поместив потебнианские положения в собственно эстетический контекст, Белый придал им определенную обоснованность, равно как и немало поспособствовал привнесению достижений лингвистической мысли в область художественного творчества. От декларирования автономности слова-символа Белый, вслед за Потебней, делает очередной теоретический шаг, состоящий в том, что «из объединения внешней формы и содержания провозглашается единство формы и содержания как в словесном, так и в художественном символе» [там же: 207]. Делая такой вывод из изложения идей Потебни, Белый предваряет и обосновывает один из главных лозунгов русского символизма. Одновременно закладывается основа для понимания лингвистической природы художественного знака – как синтетической формосодержательной единицы.
У М. Волошина встречаем формулу «язык искусства» в эссе «Индивидуализм в искусстве», где уподобляются и различаются язык обыденный и язык художественный:
В искусстве, кроме языка демотического, общедоступного, которым пользуются все, есть еще другой, скрытый язык – язык символов, образов, который в сущности и составляет истинный язык искусства независимо от подразделений искусства на речь, на пластику…
Мы все пользуемся этим языком бессознательно. Но у этого языка есть свои законы и уставы, настолько же нерушимые, как законы и уставы грамматической речи.
Этот гиероглифический язык искусства развивается медленно, постепенным накоплением и постепенным изменением, и внутреннее чувство художника так же протестует против варваризмов новых символов, как и против варваризмов языка [Волошин 1988: http].
Любопытно, что мысль русского поэта задолго предвосхищает на сущностном и даже на словесном уровне идею Ю. М. Лотмана об искусстве как «вторичной моделирующей (знаковой) системе»:
Канонические формы искусства в своей сущности сводятся к законам этого гиератического языка образов. И работа их развития идет так же бессознательно, как и работа над развитием языка.
Искусство в настоящее время может говорить только этим двухстепенным языком, и признание этого вторичного языка символов и образов есть уже признание канона [там же].
Художник и теоретик искусства В. Кандинский посвящает трактаты и статьи описанию грамматики нового языка искусства, каким для него выступает абстракция («язык форм и красок»):
И, разумеется, чем больше художник пользуется этими абстрагированными или абстрактными формами, тем свободнее он будет чувствовать себя в их царстве и тем глубже он будет входить в эту область. Также и зритель, которого ведет художник, приобретает все большее знание абстрактного языка и, в конце концов, овладевает им [Кандинский 1992: 55].
Живопись – это язык, который формами, лишь ему одному свойственными, говорит нашей душе о ее хлебе насущном; и этот хлеб насущный может в данном случае быть предоставлен душе лишь этим и никаким другим способом» [там же: 102].
Кандинский применяет понятие языка к разным искусствам: «язык музыки», «язык балетных движений», «живописный язык»27. Пользуется этой формулой и К. Малевич в трактате 1924 года:
Искусство всюду равно. Нет в Искусстве ни грамотного, ни неграмотного, народное творчество всегда будет свидетельством тому, что в Искусстве народ всегда грамотен был, есть и будет. Но никогда не будет грамотен по любому учебнику, никогда ему, народу, не будет противен язык Искусства, но всегда противна грамотность и учеба [Малевич 2014: 196].
Понятие «языка искусства» становится аксиомой для целого ряда авангардных художников, поэтов и теоретиков. Так, композитор А. Скрябин уподобляет законы музыки законам языка. Л. Сабанеев приводит по памяти мысль композитора, которая резонирует с воззрениями античных философов о подобии звуков речи и звуков музыки: «В языке, – говорил Александр Николаевич, – есть законы развития вроде тех, которые в музыке. Слово усложняется, как и гармонии, путем включения каких-то обертонов. Мне почему-то кажется, что всякое слово есть одна гармония» [Сабанеев 2003: 290]. Другой композитор русского авангарда, А. Авраамов, размышлял о «языках искусства» как о различных художественных методах:
Скажу просто: линия, звук, краски, объемные формы, все материалы, из которых искусство строит свои великолепные здания – суть лишь различные алфавиты, не более; когда хаос разложен достаточно глубоко, когда найдены законы, ими управляющие, они могут стать для человека-художника языком, на котором он сумеет передавать более тонкие движения духа, недоступные варварскому языку условных звукосочетаний, раз навсегда связанных с определенными «понятиями» <…> [Авраамов 2006: 458].
У поэта В. Хлебникова рождается целое концептуальное «гнездо» языков, образованных по единой схеме. В. П. Григорьев собрал целую коллекцию хлебниковских «образов языка»: это и «заумный язык», и «звездный язык», и «бурный язык», «личный язык», «нежный язык», «грубый язык», «безумный язык», «цельный язык», «числовой язык», «значковый язык», «язык зрения», «язык речей», «язык имен собственных», «священный язык язычества», «много-язык», «язык как пространство», «язык как время» [Григорьев 2000: 116–142].
Таким образом, поэтические, живописные и музыкальные практики нового русского искусства первых десятилетий ХХ века породили распространенное представление о том, что искусство оперирует некоторыми «языками», образы которых обусловлены конкретными художественными техниками (например, «язык красок» обусловлен у В. Кандинского живописной абстракцией). Понятие языка потребовалось художникам для формулировки и воплощения более строгих экспериментальных методов в художественной деятельности, чем это было принято в предшествующей эстетической парадигме.
Языки искусства. Поэтика и семиотика
Со стороны теории художественного слова возникают параллельно родственные термины «язык литературы» и «поэтический язык»28, вводятся понятия «эстетической» и «поэтической функции» языка. Так, Г. О. Винокур приравнивает понятия «язык в художественной функции» и «язык как материал искусства», «язык как произведение искусства»:
Но выражение «поэтический язык» может означать также язык в его художественной функции, язык как материал искусства, в отличие, например, от языка как материала логической мысли, науки. <…> Язык как произведение искусства прежде всего характеризуется тем, что он представляет собой внутреннюю форму, то есть нечто, само в себе, внутри себя обладающее некоторой содержательной ценностью [Винокур 1991: 50].
Здесь гумбольдтовская формула «язык как искусство», описывающая язык в целом, сужается по содержанию и уже отсылает к особому, «поэтическому» состоянию общенационального языка, трансформируясь затем в тезис о языке литературы как подъязыке естественного языка. Из терминологического аппарата лингвистики соответствие «язык – искусство» переносится и в смежную область искусствоведения. В трудах сотрудников ГАХН (ключевым из которых был В. Кандинский) частотны такие терминологические комплексы, как «грамматика искусства» и «язык вещей» (А. Г. Габричевский), «язык живописного произведения» (Л. Ф. Жегин), «язык портретного изображения» (А. Г. Цирес) и т. п.29 Представления об искусствознании как «грамматике» живописных и архитектурных стилей разделялись также швейцарскими и австрийскими искусствоведами, работавшими в начале XX века (Г. Вельфлин, А. Ригль и др.).
Следующим этапом эволюции концептуального комплекса «язык и искусство» стала трансляция формалистского понятия «поэтического языка» на аналитический аппарат пражских структуралистов (в первую очередь, Я. Мукаржовского посредством Р. О. Якобсона) и позднее на метаязык всей европейской, американской и русской семиотики. Искусство было признано семиологическим фактом, а художественные языки разных видов искусств – знаковыми системами, устроенными по типу языка. Отсюда такие термины, как «театральный язык» (Ю. М. Лотман), «язык кино» (Б. М. Эйхенбаум), «язык архитектуры» (У. Эко), «язык музыки» (Д. Кук), «язык моды» (Р. Барт), «искусство как язык религии» (В. Вейдле) и множество подобных. Искусствовед Э. Гомбрих в книге «Искусство и иллюзия» (1960) пользуется термином «лингвистика художественного образа», строя ее по аналогии с лингвистикой языкового знака. Кстати, он же настаивал на мысли о том, что выражение «язык искусства» – больше, чем просто научная метафора. В обобщенном виде эта эволюция была резюмирована в книге американского теоретика Н. Гудмена «Языки искусства» (Languages of Art, 1968), в которой титульное словосочетание используется уже в рамках строгой аналитической философии.
В русской науке апогеем семиотического подхода к искусству стали концепции Ю. С. Степанова и Ю. М. Лотмана. Первым была подведена черта под параметрами общности теории языка и теории искусства [Степанов 1975]. Второй основал (совместно с Вяч. Вс. Ивановым, В. Н. Топоровым и др.) целую школу изучения искусства как знаковой системы по типу языка. Заголовок одной из глав его книги «Структура художественного текста» (1970) – «Искусство как язык» – зафиксировал еще одно превращение интересующей нас формулы, инвертировав прежнее «язык как искусство»30. Заметим, что до Лотмана формула «искусство как язык» (art as language) была использована в названии одной из глав книги британского философа Р. Дж. Коллингвуда «Принципы искусства» (1938).
Не проходит мимо проблемы соотношения языка и искусства и такой важнейший мыслитель, как Э. Кассирер, посвятивший этим вопросам цикл лекций, изданных под названием «Язык и искусство». Он рассматривает язык и искусство как две самоценные человеческие «функции» и «энергии», участвующие почти на равных в наших перцепции, познании и интуиции. Обе обладают продуктивной и конструктивной ценностью. Если язык представляет собой «концептуальную объективизацию» (он оперирует «концептами»), то искусство – «объективизацию созерцательную» (оперирует «перцептами»). Соответственно, и «поэтический язык» радикально отличается от «концептуального языка», хотя, по мнению немецкого философа,
символизм языка не является чисто семантическим, но в то же время и эстетическим. Не только в языке поэзии, но и в обыденном языке этот эстетический компонент нельзя исключать [Cassirer 1979: 188–189].
Таким образом, Кассирер склоняется к тем позициям, согласно которым эстетическое присутствует в языке не только художественном, но и общеразговорном. Однако, в отличие от тех, кто склонен чрезмерно эстетизировать язык, он четко различает эстетическое и внеэстетическое. Искусство помещает язык в эстетическую ситуацию:
Как только мы вступаем в эстетическую сферу, все наши слова, кажется, вдруг меняются. Они не только значимы в абстрактном смысле, а, так сказать, слиты и сплавлены со своими значениями [Cassirer 1979: 159].
C другой стороны, искусство можно рассматривать по аналогии с языком:
В каком-то смысле любое искусство можно назвать языком, но это язык в совершенно особом смысле. Это язык не вербальных символов, а символов, воспринимаемых непосредственно [ibid: 186].
Таким образом, представление о том, что искусство является языком (то есть знаковой системой), стало общепринятым в парадигме структурализма и семиотики. Эту доксу признавали даже философы, далекие от лингвистики, как, например, Дж. Дьюи, подчеркивавший, впрочем, непереводимость языка одного искусства на язык другого:
Поскольку предметы искусства выразительны, они являются языком. Точнее, многими языками. Ведь у каждого вида искусств свой материал, и этот материал приспособлен для какого-то одного вида коммуникации. Каждый материал говорит нам что-то, что нельзя высказать точно так же или в той же мере на другом наречии. Потребности повседневной жизни отдают преимущественную значимость только одному режиму коммуникации – речи. Это обстоятельство, к сожалению, повлекло за собой распространенное убеждение, что значения, выраженные в архитектуре, скульптуре, живописи и музыке, нельзя перевести на словесный язык с малыми потерями. В сущности, каждое искусство говорит на особом языке, передающем то, что нельзя высказать на другом языке, и в то же время остающемся тем же самым31[Dewey 1994: 211].
В английском тексте Дьюи использует сразу несколько наименований со смыслом «язык». Во-первых, здесь утверждается, что искусство является language. К 1934 году, когда был написан этот трактат, под этим понятием однозначно понималась «система знаков». Далее «язык искусства» противопоставляется другим «наречиям» (tongues) – собственно, национальным вербальным языкам. В отличие от повседневной «речи» (speech), искусство вступает в иной режим коммуникации, что позволяет ему как «языку» быть переводимым на «язык словесный». Идея взаимного перевода искусств ставится тут на рельсы семиотической терминологии. Кроме того, подчеркивается, что каждый из видов искусств обладает собственным «особым языком» (idiom).
Искусство и язык. Концептуальное искусство
Тезис о несовместимости языка слов и языка других медиа был опровергнут самой практикой современного искусства, как раннего авангарда начала XX века, так и более позднего концептуального искусства середины XX века. Само название движения концептуализма стало результатом трансфера аналитического инструментария в математической логике и философии языка в область художественного перформанса (см. об этом подробнее в нашей книге [Фещенко 2018]). Искусство концептуализма уподоблялось практической философии, а в отдельных художественных группах – действующей философии языка, как, например, в практике британской группы концептуальных художников «Искусство и язык» (Art & Language). Органом и одновременно площадкой самовыражения для этой группы стал в 1960‐е годы журнал «Искусство-язык» (Art-Language). В нем рассматривались вопросы, связанные с производством искусства, причем в стремлении перейти от «неязыковых» форм искусства, таких как живопись и скульптура, к произведениям теоретического характера, к лингвистике и прагматике самого высказывания об искусстве. Название журнала само по себе – новая формула и новый образ языка. Art-Language можно понимать и как «художественный язык» («язык искусства»), и как «язык-искусство», как дефисное образование и неделимый терминокомплекс, в котором язык выступает перформативным инструментом художественного жеста. Такая стратегия продолжается и во многих новейших современных практиках поэзии и перформанса, например в деятельности петербургской арт-группы «Транслит» или у украинского художника Р. Минина, строящего свои полотна из созданных им квазиязыковых знаков, читающихся одновременно как текст и как визуальный образ. Таким образом, методы работы с языком в семиотике и лингвистической прагматике переносятся в сферу художественного дискурса.
2. Концепции языка как творчества: от В. фон Гумбольдта до Н. Хомского и современной лингвистики
В предыдущем параграфе мы провели экскурс в историю концептуального комплекса «язык – искусство». Помимо этого, центрального для нас комплекса, необходимо иметь в виду и сопутствующие концепту «искусство» эстетические понятия. Таким понятием, несомненно, является «творчество». Рассмотрим далее, как развивается в истории лингвистических учений концептуальный комплекс «язык – творчество». В этом параграфе мы проследим, как в логике развития лингвистики осмыслялось понятие творческого в зависимости от определенных парадигм и подходов в науке о языке.
Понятие языка как творчества у В. фон Гумбольдта
Впервые творческое понимание языка заявляет о себе у основоположника науки о языке В. фон Гумбольдта, учение которого во многом проявляет черты романтизма как идейной парадигмы культуры. Поскольку дальнейшее развитие русской лингвистики связано именно с гумбольдтианской традицией деятельностного понимания языка32, имеет смысл остановиться в общих чертах на положении немецкого классика языкознания о разграничении языка как статической системы (эргон) и языка как деятельности (энергейя).
Важно, в каком контексте высказана эта знаменитая мысль В. фон Гумбольдта. Из биографических свидетельств известно, что на мысль о «языке как деятельности» его вдохновили, с одной стороны, штудии по баскскому языку с его оригинальной эргативной структурой, а с другой, чтение Э. де Кондильяка и Д. Дидро [Aarsleff 2002: 202]. В частности, на него повлиял кондильяковский анализ измененного порядка слов в поэтических текстах («Ода» Горация), создающего эстетический эффект «энергичности». Идея «энергии» в поэзии была на слуху в эпоху Просвещения (о ней пишет и Дидро), в частности статья «Энергия» появилась в «Encyclopédie méthodique. Grammaire et littérature» (1782) под авторством ученого-энциклопедиста Н. Бозе. Энергия здесь определяется следующим образом: «Energie est cette quantité qui, dans un seul mot ou dans un petit nombre des mots, fait appercevoir ou sentir un grand nombre d’ idées»33 [цит. по Aarsleff 2002: 202]. В понятие энергии вкладывается здесь смысл наибольшей наполненности слова идеями.
Сама идея энергии, по всей видимости, подсказана Гумбольдту именно эстетическим контекстом. Однако уже в его собственных текстах она приобретает более абстрактный и общий характер. Сначала она выражается с использованием немецких терминов Erzeugtes и Erzeugung: «Язык следует рассматривать не как мертвый продукт (Erzeugtes), но как созидающий процесс (Erzeugung)» [Гумбольдт 2000: 69]. В основу антиномии кладутся признаки «постоянное – преходящее», «предельность – беспредельность», «законченное – длящееся», «замкнутое – открытое», «мертвое – живое», «мумиобразное состояние в письме – воссоздание в живой речи» [см. Постовалова 2014: 93–113].
Оппозиция «эргон – энергейя» становится центральным противопоставлением в его концепции, получая выражение в его знаменитой формуле «Язык есть не продукт деятельности (ergon), а деятельность (energeia)». Несмотря на диалектическое противоположение, акцент делается на энергейе. При этом нужно иметь в виду, что определение языка как энергейи относится Гумбольдтом по преимуществу к генетическому плану, то есть к языку в моменты его зарождения:
Его истинное определение может быть поэтому только генетическим. Язык представляет собой постоянно возобновляющуюся работу духа, направленную на то, чтобы сделать артикулируемый звук пригодным для выражения мысли [Гумбольдт 2000: 69].
Рассуждения о первоистоках языка характеризуют его как типичного романтического мыслителя, а его соображения о динамизме и созидательности возникновения языка соотносятся с другими романтическими мифами о языке. Например, с руссоистским мифом, в котором тоже используется категория энергии. У Ж.‐Ж. Руссо мы находим мысль об «энергичности» первоязыка:
Первый язык человека, наиболее всеобщий и наиболее энергичный, – единственный язык, который был нужен человеку еще до того, как возникла необходимость в чем-то убедить собравшихся вместе людей, – это крик самой Природы… [цит. по Деррида 2000: 411].
Правда, в отличие от Руссо, Гумбольдт видит движущую силу языкового развития не в природе, а в человеческом духе.
Среди всех частных противоположений, связанных с оппозицией «эргон – энергейя», особый интерес для нашего дальнейшего изложения, то есть в свете русского гумбольдтианства, ориентированного на поэтику, представляет антиномия творческого – нетворческого в языке. Гумбольдт видит в энергейе творческое начало в языке, но что именно это означает в его текстах? Достаточно привести список сочетаний из его трудов, в которых содержатся лексемы «творчество» и «языкотворчество», чтобы задуматься о постоянстве и значимости этой категории в его концепции:
языковое творчество
языкотворческая сила человечества
развитие творческой силы
духовная деятельность в языковом творчестве
акты языкотворческого духа
всеобщее языкотворческое начало в человеке
языкотворческий порыв
языкотворческое сознание
разумно творящие силы
язык в вечном творении
самодеятельность творческой силы языка
Возникает вопрос: что именно вкладывается здесь в понятия творчества и творческого, и чему именно это противопоставляется? Общая модель такова: есть человечество, народы, обладающее духом, духовной деятельностью, сознанием, неким всеобщим началом, силами и порывами, которые в совокупности «творят» язык. При этом язык имеет свойство «твориться» самодеятельно, то есть бессознательно. Согласно Гумбольдту, языки неразрывно связаны с внутренней природой человека и скорее исторгаются из нее самодеятельно, чем производятся ею произвольно [см. Постовалова 2014: 77]. Гумбольдт пишет о «самостоятельной деятельности», рассуждая, например, о превращении звука в членораздельный, когда он становится самостоятельно творящим началом. Творцом может быть также и отдельный индивидуум, поскольку языки, являясь творением народов, могут порождаться только в отдельном человеке. Итак, в качестве субъекта творческой деятельности могут выступать: человечество, народ, отдельный человек, сила духа и – косвенным образом – сам язык. Творческое ассоциируется с продуктивной деятельностью, связанной с привнесением нового, тогда как нетворческое – с пассивной, репродуктивной деятельностью по воспроизведению наличествующего в системе по готовым стандартам.
Понимание языка как энергейи, как незамкнутой, динамической системы и нового, творческого в языке взаимно определяют друг друга в концепции В. фон Гумбольдта. При этом он считает, что творчество (порождение, созидание) возможно только в первоначальном изобретении языка:
Подлинное и полное творение звуковой формы могло относиться только к первым шагам изобретения языка, то есть к тому состоянию, которое нам неизвестно и которое мы предполагаем как необходимую гипотезу [Гумбольдт 2000: 96].
В иных случаях он говорит о «преобразовании» или «возрождении». Стало быть, постулируя творческое начало в языке, он пытается между тем разграничить области и степени его присутствия. Что нельзя сказать о большинстве его последователей как на Западе (Б. Кроче), так и в России (А. Л. Погодин, Д. Н. Овсянико-Куликовский), полагавших, что весь язык представляет собой творчество. С другой стороны, в гумбольдтовских размышлениях о поэзии как раз категория творчества отсутствует, что было бы естественно ожидать. Однако эту более логичную связь станут отмечать уже позднейшие последователи-гумбольдтианцы и сами поэты, инспирированные мыслью немецкого лингвиста.
Языкотворческие концепции в русском гумбольдтианстве, символизме и футуризме
Как было показано, В. фон Гумбольдт первым из философов языка поднимает вопрос «возможно ли творчество в языке», на который дальнейшая лингвистика будет давать различные ответы. Но проблема заключается в том, что понятие творчества могло трактоваться широко и по-своему каждым мыслителем. Оно употребляется, как правило, не в качестве термина, а как само собой разумеющееся представление с более-менее расплывчатым смыслом. Так, для А. А. Потебни, воспринявшего идеи Гумбольдта через посредство интерпретаций Х. Штейнталя, язык есть «полнейшее творчество, какое только возможно человеку» [Потебня 1999: 195], а искусство – «то же творчество, в том самом смысле, в каком и слово» [там же: 163]. При этом Потебня применяет тезис своего немецкого учителя об энергейе и объясняет динамизм поэтического слова коммуникативным актом:
В искусстве каждый случай понимания художественного образа есть случай воспроизведения этого образа и создания значения. Отсюда вытекает, что поэзия есть сколько произведение, столько же и деятельность [Потебня 2006: 196].
Очевидно, что, исходя из гумбольдтовского тезиса о языке как двухаспектном – статически-динамическом – начале, русско-украинский лингвист уравнивает язык и поэзию в их творческих потенциях производства смысла и образности.
Для последователя А. А. Потебни – харьковского лингвиста А. Л. Погодина – язык тоже есть постоянное творчество мысли, как выражение самосознания человека [Погодин 1913]. Но уже Д. Н. Овсянико-Куликовский, другой представитель русского гумбольдтианства, выдвигает более предметную трактовку «языкового творчества» как творчества художественного, рассматривая искусство как самостоятельную функцию духа, как «творчество мысли». Поэзия, согласно ему, есть «энергия мысли», направленная «куда-то выше речи» [Овсянико-Куликовский 2006: 212]. Заметим, однако, что понятие энергии здесь имеет иной смысл, пропущенный через физикалистские теории того времени [см. Simonato 2005].
Эту мысль развивает еще один ученик Потебни А. Г. Горнфельд в отмеченной известным психологизмом теории толкования художественного произведения, где творчество – это уже часть процесса восприятия («творчество истолкования», «творчество воспринимающих»):
Как язык, по бессмертному определению В. Гумбольдта, есть не ergon, a energeia, не завершенный капитал готовых знаков, а вечная деятельность мысли, так и художественное произведение, законченное для творца, оно есть не произведение, а производительность, долгая линия развития, в которой само создание есть лишь точка, лишь момент; разумеется, момент бесконечной важности: момент перелома. Мы знаем уже, что нет в искусстве, как и нигде нет, творчества из ничего; мы знаем, что если традиция без творчества, ее обновляющего, бессмысленна, то творчество вне традиции просто немыслимо [Горнфельд 2006: 402].
Перенося тезис об энергийности языка в плоскость толкования художественных произведений, Горнфельд сделал попытку утвердить его в литературоведении и литературной критике.
Для А. Белого, считавшего себя преемником Гумбольдта и Потебни в поэтике, идея языка как творчества лежит в основе символистского учения о слове. По значению для становления духовной культуры язык столь же важен, согласно Белому, как и миф, а для поэтического творчества языкотворчество первично по отношению к мифотворчеству. В статье «Магия слов» он пишет, что «поэзия прямо связана с творчеством языка; и косвенно связана она с мифическим творчеством» [Белый 1994: 141]. Целью поэзии является «творчество языка; язык же есть само творчество жизненных отношений» [там же: 135]. Для Белого важен «культ слова», который он считает «деятельной причиной нового творчества» [там же: 134]. Более того, он подчеркивает антропологическое и теургическое значение языкотворчества. Этим отношением А. Белый отличается от других символистов – для Вяч. Иванова, например, более важна мифургическая составляющая поэзии, для В. Брюсова – образно-метафорическая. Однако все трое ведущих поэтов русского символизма основываются на принципах, сформулированных Гумбольдтом и русским гумбольдтианством их времени.
А. Белый отталкивается от гумбольдтовских идей, преломленных более, по его мнению, рациональными взглядами Потебни:
Язык с точки зрения Гумбольдта и Потебни есть творчество индивидуальное, переходящее в творчество индивидуально-коллективное и стремящееся расшириться универсально; язык есть создание «неделимых», но предполагающее творчество бесконечности поколений и зависящее от преломления его другими <…> Потебня предостерегает против понимания антиномий Гумбольдта как логических ошибок: «решить вопрос о происхождении языка и отношении его к мысли, говорит он вместе с Гумбольдтом, значит примирить существующие в языке противоречия» <…>. Эти противоречия метафизические понятия организма и им аналогичные примирить не могут. Гумбольдт возводит дух и язык (понимание и речь) к высшему началу; дуализм языка предопределен не данным единством. Тут кончается по Гумбольдту дальнейшее исследование; тут начинается оригинальная теория Потебни [Белый 2006а: 201–202].
Вклад Потебни в развитие теории языка и теории творчества Белый объясняет тем, что харьковский лингвист включал грамматику и языкознание в эстетику как общую науку о формах. Так, согласно Белому, в рядах ценностей культуры появляется новый: ряд словесных ценностей. Одновременно подчеркивается значение Потебни для теории символизма, теории творчества и теории знания.
Другой русский поэт-символист и теоретик искусства Вяч. Иванов также пытался представить А. А. Потебню первым теоретиком символизма и «могущественным союзником» поэтов-символистов. Для Иванова был ценен тот «языкотворческий символизм», который глава Харьковской лингвистической школы утверждал в своем анализе природы слова. В статье 1918 года «Наш язык» поэт апеллирует и напрямую к идеям немецкого классика:
Язык, по глубокомысленному воззрению Вильгельма Гумбольдта, есть одновременно дело и действенная сила (ἐργον и ἐνέργεια); соборная среда, совокупно всеми непрестанно творимая и вместе предваряющая и обусловливающая всякое творческое действие в самой колыбели его замысла; антиномическое совмещение необходимости и свободы, божественного и человеческого; создание духа народного и Божий народу дар [Иванов 1994: 396].
Хотя Иванов обратился к наследию гумбольдтианства только на более поздних этапах своего становления (после революции 1917 года), для обоснования его символистской доктрины идея Гумбольдта о творческом начале в языке и первоначальной органичности языка во всех его элементах послужила верным лингвофилософским ориентиром.
Еще один мэтр русского символизма В. Брюсов заручался поддержкой гумбольдтовского учения в своем обосновании «синтетической поэзии». Отмечая, что искусство есть акт познания, он видел в познании конечную цель искусства, совпадающую, с его точки зрения, с целью науки:
По отношению к поэзии это вскрыто (школой Вильгельма Гумбольдта) из аналогии поэтического творчества и творчества языкового. Создание языка было и остается процессом познавательным. Слово есть первичный метод познания. Первобытный человек означал словом предмет или группу предметов, называл их, чтобы выделить из бессвязного хаоса впечатлений, зрительных, слуховых, осязательных и иных, и через то знать их. Назвать – значит узнать и, следовательно, познать. Совершенно параллелен, аналогичен этому процесс создания поэтического произведения, художественное поэтическое творчество [Брюсов 1925: 9].
Опять же, как и в случае с А. Белым и Вяч. Ивановым, самой актуальной идеей гумбольдтианства оказывается для Брюсова концепция языка как творчества.
Можно констатировать, что русские поэты-символисты в целом обращаются к гумбольдтианско-потебнианской деятельностной концепции языка с целью утверждения языка как энергийной сущности в поэтической практике. Если для А. Белого гумбольдтовское учение в интерпретации Потебни становится базисом его лингвофилософской концепции символа, а для Вяч. Иванова «языкотворческий символизм» по Гумбольдту – Потебне служит одним из главных ориентиров его филологических взглядов, то для В. Брюсова гумбольдтовская идея языка как творческого начала используется как аргумент в его теории «научной поэзии». Но на символистах следы гумбольдтовского влияния не прекращаются, обнаруживаясь и далее в других, уже постсимволистских течениях.
В поэзии русских футуристов гумбольдтовская идея энергейи как творческого, изобретательского начала в языке, перерастает в идею о преобразовательной роли языка. Гумбольдтианство в индивидуальной поэтической системе par excellence представлено в творчестве В. Хлебникова. Уже первый элемент поэтики футуризма в хлебниковском варианте – так называемое самовитое слово (слово как таковое) или самовитая речь, – которое является, с одной стороны, развитием символистского понятия «автономное слово» (ср. у С. Малларме понятие «самородного слова»), а с другой – согласуется с одной из главных идей В. фон Гумбольдта о «самодеятельной силе языка», когда язык черпает свои ресурсы и возможности из самого себя, особенно в моменты становления языка. Хлебниковский проект – как бы поэтическая реконструкция языка во время его возникновения, то есть первотворчества, по Гумбольдту (о языковой реализации хлебниковского проекта см. в нашей работе [Фещенко 2009]).
Г. О. Винокур отмечал эту черту футуристического языкотворчества, говоря о том, что футуристы первые сознательно приступили к языковому изобретению [Винокур 1990]. Словотворчество, по словам самого Хлебникова из его поэтической декларации «Наша основа», есть
враг книжного окаменения языка и, опираясь на то, что в деревне около рек и лесов до сих пор язык творится, каждое мгновение создавая слова, которые то умирают, то получают право бессмертия, переносит это право в жизнь писем. <…> Словотворчество не нарушает законов языка <…> Если современный человек населяет обедневшие воды рек тучами рыб, то языководство дает право населить новой жизнью, вымершими или несуществующими словами, оскудевшие волны языка. Верим, что они снова заиграют жизнью, как в первые дни творения [Хлебников 2005: 72].
Гумбольдтовская идея «языкотворчества» обретает в поэтической концепции Хлебникова более конкретный смысл – не просто творчества в языке, а творчества языка и языков, пусть речь и идет о языках воображаемых, изобретаемых и поэтических, создаваемых с чисто эстетическими целями.
Творческое отношение Хлебникова к слову запечатлено в его формуле «Слово – пяльцы, слово – лен, слово – ткань». В переводе на язык лингвистики значение этой формулы могло бы быть таковым: слово не только готовый продукт исторического развития или нечто кем-то произведенное и предназначенное для использования («ткань»), не только материал для поэтических и иных преобразований («лен»), но и инструмент этих преобразований («пяльцы»). Характерно, что на первом месте перечисления стоит именно творческое отношение к слову. Предметом поэзии и теории Хлебникова стало «рождающееся слово». Тезис Гумбольдта «язык есть „энергейя“, а не „эргон“ (т. е. деятельность, а не продукт)», отмечает исследователь творчества «русского будетлянина»,
получает в тезисе поэта существенное расширение и одновременно конкретизацию с учетом развития языка как орудия образной мысли и с особым вниманием именно к слову как важнейшему средству собственно поэтической деятельности и всякого творческого отношения к языку [Григорьев 2000: 66–67]34.
Заметим также, что не столь явное на поверхности гумбольдтианство Хлебникова – при ярко выраженном лейбницианстве – было вполне очевидно для его ближайшего литературного окружения. Так, Б. Лившиц свидетельствовал:
Гумбольдтовское понимание языка как искусства находило себе красноречивейшее подтверждение в произведениях Хлебникова, с той только потрясающей оговоркой, что процесс, мыслившийся до сих пор как функция коллективного сознания целого народа, был воплощен в творчестве одного человека [Лившиц 2000: 368–369].
Творчество в языке: взгляд лингвистов и философов языка ХХ века
Словотворчество футуристов, трактуемое в гумбольдтовских терминах, нашло отражение в концепции П. А. Флоренского об антиномии языка. Антиномия языка, согласно ему, это равновесие двух начал – эргона и энергейи, и это равновесие должно соблюдаться в языковом творчестве. Флоренский осознавал попытки авангардных экспериментов как кризисное явление в эволюции языка. С одной стороны, он критикует искусственные языки, в большом количестве создаваемые в ту эпоху. Пафос таких философских языков – рациональность, противостоящая природе Логоса:
попытка творить язык, когда он не творится, а сочиняется, – разлагает антиномию языка. Живое противоречие диссоциируется; тогда получает перевес либо сторона ergon, либо сторона energeia [Флоренский 2000а: 153–154].
Другой путь «порчи языка», с точки зрения Флоренского, следует от энергетической природы языка:
Язык стихиен, следовательно, неразумен, и потому надо сочинить свой язык, разумный, – гласит неверие в разумность Слова; язык разумен, следовательно – безжизнен и бессуществен, и потому надо извести из недр своих – новый язык, нутряной, существенный, заумный, – требует неверие в Существенность Слова [там же: 155].
Здесь – полемика с языковыми экспериментами футуристов, подвергающих слово лабораторной обработке в поисках нового, более совершенного языка. Характерно для нас здесь не негативное отношение Флоренского к экспериментально-языковым процессам, а сам факт осмысления богословом и философом авангардно-поэтического творчества.
У философа Г. Г. Шпета, тоже придерживающегося гумбольдтианской линии в философии языка, возникает идея о творчестве как отборе языковых средств. Для него, в отличие от других последователей немецкого ученого, творение осуществляется не вообще в языке, а в процессе воплощения смысла посредством преобразования уже наличных языковых форм:
Смысл жаждет творческого воплощения, которое своего материального носителя находит если не исключительно, то преимущественно и образцово в слове. Именно развитие и преобразование уже данных, находящихся в обиходе форм слова, и есть творчество, как логическое, так и поэтическое [Шпет 1927: 45].
При этом Шпет признает за Гумбольдтом идею о давлении готового языка, традиции, на творческое сознание, ср. у Гумбольдта: «Тем же самым актом, посредством которого человек из себя создает язык, он отдает себя в его власть» [цит. по Рамишвили 2000: 15]. Следуя потебнианской линии в философии слова, русский философ утверждает необходимость особого творческого акта для конструирования смыслового содержания слова как предпосылки для сообщения и понимания. Таким образом, Шпет противопоставляет творческое репродуктивному, в согласии с духом учения немецкого классика. Шпет восполняет ту логическую процедуру, которая не была доведена до завершения Гумбольдтом, – применение понятия внутренней формы как носителя энергейи к области поэтического творчества, поэтического языка. Разграничивая логическую внутреннюю форму и поэтическую (в «художественно-поэтическом творчестве»), Шпет постулирует в последней идею о целемерном созидании:
Произведение есть продукт некоторого целемерного созидания, т. е. словесного творчества, руководимого не прагматическою задачею, а внутренней идеей самого творчества, как sui generis деятельности сознания [Шпет 1927: 142]35.
Представитель другого лагеря русской философии языка начала ХХ века В. Н. Волошинов основывает свою концепцию языка как творчества на критике школы «индивидуалистического субъективизма» с позиции социологического подхода. Согласно этому подходу, творческая природа слова реализуется только в процессе социальной коммуникации:
Слово – это костяк, который обрастает живой плотью только в процессе творческого восприятия, следовательно, только в процессе живого социального общения [Волошинов 1926: 260].
В результате взаимодействия человека с социумом возникают, по Волошинову, специальные виды «идеологического творчества»:
Творчество языка не совпадает с художественным творчеством или с каким-нибудь иным специально-идеологическим творчеством [Волошинов 1928: 149].
Критикуя положения потебнианской школы, рассматривающей творчество языка как аналогичное художественному творчеству, Волошинов решительно разводит эти понятия и утверждает социальный (идеологический) фактор в различных видах «творчеств». Аналогичный подход, уже с позиции соссюровской дихотомии «язык – речь», развивает и М. М. Бахтин, отрицая возможность «языкового творчества» в пользу «творчества речевого».
В других социолингвистических теориях 1920–1930‐х годов это положение доводится до экстремума, вплоть до критики самого понятия «языкового творчества». Лингвисты, наследующие учению Ф. де Соссюра, склонны отвергать возможность творческого влияния индивида или коллектива на эволюцию языка (если не считать творчеством любое объективное изменение порядка вещей). Соссюр считал, что язык конвенционален, и эти конвенции встроены в язык таким образом, что система никак не может быть поколеблена творческим актом речи. Поэтому в рамках таких теорий принято говорить не о языковом, а о речевом творчестве. По Соссюру, случайное творчество индивидуума в сфере речи способно запустить процесс новообразования в языке, но само по себе подвергнуть язык изменению не может:
…Новообразование, которое является завершением аналогии, первоначально принадлежит исключительно сфере речи; оно – случайное творчество отдельного лица <…> Все, что входит в язык, заранее испытывается в речи: это значит, что все явления эволюции коренятся в сфере деятельности индивида [Соссюр 1977: 199].
Советская исследовательница-лингвист Р. О. Шор с твердых соссюрианских позиций возражает против того представления, что языковое творчество есть достояние индивида:
…вся речевая деятельность индивида протекает в рамках передаваемого ему коллективом языка; <…> новые формы, создаваемые языковым творчеством индивида, слагаются на материале и по образцам этого языка [Шор 1926: 43].
Таким образом, русская лингвистика, ориентированная на социологический подход, будет отказываться от концепции языка как творчества. Исключение из этой тенденции представляют, впрочем, теории двух крупнейших лингвистов ХХ века – В. В. Виноградова и Р. О. Якобсона, – в равной мере учитывающих как гумбольдтианскую традицию, так и новое соссюрианское учение.
В. В. Виноградов рассматривает «индивидуально-языковое и литературно-художественное творчество» в рамках «социально-языковых систем». И он уже оперирует понятием творчества на основе соссюровского различения речи и языка. Язык литературного произведения, согласно виноградовской концепции, помещается в сферу parole индивидуально-языкового творчества. Последнее же не возникает само по себе, а только в результате творческого усвоения коллективного языка:
<…> языковое творчество личности – результат выхода ее из всех сужающихся концентрических кругов тех коллективных субъектов, формы которых она в себе носит, творчески их усваивая [Виноградов 2006: 249].
Сфера parole служит местом творческого раскрытия языковой личности. Творческими свойствами, согласно концепции Виноградова, наделяется не язык как социальное явление, а речь как реализация языковой личности. При этом художественная речь, преломляемая личностными формами, признается преимущественной областью индивидуально-речевого творчества.
О «языковом творчестве» рассуждал и Р. О. Якобсон в связи с традицией гумбольдтианства. Субъект, говорящий на языке как социальной системе, считает он, осуществляет индивидуальный творческий акт. И наоборот:
…конвенция, язык как социальная ценность реализуется только в индивидуальной речи, в индивидуальном уникальном творческом акте, который сохраняет язык, обеспечивает непрестанное действие языковой конвенции и одновременно в чем-то ее необходимым образом изменяет, ибо творческий акт всегда привносит нечто новое, то есть непременно нарушает эту конвенцию [Якобсон 2011: 34].
Творчество в языке, следовательно, связывается им с нарушением и преодолением конвенции системы. В понятии языкового творчества заключена, согласно Якобсону, не только антиномия языка и речи, но также дихотомия «норма (конвенция) – отклонение (нарушение конвенции)»:
В действительности и язык как социальная ценность, язык в его социальном аспекте является одновременно предметом, объектом, ergon, – и творчеством, энергией, и в то же время обе эти ипостаси объединяет язык отдельной личности – с одной стороны, это индивидуальное достояние, индивидуальная застывшая норма, с другой стороны – неповторимый акт творчества [там же: 45].
Таким образом, в якобсоновской концепции линия Гумбольдта и линия Соссюра (с которой он, впрочем, постоянно дискутировал) скрещиваются, и понятие языка как творчества получает новое наполнение, заимствующее черты обеих традиций.
Гумбольдтовская идея языка как творческого процесса нашла оригинальное продолжение в современном Р. Якобсону учении М. Хайдеггера об истоке художественного творения [Хайдеггер 1993а]. Согласно этому учению, в художнике – исток творения, а в творении – исток художника. Но в поэтическом творчестве еще одним источником творения выступает язык. Х.‐Г. Гадамер так резюмирует хайдеггеровскую идею:
Творение языка – это изначальнейшее поэтическое творение бытия. Мышление, способное мыслить все искусство как поэзию, раскрывая языковое бытие всякого художественного творения, само еще находится на пути к языку [Гадамер 1993: 132].
Согласно этой концепции, творческий процесс в языке представляет собой внутренний саморазвивающийся и рефлексивный процесс, своего рода творчество в квадрате.
На В. В. Виноградове и отчасти Р. О. Якобсоне в русской науке и на М. Хайдеггере с Х.‐Г. Гадамером в немецкой философии гумбольдтианская линия творческого подхода к языку приостанавливается, уступая место более актуальным во второй половине ХХ века структуралистским концепциям, согласно которым язык изучается не как процесс, а как самозамкнутая система и механизм воспроизводства языковых элементов и структур (см. об этом [Алпатов 2010]). Однако в определенный момент структурализм все же вновь поворачивает свой взгляд на В. фон Гумбольдта.
Так, Н. Хомский, в этом отношении неявно ориентирующийся на немецких романтиков, языковую способность трактует как творческий процесс порождения языковых форм, которые производятся или интерпретируются говорящими впервые. Эпитет «творческий» при этом обозначает у него свободу и множественность целей языкового употребления:
Человек как вид наделен совершенно специфической особенностью, он обладает уникальным типом умственной организации, которую нельзя объяснить строением периферийных органов или связать с общими особенностями его интеллекта; она находит свое проявление в том, что можно назвать «творческим аспектом» повседневного пользования языком, когда обнаруживаются такие его свойства, как безграничная множественность целей и свобода от контроля посредством внешней стимуляции [Хомский 2005: 25]36.
С другой стороны, в рамках советского языкознания к 1970‐м годам тоже вновь проступают черты деятельностного и энергийного подхода. На нем отчасти основано учение о языковых моделях А. Ф. Лосева [Лосев 1968], обращавшегося к гумбольдтианским идеям еще в своей ранней «Философии имени». К 1980‐м годам в академическом языкознании возникает термин «лингвокреативное мышление» [Серебренников 1988]37. Некоторые постулаты деятельностной лингвистики развивает В. В. Налимов в своей «вероятностной модели языка» [Налимов 2003], а переводчик Гумбольдта на русский Г. Рамишвили разрабатывает свое оригинальное учение о языке как творческом процессе [Рамишвили 1978].
Обозревая различные теории языка как творчества в мировой лингвистике, И. В. Зыкова делает важный вывод:
Они содержат множество важнейших и весьма тонких и проникновенных наблюдений над внутренними процессами и механизмами создания и функционирования языка, над ролью человеческого фактора в формировании языковой системы, полученных на разнородной (философской, психологической, семиотической и др.) «почве». Выработанное в них <…> научное знание составляет глубинно-сокровенную основу целостного содержания понятия лингвокреативности [Зыкова 2017: 597].
Справедливо и ее замечание о том, что эти теории укладываются в период, который можно условно обозначить «Гумбольдт – Хомский». Это положение совпадает с данными нашего собственного экскурса в историю идеи языка как творчества.
В 1990‐е годы самым заметным проявлением тенденции к изучению лингвокреативности стала концепция Б. М. Гаспарова [1996] о «языковом существовании», уже в рамках теории коммуникации. Также можно упомянуть работы английского лингвиста Р. Картера, рассматривающие различные проявления креативного мышления в обыденном языке [Carter 2004]. В авторитетном сборнике [Routledge Handbook 2015] аккумулированы статьи по различным аспектам лингвокреативности – от повседневной речи до современного искусства.
Исследования по лингвокреативности в XXI веке
В последнее время лингвисты все чаще имеют дело с метаязыковой формулой «язык как творчество». Если в предшествующих парадигмах лингвистической мысли такое сочетание употреблялось чаще как метафора, наподобие метафор «язык как искусство», «язык как энергия» и т. п., то ближе к нашим дням творческие свойства языковой деятельности уже осознаются как неотъемлемая характерная черта человеческой коммуникации. Эта динамика выражается, прежде всего, в понятии лингвокреативности.
Источников этого нового взгляда на язык в основном два. Во-первых, развитие представлений о поэтическом языке как языке с принципиальной установкой на творчество [Григорьев 1979; Язык как творчество 1996; Фатеева 2016]. Во-вторых, достижения когнитивной науки, связывающей процессы в языке и мышлении с порождением новых знаний о мире. Об этих ближайших и непосредственных основаниях лингвокреативного подхода в языкознании и семиотике можно узнать из недавних работ [Телия, 2002; Ирисханова 2004; Ремчукова 2005; Лингвистика креатива 2009; Ирисханова 2009; Радбиль 2016; Зыкова 2017; Заботкина 2019]38.
Зачастую, однако, в исследованиях по лингвокреативности само понятие креативности чрезмерно расширяется и тем самым имеет тенденцию к размыванию. В область лингвокреативности исследователи начинают включать любые языковые факты в силу их меняющейся, а стало быть, и «творческой» природы. Так, лингвокреативными признаются даже языковые клише, которые по сути являются полной противоположностью творческого процесса. При таком подходе понятие лингвокреативности размывается и сливается с обыденными процессами речепорождения и просто говорения (письма) на языке. Стоит проблема недостаточной разграниченности и дифференциации креативных и некреативных явлений в языке как таковом и в отдельных дискурсах в частности. Для лингвистики решение этого вопроса значимо тем, что выделяются разные степени креативности в языке и дискурсе (на разных уровнях языка и в разной функциональности дискурсов), в их отличии от стереотипических языковых процессов39. Причем отметим, что креативность – некреативность необязательно должна быть окрашена в терминах «положительное – отрицательное». На наш взгляд, в некоторых дискурсивных практиках именно некреативность (стереотипность) отмечена скорее положительно и служит залогом успешной коммуникации40.
Творческим использованием языка в повседневной речи в последние два десятилетия активно занимается М. Н. Эпштейн в свете так называемой творческой филологии [Эпштейн 2006]. Открываемая им область «творческой филологии» и «семиургии» намечает развитие творческого потенциала языка. Особым вкладом Эпштейна в исследования лингвокреативности стоит признать его профильные «проективные словари». Создание не просто новых слов, а новых понятий и терминов – суть прокламируемого им «протеизма» и «лингвовитализма» в культуре XXI века. Цель таких словарей —
представить радикальное обновление понятийно-терминологического аппарата гуманитарных наук, ближайшие и отдаленные перспективы их развития. Словарь можно назвать эвристическим, поскольку он показывает разнообразные способы смыслотворчества, образования новых идей и понятий [Эпштейн 2017: http].
Обратим особое внимание на лингвистический раздел словаря: в нем суммированы экспериментальные понятия «творческой филологии», вводившиеся Эпштейном за последние десятилетия. Эти понятия разного порядка: наименования языковых единиц и явлений (апонимы, вербъект, импликатив, инфиниция, контраформатив, криптоним, оксимороним, прагмема, протологизм, филоним); метаязыковых процессов и комплексов (логопоэйя, лингвомутация, гиперязык, воязыковление, идеоязык, логодицея); новых дисциплин, ассоциированных с лингвистикой (лингвовитализм, лингводизайн, семиургия, семиургика, силентика, скрипторика). Если В. П. Григорьев говорил о языководстве Хлебникова как о «воображаемой филологии», то в отношении опытов Эпштейна можно говорить о «проективной филологии» или о «трансформативной филологии». Такая филология заглядывает в будущее только намечаемых языковых явлений и с помощью проективных терминов концептуализирует еще не вполне сложившиеся, но назревающие или предвосхищаемые процессы.
В одной из недавних публикаций Эпштейн связывает неологизацию в языке с новой возможной дисциплиной – креаторикой, гуманитарной наукой о творчестве и создании нового. Особый интерес в создании нового, пишет он, представляют элементарные единицы языка, из которых выводятся более сложные креативные процессы:
Идеальный объект креаторики – словотворчество. Слово – наименьшая значимая единица языка, которая может самостоятельно употребляться в речи. Создание нового слова – это творческий акт в миниатюре [Эпштейн 2018: 149].
Единицей творческого акта в языке Эпштейн считает креатему (термин, использовавшийся ранее Л. А. Новиковым и В. П. Григорьевым):
От случайной ошибки, вызванной неграмотностью или небрежностью, креатема как творческое отклонение от нормы отличается тем, что вводит в действие новую закономерность. Творческий акт уместно сравнить с конструктивной мутацией, ошибкой наследования, на основе которой создается новый вид или организм. Творчество можно также рассматривать как модальный процесс перехода от актуального к потенциальному, <…> которая затем переходит в новую актуализацию [Эпштейн 2017: http].
Креатема – это аномалия, запускающая цепь аналогий, регулярно образующих новые единицы в языке и новые идеи в мышлении:
Особенность творческого мышления состоит в том, что оно постоянно оперирует аномалиями, извлеченными из старых систем, и превращает их в аналогии, в системность нового порядка [там же].
Отметим также, что наряду со статьями «Креаторика» и «Креатема» в «Проективном словаре гуманитарных наук» включен и концепт творчества, трактуемый следующим образом:
ТВÓРЧЕСТВО (creativity). Способ создания нового, непредсказуемого на основе маловероятных, случайностных процессов, в которых сознательное взаимодействует с бессознательным, а системность – с хаосом. Творческая деятельность опирается на аномалии, фрагменты, извлеченные из установившихся систем, и превращает их в аналогии, правила, системность нового порядка [там же].
Все эти три понятия, безусловно, релевантны для современных исследований лингвокреативности как в поэтическом и научном, так и в иных типах дискурса.
3. Основания лингвоэстетики: исследования соотношения языка и искусства в первой трети ХХ века
В этом параграфе мы ставим задачу обосновать и определить ключевой для нас термин «лингвоэстетика», а также очертить принципы лингвоэстетического подхода в том виде, в каком они формулировались теоретиками языкознания и философами языка первой трети ХХ века. Эти принципы основываются на двух базовых концептуальных комплексах, описанных в предыдущих параграфах: «язык – искусство» и «язык – творчество». Лингвоэстетическая проблематика формируется вокруг двух основных вопросов: какова роль эстетического в языковой деятельности? и какова роль языка в эстетической деятельности?
Лингвоэстетика и эстетика языка: вопрос о терминах
В. П. Григорьев в своих поздних работах о В. Хлебникове прибегает к новому термину «лингвистическая эстетика», справедливо аргументируя, что полноценный лингвоэстетический подход необходим как дополнение к лингвопоэтическому (см., например: [Григорьев 2004]). Об эстетическом подходе к поэтическому языку ученый писал ранее в статье 1979 года, переизданной в: [Григорьев 2006]. В другой работе Григорьев определяет поэтический язык как «язык с установкой на творчество, а поскольку всякое творчество подлежит и эстетической оценке, это язык с установкой на эстетически значимое творчество» [Григорьев 1979: 77–78], тем самым дополняя формалистские определения поэтического языка важнейшими компонентами – понятиями эстетического и творческого. Речь идет о том, чтобы не просто описать концептуальное поле прекрасного у того или иного автора, не только представить специфический язык эстетики поэта или прозаика, но главным образом осмыслить эстетику как отдельное «измерение» поэтического языка (у Григорьева к «эстетическому» измерению добавляется еще «эвристическое», то есть поисково-познавательное). О. Г. Ревзина в этой связи резонно отмечает:
Само эстетическое представляет собой чрезвычайно сложное понятие, толкованием которого занимается не лингвистика, а другие гуманитарные науки. Лингвистика лишь заимствует некоторые представления об эстетическом и стремится к тому, чтобы понять, как средствами языка создается «эстетически ценный объект» [Ревзина 1998: 17].
Такая задача сопряжена с обращением к двум смежным проблематикам.
Во-первых, с общей зоной вопросов о взаимосвязи теории языка и теории искусства. Эта линия была начата исследованиями Я. Мукаржовского и Пражской школы в 1930‐е годы и продолжена в послевоенной семиотической эстетике Н. Гудмена, У. Эко, А. К. Жолковского – Ю. К. Щеглова, Ю. С. Степанова41. Этой линии посвящен следующий параграф нашей работы.
Вторая область лингвоэстетических исследований относится к эмпирическому плану эстетического использования языка в обыденной речи. Так, В. З. Демьянков рассматривает «лингвистическую эстетику» как раздел «народной» эстетики, как «речь о прекрасном» в той или иной культуре, см. в этой связи работы [Логический анализ 2004; Крылов 2004; Рябцева 2005; Демьянков 2013; Рябцева 2019]. Но главным вектором и одновременно отправной точкой в лингвоэстетическом анализе стоит признать эстетическое изучение словесного творчества, языка как искусства. Именно этот вектор интересует нас в данном исследовании.
Примечательно, что номинально первым, кто употребил интересующий нас термин, был популярный английский писатель и филолог Дж. Толкин, который в одном из писем признался, что его главный опус «Властелин колец» является «в большой степени произведением по лингвистической эстетике» [Tolkien 2000: 220]. Разумеется, здесь речь шла не о научном методе, а о художественной технике. Учитывая повышенный интерес мировой авангардной литературы к проблематике языка в принципе, творческой техникой лингвистической эстетики пользовались многие представители авангарда. Однако мы ведем речь о лингвистической эстетике именно как научном подходе, который наиболее ярко проявился именно в русской гуманитарной традиции, совпадающей хронологически с эпохой авангарда в искусстве.
Другой вариант наименования «лингвистической эстетики» («лингвоэстетики») – «эстетика языка». Эстетике языка посвящен цикл работ Л. А. Новикова, собранный в издании: [Новиков 2001]. В частности, здесь определяются такие важнейшие категории лингвистической эстетики, как «феномен эстетического в языке», «значение как эстетическая категория языка», «структура эстетического знака» (см. также его работу: [Новиков 1988])42. В философском ключе к вопросам эстетики языка обращается А. А. Грякалов, отмечая в своей книге, что
эстетика языка ориентирована на последовательное использование лингвистических способов описания произведений искусства [Грякалов 2004: 165].
Справедливо также его замечание о том, что
преимущественное внимание к лингвистическому анализу в словесности не должно снимать философско-эстетического интереса к эстетике языка, ибо искусство слова рассматривается как «высшее» искусство, законы которого служат направляющими в развитии художественной культуры в целом [там же].
Таким образом, интересующий нас подход получил к настоящему времени два наименования: «лингвистическая эстетика» (В. П. Григорьев) и «эстетика языка» (Л. А. Новиков и др.). Для объединения двух вариантов в один мы предлагаем ввести термин «лингвоэстетика», как рядоположный схожим терминам – названиям дисциплин: лингвопоэтика, лингвосемиотика, лингвопрагматика и т. п.
Как мы покажем в нашем дальнейшем исследовании, лингвоэстетика может быть рассмотрена не просто как подход, а как особая методология исследования художественного текста и языка художественного произведения. Более того, эта методология не является чем-то, что необходимо создать, она имеет довольно древние корни и значительную традицию в истории гуманитарной мысли и филологических исследований. Однако волею исторических обстоятельств эта традиция развивалась скорее подспудно, нежели в четко выраженной форме, она оказалась как бы заслоненной от более популярных научных методологий, наиболее влиятельной среди которых в ХХ веке оказался формализм – так сказать, «генеральная линия» лингвистической поэтики последнего столетия. В этой части главы мы опишем основные вехи формирования лингвоэстетики в начале и первой половине ХХ века, главным образом в русской гуманитарной науке, в так называемой русской теории 1910–1930‐х годов [Русская теория 2004].
От лингвопоэтики к лингвоэстетике: преодоление формализма в лингвистике и анализе литературы
В русском гуманитарном ландшафте первых десятилетий ХХ века, как известно, зарождается множество новых направлений в лингвистике – «лингвистическая технология», «культура языка», «языковая политика», «языковое строительство», «интерлингвистика», «искусство слова» и т. п. В лоне Московского лингвистического кружка и общества ОПОЯЗ возникло также особое исследование языка художественной литературы (лингвистическая поэтика). Краеугольным понятием русского формализма явилась «поэтическая функция языка», а сама поэтика была осознана как отдельная дисциплина, находящаяся на пересечении лингвистики и семиотики (поэтика, по Р. О. Якобсону, это «лингвистическое исследование поэтической функции вербальных сообщений в целом и в поэзии в частности» [Якобсон 1987: 81]).
История и теория русского формализма широко известны и подробно описаны. Мы обратимся к некоторым основным их постулатам, относящимся к поэтическому языку, в последующих главах. Вместе с тем очень мало известно о другой ветви русского гуманитарного мышления, отпочковавшейся от гумбольдтианской и потебнианской традиции, о которой мы писали в предыдущих параграфах, и развивавшейся параллельно с формальной школой, подчас принимая форму оппозиции формальному методу в лингвопоэтике. Эту традицию можно назвать лингвоэстетикой, так как она разворачивалась преимущественно на базе эстетических теорий и учений об искусстве.
Русский формализм разработал обширную теорию анализа формы, материала и приемов в художественном тексте. Однако, как представляется, весьма важным недостатком формального метода было непропорциональное внимание к категориям эстетических учений, главным образом к категории эстетического объекта. Каждое поэтическое и вообще художественное произведение представляет собой прежде всего эстетический объект со своими, эстетическими законами построения. Совершенно так же, как им является любое произведение визуального искусства, музыки, кино, театра и т. д.; никто не сомневается, что эстетические законы превалируют в этих художественных практиках и служат отправной точкой для их восприятия, понимания и анализа. И, таким образом, проблема формы в художественной литературе выступает прежде всего проблемой художественной или эстетической формы, нежели формы в строго лингвистическом понимании. Лингвистическая поэтика формализма не уделяла достаточного внимания сущности эстетики, эстетическим категориям и эстетическим закономерностям художественного творчества и художественного произведения.
Важно отметить, что первые попытки обоснования лингвоэстетики были предприняты либо учеными, стоящими в оппозиции к формальному методу, либо, так сказать, «преодолевшими формализм» – теми, кто на первых порах разделял формалистские установки, но впоследствии отошел от них. Показательны три определения поэтики, приводимых исследователями, находящимися в некоторой оппозиции к формальному методу. Так, Г. Г. Шпет определял поэтику в несколько иных терминах, нежели формалисты: «поэтика есть учение о художественной методологии» [Шпет 2007: 232]. Несомненно, некоторые из формалистов подписались бы под этим определением, однако только такой эстетически и философски образованный человек, как Шпет, мог вкладывать в понятие «художественной методологии» максимально строгий и адекватный смысл и осознавать методологический статус художественных элементов в художественном произведении. Поэтика и эстетика слова мыслились Шпетом как учение об эстетическом сознании в его целом. В. М. Жирмунский определяет поэтику как «науку, изучающую поэзию как искусство» [Жирмунский 1977: 15]. И ближе всех к «эстетическому» определению поэтики подошел М. Бахтин, утверждавший, что «поэтика, определяемая систематически, должна быть эстетикой словесного художественного творчества» [Бахтин 2003: 268–269]. Бахтин также отмечает, что в исследовании словесного художественного творчества необходимо основываться на таких ключевых категориях, как «эстетический объект», «эстетический опыт» и «эстетическое сознание».
Лингвоэстетика как подход выражается в двух основных аспектах: с одной стороны, это проблема художественного языка, относящаяся не только к словесным произведениям, но и к прочим художественным практикам (с этой стороны лингвоэстетика оказывается близка семиотике), и с другой стороны – это проблема эстетического использования языка, в ситуациях, когда предметом рассмотрения являются не только собственно эстетические объекты – произведения искусства, но и, например, обыденная речь, в которой могут иметь место самые разнообразные случаи эстетического употребления (к примеру, окказиональное словотворчество, языковая игра, каламбуры и т. п.).
В разработку концепции лингвоэстетики внесли вклад несколько авторов из русской гуманитарной традиции. При этом она могла получать различные вариативные наименования – такие как «эстетика языка», «эстетика слова», «эстетика словесного художественного творчества». Прежде чем назвать этих авторов и привести их положения, следует сказать, что, разумеется, у традиции лингвоэстетики есть своя предыстория. Отдельные замечания, относящиеся к этим вопросам, содержатся уже в древнегреческих и древнеримских трактатах о языке и стиле, прежде всего во фрагментах, посвященных искусству речи (см. [Античные теории языка 1936]). В дальнейшем эти вопросы возникали, например, в «Поэтическом искусстве» Н. Буало и в «Эстетике» А. Г. Баумгартена. Говоря об эстетически ориентированной философии языка, возникшей на рубеже XIX–ХХ веков, нельзя не упомянуть в этой связи концепцию К. Фосслера. Эстетическая школа, главой которой считается Фосслер, делала упор на исследование языка в его выразительной функции (впрочем, с издержками в виде эстетизации языка вообще, о которых мы скажем в следующей главе). В. фон Гумбольдт и А. А. Потебня являются непосредственными предвестниками лингвоэстетического подхода. Необходимо добавить к ним и А. Белого, чья эстетическая теория вкупе с его оригинальной лингвистической концепцией тоже оказала воздействие на интерес к обозначенной теме. Об этих предшественниках лингвоэстетического подхода мы писали в первых двух параграфах этой главы.
Теперь перейдем к тому, как формулировалась лингвоэстетика, или, как она чаще именовалась, эстетика языка (эстетика слова), уже как таковая – в 1920–1930‐е годы русскими учеными и теоретиками слова.
Первым из лингвистов, кто заговорил о необходимости изучения эстетики языка, был Л. В. Щерба. В предисловии к сборнику «Русская речь» от 1923 года он отмечает нарастание интереса лингвистов к «эстетике языка», к тому, что «делает наш язык выразителем и властителем наших дум» [Щерба 1974: 102]. Пробой Щербы в применении понятия «эстетика языка» можно считать его «Опыты лингвистического толкования стихотворений» [Щерба 1957]. Далее эта идея была подхвачена Б. Лариным в работах по эстетике слова и языку писателей. Отталкиваясь от теории художественной речи и обосновав методы эстетики языка, он воплотил свои идеи в анализе лирических стихотворений, в частности Хлебникова. Ларин ввел и такие важные для лингвоэстетики понятия, как «художественная целостность» и «эстетическая квалификация языкового материала» [Ларин 1974].
Об «эстетике языка» пишет и В. В. Виноградов. В статье 1927 года «К построению теории поэтического языка» отмечается:
«Эстетика слова» как дисциплина нуждается в признании, в определении ее материала, задач и методов. Путь к ней лежит через «науку о речи литературно-художественных произведений» [Виноградов 1927: 9].
Виноградов отмечает и важность изучения сложных поэтических форм речи, развернутых словесно-художественных структур. Путь исследования в этом направлении: от сложных структур – к «стилистическим единицам», а не наоборот. И здесь очевидно, что Виноградов полемизирует с формальным методом, который задает обратное направление исследования: «от единиц – к единствам». Эстетика слова, по Виноградову, выдвигает своим предметом «структуру художественного целого». Так, в применении к художественной литературе он пишет о «поэтической организации символов в композиции целостных эстетических объектов» [там же]. В поэтической речи, по Виноградову, происходит символическое преобразование языка:
Структура художественного произведения сочетает в себе не только поэтические формы словесности, но и формы других видов искусств (музыки, живописи, театра) [там же].
Сам Виноградов в дальнейшем не пошел по этому пути, за него это проделала уже позднейшая семиотика в лице Я. Мукаржовского, Ю. М. Лотмана, У. Эко и других. Виноградов также отмечал, что обоснование науки об эстетике языка невозможно только на почве лингвистики, ибо
лингвистика, инстинктивно отправляясь от норм социально-языковой деятельности, всегда говорит об элементах языка, но она не в состоянии открыть своеобразия более сложных поэтических форм [Виноградов 1927: 9е].
Виноградов ссылается на показательные неудачи, с его точки зрения, на этом поприще К. Фосслера, А. А. Потебни и Б. Кроче. За обоснованием эстетики языка он предлагает лингвистам обращаться к учениям об искусстве и эстетическим теориям.
Эстетическая теория слова в концепциях русских философов 1920‐х годов
Значительное влияние на становление филологических идей В. В. Виноградова оказала философия языка Г. Г. Шпета. Сам русский философ посвятил «эстетике слова» трехчастный трактат «Эстетические фрагменты», изданный в 1922–1923 годах. Возможно, именно по прочтении этой работы, в которой много внимания уделено эстетическим аспектам слова и языка, Л. В. Щерба сделал вывод о нарастании интереса к «эстетике языка». Ведь доклад Шпета, положенный в основу книги, был прочитан в 1919 году на заседании Московского лингвистического кружка, а значит, в присутствии и при обсуждении большого числа выдающихся лингвистов того времени. Считается, что именно этот доклад способствовал формулировке понятий «поэтическая речь» и «поэтический язык» русскими формалистами.
«Эстетические фрагменты» посвящены выяснению того, что такое «эстетический объект» («эстетический предмет») в его отношении к структуре слова. Шпет именует один из разделов трактата «Структура слова in usum aestheticae», намечая таким образом самое ядро лингвоэстетической проблематики: использование языка с тем, что тут называется «эстетическим эффектом». Проводится попытка выделить эстетические компоненты в структуре высказывания:
Слово как сущая данность не есть само по себе предмет эстетический. Нужно анализировать формы его данности, чтобы найти в его данной структуре моменты, поддающиеся эстетизации. Эти моменты составят эстетическую предметность слова [Шпет 2007: 210].
Эти моменты, или элементы высказывания, связаны с эстетическим опытом порождения и восприятия текста. Необходимо, считает философ, разделять эстетические и внеэстетические элементы:
Отдельные моменты в структуре слова суть in potentia такого рода эстетические предметы. Соответственно, можно говорить об эстетическом суждении, восприятии etc. этих моментов или об их эстетичности, в положительной или отрицательной квалификации. Нужно выделить в структуре слова моменты существенно внеэстетические [там же: 254].
К примеру, «номинативная функция слова» (примечательно, что уже в 1919 году Шпет пользуется понятием «функция») должна отделяться от «эстетических свойств слова», образующих специальную функцию. При этом простая экспрессия в речи не приравнивается к эстетичности. Последняя, как особо подчеркивается, основывается на особом восприятии слова как художественной единицы.
Шпет предлагает отделять словесную эстетику от других разновидностей эстетики, например от музыкальной. Несмотря на то что слово может обладать «музыкальностью» (идея, характерная для поэзии символизма), сама вербальная сущность и материальность определяет «эстетику слова». В строчке Тредиаковского «Звени, звени, хрустальный альт стаканов» философ видит (а точнее слышит) чисто фонетическую эстетическую ценность, свойственную законам языка. В поэзии (и шире – художественной речи) «предмет подвергается особой эстетической модификации», производя «эстетическое действие» от автора к читателю. Любопытно, что подобный лингвоэстетический подход позволяет Шпету обосновать и оправдать бессмыслицу в поэтической речи. Словно бы отвечая на заумные опыты футуристов и супрематистов, он рассуждает:
Но возможно ли словоизлияние беспредметное? Это могло бы быть прежде всего чисто звуковое явление, не имеющее и смысла, имеющее «значение» (роль, функция) только эмоционально-экспрессивное или указующее, вообще значение «знака без значения». Эстетически его расценивали бы, например, по его музыкальности: tra-la-la… – forte (crescendo) или na-na-na… – piano (diminuendo). Это относится к форме Σ. Затем беспредметность может указывать также на бессмыслицу, нелепость, внутреннее противоречие. Такое словосочетание не оторвано от смысла и есть не только дейктический знак, но настоящее слово. Но, строго говоря, оно имеет смысл, этот смысл есть бессмыслица – например, абракадабра, белая ворона, круглый квадрат – и «беспредметность» есть род предмета, sui generis предмет. Каково бы ни было его логическое значение, «беспредметное слово» может иметь положительное эстетическое значение, поскольку в нем все же раскрываются свои внутренние поэтические формы. Последние налегают и на беспредметные слова, подчиняя их своим законам или приемам конструкции. Мы строим и бессмыслицу по тропам параллелизма, контраста и т. д., равно как и по правилам синтаксиса («идет улица по курице»). Эстетическое значение соответствующих «поэм» относится к π. Натурально, от этих случаев следует отличать метафорическую игру, где бессмыслица – только «видимость» и чувствуется лишь при крайней остроте, новизне метафоры или при специальном к ней внимании – «тот ошарашил его псевдосферою», «Пифагоровых штанов Павлуша уже не мог вместить в свою голову» [Шпет 2007: 279–280].
Итак, согласно шпетовскому подходу, беспредметная поэзия порождает не просто «знаки» (пусть и без «значения»), но и полноценные «слова», в которых «бессмыслица» заменяет собой «смысл» и которые имеют эстетическое значение, несмотря на непонятность внешней поэтической формы. «Внутренняя поэтическая форма» тем не менее присуща таким текстам и определяет эстетический момент любого подобного высказывания43.
В этом трактате Г. Г. Шпет еще размышляет в традиционных терминах эстетической теории его времени: положительное или отрицательное эстетическое восприятие, эстетическое возбуждение, эстетическая реакция, эстетическое переживание, эстетическое наслаждение, эстетическое внимание и т. п. Природу чисто художественных внутренних форм слова он будет более отчетливо разбирать в более позднем трактате «Внутренняя форма слова» (мы обратимся к этому в следующем параграфе). Однако важным шагом русского философа языка становится разграничение эстетического и внеэстетического в анализе повседневного («прагматического», в его терминологии) и поэтического языка. Противопоставляя логические («рассудочные») и поэтические («символические» par excellence) стороны слова, Шпет приходит к особому пониманию языковой деятельности в эстетической ситуации и к «эстетике слова» как учению об этом:
Учение о поэтической методологии есть логика символа, или символика. Это не та отвлеченная, чисто рассудочная символика, которая встретилась нам выше, как семиотика или Ars Lulliana, а символика поэтическая, фундамент всей эстетики слова как учения об эстетическом сознании в его целом [там же: 234].
Философию языка Шпета можно, таким образом, считать первыми набросками лингвоэстетической теории, основанной на серьезной проработке эстетических учений44.
Следующей после Шпета ключевой фигурой в формулировке основ лингвоэстетики был Б. М. Энгельгардт, до недавних пор остававшийся незаслуженно малоизвестной фигурой в русской филологии. В 2005 году по архивной версии был опубликован доклад Энгельгардта 1920‐х годов «Эстетика слова». С 1921 по 1928 год он готовил к печати книгу «Введение в эстетику слова», которой выйти было не суждено, и сохранился только этот доклад. Кроме того, в 1924 году Энгельгардт прочел в ГИИИ (Государственном институте истории искусств) доклады «Эстетико-лингвистические предпосылки формального метода» и «Основоположения эстетики слова».
Единственной работой, специально посвященной теории словесности Энгельгардта, является брошюра [Муратов 1996]. В ней, в частности, так резюмируется суть «эстетики слова» по Энгельгардту:
эстетически безразличный вещный ряд (слово, звук, цвет и т. д.) в процессе творчества преобразуется в эстетически значимый – художественное произведение. Истолкование эстетического значения структурных особенностей художественного произведения тогда и является раскрытием эстетического смысла изменений, испытанных вещным рядом в процессе творчества. Но если речь идет о видоизменениях слова в процессе творчества, то исходным моментом для истолкования таких видоизменений должно стать уяснение вопроса о том, что такое слово в его «до-(вне-)эстетическом состоянии. Это истолкование должна дать лингвистика, и оно будет второй необходимой предпосылкой для построения теории словесности как эстетики слова [Шпет 2007: 9].
Для Энгельгардта эстетика слова являлась частью общей теории словесности, разработанной на феноменологической основе. Ход мысли Энгельгардта таков:
С эстетической точки зрения художественное произведение должно рассматриваться, прежде всего, как особым образом оформленный вещно-определенный (dinglich) ряд: поэтическое произведение как словесный ряд, музыкальное – как звукоряд, картина или статуя – как система зримого и пр., и пр. [Энгельгардт 2005: 46].
Разумеется, в этих формулировках отчетливо выражен феноменологический подход. Понятие «вещности», отличное от понятия «вещи» в русском формализме, имеет явные гуссерлианские корни. Феноменологический взгляд приводит к тому, что старые подходы в изучении образности, идейности и т. п. оказываются, с точки зрения Энгельгардта, неприемлемыми для эстетического анализа, ибо они уводят исследователя за пределы самого произведения в сферы мнимых объектов. Отсюда вывод о том, что
художественное творчество должно мыслиться только как процесс эстетического оформления словесного ряда, то есть установки этого ряда на эстетическую значимость <…> Таким образом, эстетика слова имеет дело, с одной стороны, с эстетически оформленным словесным рядом, а с другой стороны, с этим же рядом в эстетически безразличной форме, как объектом творчества. А в связи с этим ее основной задачей является описание главнейших особенностей эстетически значимых словесных построений сравнительно с прозаическими и выяснение роли этих особенностей в эстетическом обосновании целого [там же].
Здесь Энгельгардт вплотную приближается к одному из главнейших параметров художественного произведения – его целостности. Эстетически значимое произведение всегда представляет собой целое, именно в силу своей целостности оно производит эстетический эффект и именно в силу целостности должно рассматриваться в эстетическом анализе:
В силу этого, поскольку поэтическое произведение всегда представляет собою сложное словесное образование, понятие словесного ряда в его вещной определенности, с которым оперирует эстетика слова, неизбежно должно охватывать не только всю совокупность отдельных элементов этого ряда по их качественному содержанию, но и момент специфической организованности этих качественных содержаний, то есть их структурное единство [там же: 47].
Составные элементы словесного произведения искусства оформляются как целостная и неразложимая структура.
Художественное произведение, подчеркивает далее Энгельгардт, целостно не только по формальному признаку, но и в единстве своего содержания. Отсюда еще один важный вывод для эстетики слова:
Поскольку, с одной стороны, в поэтическом произведении дано эстетическое оформление имманентно-организованного словесного ряда, то есть потенциального словесного образования, постольку, с другой стороны, организующим принципом таких образований являются те системы единоцелостных смыслов, которые ими объемлются, постольку и эти последние, наряду с звуковой формой слова и совокупностью номинативных значений, находят свое эстетическое оформление в поэтическом произведении [Шпет 2007: 48].
Таким образом, семантический треугольник Г. Фреге (знак – значение – смысл) преобразуется в художественном произведении в единосущную триаду: эстетическая форма – номинативные значения – едино-целостные смыслы (см. наше собственное развитие этой идеи ниже, в главе III). Все три составляющие этой триады связаны эстетическим единством художественного произведения. Поэтому Энгельгардт позволяет себе говорить о таком произведении как о замкнутой на себя, внутренне единой структуре только в плане эстетической оформленности смысловых единств словесного ряда. В этом ему видится «решительная неудача» сугубо формального подхода к литературному произведению, при котором оно рассматривается вне соотнесения его как единства к едино-целостному смыслу.
Далее Энгельгардт вдается в некоторые подробности основных вопросов эстетики слова, а также выясняет связи эстетики слова с общей и частной лингвистикой. Современная лингвистика, с его точки зрения, почти вовсе не обсуждает вопрос о произведении как структурном единстве, ограничиваясь в большинстве случаев изучением отдельного слова. Энгельгардт может рассматриваться, наряду с М. М. Бахтиным, одним из ранних предвестников теории текста. Но необходимо оговориться, что лингвистика текста строила свои законы по большей части на почве формально-структурных методов. Эстетические компоненты художественного текста в лучшем случае лишь принимались во внимание, но редко исследовались в необходимой мере.
Знаменательно, что в своем обосновании эстетики слова Энгельгардт отталкивается от критики русского формализма. Формализм, с точки зрения Энгельгардта, не способен постичь эстетическое произведение как целостную, внутренне единую структуру:
Дело в том, что эстетическая значимость как таковая всегда принадлежит тому или иному образованию, именно как таковому, как целостной внутренне единой структуре, а не его элементам. В этом смысле эстетическая значимость может быть приравнена к едино-целостному смыслу произведения [там же: 57].
Формальная школа, утверждает Энгельгардт, исходя из правильно намеченных предпосылок «эстетики вещи», построила (в соответствии с данными коммуникативной лингвистики) определение поэтического произведения как системы самодовлеющих приемов, «причем его едино-целостный смысл рассматривался как эстетически безразличный материал для реализации чистой словесной формы» [там же: 56]. Здесь же делается намек на то, какой лингвистикой следует руководствоваться «эстетикой слова», чтобы избежать заблуждений формализма. Не удовлетворяясь определениями, полученными от «коммуникативной лингвистики», эстетике слова необходимо их искать в тех направлениях современной лингвистики, где слово рассматривается как «особая форма осознания внутреннего опыта, как сама мысль в известный момент ее внутренне необходимого и исторически обусловленного становления». Несложно догадаться, каких лингвистов они имеет в виду – это Гумбольдт и вся гумбольдтианская традиция в языкознании конца XIX – начала XX века45.
Таким образом, Б. М. Энгельгардт, пользуясь терминологическим аппаратом феноменологии, обосновывает ключевые понятия эстетики слова: «эстетическая значимость», «эстетический опыт» и «структурное единство». Значение последней категории – категории структурного единства – подчеркивалось также и П. А. Флоренским, еще одним ключевым автором в описываемой традиции. В работе 1924 года «Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях» он рассуждает о необходимости двойственного подхода к художественным явлениям: с одной стороны, как к композиции, а с другой – как к конструкции. Причем конструкция произведения осмысляется как внутренняя форма его, то есть некоторый принцип развертывания формы и превращения ее в содержание:
Художественное произведение всегда двойственно, и в этой двойственности коренится необходимость двойного подхода к произведению, а следовательно – и двойной схемы его, соответственною двойственностью потребного тут термина. Художественное произведение есть нечто само о себе, как организованное единство его изобразительных средств <…> Но, кроме того, произведение имеет некоторый смысл, организованное единство всех сред служит выражению этого смысла [Флоренский 2000б: 493–494].
Мы выделили курсивом очень важное представление Флоренского, которое сближает его с современными идеями синергетики. Это идея самоорганизации художественного целого, которое вырастает из собственных частей. Форма в таком понимании имеет четыре важнейшие характеристики: 1) выделенность (самостоятельность), 2) целостность; 3) органичность и 4) динамичность. Об этом Флоренский пишет в черновых записях к курсу «Понятие формы»: «Идею целого мы понимаем как рост, как раскрытие потенции через само-расчленение, через само-организацию…» [там же]. Мы приводим эти слова, чтобы показать, что лингвоэстетика прямо связана с идеей автореференции и самоорганизации языка художественных произведений (этот аспект будет рассмотрен подробнее в главе III).
Еще одним автором, внесшим вклад в осмысление лингвоэстетических проблем, был С. А. Аскольдов, изложивший свои взгляды по этому вопросу в полемическом отклике на труды русских формалистов. Свою статью «Форма и содержание в искусстве слова», вышедшую в третьем выпуске альманаха «Литературная мысль» за 1925 год, Аскольдов начинает с характерной для той эпохи фразы: «Вопрос о значении формы и содержания в искусстве слова стал боевым вопросом в современной литературной критике» [Аскольдов 1925: 305]. Кроме того, вопрос о форме и содержании стал, согласно Аскольдову, «в последнее время симптоматическим для жизни вообще». Будучи квалифицированным философом, Аскольдов сразу напоминает о философских истоках категорий формы и содержания и предпринимает их философский анализ. Понимая форму как «внутреннюю структурность», он разбивает свой разбор на различные составляющие указанной категории. Он разделяет: прагматическое содержание (то есть сюжетную часть художественного произведения), психологическое содержание (аналог прагматического в лирике), форма (все остальное в произведении). Под формой Аскольдов разумеет все формальные элементы текста – от фонетики до ритма. Расширяя таким образом понятие формы, он пытается разобраться, в чем притязания формальной школы являются чрезмерными. Упрек его состоит в том, что формальный подход, изолируя форму, полагает ее единственным материалом художественной значимости.
Художественная значимость – ключевой термин С. А. Аскольдова, который он разовьет затем в своей теории поэтических концептов. Здесь под ним понимается единство соединения формы и содержания как аксиологический акт:
Художественная значимость есть ценность, а не величина, и процесс ее образования имеет конститутивный, а не аддитивный характер [там же: 313].
Изоляция формы от содержания не позволяет, согласно философу, оценить художественную форму в составе целого текста. Каждая форма должна оцениваться по степени художественной значимости. Далее Аскольдов анализирует различные формы с разной степенью художественной значимости в прозе и поэзии. Апофеозом «бесчинства формы» называет он заумную поэзию футуристов, признавая ее лабораторное значение, но отказывая ей в художественной значимости. Таким образом, философ Аскольдов впадает в другую крайность – отрицания эстетического статуса некоторых поэтических и языковых форм. Формалисты в этом вопросе оказались прозорливее, взяв заумную поэзию за наивысший образец эстетической функции языка.
В ряду изданий, внесших вклад в обоснование принципов лингвоэстетики, следует упомянуть сборник, который вышел в 1927 году под названием «Художественная форма: Сборник статей». В предисловии к нему было заявлено:
В противовес формалистам из ОПОЯЗа, которые ограничивают свое исследование сферой внешних форм, мы понимаем художественную форму как «внутреннюю форму». Тем самым мы ставим проблему художественной формы шире и ищем ее решение во взаимоотношении различных форм – логических, синтаксических, мелодических, поэтических как таковых, риторических и т. д. [Художественная форма 1927: 3].
Отметим, что авторами сборника были ученые, опять же так или иначе противостоящие строго формальному методу, среди них Г. О. Винокур, Н. И. Жинкин и др.
Наконец, обозревая лингвоэстетические концепции 1920–1930‐х годов, нельзя пройти мимо М. М. Бахтина и его круга. Сам Бахтин выстраивал свою концепцию «эстетики словесного творчества», критически отталкиваясь (как и другие авторы, рассмотренные выше) от формального метода. Считая, что лингвистика как таковая недостаточна для полноценного анализа поэтического произведения, он всячески подчеркивает значимость именно эстетического статуса художественного объекта. Впрочем, разводя довольно радикально лингвистическую определенность формы и эстетическую ценность содержания, Бахтин не приходит к их синтезу. Ему лишь грезится то время, когда лингвистика осознáет своим объектом более крупные языковые комплексы (текст, диалог):
Только лишь когда лингвистика овладеет своим предметом вполне и со всею методологическою чистотою, она сможет продуктивно работать и для эстетики словесного творчества [Бахтин 1974: 277].
Цитируемый текст с характерным названием «К эстетике слова», по-видимому, относится к более раннему времени, чем 1974 год. Ведь к 1970‐м годам наука о языке уже далеко продвинулась в том направлении, о котором мечталось Бахтину в 1920–1930‐е годы. Так или иначе, центральным вопросом его лингвоэстетики является имманентно и специфически «эстетический характер» поэтического (и шире – литературного) языка. «Художественная форма», согласно такому подходу, должна изучаться как со стороны «эстетического объекта» (которым Бахтин считает исключительно «содержание», по его мнению, недоступное изучению современной ему лингвистикой), так и со стороны «техники формы» (в случае словесного творчества прерогатива исключительно языкознания). Сам Бахтин уделял внимание в своих исследованиях поэтики Достоевского, Рабле и других преимущественно первому аспекту – содержательно-архитектоническому. «Автор-творец – конститутивный момент художественной формы» [Бахтин 1975а: 58]: на основе этого тезиса строятся дальнейшие принципы бахтинского анализа. В частности, принцип «активности» субъекта высказывания в поэтическом акте: «Только в поэзии чувство активности порождения значащего высказывания становится формирующим центром, носителем единства формы» [там же: 65]. В главе III мы вернемся к этому ключевому принципу лингвоэстетического подхода. Сейчас отметим его историческую значимость в дискуссиях первых десятилетий прошлого века о природе художественного языка.
Завершая этот исторический экскурс, необходимо отметить, что лингвоэстетика («эстетика слова» в терминах той эпохи) не стала прочно оформившимся направлением в истории лингвистических учений 1920–1930‐х годов. Воспользовавшись удачной метафорой из известной антологии «Сумерки лингвистики», можно было бы назвать такую историю идей «традицией, мерцающей в толще истории» [Базылев, Нерознак 2001]. «Эстетика слова» выступала как альтернатива формальному методу, предлагая свою методологическую систему. Эта традиция пыталась, так сказать, «воспитать» формализм, прививая ему развитые эстетические навыки. С другой стороны, формальная школа стала двигателем новых теорий языка и искусства. К рассмотрению лингвоэстетических понятий от структурализма и семиотики до нынешнего состояния науки о языке мы переходим в следующей части главы.
4. Язык искусства и язык художественной литературы как знаковые системы: семиотические основания лингвоэстетического подхода
До сих пор мы рассматривали эволюцию лингвоэстетического подхода в трудах лингвистов (Л. В. Щербы, Б. А. Ларина, В. В. Виноградова) и философов языка (А. Белого, Г. Г. Шпета, С. А. Аскольдова, Б. М. Энгельгардта, П. А. Флоренского). В отличие от лингвопоэтической теории, формировавшейся в сознательном дистанцировании от философской рефлексии (в трудах В. Б. Шкловского, Р. О. Якобсона, Е. Д. Поливанова и др.), лингвоэстетика имеет под собой глубокую философскую базу в эстетической теории и философии языка. Особенностью этой методологии является аналитика эстетических категорий (художественная форма, эстетический объект и т. п.) применительно к языковому материалу. Но помимо учета лингвофилософских аспектов изучения эстетики языка, необходимо также обращение к теории знаковых систем, то есть выяснение эстетических параметров языка как деятельности по производству знаков. Как мы попытаемся показать в настоящем параграфе, семиотическая теория представляет собой важную составляющую лингвоэстетического поворота в филологических исследованиях ХХ века. Обратимся к основным идеям семиотики, относящимся к эстетической деятельности.
Семиотика и эстетика: история контактов
История контактов семиотики и эстетики короче истории самих семиотики и эстетики. Семиотика зарождалась в лоне философии и логики. На первых порах ее объектами становились сугубо абстрактные символы и статичные, непротиворечивые системы. Возможно, именно поэтому знаку приписывались такие его составляющие, как означающее и означаемое, а инстанция «означателя», то есть непосредственного субъекта знакового процесса, оставалась за пределами рассмотрения. Как мы увидим далее, в случае художественного семиозиса без этой категории обойтись нельзя. В семиотике искусства она является базовой по отношению ко всем остальным параметрам. Эстетика как теоретическая дисциплина, насчитывающая около трех столетий, обратилась к понятию знака очень поздно, лишь в XX веке. Если возводить истоки философской семиотики к Дж. Локку (впервые употребившему греческое слово semeiotike в современном значении дисциплины «семиотики») и к Г. Лейбницу (изложившему основы «характеристики» как новой науки о знаках), то семиотика оказывается сверстницей эстетики (оба философских учения зародились к XVII–XVIII векам). Однако опять-таки, как и в случае с эстетикой, обращение семиотики к эстетической проблематике датируется первыми десятилетиями ХХ века.
Впрочем, отдаленный прототип современного эстетико-семиотического метода можно обнаружить уже у античных грамматиков III–I веков до н. э. Речь идет о теории мимесиса, в соответствии с которой в искусстве была выявлена основополагающая оппозиция «содержание – форма». Содержание определялось как «подражание событиям истинным и вымышленным» и выражалось в делении всех литературных произведений на роды и жанры. Форма мыслилась как «речь, заключенная в размер». В соответствии с этим выстраивалась система тропов, стилей и метрических размеров. Несомненно, в этих разграничениях можно усмотреть предпосылки структурного мышления. Но в целом методика была чисто описательной, имеющей мало отношения к реальным процессам знакопорождения.
Что касается научной эстетики, ее развитие вплоть до конца XIX века в общих чертах напоминало прогресс литературной поэтики. Наука в этот период предпочитала заниматься риторическими параметрами художественного творчества, отвлекаясь от природы индивидуального смыслополагания. Оговоримся, что это наше утверждение не относится ко всем без исключения теориям классической эпохи. Весьма вероятно, что внимательное исследование могло бы выявить немало интересных прозрений о знаковой сущности художественного творчества. Особенно это касается средневекового периода. Но надо учитывать и то, что и само понятие произведения искусства (словесного, живописного, музыкального) обрело свой отчетливый смысл только в Новое время. Соответственно, речь, по-видимому, должна вестись о разных «эстетиках» и «поэтиках». Это обстоятельство касается и таких классических трудов, как «Лаокоон» (1766) Г. Э. Лессинга и «Эстетика» А. Г. Баумгартена (1750–1758). В первом, заметим, делаются некоторые соображения о разных типах знака (арбитрарные и природные) в разных видах и родах искусств (поэзии, драме, живописи и т. д.). Во втором труде немецким философом предполагался специальный раздел «Семиотика», вместивший учение о знаках, используемых в художественных произведениях. Однако по-настоящему творческой эта семиотика не стала, ограничившись лишь общими классификациями и философскими рассуждениями. Такая логика была доведена до предела уже в начале XX века в концепции швейцарского искусствоведа Г. Вельфлина. В книге «Основные понятия истории искусства» (1915) он сформулировал метод «история искусства без имен». На этих основаниях он выстроил целую типологию художественных стилей. Ясно, что такой подход не мог иметь отношения к глубинной сущности художественного акта, хотя и предлагал более формальные критерии изучения феноменов искусства.
Конец XIX – начало XX века стало временем перелома прежних представлений о сути искусства, о сущности художественного творчества и о природе знака. В этот момент семиотика и эстетика вливаются в единый исследовательский континуум – художественную семиотику. Под этом термином понимается не какая-то единая теория, а целая совокупность подходов к художественному объекту как системе знаков.
Основные вехи на пути становления художественной семиотики (понимаемой широко) в ХХ веке таковы (отметим лишь ключевые направления, не углубляясь в раскрывающие их концепции):
• русское гумбольдтианство и потебнианство: Д. Н. Овсянико-Куликовский, А. Г. Горнфельд;
• эстетическая (морфологическая) школа в языкознании: Б. Кроче, К. Фосслер, Л. Шпитцер, О. Вальцель;
• русский символизм: А. Белый, Вяч. Иванов;
• русский формализм: Р. О. Якобсон, Ю. Н. Тынянов, Б. М. Эйхенбаум, А. А. Реформатский, Б. И. Ярхо и др.;
• постформализм: Г. О. Винокур, М. М. Бахтин, В. Я. Пропп, В. В. Виноградов, Л. С. Выготский, В. Вейдле;
• философская семиотика: П. А. Флоренский, Г. Г. Шпет, А. Ф. Лосев;
• структурная поэтика: Я. Мукаржовский, П. Богатырев, К. Леви-Стросс, Дж. Каллер;
• семантическая эстетика: Э. Кассирер, С. Лангер, Н. Фрай;
• феноменологическая эстетика: М. Мерло-Понти, Р. Ингарден, М. Дюфренн;
• рецептивная эстетика: В. Изер, Х. Яусс, М. Риффатер;
• «тематическая критика»: Г. Башляр, Ж. Руссе, Ж.‐П. Ришар, Ж. Старобинский, П. де Ман;
• парижская семиологическая школа: Р. Барт, Ж. Женетт, А. Греймас, К. Бремон, Ц. Тодоров, Ю. Кристева;
• «новая критика» в литературоведении: К. Брукс, Р. Уоррен, Р. Уэллек, У. Уимсатт, И. Ричардс;
• структурализм в искусствознании: Г. Кашниц-Вайнберг, Г. Зедльмайр;
• семиотика искусства как таковая: Н. Гудмен, М. Шапиро, Б. Кокюла, К. Пейруте, Ф. Тюрлеманн (визуальная семиотика); Р. Барт, С. Зонтаг, Р. Линдекенс, Ж.‐М. Шеффер, Ж.‐М. Флош (семиотика фотографии), К. Метц, П. Пазолини (киносемиотика); У. Эко (семиотика архитектуры); П. Булез, Н. Рюве, Ж.‐Ж. Наттьез (музыкальная семиотика); А. Юберсфельд, П. Пави (театральная семиотика);
• информационная эстетика: А. Моль, М. Бензе, А. Н. Колмогоров, В. А. Успенский;
• Московско-тартуская школа семиотики: Ю. М. Лотман, Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров, Б. А. Успенский, Ю. И. Левин, Б. М. Гаспаров и др.;
• Лиможская школа семиотики: Ж. Фонтаний, К. де Бюзон, К. Зильберберг;
• Московско-новосибирская семиологическая школа: Ю. С. Степанов, В. З. Демьянков, С. Г. Проскурин, И. В. Силантьев, Ю. В. Шатин, О. В. Коваль.
Все подходы, разрабатывающиеся в семиотике, имеют своей целью ответить на следующие главные вопросы: 1) что представляет собой произведение искусства в ряду других объектов гуманитарного и естественно-научного знания; каковы отношения между художественным и научным познанием; 2) каким образом осуществляется художественная коммуникация; 3) как устроена структура произведения искусства; 4) какова природа художественного знака; и наконец 5) имеет ли искусство свой язык или множество языков, и как соотносятся эти языки с другими языками природы и духовного мира.
Из всех перечисленных выше авторов и направлений в изучении знаковой природы художественного произведения мы остановимся в этом параграфе на тех, которые непосредственно касаются в своих работах лингвоэстетической проблематики, то есть взаимоотношения языка и искусства сквозь призму семиотических учений46.
Родоначальники семиотики в европейской науке новейшего времени – В. Уэлби, Ч. С. Пирс, Ф. де Соссюр – не оставили после себя каких-либо размышлений о семиотической природе категории прекрасного. Пирс лишь вскользь упоминал в лекциях 1903 года о том, что эстетические ценности могут принадлежать к разряду репрезентаменов, а именно к их экспрессивному типу. В целом категория экспрессии (экспрессивности), как мы увидим далее, сыграет важную роль в новых теориях языка и новых художественных практиках ХХ века. Но в первых трудах по семиотике решаются вопросы, довольно далекие от эстетических. Факт обращения Соссюра к мифологическим и художественным текстам в поисках анаграмм не говорит ничего о его эстетических воззрениях, однако, как будет показано в следующей главе, ставит несколько вопросов об отношении художественного дискурса к языку как феномену. Обсуждение эстетических аспектов категории знака возникает у следующего после Соссюра и Пирса поколения ученых, близких к семиотике.
Структура эстетического знака: Г. Г. Шпет и концепции глубинной семиотики в России
Первенство в обращении к семиотической проблематике со стороны эстетических учений принадлежит русскому философу Г. Г. Шпету. В предыдущих параграфах мы указывали на первостепенную роль этого мыслителя в интересующей нас лингвоэстетической линии филологических исследований. С одной стороны, он являлся важнейшим преемником и проводником идей В. фон Гумбольдта в русской мысли, в том числе его ключевых идей о языке как творческом процессе и языке как искусстве. С другой стороны, Шпет сформулировал ряд постулатов, относящихся к эстетическому измерению языковой деятельности. Но кроме этого вклада в философию языка и лингвоэстетику, необходимо подчеркнуть его пионерскую роль в обсуждении семиотических вопросов эстетической деятельности. До недавнего времени Шпет как семиолог не был открыт по-настоящему, ведь лишь пятнадцать лет назад был издан основополагающий его труд по семиотике – «Язык и смысл» [Шпет 2005]. Поскольку эта роль до сих пор не была должным образом описана в истории лингвистических и семиотических учений, считаем уместным остановиться на взглядах Шпета чуть более подробно47.
Первым на значимость идей Шпета для семиотических учений указал Вяч. Вс. Иванов в «Очерках по истории семиотики», отметив, что
Шпет был первым русским философом, давшим детальное обоснование необходимости исследования знаков как особой сферы научного знания и изложившим принципы феноменологического и герменевтического подхода к ней [Иванов 1999: 681].
Наряду с П. А. Флоренским и А. Белым он был назван в числе тех, кто предпринял в первые десятилетия ХХ века попытку общесемиотического синтеза, выделив область изучения знаков в качестве особого предмета гуманитарных исследований. Особенно значимыми оказались идеи Шпета, наследующие его учителю Э. Гуссерлю, о знаках как «всеобщем слое», который определяет исходные предпосылки любого социально-исторического знания48. Отдельно были отмечены восходящие к Шпету первые попытки семиотического истолкования эстетики и этнологии.
Небольшое внимание Шпету было уделено и в Тартуской школе, где в «Трудах по знаковым системам» была опубликована статья под названием «Литература», подготовленная Шпетом в 1920‐х годах для «Словаря художественных терминов» [Шпет 1982]. Однако говорить о преемственности идей русского философа в семиотических исследованиях 1960–1990‐х годов вряд ли приходится. Можно встретить упоминание о Шпете в некоторых учебных курсах по семиотике последнего времени, например в книгах [Почепцов 2001: 204–218; Мечковская 2004: 38–42]. Психологические воззрения забытого философа, относящиеся в том числе к проблеме языка и слова, стали предметом работы [Зинченко 2000]. Существуют интересные соображения о вкладе Шпета в развитие семиотической эстетики [Freiberger-Sheikholeslami 1982; Freiberger 1991]. Наконец, на роли Шпета в развитии структурализма и семиотики в России останавливается в своей книге Т. Г. Щедрина [2004]. Она особо подчеркивает принадлежность Шпета к той группе исследователей, которая развивала целостный конкретно-исторический подход к языку, видя в семиотике основу основ любого лингвистического знания49.
Шпет был первым, кто употребил в русской научной литературе термин «семиотика», понимая под ним «онтологическое учение о знаках вообще» [Шпет 2007: 230]. Впервые слово «семиотика» появляется у него в 1915 году в статье «Первый опыт логики исторических наук: к истории рационализма XVIII века» [Шпет 1915], которая затем преобразуется в третью главу «Истории как проблемы логики» [Шпет 2002]. В этом обширном труде философ развивает идею о сближении герменевтики как науки о понимании и семиотики как метода понимания знаков. История для Шпета имеет дело со словом как знаком, который интересует историка прежде всего со стороны своего значения, то есть того, о чем слово сообщает. Потребность в герменевтике возникает тогда, когда «зарождается желание отдать себе сознательный отчет о роли слова как знака сообщения» [Шпет 1989: 232]. Но эта же потребность, в свою очередь, ведет к необходимости принципиально семиотического подхода. В «Эстетических фрагментах» Шпет пишет, что «теория слова как знака есть задача формальной онтологии или учения о предмете, в отделе семиотики» [Шпет 2007: 208].
Еще позже, в 1920‐е годы, Шпет пишет работу «Язык и смысл», где прослеживает истоки семиотической мысли и закладывает основы новой семиотики, которую обозначает теперь более отчетливо как «науку о понимании знаков». Прежде всего, проблема, которая его интересует, – это проблема предмета и формы его выражения. Будучи предметом двойственной природы, знак, согласно философу, относится одновременно и к плану действительного эмпирического мира, и к плану идеальному, постигаемому в мышлении. Посредством понятия знака Шпет стремится добиться ответа на главные свои вопросы: что такое понятие, что такое слово и что такое смысл. При этом понятие «понятия», составляющее главный предмет семиотики Шпета, осмысляется не просто как логическая категория. Логическая форма понятия для него лишь остов самого понятия. Большее внимание он уделяет накладывающимся на логику «внутренним формам», которые опосредуют процесс понимания. В этом смысле шпетовский семиотико-герменевтический метод исследует по преимуществу природу гуманитарных понятий50.
Из всего обилия семиотических идей Шпета нам представляется главной его оригинальная концепция знака и смысла, которая в своей сущности отличается от прочих современных Шпету концепций: Ч. С. Пирса, Ф. де Соссюра, Г. Фреге, Ч. Огдена – И. Ричардса или К. Бюлера. Коренным отличием здесь является онтологизм учения русского философа и его направленность на процесс понимания знаков, что особенно существенно для семиотики художественного процесса. Категория отношения, как нам кажется, является опорным пунктом в шпетовской концепции знака51. «Онтологическое положение знака» мыслится Шпетом в том, что «он не только субъект отношения, которому соотносительно значение, но он сам также есть некоторое отношение, предполагающее свои термины» (520)52. Что подчеркивает Шпет, различая понятия «субъект отношения» и «отношение как таковое»? Субъект отношения – категория статическая, в то время как отношение само – это динамическая категория. Отношение значит в шпетовском смысле процесс отнесения. Именно на этом процессуальном значении категории отношения настаивает Шпет. Если знак как субъект отношения описывается своими внешними формами, то знак как отношение само по себе описуем посредством присущих ему «внутренних форм».
Различение внешних и внутренних форм в дальнейшем Шпет разовьет в отдельной работе «Внутренняя форма слова», но здесь, в семиотическом контексте, это различение важно для объяснения структуры знака. Шпет выводит следующую таблицу (531):
Как видно, внутренние формы определяются как формы самого отношения, тогда как внешние формы, иначе называемые Шпетом «формами сочетания», относятся к эмпирическому, материальному плану знака. Проецируя на структуру знака, эту схему уже нельзя изобразить в виде диадичной модели Ф. де Соссюра или триадичной модели Г. Фреге, Ч. С. Пирса и К. Бюлера. Модель Шпета принципиально динамична и описывает процесс создания и понимания знака, и в частности слова как знака.
Динамичность слова Шпет иллюстрирует на простейшем примере построения слов и высказываний:
«Часть» слова движется и движет к «целому слову», последнее – к «связи», например, суждения или более обширного высказывания, это – еще дальше и экстенсивнее и т. д. Часть влечет к целому, «вещь» – к «отношению», отношение – к отношению более высокого порядка; и в каких бы категориях – логических, грамматических или метафизических – мы ни выражали эту существенную особенность слова, всегда налицо динамизм и движение (584).
Для всех остальных современных ему теорий знака знак – лишь средство. Шпет вводит в процесс семиозиса категорию целесообразности. Движение сознания субъекта от воспринимаемого знака к значению, сообразующееся с определенной целью (с идеей целого произведения) и осуществляемое внутренними формами этого произведения, и называется им «пониманием» как динамическим (коммуникативным) осуществлением смысла.
Если считать, что семиотические учения Ф. де Соссюра и Ч. С. Пирса являются двумя магистральными традициями в современной семиотике, учение Г. Г. Шпета может быть признано третьей, неявной традицией, «мерцающей в толще истории». Ее отличие от пирсовской и соссюровской нам видится в постулировании внутреннего измерения знака (наличии внутренних форм наряду с внешними) и в целесообразности семиотического процесса (наличии цели создания знака). Для Соссюра знак произволен, и отношение между означающим и означаемым описывается в статичной категории значимости (valeur). Он допускает наличие связи между звуковым образом и понятием, но специфическая природа этой связи как таковой его не интересует. Пирс идет несколько дальше и вводит понятие интерпретанты, то есть некоторый момент субъективности семиозиса. Знак для Пирса – это нечто, означающее что-либо для кого-нибудь. Схема коммуникации выглядит для Пирса так, что определенный знак адресуется кому-либо, чтобы создать в уме этого другого идентичный знак. Пирсовская типология знаков предполагает различные логические связи между разными свойствами знака. Однако здесь также отсутствует внимание к тому, как именно осуществляется в динамике отношение между знаком и значением в смыслообразовании53.
Именно шпетовское понятие внутренней формы дает возможность анализировать глубинное измерение знака54. Не случайно концепция внутренней формы выводится Шпетом на материале анализа эстетических форм.
Поэтика должна быть учением о чувственных и внутренних формах (поэтического) слова (языка) <…> [Шпет 1989: 410].
Разработке этого учения он посвящает отдельное исследование «Внутренняя форма слова» (1927). В нем он следует концепции «внутренней формы языка» (Innere Sprachform) В. фон Гумбольдта, применяя ее к сфере индивидуального творчества.
Как указывает Шпет со ссылкой на книгу [Гайм 1898], термин «внутренняя форма» первоначально возник у В. фон Гумбольдта в эстетическом контексте, при чтении и анализе произведений Гёте. Сопоставляя язык с искусством и определяя поэзию как «искусство языка», немецкий филолог отмечал, что она создается «для внешних и внутренних форм, для мира и человека». Однако точное определение «внутренней форме» Гумбольдт не дает, что, в свою очередь, вдохновляет Шпета более отчетливо описать значение внутренней формы применительно к семиотической проблематике.
Во всяком словесном творчестве – научно-понятийном или художественно-образном, пишет Шпет, имеет место планомерное выполнение некоторого замысла. Здесь значимой оказывается именно внутренняя форма – как правило образования понятия (в науке) или образа (в искусстве).
Это правило есть не что иное, как прием, метод и принцип отбора, – закон и основа словесно-логического творчества в целях выражения, сообщения, передачи смысла [Шпет 1927: 98].
Можно говорить о внутренней форме понятия, или «внутренней логической форме», и о внутренней форме образа, или «внутренней поэтической форме». Совокупность таких «правил», законов комбинирования словесно-логических единиц (понятий, образов) Шпет называет «словесно-логическими алгоритмами»:
Такого рода алгоритмы суть также формы образования понятий, и, следовательно, диалектики самого смысла, динамические законы его развития, творческие внутренние формы, руководящие понимающим усмотрением смысла в планомерном отборе элементов, но допускающие свободу в установлении той или иной планомерности <…> [там же: 119].
Внутренние формы как алгоритмы, то есть «формы методологического осуществления, способны раскрыть соответствующую организацию „смысла“ в его конкретном диалектическом процессе» [Шпет 1927: 141].
Как, согласно Шпету, функционируют внутренние формы в художественном процессе?
Во-первых, утверждает Шпет, поэтический (художественный) язык, в отличие от языка прагматического (научного или обыденного), на первый план выдвигает не прагматические цели, а «свои собственные внутренние цели саморазвития»:
Направленность художественного творчества на самого себя, а не на прагматические цели, только в том и состоит, что оно неизменно, как свою внутреннюю форму, имеет в виду сами эти отношения. Они – подлинный объект и руководящая идея поэтического творчества [там же: 143].
Во-вторых – и это вытекает из первого тезиса, – искусство не покрывается одними «логическими внутренними формами», свойственными, опять же, языку обыденному, а имеет свои особые – художественные, или поэтические, внутренние формы. Художественный язык – это всегда «планомерно конструируемый организм», отличающийся единством и цельностью. Законы такой органичности суть «правила, лежащие в самом организуемом матерьяле, его собственные формы, сочетаемые и упорядочиваемые соответственно руководящей идее творчества». Идея эта «лежит не вне данного матерьяла и его форм, а в них самих, и потому автономно осуществляется в их единстве, как в художественной форме форм» [там же: 147]. Последняя создает уже конкретные приемы и пути образования художественных образов и смыслов. Таким образом, внутренние формы играют роль законов образования художественной речи, ее правил-алгоритмов.
Обогащение семиотической теории понятием внутренней формы было связано с поиском семиотических инструментов в анализе форм творческого присутствия человека в языке и эстетических форм в художественном языке. Глубинно-семиотический подход, основателем которого выступает Г. Г. Шпет, ставит во главу семиотического процесса самого человека. В соссюрианской и пирсианской семиотике мир знаков априори признается внешним по отношению к личности. Шпетовская семиотика человекомерна, или «целемерна», в его собственных терминах, объектом ее изучения является совокупность внутренне обусловленных знаков, которые производит и воспринимает человек в коммуникативном и творческом процессе.
Метафора «глубины» очень часто возникает на страницах работ Шпета. Не случаен и образ «капусты» со множеством «логических» слоев, возникающий в «Языке и смысле», описывающий «глубинные» отношения значений в знаке.
Проникая глубже в «смысл» самих понятий, мы встречаем только модификации основных логических структур – и в них законы «смысла» как сущности [Шпет 2005: 600].
Таким образом, русская глубинная семиотика по Шпету предстает как отдельный вектор семиотической традиции, существенно отличный от европейских семиотик по Пирсу и Соссюру. Более подробно эта традиция описана в нашей статье «Глубинная семиотика: Стадии погружения (От «внутреннего человека» к «человеку Авангарда»)»: [Фещенко 2006а]. В разделе антологии [Семиотика и Авангард 2006], который открывает эта статья, опубликован ряд текстов, существенных для осмысления описываемой традиции. Г. Л. Тульчинский предлагает называть эту область «глубокой семиотикой» (deep semiotics), понимая под ней расширение теории знаковых систем (семиотики) за счет категории смыслообразования. Такой подход
подобен переходу от двумерного, плоскостного рассмотрения [знаков. – В. Ф.] к стереометрическому, дающему анализу глубину (высоту). Из плоскости явленной дискурсивности анализ как бы ныряет вглубь, уходя к корням и источникам смыслопорождения, получая возможность рассмотрения его динамики [Тульчинский 2003: 74].
Предпосылки идей «глубокой семиотики» исследователь видит в работах М. М. Бахтина, Н. М. Бахтина, П. А. Флоренского, Л. С. Выготского. Здесь же он говорит о ней как о «третьей традиции», восходящей к В. фон Гумбольдту, В. Вундту, К. Фосслеру и А. Марти. Нам, однако, представляется более правильным говорить не о «глубокой», а о «глубинной» семиотике. По сути, это одно и то же, но в термине «глубинный», по нашему мнению, содержится важный элемент, оппозитивный значению «поверхностного», в то время как в слове «глубокий» не так выражена эта отличительная особенность.
Одним из представителей шпетовского направления глубинной художественной семиотики был искусствовед А. Г. Габричевский, работавший со Шпетом в ГАХН в 1920‐е годы, в частности над проблемами знака в искусстве. Критикуя формальный метод, он указывает на недостаточное внимание формалистов к выразительной и знаковой природе художественного произведения:
ни само искусство, ни другие сферы культуры не осмысливаются в своем своеобразии особых типов выражения, в своей внутренней знаковой структуре [Габричевский 2002: 19].
В статье 1925 года «Язык вещей» ученый говорит о том, что художественная система устроена подобно языку. Язык художественного произведения понимается как знаковая сущность:
Человек как существо социальное не только пользуется вещами, их пространственными и временными отношениями, но их понимает и их осмысляет. Они для него не только вещи, но и знаки, которые являются необходимым условием его общения с другими людьми. Всякое культурное единство, всякая социальная система является всегда в то же время системой знаков, ибо всякая вещь, начиная от собственного тела человека, его движений и звучаний и кончая любым отрезком мира, может быть принципиально вещью социальной, вещью выразительной, т. е. не только вещью, но и знаком, носителем смысла [там же: 31–32].
Отметим, что едва ли не впервые в русском научном дискурсе здесь возникает термин «знаковая система».
Среди записей А. Габричевского обнаруживаются некоторые тезисы относительно искусства как системы знаков:
Вещь – знак
Культура как система знаков
Включение абстрактной вещи в систему культуры через слово, миф, искусство
Произведение искусства как знак
означивающее – означиваемое