HOMO CARCERE. Человек в тюрьме бесплатное чтение
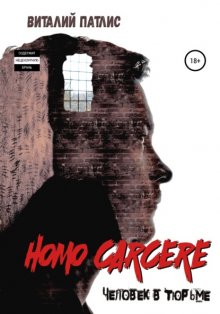
Глава 1
Возвращение
Люди, как правило, не отдают себе отчета в том,
что в любой момент могут выбросить из своей жизни все что угодно
Карлос Кастанеда, «Колесо времени»
Ловлю себя на мысли, что всё не так, как я ожидал. Ни хуже, ни лучше, просто – не так. Как же я мечтал об этом моменте! Как раскрашивал вожделенную картинку мыслями-мазками, ворочаясь на жёсткой шконке, и вдыхая в себя спёртый несвободный воздух. Здесь даже он, воздух, особенный, заключённый в оболочку равнодушных стен, которые, в свою очередь, как каркас внутреннего органа, подвешенного в ячеистом пространстве циклопического тюремного колосса.
Я мечтал об этом каждый день, с момента моего заточения. И каждый день здесь в Бутырке, хоть на минуту, на секунду, на мгновение, переносился в своё будущее. В тот миг, когда суд отменит мой приговор. Я так истово желал ощутить это состояние всем своим нутром, каждым оголённым нервом, что, когда будущее наступило, вместо ожидаемого всеобъемлющего воодушевления, я почувствовал лишь бесконечное опустошение.
Я выслушал объявление о решении суда по видеоконференцсвязи – стоял в камере СИЗО и мялся, переступал ногами; меня почему-то стало морозить, будто от стен пахнуло холодом. Я всё равно ещё не верил, думал, что закралась ошибка: вердикт суда мной услышан неправильно. В этой долгой веренице лжи и зла, добрая весть становится невозможной, невероятной, чем-то из области эзотерики, в которую очень хочется верить.
Я ожидал дикого внутреннего ликования, но его не случилось; меня заполнило вдруг желание немедленно рассказать кому-то, что я уже де-юре свободен, что справедливость, пусть и на недолгий срок, но, всё же, восторжествовала. Но с кем мне было делиться порывом? С холодными стенами?
– Патрис, чего стоишь? – это уже Елена Владимировна, продольная, чуть позже, у вахты, когда меня довели до нашего этажа, и я ожидаю вертухаев, чтобы они завели меня в камеру. Надзирателей должно быть трое, чтобы открыть камеру, иначе нельзя.
– Меня отпустили, – глупо улыбаюсь я, словно произношу какую-то скабрёзную шутку и добавляю: – Я свободен…
Елена Владимировна смотрит на меня, как на идиота. Она в принципе не в состоянии осознать смысла моей фразы. Вокруг шершавые стены тюремного коридора, железные прутья, засовы и решётки. О какой свободе я толкую? Здесь свобода отсутствует априори. Как понятие. То, что человек может оставаться внутреннее свободным, даже находясь в заточении, Елене Владимировне не дано узнать никогда. В её блестящих зрачках отражается только свет электрических лампочек, освещающих коридор, а за ним нет более ничего: чёрная бескрайняя вахтёрская пустота, как в моих снах перед пробуждением.
И тут я ощущаю неловкость. Перед теми, кто останется здесь после меня. Обречённые на долгие страдания души и тела. Мне неловко расстраивать их своей свободой, и я ничего не могу с этим поделать.
Я слабо воспринимаю реальность. Может быть потому, что всё смешалось. Действительность и прошлое. Сознание и воображение. Печаль и радость. Словно долгая тоска по воле породила в моём подсознании некий самообман – с изменением реальности изменится и твоё мироощущение. Как по щелчку пальца. Как после жеста престидижитатора. Куда там!
Меня раздирают противоречия, и в печёнки вползает новый страх. Не успев обрести, я начинаю побаиваться свободы.
Захожу домой, в хату, и на меня немедленно обращаются жаждущие взгляды сокамерников. Прочитать их немые вопросы немудрено.
Как там? Куда ходил? Что видел? Что нового? Рассказывай. Рассказывай. Рассказывай!
Тут, внутри нашей хаты «три на пять» и зарешечённым окном с философским видом на соседнюю стенку, такие вопросы, как никогда, уместны.
– Меня отпустили, – говорю я, словно выдыхаю из себя кусок смрадного тюремного духа.
Мужики искренне рады: не откладывая, начинают делить промеж собой мои вещи и заготовленные на этап пайки.
А я, без сил реагировать на их деловую суету, присаживаюсь на нары и смотрю на тормоза.
Неужели они вскоре откроются, и я услышу ещё неделю назад немыслимое:
– Патрис, на выход с вещами.
Я так пристально всматриваюсь в дверь камеры, что начинает болезненно кружиться голова, и перед сознанием плывёт слоистый туман. Ещё чуть-чуть, совсем немного, и я увижу чистое-чистое небо! Живое, а не расчерченное прямоугольниками наслаивающихся друг на друга решёток. И под этим свободным, укрывающим явь, небом, будет стоять мой милый ангел, моя девочка, которая заслуживает гораздо большего, чем ожидание отца из тюрьмы.
Помню, как ждал рождения своей дочки, приникая ухом к животу её матери. Как говорил ей что-то уже тогда: рассказывал новости, делился надеждами, радовался нашему будущему. Сейчас мир вывернулся наизнанку: Павла ждет, когда я покину чрево мерзкого, грязного, несправедливого узилища, доказав свое право, на пусть и временную, но свободу.
Забегая вперёд – моя дочь Павла, одна из немногих, кто меня не предал и не забыл. Самый родной человек, она испила эту чашу сполна, но осталась заботливой, искренней, любящей даже сильнее чем раньше. А вот многие из других преподнесли мне очень неожиданный и нехороший сюрприз.
Вскоре оказывается, что я был глуп в своих предчувствиях насчёт безоблачного неба – реальность свободного мира оказалась намного страшней. Моё подсознание не успело перестроиться. В нём ещё продолжала крутиться инерция моего срока, моего пребывания «вне» жизни. Я не мог осознать и не мог уложить у себя в разуме очевидные факты. Потому что они противоречили моей внутренней сути, они не влезали в прокрустово ложе моего мироустройства, царапали душу острыми краями.
Мог ли я предвидеть предательство? Чем больше я над этим думаю, тем увереннее моё отрицание. Нет, не мог. По той простой причине, что для него нет оснований. Скорее, наоборот, мне «задолжали» многое. И подобострастные передачки в СИЗО продуктов и лекарств – как раз доказательство их неправоты. Стремление загладить вину, туманом повисшую между нами. Хоть как-то дистанционно оправдаться. Но подлые поступки сложно «замазать» печеньками и колбасой, хоть они и, как никогда, кстати, после трёхразовой камерной баланды. Но это атрибуты другого порядка, вещественные предметы, лишь позволяющие чуть скрасить тюремный быт. А поступки – суть, другое. Тут уже взаимоотношения. Человеческий фактор. Деяния, пусть и произведённые под гнётом ситуации, но которые невозможно отменить. Это уже произошло. Слаб человек!
В чём-то я их понимаю. Тех, кто делал мне подлости. Они ведь предвидели, что когда-нибудь я выйду, и им придётся что-то ответить мне, глядя в глаза. Вот здесь и поможет грев: отправленная мне колбаса и печеньки. Не забывали, заботились.
Но я ошибся.
Потому что недавно получил сообщение по мессенджеру от партнера по бизнесу Андрея Катаева: «…И не забудь отдать долг за всё, что я оплатил тебе в СИЗО — лекарства, письма, передачки, поездки в Нижний для разговора с юристами…».
От того самого Андрея, что писал мне в тюрьму (особенно поначалу) такие обнадеживающие письма. Который убеждал меня, что все в полном порядке и под контролем. Который так хотел выглядеть (хотя бы в письмах) участливым и благородным. И думал, что в состоянии заменить меня «по полной», что сможет «косить» капусту, ведь со стороны многим кажется, что успешным бизнесменом быть не так уж и сложно: повезло пару раз, поймал «пруху» и ходи, давай указания подчинённым. Мало кто представляет «кухню», как бизнес кропотливо выстраивается долгими годами, шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком. За последние три года перед арестом у меня не было ни одного отпуска, а выходные можно на пальцах пересчитать. Спать я обычно ложился, отходя от компьютера в 2–3 часа ночи, а в 8–9 утра был уже на ногах. Таков режим реального бизнесмена на первых порах. И только потом, когда, возможно, компания разрастётся, и денежные потоки станут непрерывными, ты начнёшь делегировать некоторые свои полномочия, но пока ты – «паровоз», который тянет за собой огромное количество вагонов, а имеет в основном лишь обязательства и ответственность. Если вы не готовы работать по 25 часов в сутки, даже не думайте начинать свой собственный бизнес!
Но Андрей, судя по всему, думал стереотипно. Ранее он занимался вырубкой ели и сосны, транспортировал лес в Москву, где продавал. Нехитрая схема какое-то время работала, позволяя иметь «навар». Но когда он увидел реальный фронт работ, когда осознал тот груз ответственности от неоднозначных решений, которые он должен принимать, когда понял, что «дело» несопоставимо с его силами и желаниями, он «спёкся». Вместо необходимого ежедневного нахождения на объекте, стал посещать его один раз в месяц, всё пустил на самотёк. В итоге «профукал» кучу подрядов, за которые я в своё время боролся, выигрывая тендера: всё терялось, всё херилось, деньги уходили «в песок». Письма со успокаивающими фразами: «Не переживай, всё будет работать, и мы сможем давать денег для жизни и учёбы твоей дочери» и тому подобные перестали приходить. А когда я однажды написал свои обоснованные сомнения – чуйка меня не подвела, – получил вот такой ответ от «божившегося» ранее «за веру и дружбу» партнёра:
Андрей:
«…хочется столько жёсткого и матерного тебе написать! Тебя хочется назвать неблагодарным человеком, причём в более грубой форме!.. Я понимаю твою ситуацию, но ты перестань строить из себя жертву, перестань думать, что все тебе должны и то, что ты белый ангел, который без греха!.. Если б ни Дима и ни я, то даже не знаю, с кем бы ты вёл диалог и знал бы хоть что-то с этого мира!..
Я тяну, по-другому не сказать, тяну «Озёрный» … С воздуха там уже не заработать.
…хватит строить из себя бедную овечку, ты взрослый мужик!!!
…я за свои деньги, плюс деньги Димы тянем «Озёрный», делаем, выводим людей, чтобы в первую очередь не подвести твою, ТВОЮ РЕПУТАЦИЮ. Командиров миллион!..
…Ты связь с миром потерял??? Очнись, Виталий!
…Слушать твои «нюни» уже надоел! Все, блядь, виноваты во всём!..
…Многие пишут письма, а хоть один кроме нас Димой что-то сделал??? Только бла-бла-бла. Тебе решать, с кем ты и куда идёшь!» (июнь, 2021)
А ведь по факту я оказался прав. Заказчик рассказал, как «работал» Андрей, как часто появлялся на объекте, как его прораб расслаблялся, а после бурных ночных гулянок спал в подвале, как рабочие были предоставлены сами себе. Кстати, они-то как раз хоть что-то делали, честь им и хвала. Излишним будет говорить, что Андрюша по моему выходу запросил кругленькую сумму денег в виде зарплаты. О том, что мы понесли убытки в первую очередь «благодаря» его руководству, он, почему-то не подумал.
Когда у некоторых людишек создаётся впечатление, что рядом с ними богатый, но недалёкий человек, велик соблазн отщипнуть кусок пирога, мол, не обеднеет «барин». Такие как Андрей или его дружок – адвокат Вячеслав Кирик, видимо, тоже так решили. Но я умею считать деньги. А пешек, возомнивших себя ферзями рядом с королём, вычисляю, пусть и не сразу, но всегда.
Но я, конечно, отдам тебе, Андрей, за передачки в СИЗО. И другим отдам тоже. Оторву от себя вместе с кусочком души, заклеенной поверх многочисленных шрамов синей изолентой. Меня мало что может сломить. Тюрьма всё доказала. Так что сильно не обольщайтесь.
Но это случится чуть позже, до этого пока относительно далеко. Я ещё шагаю по внутреннему дворику Бутырки и мне, не поверите, любопытно. От того, что вижу сейчас то, что почти год было скрыто от меня стеной. Я находился совсем рядом, внутри, но не мог знать, как оно выглядит снаружи.
Путь на волю не быстр. Сдать матрасы, постель, посуду, тапочки и остальное казённое имущество. Отснять «пальчики». Потом – сборка. Место, где собирают зеков на любые отъезды. И только тогда, после очередного ожидания, офицер выводит меня на задворки. Прогулка по дворику и передо мной заветная дверь. За тремя сетками колючки. Но я миную её, не прикасаясь, протискиваясь ещё ближе к свободе. Процедуры повторяются в последнем по счёту моего пути тюремном форпосте. Трижды – снятие отпечатков. Трижды – назвать своё имя-отчество-фамилию. Статья? Когда заехал? В какой камере сидел? Фамилия? Статья? В каких СИЗО ещё был? Когда заехал? В какой камере сидел? Статья?
Проверяют, тот ли я человек.
Я отвечаю механически, ни на секунду не задумываясь. Мои ответы слетают с губ автоматически, гладко отшлифованные многократными, тысячными повторениями.
Подписываю подсунутые бумаги.
Лязгает последний засов.
Выхожу за дверь. Меня принимает в объятья темнота. На улице ночь. И в беспроглядной тьме, как два жёлтых подсолнуха – автомобильные фары. Для меня это маяк. Я немедленно двигаюсь к свету, твёрдо зная, что не споткнусь об торчащую из асфальта скалу.
Распахивается дверь и навстречу мне бежит мой Ангел, моя доченька. Руки её распахнуты, словно она боится не поймать меня в объятья. Я бросаю сумки, и мы кружимся в долгожданном, желанном вальсе встречи. Радостная энергия моей дочери впитывается в меня с пьянящей быстротой, проникая сквозь нелепую одежду и втискиваясь через поры.
– Папка, – шепчет она, щекоча мне ухо, – я так тебя ждала!
– Поздравляю, – говорит мне Дима с водительского сидения, когда я сажусь в машину. Я недоумённо вскидываю голову. Мне кажется или я не чувствую в его сухом приветствии искреннего участия? Которое я, несомненно, собирался услышать от человека, который, по сути, стал мне сыном. Я взял его, двадцатилетнего, под свою опеку, одел, обул, обогрел, вытащил из страшного болота, научил жизни, поставил на путь истинный.
Нет, не показалось. В салоне машины висит, исходящая от Димы, тяжёлая взвесь злобы и непонимания. Откуда она взялась? Я ведь вышел, а не сел. Что случилось?
Мне не терпится задать эти вопросы, но я хочу хоть немного освоиться. Хоть чуть-чуть порадоваться вместе с моей девочкой. Успеется. Разберёмся. Мы ведь едем домой. В мой дом. А там и стены помогают.
За окном авто мелькает ночная Москва. По первому впечатлению такая же, как раньше, но мой усталый взгляд замечает и изменения. Хотя, может это изменился я? Тюрьма никого не оставляет прежним. Сквозь призму проведённых там дней окружающая обстановка начинает менять очертания, словно отражаясь в искривлённом зеркале.
Не мы такие – мир такой? Нет. В центре любого мира ты сам. Твоя эгоцентрическая модель крутит вокруг тебя вселенную. И всё что ты делаешь в ней, оставляет свой отпечаток.
Ночь длится для меня гораздо дольше, чем для остальных. Мы за столом, отмечаем моё освобождение, но на меня ещё сильнее давит отчуждение Димы. Иллюзия моего фантомного присутствия становится ещё ярче. Я читал, – о, сколько книг я прочёл в тюрьме! – что вышедшие на свободу зэки часто испытывают деперсонализацию. Жизнь долго продолжалась без тебя, она не останавливалась ни на секунду во время твоей отсидки. Тебя тут не было. Поэтому, если не будет и сейчас, то мало что изменится. Я заново вошёл в мир и тут же растворился в нём призраком. Сижу за столом, пью вино, а на самом деле свет проходит через меня насквозь. Минуты, часы, дни, может – недели, а может и вечность, прежде чем я обрету способность сосуществовать с действительностью. Развяжется язык, рухнет внутренний барьер, ограничивающий обзор, и я стану видеть намного больше, чем расчерченный квадрат тюремного окошка. Но пока я чужеродный элемент. Душа не успевает за телом.
Но зато начинают проясняться окружающие детали. Неискренность Димы обретает осязаемые черты и удобные основания. Моя фирма работает теперь на него. Все мои объекты под его патронажем. Дмитрий Викторович – Большой босс. Он, кстати, не одинок в своих притязаниях. Часть бывших моих сотрудников – теперь его команда. Команда, узурпировавшая власть и вовсе не стремящая ею делиться. С этой точки зрения я для них – угроза. Моё «воскрешение» провоцирует страх, гнев и ненависть. Вкус денег – тот вкус, которым почти невозможно насытиться. Пригубив однажды, остановиться сложно.
Рассыпанной дробью отскакивают от сознания первые дни на воле после освобождения. Я стремлюсь успеть за собой же, но пока получается скверно.
Окончательно понимаю, что никто и не собирается возвращаться к истокам. Словно у всех – выборочная амнезия. Сколько лет и сил я потратил на выстраивание бизнеса! Создал фирму, тщательно подобрал штат, закупил оборудование, транспорт, нашёл самых крупных клиентов, лично рисовал им проекты, выводил на контракты.
Но теперь после звонков вежливости – узнать, как обстоят дела с предоставлением услуг и со строительством, следует разъярённая трель смартфона. Абонент – Дима.
– Не смей лезть в мои дела и общаться с моими клиентами! – орёт он в трубку так, что мне приходится чуть отодвинуть её от уха. – Это – моё, не смей!
Слышать такое от человека, которого ты, по сути, вырастил, горько. Я же выпестовал его, забрав из грязной подворотни. Слепил из глины безнадёги, указал путь, дал в руки фонарик. Где я ошибся? В какой момент утратил бдительность и оставил чёрную полосу в его воспитании?
Я отключаюсь и откидываюсь на сиденье авто, уложив руки на руль. Надо ехать, но я не могу. В груди разгорается пульсирующая боль, будто сердечная оболочка раскалена и распирает изнутри огненными иголками. Аритмия. Мой злой и неотступный демон. Он то затихает, дремлет, помахивая меланхолично хвостом, то просыпается, встаёт на ноги, и, задрав вверх уродливую морду, начинает протяжно выть.
Я поглаживаю себя ладонью по левой груди, словно пытаясь приручить демона, задобрить, успокоить. Тщетно. Надеюсь, кардиологу, к которому я записался на послезавтра, это удастся не в пример лучше.
Делать нечего, я выруливаю на проспект. Одновременно – работаю. На моём планшете распорядок текущих дел. Мне требуется догонять время. А для этого создавать мир заново. Звонки, клиенты, переговоры. Сайт, реклама, коммерческие предложения. Адвокат. Один, второй. Меня выпустили из тюрьмы, но дело моё не закрыто. Нет никакой гарантии, что не будет рецидива. В этой стране судебная власть не ошибается. Она, с точки зрения силовых структур, безупречна. И никакой винтик, выпавший по небрежному недосмотру, не сможет заклинить огромный вращающийся механизм, именующийся жерновами правосудия. Так что я не питаю иллюзий и разговоры с адвокатами – теперь неотъемлемая часть моей жизни.
Но в коротких передышках между деловыми обсуждениями меня не оставляют горькие вопросы. Как? Как случилось, что мой почти родной человек меня предал? А ведь по-другому это назвать нельзя. За какие грехи я расплачиваюсь? Что я сделал Диме, извините – Дмитрию Викторовичу, такого, чтобы так со мной поступать? Что он видел от меня кроме добра? Я не могу найти, за что зацепиться, чтобы оправдать этого человека. Подспудно хочу, но не могу. Необъяснимо. И от того ещё страшней.
Дима… Дима… Я хотел, чтобы он стал моим сыном, я называл его моим сыном, я относился к нему какое-то время как к сыну. Но. Этого оказалось недостаточно. Сыном моим в любом понимании этого слова Дима так и не стал.
Всем, наверное, знакомо чувство, когда видишь глаза «няшного» щеночка в собачьем приюте. Ты одновременно и умиляешься, и ужасаешься. Сердце обливается кровью: как такую милягу обрекли на бездомную жизнь? Нечто похожее произошло у меня с Димой. Я нисколько не хочу как-то оскорбить его таким сравнением, так как привожу его исключительно в ассоциативном контексте – когда я впервые встретил Диму, взгляд его нисколько не соответствовал возрасту. У него был милый и доверчивый взгляд той самой брошенной собачки – ну как не взять такую к себе домой, накормить, обогреть, пожалеть?
Хочу отдать должное – после того, как я поселил Диму у себя, он умел быть за это благодарным. Когда я набегавшийся и уставший приходил домой, знал, что меня там кто-то ждёт. И не просто ждёт, а заботится. Уберёт в квартире, приготовит ужин. И вечер у нас пройдёт по-семейному – мы поговорим как отец с сыном: про то, что сегодня случилось, как дела в школе, какие планы на завтра. Видимо я реализовывал – и до какого-то времени вполне успешно – свой нерастраченный отцовский инстинкт. Хотя у меня была дочь Павла, но так случилось, что я не мог в тот момент находиться рядом с ней. И вот появился Дима, который встречал меня радостной улыбкой; как собачка встречает хозяина, всегда радостно виляя хвостом, вне зависимости от текущего настроения. Мне такое отношение чрезвычайно льстило. Оно создавало иллюзию настоящей, хоть и не полной, семьи. Но сейчас я отчётливо понимаю, что уже тогда это был некий эрзац, мой ответ попыткам и стремлениям приблизиться к гармонии.
Но я совершенно бескорыстно, абсолютно не думая о какой-то там благодарности, с удовольствием погрузился в эти хлопоты по опеке над Димой. Проблем у него накопилось выше головы. Самое первоочередное – требовалось доучиться, получить базовые 11 классов, которых у него до сих пор не имелось – прямо из-за парты он отправился шабашить на стройку, чтобы содержать себя и бабушку, остальные члены его большой семьи или умерли или исчезли из его жизни. Мало того, что он толком не закончил школу, так он ещё и подорвал тяжёлым физическим трудом здоровье – заработал межпозвоночные грыжи. Я занялся его судьбой энергично и эффективно. Уже тогда мои управленческие навыки помогали открывать разные двери и способствовать решению насущных проблем.
Небольшой нюанс: нельзя сказать, что Дима хорошо учился в школе. Когда я увидел его аттестат, был слегка шокирован – по большинству предметов стояли очень слабенькие «тройки-пятёрки»1. Только много позже я понял, что это как раз и есть честные оценки. Потому как когда я его устроил доучиваться, он выпустился с «семёрками-десятками», и вот они, по многим причинам, чаще всего оказывались «натянутыми». Нетрудно догадаться, что эти дутые «десятки» аукнулись потом Диме при поступлении в институт. Но об этом чуть позже.
Пока же я с огромной радостью отмечал с ним и с его друзьями аттестат об окончании среднего образования. А также «обмывал» почётную грамоту, выписанную лично «родителям Кравченко Дмитрия» за «успешную учёбу и примерное поведение сына».
– Так выпьем же этот бокал за маму и папу, – под общее веселье предлагал один из лучших друзей Димы, указывая на меня. И все смеялись ещё сильнее. Я – в том числе. Мне казалось, что аттестат – вещественное доказательство моей правоты и моей состоятельности. Я уже смог что-то дать своему «сыну», значит я действую в верном направлении. Мало того – я чувствовал гордость, что приложил к отмечаемому событию руку.
Я снова вижу этот взгляд человека, которого я растил и кормил восемь лет. Во взгляде – сожаление от того, что я вышел. Не стоит себя больше тешить иллюзиями или обманывать. Меня предали жёстко и цинично. И один из предателей – мой сын Дима. Пусть сын не по природе, но по смыслу. Придет время, я поведаю всю историю подробно. Сейчас – не могу, не хочу. Неужели ему настолько застили глаза прибыли? Нули в семизначных числах? Но ведь это только цифры. Наверняка не обошлось без серого кардинала, этакого манипулятора неокрепших душ. Об этом я тоже расскажу. Стоило мне исчезнуть из жизни, меня тут же начали предавать. Подло, по крысиному. Те, кого я считал своей опорой, последователями, компаньонами, братьями. Тот, кого я считал сыном. Но кто мог знать? И главное – за что они так со мной?! Я не понимаю. Деньги никогда не станут главными в этой жизни. Никогда. Что ж, существует ведь и абсолютная величина – правда. Выше которой – справедливость. А ещё выше – милосердие.
Да воздастся каждому…
Я включаю в наушниках музыку. Слушаю и машинально подкручиваю руль, рывками двигаясь в бесконечной московской пробке. NЮ обволакивает мой разум мягким махровым саваном.
А мы с тобой теперь никто.
А помнишь, раньше был ток?
Вокруг меня другие машины, грязные от дождей, разноцветные, равнодушные.
А ты меня – в блок
А я тебя короновал
И никому не отдавал
И как умел – так радовал.
Я пою с парнем дуэтом, хотя не размыкаю губ.
Я тебе стал чужим и слова как ножи
Только сердце как хрусталь
Если бы не дорога, я закрыл бы глаза и слушал эти строчки. Мёртвый, недвижимый, успокоившийся.
Может, это был я —
Тот, кто выкрутил краны?
Жизнь в картонной коробке
Нам с тобой в одной лодке
Не переплыть океаны.
Зачем вышел? – думаю я. – Если при встречах со знакомыми вижу лишь неопределённое пожимание плеч, и слышу пару ничего не значащих дежурных фраз? В списке моих душевных деформаций – горечь и разочарование. А в моём сердце – боль и обида. Смысл настоящего зыбок и размыт. Для чего я пережил своё заключение? Вытерпел такие лишения? Свобода не принесла мне духовной поддержки, она обманула меня, выставив беспомощной игрушкой судьбы.
В тюрьме меня лишили ответственности. Кто-то решал за меня, не заставлял сомневаться, и это выглядело по-своему честно. И просто. И теперь я понимаю тоску освободившихся. Они не могут принять себя в диком мире, и подспудно стремятся вернуться туда, где за них всё решат.
Там, в камере, я извращённо упивался своей болью, полагая, что познал всю глубину страдания. Но теперь я понимаю, что опускаюсь глубже и глубже. Разочарование, ухватив меня за шкирку, топит и тянет вниз. Есть ли у этой черноты дно? Возможно, я скоро об этом узнаю.
Но реальность продолжает для меня оставаться парадоксальной. С каждым рывком я становлюсь не слабее и депрессивнее, а сильнее, мудрее и злее. И уже приближаюсь к своему, убежавшему вперёд силуэту, на расстояние вытянутой руки.
Но приблизившись ещё, я с удивлением понимаю, что всё возвращается в нулевую точку отсчёта. Вот меня снова арестовывают в зале суда, и я трясусь обречённо в автозаке. Прошлое проворачивает со мной жестокий фокус. Я отскакиваю от реальности и проваливаюсь в воспоминания, которые начинаются с первого дня моего заключения. И в тот момент, я даже не подозреваю, когда я выйду. И выйду ли вообще.
Глава 2
Вечер в хату
Вот это и есть, наверное, самый страшный
сатанинский соблазн – решать чужие судьбы
Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер
«Петля и камень в зеленой траве»
Почему так? Я не знаю.
Меня осудили по статье 159 часть 4 УК РФ2. Заключили под стражу после оглашения приговора в зале суда и отправили в камеру. Когда началась ночь, нацепили наручники и препроводили в автозак.
Мой адвокат, по пути в суд, утверждал: максимум, что мне грозит – «условка».
«При любых, самых неблагоприятных раскладах, – говорил он, – будет условный срок, но, скорее всего, оправдают».
Я трясусь на жёсткой скамейке зарешечённой камеры-обскуры автозака и не знаю, куда деть руки.
«Почему так?» – спрашиваю я себя.
Сейчас я не в силах сопоставлять какие-то события. Конечно, обвинение мне предъявили не вчера. Были и странные обыски, и мера пресечения в виде домашнего ареста. Маховик правосудия раскручивался постепенно. Но ведь и я не сидел, сложа руки. Позже я расскажу вам подробности дела и моей борьбы за свободу, но это произойдёт не сейчас. Потому что сейчас я задыхаюсь от сигаретного дыма – попутчики-заключённые нещадно смолят, – выхватывая в коротких проблесках хлопающей дверцы автозака ночное небо. Нас возят по судам, ИВС и СИЗО по какому-то неведомому маршруту всю ночь. Выводят из одного автозака и пересаживают в другой. Так – почти до бесконечности. В сигаретном дыму сменяются лица – разные: перекошенные, отстранённые, серые, безликие, с признаками вырождения, всякие. Внутрь пихают всех подряд, без разбора: разные статьи, разные возрасты. Моя прострация накладывается на изматывающую усталость, я зыркаю исподлобья, но, со стороны, видимо, мало отличаюсь от остальных.
– Какие короткие строчки? – с вопросительной интонацией шепчет мой сосед, судя по всему, у него ломка. 228-я «народная» статья, по которой гребут всех подряд. Подкинуть малюсенький пакетик – раз плюнуть. Могут засадить любого. Но этот парень явный «нарик». Губы шевелятся у пацана почти непрерывно, похожие на двух полумёртвых червей. С носа свешивается неприятная прозрачная капля. Он бредит и повторяет бесконечно одно и то же. «Какие короткие строчки?», «Какие короткие строчки?», «Какие короткие строчки?». Иногда, на мгновенье замерев, и явив в своих зрачках хоть какую-то тень осмысленности он добавляет: «А?». Но огонёк тут же тухнет, и он продолжает свой бессмысленный речитатив.
Его выводят на очередной остановке и теперь рядом со мной интеллигентного вида мужчина. Скорее всего, мой «коллега» по экономической статье. Кажется, он собирается дремать, и я ему завидую. Сам я не спал уже больше суток, но даже мысль о том, что в таких условиях можно отключиться, мне смехотворна.
Автозак подбрасывает на кочках, натужно ревёт движок и всё повторяется. Переезд до очередного ИВС, выход, пересадка и снова кочки.
Когда в 4 утра нас, наконец, привозят в СИЗО, я полностью опустошён. Я ничего не чувствую, голова словно набита ватой. Внутренности изолятора как декорации кинематографического арт-хауса. Только вот атмосфера не та: воздух давит!
Нас, десятерых, размещают в отстойник. Камера полтора на три метра с дыркой под туалет. Мы ждём. Ждём. И снова ждём. Изредка лениво открывается дверь камеры (пока это ещё дверь, завтра – уже «тормоза») и очередного «счастливчика» уводят на оформление.
Приходит и мой черёд. Вертухаи обшманывают мои вещи, раздевают догола. Внимательно осматривают, не проношу ли я чего в себе. Потом угрюмый доктор берёт у меня кровь на ВИЧ и мазок на КОВИД. После процедур мне выдают матрас.
В 7 утра я оказываюсь в камере. Опускаюсь на шконку и «закидываюсь» феназепамом, чтобы не слететь с катушек.
Почему всё так? Я не знаю.
Спросите любого заключённого, за что он сидит? И услышите в ответ – ни за что. Наверное, так было всегда; данный ответ своеобразный образчик лагерного фольклора. Но существуют специальные независимые исследования, которые проводили очень уважаемые и профессиональные люди. Неофициальная статистика нашей страны для официальных людей. Их выводы неутешительны: 30% осуждённых невиновны, 30% сидят не за то. Остаются те самые 40%, определённых «в места не столь отдалённые», что называется, за дело. Вдумайтесь в эти страшные цифры! На дворе вовсе не 1937 год. С тех пор прошло более 80 лет! Россия – оплот демократии и гражданских свобод, о чём нам регулярно сообщают, чтобы не забывали, вывешивая лозунги на растянутой праздничной ширме. А за той самой ширмой отбывают сроки тысячи невиновных людей. Кому нужно такое правосудие?
Знаете, каков процент оправдательных приговоров в Российской Федерации? Существует статистика в открытых источниках. Уже несколько последних лет она колеблется возле 0,3%! Аж три человека на тысячу из тех, кто угодил в лапы судебной системы России, выходят из зала суда свободными. Любой здравомыслящий человек понимает, что такое невозможно при наличии объективного расследования. Да в таких делах статистическая погрешность будет больше! Что же это получается? Попав в систему правосудия в качестве обвиняемого (не важно по какому делу, даже исключительно высосанному из пальца) ты почти со стопроцентной вероятностью будешь осуждён. В правовом государстве! В разгар двадцать первого века!
Ты будешь осуждён ещё и потому, что ни в одном сегменте судебной вертикали нет заинтересованных лиц для прекращения твоего дела. Каждый оправдательный вердикт, вынесенный судьёй – риск поставить пятно на репутации. Расчёт очень простой – продвижение вверх по карьерной лестнице зависит у судьи, в том числе, и от количества отмен. Этот показатель важен всегда – при любой жалобе, при апелляциях (а их прокурор подаёт автоматически в случае оправдательного приговора, и такое представление чаще всего удовлетворяют в высшей инстанции). То есть получается, что судья при отмене ручается своим личным благополучием за подсудимого, за совершенно незнакомого человека, который ему никто. Как думаете, многие пойдут на такой риск? Ответ очевиден – он в статистике.
А каково приходится следователям, что вели дело? При оправдании подразумевается, что они некачественно выполнили свою работу со всеми вытекающими. Вот и получается, что на одной чаше весов подозреваемый, читай – подсудимый, а на другой – повязанные круговой порукой представители «смежных» силовых ведомств. Отсюда и стрелка весов очень далека от срединного положения, где написано «справедливость».
И ведь вопрос – «Почему так?» не только к силовикам, но и к законодателям. С их молчаливого согласия продолжается беспрецедентный судебный беспредел в огромной стране: никто и не собирается раскачивать лодку и бороться с ветряными мельницами, вернее, жерновами правосудия, отправляющих невинных людей пачками в земной ад.
Зато, какие пламенные речи нам толкают с трибуны! Как «первые люди» страны делают вид, что «поддерживают» бизнес, какие наказы декларируют главам силовых ведомств!
А реальность окунает нас в зазеркалье.
Три года назад Президент вещал, что необходимо снижать статистику по экономическим преступлениям, не следует окончательно изводить малый и средний бизнес. Глава МВД берёт под козырёк. В 2019 году по 159-й экономической статье садят 280 тысяч человек, в 2020–330 тысяч, 2021–380 тысяч.
И все делают какой-то вид, что всё в порядке. Держат холёную мину на лице и продолжают рапортовать об успехах. Они, безусловно, есть. С таким-то КПД правоохранительной системы – 99,7% осуждённых. И мышь не проскочит. Театр абсурда. Театр теней.
Добавляет кошмара осознание того, что 159-я и 228-я – статьи «народные». За экономическое преступление (как и за всё, связанное с наркотиками) за решётку может отправиться абсолютно любой человек. Это не художественное преувеличение. Механизм отлажен и смазан. Никаких осечек. Перешёл кому-то дорогу – будь добр отправиться на нары. Что-что? Справедливое правосудие? Не смешите. Если ты поставил подпись под каким-то экономическим документом – ты уже потенциальный кандидат на «в особо крупном размере». А если у тебя завелись друзья предприниматели, то и «по предварительному сговору». Работает всегда и всюду на территории Российской Федерации. Без исключения.
Как пел Высоцкий:
«… Никто поделать ничего не смог.
Нет, смог один – который не стрелял!».
Если только так.
Но и этим не закачивается фантасмагория.
Я повидал за время заключения самых разных людей. Убийц, насильников, налётчиков. Так вот, многие из них – осуждены на пять, шесть, семь лет. Люди же, порой криво сопоставившие дебет с кредитом, отправляются за решётку и на восемь, и на девять, и на десять лет. Что это? Как такое возможно объяснить?
Монстры, определённо опаснейшие для нормального общества, отбирают человеческие жизни, калечат судьбы, и отбывают себе свою «пятёрку» на казённых харчах. А фигуранты многочисленных дел, обворовавшие государство на пару миллионов рублей, получают «десятерик»! Вместо того, чтобы быть наказанными рублём, как во всех цивилизованных странах. Ну какая польза от интеллигента, шьющего шапочки в колонии? Пусть отдаст сворованное в двойном размере и получает «условку». Чем не наказание (такое уж точно не забудешь) и для государства перекрывающая компенсация ущерба. Что мешает законодателям принять такие меры? Генетическая память? Страх? Инерция? Кому тогда нужны такие законотворцы? Риторический вопрос.
Первые двое суток я веду себя в камере, как зомби. Хотя это внешнее впечатление, внутренне я, как мне кажется, коммуницирую, говорю слова, совершаю определённые физические движения. Но всё – самообман. Я зомби. Единственное осознанное действие – периодическое закидывание в рот таблеток. Ребята потом не преминут пошутить на эту тему – мол, очередной «нарик» под веществами. Они же мне потом и скажут про «зомби». Но пока сокамерники особо меня не трогают. Понимают, не впервой, сами проходили.
Внутренне осознать несвободу крайне тяжко. Этому противится мозг, как чему-то неестественному, невозможному. Сознание отторгает случившуюся ситуацию, как злокачественное новообразование. Но ничего не может с этим поделать. Никто не может. И я не могу.
СИЗО-7 в Капотне – «красный». Сие значит, что власть в изоляторе «принадлежит» администрации. Таких учреждений в исправительной части пенитенциарной системы России сейчас подавляющее большинство. В чистом виде «чёрных» зон, где правят воровские понятия, а контролируют порядки «положенцы», практически не осталось. Да и само звание «положенца» – тюремного смотрящего сходит на нет. В том числе и потому, что за такое «налаживание» тюремного быта могут впаять прицепом 210-ю – от 12 до 20 лет срока – «организация преступного сообщества», мало кто обладает такой жертвенностью.
СИЗО в Капотне относительно новый, «хозяйка» периодически делает обход лично, что встретишь не так уж часто. Но общие тюремные нравы неизменны. Крайне пренебрежительное отношение к заключённым, бесправие «подопечных», несоблюдение их прав. Выживай как хочешь.
Несмотря ни на что в нашей камере номер 201 то и дело раздаётся смех. Пожалуй, у нас самая весёлая обстановка на всём этаже. До поры до времени, конечно, но тем не менее.
Я уже «оклемался». С удивлением слушаю рассказы сокамерников про себя самого. Того себя, что с пустым взглядом вошёл в хату и завалился на нары.
– Зомбак конкретный был, – снова подтверждает Макс, глядя на меня своим блестящими глазами. – Ещё и колёса жрёшь горстями.
Фактически он прав. Феназепам, который я купил ещё перед судом – по сути, совершенно случайно – и распихал в карманы, помог мне на первых порах удержаться на плаву сознания. Не знаю, справился бы мой мозг без этих таблеток с новой окружающей действительностью. Препарат меня оглушил, размыл рамки происходящего и сгладил извращённость реальности. Притопил внутреннюю боль, позволил совершать какие-то необходимые автоматические действия. Чтобы время от времени выныривать на поверхность в мутной слизи наступившего кошмара и делать пару глотков воздуха. Чтобы продолжать дышать.
Поэтому я не спорю, ребятам виднее. Главное сейчас, что в хате не какое-то сборище монстров, а вокруг меня люди, всякие, осуждённые по самым различным статьям, но люди. Можно сказать, обычные.
Вот, например, на соседних нарах дед Ваня, хрестоматийный пожилой мужик, чем-то неуловимо напоминающий мне моего отца. Простой, хозяйственный, «от сохи», ещё той, советской закалки. Ему 65 лет, а история его поистине удивительная. Он сидит за убийство по 105-й и, единственное, о чём сожалеет, что может не успеть понянчить внучат.
Пятнадцать лет назад, они с коллегами по работе – вчетвером – поехали в очередную командировку. Как водится, вечером завалились в какое-то кафе посидеть, отдохнуть. Во время одного из перекуров, зацепились в перепалке с другой компанией таких же подвыпивших ребят. Слово за слово, всё закончилось дракой. В какой-то момент увидели, что один из оппонентов не дышит. Недолго думая, скинули труп в овраг и на следующий день из города улетели. Дальнейшая судьба четвёрки сложилась по-разному. Один уехал за границу, второй умер через пять лет после инцидента, третий загремел в психушку, видимо не справившись с произошедшим, а дед Ваня жил себе потихоньку, работал, ждал появления внуков. И вот, через пятнадцать лет после той драки, один из фигурантов, тот, что коротал оставшиеся дни в дурдоме, вдруг разоткровенничался настолько, что наши доблестные служители закона возбудили дело. Следователя не смутила ни давность, ни текущее состояние заявителя: материалы подняли из архива, стряхнули с папок пыль и пустили в производство. Понятно, что в этот момент дед Ваня был уже обречён. Его быстро взяли «под белы ручки», впаяли шесть лет и отправили на соседние со мной нары.
– Одного-то успел понянчить, – доверчиво говорил он мне. – А вот внучку нет. А так хочется. Сам пожил, детей поднял, а вот с ней не успел, да и боюсь, что не успею, кто знает. А чего ещё-то желать, Виталя? Чего ещё?
Я смотрел в его открытое, «крестьянское» лицо и меня поражала простота и в то же время глубина высказанных им фраз. В заключение начинаешь совершенно иначе относиться ко времени. Каверзная, страшная субстанция – время. Невидимый, но осязаемый тёмный спрут с тысячью щупальцев, которые с чавканьем присасываются к твоему мозгу, извлекая из тебя целые куски жизни. В стенах камеры время течёт совершенно не так, как на воле.
Пребывая в заключении, я перечитал очень много «умных» книжек. Было любопытно (несмотря на окружающие обстоятельства) примерять такие советы на моё текущее местопребывание.
Например: «На всякий случай скажу: никогда не бывает слишком поздно — или, в моём случае, слишком рано, быть тем, кем хочешь быть… Можешь меняться или оставаться прежним. Тут нет никаких правил». Цитата из Йэна Ашера («Человек, который продал жизнь на Ebay»), который в свою очередь декламирует фразу из фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона».
Актуально, учитывая какие перипетии случались со временем в этой фантастической постановке. Потому что, еще раз – в тюрьме время течёт по-особенному. И теория относительности в этом случае ни при делах. Дело в восприятии арестантом нового усечённого пространства. В искривлении прежней парадигмы такого восприятия. В ненормальности окружающих законов, как на холстах Сальвадора Дали.
После слов деда Вани я немедленно вызываю из сознания образ моей дочки Павлы и сразу же начинаю задыхаться от чувств. «Всё ради неё, – думаю я. – Моя жизнь только в ней».
Дед Ваня коротко вздыхает. В его глазах – тихая затаённая грусть.
– Может, успею всё-таки, – произносит он совсем тихо, но я слышу в его словах только обречённость.
Наш разум сопротивляется настоящему.
Несмотря на ту самую обречённость, у каждого – в своей собственной степени – мы, сокамерники, ведём себя порой парадоксально. Возможно, это неявная защита организма на физиологическом уровне. Мы отпихиваем подальше навязанные ограничения, стараясь вести себя естественно в предложенных обстоятельствах. Мы непроизвольно цепляемся за осколки обычности. Мы травим байки и иногда смеёмся над ними до самого утра. Будто, мать вашу, мы собрались посидеть в гараже за бутылочкой с крепкой. Защитная реакция. Не более того.
Мы шутим, мы балагурим, мы прикалываемся.
– Ты смотри там, – шепчет мне Макс, страшно округляя глаза. – Дедок-то не простой, «стопятый». Зенки зажмуришь, а утром не проснёшься, пришьёт.
Я отпихиваю его рукой – вот балабол!
Но, словно подхватывая правила игры, после пробуждения, окликаю деда Ваню, который уже шуршит по хозяйству в хате.
– Спасибо, Петрович, за то, что даёшь пожить.
Дед, ухмыляясь, крякает и машет рукой: ну что взять с дурачков?
Ближе к вечеру Валя Эргарт, молодой ещё парень, напяливает на голову смятую в треугольник подушку. Удерживая её в равновесии, он пытается заложить ладонь «за лацкан» и чеканным шагом идёт по хате.
– Я Наполеон, – заявляет он, высокомерно оглядываясь по сторонам. – Бонапарт, бля. Я тут главный! И буду командовать парадом! Всем ясно?
Всем ясно и все ржут. Почему-то тут очень хорошо заходят незатейливые шутки. Стоит кому-то хоть «отчебучить», и все покатываются с нар от смеха. Ещё один признак квазисвободы: мы будем смеяться, а не плакать.
Эргарт сидит по 158-й: кража. Причём у него вторая ходка. Удивительно, а так и не скажешь. Нормальный парень. Понимающий. Позитивный.
– Всё нормально будет, – поддерживает он меня. – Всё пройдёт, пройдёт и это.
И он так ко всем. Подбодрит, подскажет, поможет.
Иногда Эргарт начинает петь. Ужасно фальшиво и, судя по всему, какие-то самопальные песни.
– «…И тя-я-я-я-нется срок,
– скрипуче выводит он, встав в позу Карузо.
– Уходит в песо-о-ок.
С собой забирая года-а-а-а…
Я так одино-о-о-о-к
У трасс и доро-о-о-о-о-г
Мне так не хватает тебя-я-я-я-я…»
Восприятие запертых с тобой в одном помещении людей, обостряется. Ты начинаешь замечать то, на что не обратил бы внимания в обычной жизни.
Например, я вижу, какие по наивному добрые глаза у Алишера. Данный факт никак не вяжется ни с остальной внешностью парня, ни уж, тем более, с причиной его заключения. Алишер бывший спецназовец. Команда Альфа. Спецподразделение при ОМОНе.
Осуждён по 163-ей за разбойное нападение. Причём, он какое-то время скрывался от правосудия в Грузии, но по ряду обстоятельств ему пришлось вернуться на родину, в Осетию, где его и повязали.
Добродушный здоровяк, самозабвенно рассказывающий нам легенды про свой род, фантастические фольклорные осетеинские истории и свято верящий в эти сказки.
Ну как? Какой ещё вооружённый налёт? Что за параллельная реальность?
Часто дискутируем ещё с одним моим сокамерником, с которым мы «в теме». Его фамилия Росляков, на воле он числился начальником Волоколамского стройнадзора. Принимали какую-то ГЭС, не достроили на двадцать лямов, но ему вменили пятьсот миллионов (сметная стоимость всего объекта). Почти «коллега».
Интеллигент, отец двоих детей, интеллектуал. Начитан, вежлив, самодостаточен. Мне всегда интересно общаться с такими людьми. Мы с Павлом Андреичем главные книгочеи в хате. И порой засиживаемся за разговорами допоздна.
Андрей Садыков, мальчишка-программер, несостоявшийся хакер. По глупости своей «погоревший» на первом же деле. Компьютерный гений, сумевший взломать базу Сбера, и додумавшийся выставить её на продажу на одном из сайтов. Воистину, бытовая недалекость некоторых гениальных людей настолько же весома, насколько и их талант. Теперь Андрюшкой занимается Главное Следственное Управление Российской Федерации. Которое предпринимательские навыки Садыкова расценивает соответствующе своему безжалостному реестру.
Кстати, не раз и не два слышал и от адвокатов и заключённых, что московские суды – самые жестокие. Адвокаты всеми правдами и неправдами стараются «увести» дело из столичной юрисдикции. Хотя бы в область. Московские суды «лепят» по максимуму за очень редким исключением. Аналогичные процессы где-нибудь в Омске и в Москве – две большие разницы. В столице никакого снисхождения обвиняемому. Карающий меч правосудия не знает пощады. Вот ещё один выверт системы. О какой компетентности, а главное, справедливости может идти речь? Схема работает на государственном уровне. Все всё знают и все всё понимают. Вопрос в том, что тех, кто создал эту инквизиционную машину, такое положение дел устраивает. Потому что поддерживает их интересы. Неугоден – проследуй за решётку без шанса на оправдания. Удобно? Ещё бы!
И что пугает больше всего – тенденция к закручиванию гаек. Мы добрым шагом маршируем в средневековье. Пытки уже чуть ли не поставлены на конвейер, серые личности шныряют вокруг нас, принюхиваясь и выискивая неблагонадёжных. Осталось узаконить современную Супрему – наделить полномочиями людей в чёрных тогах и с капюшонами на головах. Добро пожаловать в правовое государство! И в общество гражданских свобод!
Я пытаюсь намылить тело. Время в душевой ограничено. Десять минут на всё про всё. Раз в неделю. Из гуся хлещет почти кипяток, никто не станет заморачиваться и подбирать тебе водичку с комфортной температурой. Я только что ошпарился, кое-как намочив свои чресла, теперь сную обмылком туда-сюда по коже. Тяжёлый пар застит глаза. Надо ведь ещё как-то смыть мыльную плёнку с себя и не обвариться. И умудриться вымыть голову. Десять минут. Раз в неделю.
После душевой нет ощущения чистоты, словно ты не помылся, а прошёл этап санитарной обработки. По большому счёту, так и есть.
После того, как мы вваливаемся в хату, розовые от экзекуции, узбек Дастан, вдруг неестественно, рывком, опускается на скамью. Глаза его тухнут, потом закатываются. Ребята, те, кто находился рядом, подскакивают, не дав телу сокамерника распластаться по полу.
– Перегрелся, удар тепловой, – бормочет Валя, пытаясь растормошить Дастана, но руки того безвольно висят, а кожа лица начинает приобретать пепельный оттенок.
Другие парни подскакивают к тормозам и начинают колошматить что есть силы.
– Помогите, суки! – срывает голос Валя. – Человеку плохо!
Несмотря на усилия ребят, удары кулаков по тормозам глухие, негромкие, словно извлечённый звук впитывается обратно в стены.
Это мой третий день в хате, поэтому у меня сердце подскакивает к самому горлу, я растерян от происходящего и не знаю, как поступить. Сейчас – не знаю. Потому что непроизвольно перед глазами возникает случай из моей студенческой юности. Я тогда учился на первом курсе Гродненского университета, но уже играл в местном театре. И вот не гастролях в Польше (да-да, мы умудрялись уже в те годы гастролировать за рубежом!) в общем умывальнике произошёл пугающий инцидент. Одна девочка-студентка вдруг совершенно неожиданно захрипела и упала навзничь. Её тело забилось в судорогах, а изо рта полезла пена. Все окружающие поймали конкретный столбняк – замерли, совершенно растерявшись. А у меня в мозгу включился некий «автомат». Я схватил подвернувшуюся под руку зубную щётку, вставил её в зубы бедняге и перевернул девочку на бок, чтобы не захлебнулась. Ни разу в жизни я не проделывал такой процедуры, но почему-то был уверен, что так и надо поступить. И оказался прав, приступ удалось купировать без всяких опасных последствий для пострадавшей. Хотя я не сделал абсолютно ничего сверхъестественного, меня немедленно записали в герои. Позже высинилось, что у студентки действительно была эпилепсия, но последний припадок случился с ней в возрасте пяти лет, поэтому она и сама не подозревала о своём недуге. Девушка в благодарность позже принесла мне бутылку вина и как я не отнекивался («Да ты что, я ничего такого не сделал же!») заставила меня с ней пригубить. В тот раз я впервые ощутил на себе навязчивое внимание окружающих и отнёсся к этому двояко: с одной стороны было очень приятно чувствовать себя особенным, но с другой, такая слава обременяла, и накладывала дополнительную ответственность.
Но здесь – явно другой случай и другие симптомы.
Дастану всего 27 лет, организм молодой, но поди ж ты! Сидит он по 228.4 – Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств. Он периодически рассказывает новые сказки про своё дело, но все прекрасно знают, что он сочиняет. В реальности его взяли с полкило героина и никаких отмазок, а тем более снисхождения он, по понятиям, не заслуживает, и отношение к нему в хате соответствующее.
Но сейчас он без сознания и не подаёт никаких признаков жизни. Сейчас он обычный умирающий человек.
Я, словно очнувшись от транса, подскакиваю к безжизненному телу – дед Ваня и Макс поддерживают узбека за руки, чтобы тот не упал со скамьи. Начинаю лихорадочно щупать пульс – на запястьях, на шее. Ничего. Никаких признаков.
– Да, суки! Суки… – продолжает надрываться у тормозов Валя.
Раздаётся лязг, дверь распахивается, В хату быстрым шагом входит тюремный врач в сопровождении вертухаев.
Дастана кладут на спину, эскулап, небрежно его осмотрев, резко и со всей силы давит ему на грудную клетку. Я боюсь, что он сломает ему рёбра, остальные ребята тоже притихли, наблюдая за грубыми манипуляциями. Врач давит ещё раз.
Дастан конвульсивно вздрагивает, как в кино, широко кривит рот, ловя воздух, сипит. Потом узбек открывает глаза, бездумно уставясь в потолок, и начинает медленно шевелить руками и ногами, елозя спиной по полу.
Врач наблюдает за ним секунд двадцать, потом встаёт и разворачивается на выход.
– Куда вы? – неожиданно восклицаю я. – Надо же его осмотреть, давление хотя бы померьте!
Врач оборачивается, одаривает меня выразительным, но снисходительным взглядом и продолжает свой путь к выходу. Ещё секунды и тормоза лязгают засовами.
Мы аккуратно переносим Дастана на нары, на голову прилепляем намоченное полотенце. Узбек постанывает сквозь зубы и дышит часто-часто, как маленькая собачка. Минут через двадцать его отпускает, он, кряхтя, садится и бессмысленно таращится на нас. Общее напряжение в хате спадает, народ начинает заниматься своими делами. Обошлось. Пронесло. Прокатило. В этот раз – да.
В целом же смерть заключённого в тюрьме вполне обыденная штука. Списать такую смерть на естественные причины не сложно. Из свидетелей – только сокамерники, которые дадут «какие надо» показания. Мало кто станет идти против администрации, да и кто таких станет слушать? Помер Максим, и хрен с ним. Взятки гладки.
Твоя жизнь тут – надпись на учётной карточке. Ты не нужен никому, и сам ты никто. А с карточкой можно поступить как заблагорассудится. Порвать и выкинуть в мусорное ведро – не проблема. Ты поистине утопающий, и твоё спасение в твоих же собственных руках. Внутри СИЗО данный афоризм не метафоричен, а действенен. В основе твоего выживания – внутренний дух и душевная сила. Не бывает безразличных людей. Каким бы ты не казался несгибаемым и толстокожим снаружи, у тебя живое чувствующее сердце, которое не подчиняется приказам извне. Его ритм сокращений подчинён единственно значимому инстинкту. Инстинкту выживания.
Мы здесь – ненужные люди. Внутри периметра мы не «упёрлись» никому, кроме себя. И если ты опускаешь руки, то ты обречён. Не факт, что твоя борьба поможет тебе выжить, но, если не сопротивляться – ты уже труп.
В заключении я вдруг принялся писать стихи, хотя не делал этого со студенческой скамьи. Но, видимо, так выразилась ещё одна потребность самовыражаться в ограниченных условиях. До сих пор не совсем понятно, для кого я их писал – особенной художественной ценности, – я осознаю это – они не представляют, зато очень точно передают весь сумбур моих эмоций, мрак окутавшего меня страха и слабый отголосок надежды. Но я всё равно буду приводить их строки по возможности, чтобы проиллюстрировать моё нездоровое состояние. Например, вот:
И тонны времени
И километры мыслей.
Как стал я пленником
Так всё остановилось.
Здесь нет романтики,
В стране все наизнанку.
Вокруг – охранники,
Все под одну «огранку».
И сила с волею
Совсем не совместимы,
И жизнью болен я,
И боль – невыносима.
Как пережить? Что делать —
Плакать, выть ли?
Ведь надо выйти мне.
Мне просто надо выйти…
Подъём. 6 утра. Гимн России. По радио. Каждый день радиоточка оживает одинаковыми звуками, вдавливая в мозг неизменный фон. Который нельзя сделать потише. Который нельзя выключить. Белый головной шум, с которым ты обязан теперь жить. Помните «музыкальную шкатулку» в «Ошибке резидента»? Когда над героем Ножкина издевались, прокручивая ему какофонические звуки в замкнутом пространстве. Страшная пытка. Не хуже эсесовской. Наше радио не настолько явно, да и музыкальные произведения там всё же членораздельные, но как же приветствуются на тюрьме садистко-воспитательные методы «исправления»! Не только посредством радио. Это возведено в принцип системы отбывания наказаний. Наверняка, в анкетах отделов кадра ФСИН есть негласно помеченный пункт для потенциальных вертухаев – «есть ли у вас склонность к садизму и тяга к унижению человеческого достоинства других людей: «да/нет»? Представляю, как морщится кадровичка, откладывая очередное заявление в тоненькую папку с отрицательными ответами. «Извините, вы нам не подходите».
После гимна администрация СИЗО картонным голосом желает нам доброго утра и хорошего дня. Сарказм почти осязаемо повисает в воздухе. Трек-лист наличествует только в одном экземпляре, он залитован раз и навсегда. Составлял его, видимо какой-то стажёр, которому дали список обязательных композиций, повышающих патриотический дух, и предложили разбавить топ по своему усмотрению. Потому что далее играет Moby, потом AC/DC, далее Николай Тимченко: «Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве», «Ландыши» в исполнении Гелены Великановой и Марк Бернес – «С чего начинается Родина». Я не имею ничего против этих прекрасных песен. Вернее, не имел. Но когда ты слушаешь их постоянно, в одно и то же время, день за днём, они перестают быть песнями, а начинают превращаться в обязательный бессмысленный отчёт, которым тебя пичкают исключительно с издевательскими целями. Попробуете поставить на рингтон смартфона свою любимую мелодию. Через два дня вы её возненавидите! В промежутках между музыкальными блоками нам зачитывают статьи конституции из основного закона РФ, делая особенный акцент на перечислении прав каждого гражданина. Ловлю себя на мысли, что неплохо бы добавить в такие места закадровый смех, как в американских ситкомах, с таким дополнением внушительный перечь наших свобод слушался бы более естественно.
Со временем радиошум превращается в нечитаемый гудящий фон, звуковую кашу, выделять из которой отдельные ингредиенты нет ни желания, ни смысла. Единственный плюс – по треку, если зацепиться за него вниманием, можно без труда определить, который час. Например, я лично, всегда выхватывал мелодию «Je t’aime» Lara Fabian – что бы ни происходило в хате. Выхватывал с чувством небольшого удовлетворения, потому что ещё три трека и грохнет, почти как в школе, звонок: отбой! А значит, минус один день к жизни и минус один к сроку. Очередная личная победа над временем, которое в заключении лютый враг. Ещё один крошечный шажочек к будущей свободе.
В камере почти все нещадно дымят. Сигаретная тема в заключении чуть ли не культовая. Но на балкон подымить, понятно, не выйдешь. Смолить, из уважения к некурящим, чаще всего уходят на дальняк (в туалет), состоящий из огороженной поликарбонатом кабинки с унитазом и маленькой раковиной: больше туда, даже при желании, ничего не засунешь. Там худо-бедно функционирует вытяжка, которая большую часть дыма всё же выводит за пределы. Не могу попутно не вспомнить, что в Бутырке в нашей БС, дальняк нам приходилось завешивать простынёй, чтобы создать хотя бы видимость интима. Из-за того, что Бутырка возводилась ещё в Екатерининскую эпоху, там до сих пор нет нормальных огороженных туалетов и вытяжки. Особенно смешно об этом упоминать, представляя в уме, какие люди сидели в этой тюрьме: Владимир Маяковский, Феликс Дзержинский, Евгения Гинзбург, Осип Мандельштам, Александр Солженицын, Сергей Магницкий, Жанна Агузарова и даже знаменитые нынешние футбольные «звёзды» – Мамаев и Кокорин. Отвлёкся. Так вот, по негласному соглашению ребята ходят курить в дальняк, но не всегда. Иногда хочется что-то обсудить в компании за сигареткой, а дальняк не резиновый. Иногда хочется подымить ночью, лень вставать, да и некурящие всё равно же спят, а значит не чувствуют никотинового запаха: всем известно, люди во сне не дышат. Но мы как-то приноравливаемся. Конечно, табачный дым мне неприятен, но куда деваться – в книгу жалоб претензию не напишешь.
Подозреваю, что моя нынешняя аритмия в какой-то степени усугублена вдыханием никотиновых паров на протяжении пребывания в камерах СИЗО. Государство, как и обычно, выказывает беспримерную заботу о своих гражданах, держа их в скотских условиях в тюрьмах, по-другому и не скажешь.
Чтобы глотнуть порцию по-настоящему чистого воздуха, без никотинового привкуса для заключённых предусмотрена ежедневная часовая прогулка. Я всегда вожделею её. Это мой законный – законный!!! – способ, получить кусок, хоть и также зарешечённого, но другого мира. Подумать о будущем. Помечтать о несбыточном. Я готов идти на прогулку в любое время суток и в любой одежде. В кроссовках в минус двадцать пять – плевать!
Но есть и обратная сторона медали. Во-первых, вертухаи крайне неохотно выводят заключённых на прогулки. Тут и банальная лень, и нежелание к лишним движениям, плюс посягание на внутреннюю вахтёрскую установку «не пущать!», вбитую в конвоиров системой. Эта голь в таких условиях становится хитра на выдумки.
– Сегодня идут все или никто, – например, заявляет продольный на голубом глазу. Он сам только что выдумал такое идиотское правило, но кто ему предъявит? Расчёт вертухая прост – почти всегда в хате найдётся человек (или несколько) кто, по каким-то причинам, не хочет или не может идти на прогулку.
Или, масляно улыбаясь:
– Давайте, я вас сегодня не поведу, зато завтра гуляете два часа!
– Пиздит же, – шипит Эргарт в сторону.
И он стопроцентно прав. Никто никогда не позволит нам гулять сверх положенного, пусть бы мы «копили» часы всю неделю. Но вертухай остаётся в своём беспредельном праве: вроде бы формально договорился, и подопечные сами отказались. Не подкопаешься.
На свою самую первую прогулку я иду с замирающим сердцем. Я, разумеется, насмотрен голливудских фильмов про зону: там зелёные лужайки, дружелюбные охранники. Действительность окунает меня немного в другую реальность.
Руки за спину. Мы в блоке номер 20. Помещение пять на пять метров, бетонные равнодушные стены. В потолке – решётка. За её железными клеточками колючая проволока, а ещё выше – металлическая крыша. Между крышей и решёткой тот самый слой «свободного» воздуха. Да, ты можешь им дышать. Ты идёшь по кругу в пятиметровом квадрате, словно животное в зоопарке. За стенками другие камеры для прогулки, по которым наворачивают круги другие заключённые. Но ты не можешь слышать, что там происходит. В каждом боксе подвешено ведро с колонкой внутри. Из ведра орёт музыка – чтобы не возникло даже мысли о каких-то переговорах с «соседями». Средние века. Инквизиция.
Через сорок минут прогулки (ни одна из них не длилась час) голова от ведёрного грохота оквадрачивается. Но я всё равно глупо и безосновательно улыбаюсь. Оттого что подышал воздухом и даже «словил» взглядом лучик солнца, что преломился между крышей и решёткой. Вот уж повезло так повезло!
Не представляю, смог бы я вообще спать, если бы не феназепам. Я начинаю очень хорошо понимать наркоманов. Вместе с физиологической у меня наступает и психологическая зависимость от препарата. Не хочется думать, что случится, если мне не передадут с воли новую партию таблеток. Я «закидываюсь» ими перед сном, чтобы не думать. Любая мысль ранит, она закручивает в сознании спираль тревоги и волнения и нагромождает один мысленный образ на другой в попытке объять необъятное. Какой уж тут сон! А лекарство словно срезает углы эмоциональных глыб и укачивает тебя на плавных волнах. Время закольцовывается и одномоментно проваливается в бездну, словно мой мозг проглотил кусок пространства. Чернота. Мрак. Эйфория долгожданного сна.
Подъём. 6 утра. Гимн…
Сегодня, в середине дня в хате всё замолкает. Если оторвать взгляд от листочка, что я держу в руках, и посмотреть вокруг, то можно увидеть взрослых мужиков, которые, почти не дыша, склонились на шконках над такими же бумажками.
Нам принесли почту.
Новые технологии позволяют получать «е-мэйлы» от родных по электронке. Текст проверяется, распечатывается, прикладывается к пустому листу (на котором можно написать ответ; стоимость этого листика должен оплатить автор исходного письма). Теоретически ничего не мешает вертухаям разносить почту по получению, то есть каждый день. Но тогда пропадает воспитательный момент. Нечего потворствовать ээкам, так они никогда не перевоспитаются, правда ведь? Поэтому письма разносят раз в неделю, а то и реже.
В первых поступлениях мне (кроме самых желанных, от дочки) – письма от Димы и Андрея. Они красиво рассказывают мне, как ведут мой бизнес, как присматривают за Павлой. У меня еще нет даже намека на недоверие. Я не допускаю и малейшей возможности, что «мои люди» способны лукавить.
Андрей:
«Думаю, что всё сделаем, как ты запланировал, со всем в принципе разобрался, сейчас типа временнозаменяющий тебя… Не переживай, семья в порядке, Дима всё контролирует». (март, 2021)
Дима:
«В целом мы справимся, но хотелось, чтобы ты был дома… Мы настроены на победу и делаем всё возможное для этого» (март, 2021)
Андрей:
«Мы бьемся здесь, чтоб больше и больше делать работу, зарабатывать. Главное, чтобы твоя дочь была с крышей над головой и с деньгами на жизнь. Заработаем с Димой, за это не переживай» (апрель, 2021)
«По тебе все, что от нас требовалось, запустили. Теперь только ждем. Надеюсь, всё будет супергуд. Дочь учится, платье они купили. Она стала самостоятельной, молодец. Дима говорит, что со всем справляется» (май, 2021)
Привожу эти цитаты, чтобы стало понятнее. Как я доверял этим людям и как они отнеслись к этому доверию.
В итоге всё вылилось в огромные проблемы на объектах. Я «разгребаю» косяки до сих пор. Приходится делать это «издалека». Я теперь понимаю, что меня дезинформировали сознательно, этим реализовывалась специальная подленькая выгода. Поэтому не удивительно, что Андрей потребовал после моего выхода оплатить «издержки», не от широты же душевной он передавал мне во время оно в Бутырку колбасу.
Когда в хату приносят письма, наступают минуты тишины. Это наша незримая связь с миром, волей, свободой. Это такие желанные и долгожданные строчки родных и близких. Каждое письмо мы перечитываем по десять раз. На глазах у многих – слёзы. Таких слёз не стыдятся.
Я читаю письмо, пришедшее от моего милого ребёнка, Павлы, и стараюсь представить её образ. Её облик, её мысли. Её настроение. Как она, перебирая пальчиками, набирает текст на клавиатуре. О чём думает. О чём мечтает. В груди разгорается тёплый огонь. На несколько минут я словно покинул эти стены, просочился за периметр и встал у моей девочки за спиной, глядя, как она пишет мне послание.
«… На занятии по контексту будем завтра снова вырезать буквы из картона и потом склеивать их. Знаешь, мне сейчас так нравится мой круг общения в лицее и «британке», они меня поддерживают все, когда мне особенно грустно. Ничего не знают. О, у нас завтра в школе парадная форма должна быть, кто-то приезжает. Я погладила свою любимую рубашку и штаны с вырезами спереди. Буду такая классная…
Отвечай сюда всё.
Очень-очень сильно тебя люблю и целую…» (март, 2021)
Я в предвкушении крошечного тюремного счастья – мало того, что я несколько раз буду перечитывать эти строки, так потом ещё обдумывать и писать ответ. А это почти полдня! Наискось зачёркнутого времени, которое иногда и вовсе останавливается в заключении. Полдня – ощутимая победа над монстром. И всё благодаря моему любимому цветочку.
Каждому заключённому нужен человек на воле, с которым у него сложится совершенно особенная, ментальная связь. Это тот островок в море безысходности, на котором тебе всегда рады. Который даёт силы и не позволяет раствориться в небытие, сложить оружие. У всех по-разному, для кого-то такой человек мама, для кого-то любимая, для меня – Павла. Как ни банально, но в разлуке искренние, настоящие чувства обостряются настолько, что тебе кажется будто энергия любви вот-вот прорвётся через утончившуюся кожу, чтобы заполнить всё пространство. Павла – моя путеводная звезда. Она – мой крест. Ради неё я готов бороться до конца.
Большая часть стихов, написанных мною в заключении, посвящена, так или иначе, ей, моему Ангелу.
Хмурые тучи уныло витают,
Чёрные мысли едят изнутри.
Силы меня всё быстрей оставляют
Выжжен мой разум и в сердце – штыри.
Дни в одиночестве, дни за решеткой
Уничтожают меня на корню.
Сяду и плачу – так долго и горько.
Больше я так, ну совсем, не могу…
Солнце мое! – я беру это фото
И бесконечно на дочку смотрю.
Ангел следит мой и дённо и нощно,
Чтобы отец все же выжил в аду.
Я хочу дать ей понять, насколько она мне дорога в каждом своём ответе на её письма, но слова выходят корявые и казённые, слишком велико моё психологическое напряжение. Но она поймёт. Она умница. Она потерпит. А потом я скажу ей то, чего не смог выразить в корявых строчках. Потом. Когда выйду. С каждым новым полученным письмом я всё глубже убеждаю себя в этом. Я должен выйти. Чтобы помочь ей быть человеком.
Глава 3
Carcere Homo
Природа не предполагает для себя никаких целей…
Все конечные причины составляют только человеческие вымыслы
Бенедикт Спиноза, «Этика»
Изолятор – это изоляция. Изоляция от, но и изоляция в. Возможно, человек, гипотетически рождённый внутри нашей пенитенциарной системы и воспитывающийся в глухой изоляции от внешнего мира имел бы шанс приспособиться и существовать, согласно внутреннему распорядку. Новый вид, почему, нет – carcere homo. Карцере Хомо. Человек тюремный. Для такого стены камеры вовсе не ограничения свобод, а лишь приобретённый modus vivendi. С его точки зрения мир перевёрнут – всё, что вовне – неправильно, чуждо, опасно. Так же, как деформируются конечности уродцев, выросших в железных параллелепипедных коробах, ограничивающих объём для полноценного развития скелета, видоизменялись и атрофировались бы души carcere homo, закованные в прокрустово ложе внутрилагерных правил. И сидели бы такие существа в вонючей мгле дальних тюремных коридоров и с равнодушием наблюдали бы своими малахитовыми глазками за странными слоняющимися туда-сюда людишками, не понимающими простых и понятных радостей тоталитарной опричнины. Что в принципе с российским обществом уже и происходит -пропаганда вымывает подчистую мозг, вселяет вражду и ненависть к бывшим братьям-славянам, наделяя их монструозными возможностями: и нищета вся, граждане, из-за них и все остальные беды. И страна медленно, но неумолимо превращается в тюрьму: народу так проще жить и понимать мировую геополитику. Вернее, тут и понимать-то нечего: кругом враги – и точка. Посконная, сермяжная философия carcere homo.
С человеком «не тюремным», то есть разумным вообще одни проблемы с точки зрения новейшей инквизиции. Вечно они привносят хаос в стройную структуру исправительного механизма. Критически увеличивают энтропию, изо всех сил сопротивляясь упорядочиванию. А ведь такие поползновения чреваты. А значит, стоит их давить на корню. Сама мысль о том, что мир может измениться, а. охранники – поменяться местами с заключёнными, думаю, пугает до жуткой оторопи даже самого отъявленного вертухая. Поэтому – не сметь! Не пущать! Унижать! Пытать! Перевоспитывать! Но только не давать ни единого шанса на возмездие.
Мышление самого заштатного тюремщика почти не отличается от мышления первых важных голов, расплодившим чёрную гидру карающего правосудия и узаконившим кодекс пренебрежения человеческими жизнями. Всё идёт от головы, от этих наделённых властью оборотней-мудрецов, провозгласивших себя элитой. Не удивлюсь, если в подвалах зданий, где они заседают в роскошных кабинетах, уже стоят в слоящемся туманом дыму жидкого азота ряды автоклавов, в которых вызревает то самое поколение вожделенных власти кадавров – carcere homo.
Мы же, обыкновенные люди, в отличие от них, попадая в застенок, испытываем отторжение, вложенное в нас природой. Разум сопротивляется, отвергая навязанную модель и, что уж говорить, справляется не всегда. Если даже я, получив относительно небольшой срок, очутившись на нарах, несколько дней не мог прийти в себя. Что говорить о тех, кто получает десятку, а то и выше. Причём, часто абсолютно незаслуженно. В сознании таких людей могут происходить фатальные изменения. Мышление заводит в тупик, из которого нет выхода. Десять, двадцать, двадцать пять лет срока кажутся совершенно бесконечной субстанцией, которую невозможно представить. Как невозможно представить конечность космоса. Смысл, слабо брезжущий где-то в глубине сознания после оглашения приговора окончательно тускнеет, превращаясь в мёртвый сморщенный лучный камень. Возьми и зашвырни меня за линию горизонта – словно навязчиво предлагает он. И многие – швыряют.
Самоубийство. Отличный выход в данных обстоятельствах, не правда ли?
В тюрьме большинство суицидов приходится на первые дни заточения. При осмотре у новоиспечённого Зе-Ка, чтобы не было соблазна, забирают все верёвочки, шнурки, режущие и колющие предметы. Но не всех это останавливает.
Можно заточить алюминиевую ложку и полоснуть вдоль вен. Можно порвать простыню на длинные тонкие лоскуты, свить верёвку и вздёрнуться в дальняке.
За две недели, пока я находился в Капотне, произошло два случая суицида. Один парень удавился без шансов, заметили его уже окончательно холодного. Второй вскрылся. В соседней камере. Ночью ребята, обнаружившие истекающего кровью сокамерника, долго цинковали, перемежая стук истошными криками, пока продольные не соизволили засуетиться.
Позже прошёл слух, что парень скончался по пути в больницу в скорой, не хватило каких-то минут.
Но тут дело даже не в том, что человеческая жизнь внутри тюремной системы бесконечно малая величина, и даже не в том, что люди – это только картонные, а теперь и виртуальные карточки. А в том, что в каждой тюрьме есть психолог. Тот самый специалист, который получает зарплату за свою работу. Кому, если не ему предотвращать такие случаи? Самый уязвимый в психологическом смысле контингент – новоприбывшие. Прямая целевая группа для тюремного психолога, у которого на территории СИЗО имеется свой собственный кабинет.
Рассказать вам, в чём заключается его работа?
В один прекрасный час открывается кормушка – по ту сторону милая девушка в полицейской форме.
Вертухай подзывает заключённых по одному.
– Фамилия, имя, отчество? – спрашивает девушка-психолог.
Такие-то.
– Статья?.. Семья полноценная?.. Хорошо, теперь распишитесь тут.
– Что это?
– Распишитесь, что вы не покончите с собой.
Потом кормушка закрывается и девушка-специалист, надо полагать, отправляется на обед.
Теперь немного о ценностях.
Здесь в СИЗО, что ни говори, приходится многое переосмысливать. Причём происходит сиё непроизвольно и незаметно, что, честно признаться, даже пугает. Будто бы ты становишься другим человеком помимо своей воли и лишь из-за того, что невольно открыл для себя новые грани мироустройства, и назад пути нет. Невозможно это забыть, подавить в себе или дистанцироваться. Новое знание уже проросло в тебя, как полип, перекрутившись своими жилами с твоей плотью и впрыснув яд из спор в твой мозг. Я не могу смотреть свои любимые советские фильмы – киноклассику. Я не могу смотреть их так, как смотрел раньше, с замиранием сердца, с воодушевлением, с чистой радостью. Прекрасно отдавая себе отчёт, что любое искусство – художественное преувеличение, я видел в них мир «прекрасного далека», мир честного настоящего цветного будущего. Они учили меня доброте, взаимопониманию, объясняли, что такое хорошо и что такое плохо, и у меня не возникало никакого диссонанса в душе. Я принимал эту нехитрую мораль на веру, принимал умышленно и с удовольствием. Потому и получал от просмотра истинное наслаждение.
Но узрев мир изнанки, я утратил способность к прежнему восприятию. Состыковка прежнего и действительного оказалась невозможной. Фальшивость порочной реальности породила сомнения в правдивости моего бывшего незамутнённого мировоззрения. Так, если капнуть в белое молоко всего одной каплей чернил, маленькой, незаметной, оно сразу же расползётся тёмной безобразной кляксой, испортив чистую непорочность исходника. Что говорить, если на мои листики с самодельными стихами брызнули целой россыпью чёрных капель, брызнули хлёстко, и не скупясь. Кляксы накрыли строчки, изуродовали слова, которые теперь приобрели совсем иной, кастрированный смысл. И я ничем уже не могу помочь бедным словам-калекам, чернь въелась в их сущность и никаким чистящим средством не вернуть былую белизну.
Поэтому я не могу смотреть старые фильмы. Теперь они созданы для других людей.
Таблица ценностей перепутана строчками. Голубое небо, про которое когда-то давно рассказывала мне мама, вовсе не голубое – оно серое и опасное. Со свинцовыми тучами, летящими низко-низко: ещё чуть-чуть и заденут тебя по макушке.
Как жить с этим? Возможно ли? Не в созданном големом государстве исправительно-воспитательных учреждений о колючей проволоке, а в «свободном» светском мире? У меня нет ответа на этот вопрос. Надеюсь, он появится позже, когда я немного оклемаюсь от перенесённого хука слева, что мне прилетел от правосудия. И если не вернусь за решётку снова – такое более чем возможно; успеть бы, в этом случае, дописать книгу.
Вместо желанного предвкушения от просмотра любимого фильма я тупо таращусь в ящик ТВ, где мелькают люди без лиц, хозяйничают беспринципные монстры, светятся холёные правители с харями-будками, не влезающими в экран. Где текут кровавые моря, где на волнах колышутся трупы, а на берегу, в разгар этой пирровой победы буратинят со звёздами предприимчивые дельцы, ограбившие страну: в эту честь они устраивают бесконечные пиры в канун надвигающейся чумы.
«Доброта» нынче ругательное слово. А «справедливость» отмирающий рудимент, совершенно не нужный нынешней власти. Хвост виляет собакой.
Не стану скрывать, моя вера после посещения СИЗО пошатнулась. Я не ожидал встретить такого цинизма и бесправия. Я не предполагал, что заключённые продолжают оставаться пушечным мясом и скотом. Когда-то я изучал страшные ГУЛАГовские хроники тридцатых годов двадцатого века и вдруг сам попал на жуткий конвейер перековки. Время внутри периметра, ограниченного по углам сторожевыми вышками застекленело, замерло и осталось таким же, как восемьдесят лет назад. Ещё немного и оно отправится вспять, вглубь беспросветного средневековья.
Вот как говорит о таком Б. Акунин («Бох и Шельма»): «Прочная власть стоит на двух ногах: строгости и справедливости. Если одна нога короче другой, власть хромает, может не удержаться».
В нашем случае – одну ногу ампутировали. Вот вам и инвалид, монструозный уродец, которого заодно ещё и оскопили, лишив возможности эволюционировать, как завещал великий Дарвин. Оттого и тупая животная злоба, и безжалостность судебной вертикали нынешней власти – когда всё будущее только в прошлом: в заколюченном ожерелье ГУЛАГа, в сырых подземельях средневековой инквизиции да в угарном безумии и безнаказанности опричнины Иван Четвёртого Васильевича.
Если вы думаете, что работа следователя по делу заканчивается после оглашения приговора и передачи осуждённого в систему исполнения наказания, то это не всегда так. Особенно если следователь мстительный. Знаю одну историю, когда человека осудили на 7 лет по «моей» 159 статье – мошенничество. Отправился этот человечек в лагерь и рассчитывал на возможность УДО (условно-досрочного освобождения). Однако же затаил на него зуб, уж не знаю по какой причине, следователь прокуратуры. Ничтоже сумняшеся, рисует наш слуга фемиды человеку новое дело и согласно следственно-процессуальному кодексу два раза в год выдирают нашего человечка из колонии снова в СИЗО. Тем самым уже нарушая условия предоставления УДО. Не важно, виноват ли он по этому новому делу или нет.
Вопиющих случаев на судах огромное множество. Некоторые похожи на анекдоты, если бы от них не хотелось плакать.
Например, дают слово терпиле (то есть потерпевшему). Тот официально, под протокол заявляет – «Напал на меня в подъезде не подсудимый. Можете ещё раз посмотреть видеозапись с камеры – там совершенно другой человек». В итоге встаёт судья и сообщает, что у суда нет оснований не доверять сотрудникам полиции и обвинению, а потерпевший, как любой человек, может ошибаться. Приговор – два года колонии.
Или ещё. На хоккейной тренировке от случайного попадания шайбы в голову скончался подросток. Тренер спортивной школы арестован. После вскрытия тела погибшего выясняется, что у парня была врождённая аневризма, и даже небольшого удара достаточно для летального исхода. Три разных независимых экспертизы указывают на данный факт. Но следствие «заказывает» ещё одну, четвёртую, которая никакой аневризмы почему-то не находит. И тренер отправляется в места не столь отдалённые.
Что сделали эти люди следователям и судьям? Какие счёты с ними сводит наше правосудие? Ради какой благой цели?
Ответ один – система не может ошибаться. Решение должно быть подогнано под условие, если даже к этому нет поначалу никаких предпосылок.
Но, пожалуй, самый максимальный по гнусности метод заключается в прямой фальсификации улик и в сфабрикованности обвинительного заключения. Обычно так происходит с теми, кто не побоялся когда-то перейти дорогу власть имущим. Схема на удивление проста и действенна. Твой «знакомый» очень просит помочь, бросить пару «косарей» ему на карту. Ты можешь не распознать подвох, ну мало ли жизненных ситуаций случается. Ты не жмот, да и сумма смешная. Как только тебе приходит уведомление об успешности перевода, ты становишься обвиняемым по 205 статье – терроризм. Потому что счёт, на который упали твои деньги, числится за экстремистской организацией, запрещённой в РФ. А ты их только что проспонсировал. Теперь ты – пособник террористов. До 20 лет строгача. Правда есть вариант. Если ты «продашь» свою квартиру кое-кому за бесценок, то статью могут и переквалифицировать, если и вообще не прекратить дело. Откажешься – идёшь фигурантом «по полной». Согласишься – лишишься квартиры и… всё равно угодишь под статью; верить «хорошим» людям в такой ситуации ни в коем случае нельзя.
Что меня очень удивило в тюрьме – здесь практически не ругаются матом. Кроме неизбежных неопределённых артиклей вида «бля» и «нах» даже маргинальные элементы почти не употребляют обсценную лексику. Мои же дискуссии о смысле жизни и позиционировании человека в обществе с близкими по духу людьми (коих я встретил за решёткой в большом количестве) и вовсе могли бы напомнить литературные посиделки где-нибудь в библиотечном зале. Если бы не решётка на решках. М-да, если бы…
В тюрьме свои правила, свой сленг, свои отношения – но всё это без базарного, бытового мата. Как ни странно.
Один из самых животрепещущих вопросов в заключении, конечно же, питание. В каждом отдельном заведении пенитенциарной системы РФ оно имеет свои особенности. Однако есть и общее – в основном такое питание и едой-то нормальной назвать нельзя. Видимо потому, что с точки зрения той самой системы предназначено питание не гражданам, а отбросам общества. А отбросам какая положена еда – совершенно очевидно – те же самые отбросы. С редкими, очень редкими исключениями.
Например, в СИЗО Капотни нам давали вполне свежий, даже вкусный хлеб. В Бутырке чёрный хлеб есть было совершенно невозможно, по вкусу он напоминал жёванную бумагу. В лагерях, насколько мне известно, случается ещё хуже – хлеб там иногда получается второразовый, его делают из старых, заплесневелых буханок; после употребления оного нередки несварения и даже заворот кишок.
Приносят хлеб в 6–30 утра. Кроме этого – на каждого арестанта положена столовая ложка сахара. Так на бумаге. А в реальности, чтобы получить паёк именно на каждого, требуется уговаривать раздающего, чтобы дал на всех. Никто там специально не будет считать количество сидельцев и скрупулёзно отмерять дозы, сыпанёт на глазок (причём, всегда ошибётся в меньшую сторону – это в вертухаевской крови) и вася-кот.
На завтрак каша – сечка – на воде и без соли. Есть такую с непривычки тяжело, но надо. Чай всегда просто ужасный: старый, тухлый, с запахом плесени. Я попробовал пару раз и отказался. Обойдусь как-нибудь.
На этом всё. «Сытые» и «счастливые» можем ждать обеда. По большому счёту, ждать его начинаешь непосредственно после окончания «завтрака». Потому что сказать, что ты хотя бы перекусил – нельзя. Ты просто ввёл в свой организм через ротовую полость некоторое количество калорий, что позволяют твоему организму поддерживать состояние жизнедеятельности. Ни о каком насыщении и удовольствии от трапезы речи не идёт от слова совсем.
Мне и моим сокамерникам образца 2021 года очень повезло. Причём в данном случае я употребляю это слово без кавычек. Сейчас объясню. До 2018 года обед в СИЗО подавали в общей тарелке. То есть первое и второе бухали в одну ёмкость, где оно неизбежно перемешивалось между собой и в таком виде приносилось в камеры. Учитывая невысокую пищевую привлекательность каждого блюда по отдельности, смешиваясь, они приобретали и вовсе тошнотворный вид.
Лишь благодаря Наталье Кондратьевой, – дай бог ей здоровья! – члену ОНК (Общественная наблюдательная комиссия), к концу второго десятилетия двадцать первого века в правило внесли изменения и разделили подачу первого и второго блюда для заключённых в разные тарелки. Так что нам выпала честь наслаждаться почти комплексным обедом. Пускай качество отдельных ингредиентов и продолжало оставаться на уровне сопоставимом с плинтусом и с таким же вкусом. На первое, как правило, подавалась бурая бурда, которую почему-то называли «суп». Но кипячёная вода со свёклой – ещё не «борщ», чтобы там не говорили тюремные повара. Хлебать такое неприятно и почти невозможно. Единственное, что хоть немного напоминало «первое» – свекольник с солёными помидорами. На второе – «котлета» (пожалуй, всё меню тут можно смело заключать в кавычки). Бесформенный запечённый кусок то ли мяса, то ли печени. Гарнир – тушёная капуста или варёная картошка – это хотя бы не противно проглотить, испортить такое даже при желании сложно. Вечером тот же варёный картофель и местный деликатес – жареная сельдь. Сейчас я заявляю почти без сарказма, потому что хоть и прожаренная в старом подсолнечном масле, но, всё же, не утратившая до конца своих вкусовых качеств настоящая рыба. Её я ел даже с некоторым подобием удовольствия.
Никто не спорит, что тюрьма – не санаторий. Никто не отрицает того факта, что человек, совершивший преступление должен быть наказан.
Но не слишком ли усердствуют наши доблестные органы в претворении данного постулата в жизнь? Если не брать в расчёт настоящих извергов, убийц, насильников, махровых бандитов. Ведь в исправительных учреждениях косят, по сути, одной косой. Чешут всех под одну гребёнку. А учитывая процент невиновных и осуждённых вовсе не за то, что они совершили, ситуация видится катастрофической.
Или это национальный проект по превращению населения в carcere homo? Раскол общества на элиту и чернь. Новый виток исторической спирали с отрядами «серых» и с воинствующими «тройками»? Попытка окончательно и навсегда сломить неугодных и несогласных. Какими причудливыми в таком свете видятся слова «Свобода» и «Демократия», особенно последнее. Вы не замечаете, что оно всё реже и реже произносится с экрана ТВ или вставляется в информационные передовицы? Демо-кратия. Власть народа. Уже сейчас воспринимается как гротеск. Ещё чуть-чуть и станет вызывать смех. Но только на кухнях. Не дай бог заметят «серые». Тогда сразу же первое и второе в двух раздельных тарелках. Да, и чуть-чуть не забыл. Ещё же кисель на третье! Прекрасный кисель из концентратов. Который, без шуток, действительно приятно и полезно пить.
Вы наверняка слышали про окна Овертона. Чем дальше я размышляю о нынешнем положении дел в обществе, тем чаще замечаю явные признаки данной концепции. Теория Овертона заключается в том, что в сознание любого, даже высокоморального общества возможно насадить любую идею. Даже самую ортодоксальную или дикую.
Какую конкретно? Лю-бу-ю. Возьмём хрестоматийный пример, и заявим, что каннибализм – это хорошо.
Не верите? Зря. Существует конкретный алгоритм такого насаждения. Вначале подключаются СМИ. Начинается кампания про исследование истоков каннибализма. Приводятся исторические примеры, разбирается психология отклонения, начинают публиковаться исследования, что данная девиация практически неконтролируемая и не зависит от осознания «пациента». Данные утверждения постепенно вызывают некое сочувствие к «больным». Тема всё чаще обсуждается и само понятие уже не вызывает крайнее отторжение. Люди начинают привыкать к употреблению термина. Далее среди населения муссируется постулат о том, что в какой-то степени антропофагия (так теперь именуется людоедство и каннибализм официально и повсеместно) есть природная потребность и отрицать данный факт глупо. Подключается «тяжёлая артиллерия». Известные личности вовсю обсуждают данный феномен, предлагая разные точки зрения, но постепенно сводя проблему к одному – антропофагия существует и с этим приходиться считаться. Проблему освещают в популярных передачах, начиная находить в ней ироничный подтекст, про антропофагов снимают художественное кино с неоднозначной авторской точкой зрения. Такая кампания постепенно заставляет общество стать толерантным к феномену и принять его как элемент системы. Некоторые находят в антропофагии даже положительные стороны. В конце концов, это ведь выбор каждого человека. Борьба за права быть собой! Нет унижению меньшинств! За преследование «таких» – преследование «этих», закреплённое на законодательном уровне.
Каннибализм официально утверждён и становится элементом политической нормы общества. Вуаля!
Ничего не напоминает?
Шесть последовательных стадий – Немыслимо, Радикально, Приемлемо, Разумно, Стандартно, Норма – и в обществе появляется новая формация – carcere homo. И теперь автоклавы с эмбрионами нового вида стоят не только в подвалах Кремлёвских лабораторий, но и в каждой больнице, в каждом родильном отделении, в каждом лепрозории.
И над ними – лукавые ухмылки вождей с облака.
У. Черчилль говорил:
«Если вы идете сквозь ад, не останавливайтесь!»
А вот слова Марины Хосе Антонио из книги «Анатомия страха. Трактат о храбрости»:
«Политики часто используют страх, стремясь сплотить или взвинтить народ. Цемент паники и ненависти схватывается быстро. Заговоры, коварные враги, реальные или мнимые угрозы порождают прочное единство. Кроме того, в социологии существует известный закон, согласно которому запуганное общество ищет защиты у того, кто правит железной рукой, и готово променять свободу на безопасность».
Как же напоминает пульс нынешнего общества и те самые пресловутые скрепы, вылепленные из подручного материала и криво присобаченные всемогущественным повелением в мнимое единство русского духа и державной государственности. Вместо монолитной кирпичной кладки, прочного фундамента развития Отечества, мы наблюдаем какую-то невнятную изгородь, наспех сварганенную властьпредержащими из говна и палок.
Но как бороться? И надо ли? Где взять сил, что придадут уверенности в своей правоте?
Каждый решает сам. Без внутреннего стержня и убеждённости в справедливости выбранного пути – вы просто ведомая единица, сопровождаемая в нужном направлении под звонкие лозунги демагогов.
«Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело. Всё превращается в прах — и люди и системы. Но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело. И благодаря ему, зло на Земле не имеет конца. С тех пор, как я это понял, считаю, что стиль полемики важнее предмета полемики» – это уже Григорий Померанц.
Одно из моих тюремных стихотворений:
На нарах лежу. И вокруг – та же тишь.
Как мне ощутить, как понять, как прожить?
Ты ведь не живёшь, не сидишь, и не спишь.
И кара не божья, как быть? Иль не быть?
Господь ли меня захотел испытать:
Чтоб взял себя в руки иль духом ослаб?
То пытка? То плаха? А вдруг – благодать?
Мой новый Освенцим? Мой новый ГУЛАГ?
Ползти мне? Идти? Или снова упасть?
Терпеть? Ждать и верить? Систему ломать?
Где силы искать, как сыграть точно в масть?
Где камни найти, в жернова чтобы класть?
Могуч маховик «правосудия». Плач
Тебе не поможет, поможет палач.
Не будет амнистий души, всё тут тлен
И медленно Сталин встаёт здесь с колен.
Правильное государство – такое, где каждый мог бы сказать как Людовик XIV: «Государство – это я». Не отдельный царь или президент, не обособленное правительство, а весь народ, каждый его гражданин. Страна – для людей, а не люди для страны. Народ – вовсе не топливо, которое можно сжигать во всеобщей топке, чтобы двигать вперёд паровоз истории.
Я не собираюсь мириться с таким исходом. И, в том числе, поэтому пишу эту книгу.
Впрочем, вернёмся от прекрасного футуризма к обыденности и блёклости действительной жизни.
Единственный способ получить от системы меньшее зло – как ни парадоксально – сознаться в совершении преступления. Даже если ты его не совершал. Даже если ты был в это время на другом континенте за несколько тысяч километров от места преступления, и тебя видели в этот момент сто человек. Все мы люди, поэтому и сто человек могут ошибаться. Следствию, однозначно, виднее. «Нет оснований не доверять сотрудникам полиции» – помните? Значит – сознавайтесь. Вы никогда не добьётесь правды и справедливости. Это исключено в рамках действующей системы. Зато такое признание несовершённого позволяет получить осязаемые бонусы. Как то – смягчить наказание, скостить в итоге срок, получить относительно приемлемые условия содержания под стражей. Выбирать вам. Зверь о четырёх главах – УВД-Прокуратура-СК-Суд – имеет одно общее массивное тело с могучими слоновьими лапами, способными стереть в порошок любого. Головы только прикидываются, что принадлежат разным ведомствам, на самом деле все системы жизнедеятельности карающего монстра едины. Выходить с таким на бой, даже если у тебя есть меч-кладенец, пустая затея. Победить Зверя может рассчитывать только неразумный ребёнок. Ежедневно монстр отлавливает и отправляет на исправление тысячи людей, не очень-то разбираясь в деталях им инкриминируемого. Значит, заслужили. Или «так надо». Зверь директивен и обучен подчиняться Хозяину. По-другому он не умеет. И никто не собирается его переучивать.
Удивительно, но от Зверя возможно откупиться. Например, если ты украл десять миллиардов государственных рублей, но щедро поделился кушем с головами, то система выдаст тебе лишь порицательное предписание, и полетишь ты из зала суда на свободу ясным соколом, пусть и с «условкой». Беда в том, что не каждый может украсть такие деньги. А делиться парой-тройкой тысяч рублей, сэкономленных на драконовских налогах, смешно – поэтому лично тебя ждёт перевоспитание и исправление в колонии. Только не расстраивайся раньше времени – ты выйдешь досрочно по УДО или ИТР. Если, конечно, был хорошим мальчиком и безропотно признал свою вину на «суде».
В детстве я обожал ходить в зоопарк. Зверюшки в клетках мне казались такими милыми. Возможно, я не очень-то рассматривал их взгляд, в юности совсем не замечаешь таких нюансов. Но кое-что меня уже тогда удивляло. Вот взять хотя бы тигра! Я долго стоял возле клетки с полосатым зверем и зачарованно смотрел, как он наворачивает круги по клетке. Монотонно, с одним и тем же выражением на оскаленной морде, с болтающимся из пасти языком. Молча. Круг за кругом. Пожалуй, только хвост тигра выдавал его беспокойство, конвульсивно подёргивался, нервно скручивался кончиком.