Крым. Ханы, султаны, цари. Взгляд на историю полуострова участника Крымской кампании бесплатное чтение
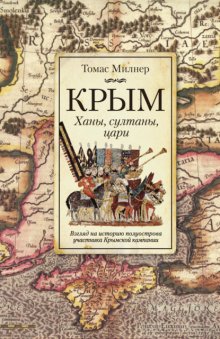

Томас Милнер
Крым. Ханы, султаны, цари
Взгляд на историю полуострова участника Крымской кампании
Thomas Milner
The Crimea. Its Ancient and Modern History
The Khans, the Sultans and the Czars
© Перевод и издание на русском языке, ЗАО «Центрполиграф», 2015
* * *
От автора
Представляя на суд читателей эту книгу, я хочу подчеркнуть, что в мои намерения не входило подробное описание событий нынешней войны (то есть Крымской войны 1850-х годов. — Пер.) или критика того, как она велась. Я хотел только создать иллюстрации к ее событиям и перечислить в хронологическом порядке основные вехи истории полуострова, который в прошлом был знаменит, затем забыт и вдруг опять приобрел известность как место, специально выбранное западными государствами для битвы против России. Подобного случая еще не было в истории: на таком малом пространстве собрались армии пяти великих правителей — королевы, императора, короля, султана и царя, принадлежавших к четырем ведущим религиям Европы — протестантской, римско-католической, магометанской и греко-российской.
К сожалению, описание Керченского музея нужно читать как рассказ о том, чего больше нет: все его экспонаты — реликвии древних милетских греков — уничтожены. Очевидно, это сделали турки и зуавы.
Глава 1
Крымский полуостров и его прибрежные воды
Каким бы ни оказался политический итог происходящей сейчас войны, она уже привела к одному результату, которого не планировала ни одна из воюющих сторон: наши познания в географии стали лучше и шире. «Милорды» Адмиралтейства внесли немало исправлений и подробностей в свои карты Балтийского и Черного морей благодаря работе гидрографических судов наших эскадр. Теперь им знакомы местоположение, очертания, свойства и опасности многих узких заливов и маленьких бухт, которые раньше были совершенно неизвестны или неточно нанесены на карту. Кроме того, немало людей из образованных слоев общества просветились относительно многих местностей и смогли ясно представить себе очертания и свойства мест, о которых раньше знали лишь понаслышке. А названия стран и местностей, морей, берегов, рек, проливов и островов стали частью повседневной речи десятков или даже сотен тысяч людей, которые совершенно не знали их восемнадцать месяцев назад. Кто не слышал и не говорил о Крыме, о Севастополе и Балаклаве, Перекопе и Евпатории, Инкермане и Альме? Аристократы в своих дворцах, дворяне в своих залах, крестьяне у своих очагов, ремесленники за своей работой, жители хижин на далеких пустошах и рыбаки на мрачных берегах — все слышали и повторяли эти названия и прекрасно понимали их смысл. Но для очень большой части этого сообщества еще недавно край, о котором они говорят, был совершенно неизвестной землей. Если бы тогда кто-то упомянул про Севастополь, это была бы трудная тема разговора для хозяина фермы, где зашла о нем речь, и для его собеседника-конюха. А ведь теперь они имеют достаточно знаний, чтобы свободно говорить о короле или королеве, о мужчинах или женщинах, рыбе, мясе или дичи. Газетные репортажи о передвижениях флотов, переходах армий, повседневной суете военных лагерей, о суровости боев и усилиях, которых они требуют, а также дешевые карты районов боевых действий стали для этих людей учителями географии.
Пока жители Западной Европы таким образом расширяли свои познания о восточноевропейских странах, их восточные соседи пользовались тем же преимуществом относительно их самих — хотя бы в малой степени. Никогда со времен Готфрида Буйонского в окрестностях Константинополя не видели такого множества европейцев, как при проходе англо-французских флотов и армий через Босфор. Это зрелище заставило много раз воскликнуть «Машалла!» — «Аллах велик!» — турок, сидевших скрестив ноги и бесстрастно потягивавших кофе или куривших чубук. Можно также предположить, что попутно эти турки узнали что-то и о родных краях своих западных помощников. Подданные его высочества султана не были знамениты достижениями в географии. Даже члены Дивана не раз проявляли в этом смысле забавное невежество. Фон Хаммер рассказывает, что в 1800 году он был переводчиком в Константинополе и, когда поступило предложение прислать на помощь Порте английские войска из Индии, великий визирь решительно отрицал возможность такого предприятия, не зная, что из Индийского океана есть водный путь в Красное море. Сэр Сидней Смит с великим трудом убедил его, что эти два моря связаны между собой, показав карты и представив другие убедительные свидетельства. А еще раньше, в 1769 году, когда русский флот впервые совершал плавание вокруг Западной Европы с намерением действовать против турок в Греческом архипелаге, Диван просто отказывался верить звукам выстрелов его тяжелых орудий и вполне серьезно утверждал, что между Балтикой и Средиземным морем нет прохода! Когда это неверие немного пошатнулось, Диван обратился к австрийскому правительству с просьбой не дать этим кораблям пройти и через Триест и Адриатику! Теперь советники султана лучше знакомы с картой Европы, поскольку уже примерно полвека опасности, угрожавшие Османской империи, заставили их обратить внимание на Европу, в особенности на места проживания западных народов и на средства, которыми те располагают. Нынешняя гигантская битва, должно быть, просветила на этот счет больше восточных умов. Чтобы быть честным, автор должен отметить, что правители с Босфора были не единственными людьми на подобных должностях, плохо знавшими географию. Еще на нашей памяти наше собственное министерство по делам колоний выпустило в свет документ — вероятно, работу новичка, который получил свое место не по заслугам, — где одна из подчиненных нам территорий на Южноамериканском материке была названа вест-индским островом.
Поэтому автор посчитал уместным предварить общий обзор истории Крыма кратким описанием физической географии этого полуострова.
Крым, который раньше назывался Крымской Татарией, а в более отдаленные времена Херсонесской Таврикой — это полуостров на северном берегу Черного моря, часть материковой земли Южной России, выступающая в морские воды. Он является частью крайнего юго-восточного угла Европы. Эта местность, которая теперь знаменита в нашей истории, расположена между 32 градусами 45 минутами и 36 градусами 39 минутами восточной долготы и 44 градусами 40 минутами и 46 градусами 5 минутами северной широты. Таким образом, он лежит в тех же широтах, что север Италии и юг Франции. Он тянется более чем на 130 миль с севера на юг и на 170 миль с запада на восток, но вторая цифра включает в себя узкую длинную полосу земли, которая простирается в восточном направлении от основного полуострова. Его общая площадь равна примерно 10,050 квадратной мили.
Средневековые путешественники иногда называли Крым островом Кафой по имени города Кафы, стоявшего на его восточном берегу, и потому, что Крым почти является островом. Вполне вероятно, что когда-то он и в самом деле был полностью отделен от материка, то есть был настоящим островом. Так считали Страбон, Плиний и Геродот, и форма перешейка, который связывает полуостров с Европейским материком, подтверждает их предположение. Перешеек Перекоп, о котором идет речь, — его длина примерно семнадцать миль, а ширина пять, — так низок, что наблюдателю, стоящему в центре этой полосы суши, кажется, что море с обеих сторон выше уровня земли и что достаточно будет даже слабого толчка от ветра, чтобы эти воды слились вместе. В очень давние времена греки укрепили перешеек, который в их географии назывался Тафрос. Это слово означает «ров», то есть указывает, что в этом месте были укрепления. Похоже, что по соседству с ним был и город, тоже называвшийся Тафрос. Ров шел от моря до моря, и через равные промежутки над ним были построены башни, стража на которых старательно охраняла его, чтобы не дать варварским племенам вторгнуться на полуостров. С тех пор перешеек много раз укрепляли подобным же образом и в том же самом месте. А населенный пункт, когда-то носивший имя Тафрос, позже стал называться Ор-Гапи, что значит Царские Врата. Величественное название этой скромной татарской деревни указывало на то, что в этом месте можно было пройти в Крым по мосту, переброшенному через ров, через сводчатые ворота под одной из башен. И наконец, Россия дала ему нынешнее название Перекоп, означающее ров между двумя морями. Сам ров, широкий и глубокий, существует и теперь, хотя сильно обветшал, другие же укрепления не готовы для обороны.
На полуострове есть еще три похожих, но менее крупных участка земли. Один из них — уголок суши на его юго-западном побережье. ограниченный морем и линией, проведенной от дальней оконечности основной гавани Севастополя до Балаклавской бухты. Эта местность носила у древних название Гераклейский Херсонес, а иногда ее называли Малым Херсонесом, в отличие от Большого Херсонеса — основной территории полуострова. С этим краем связаны многие поэтические и исторические памятные события давних времен, а теперь он на протяжении более чем шести месяцев привлекал к себе внимание всего цивилизованного мира. В него входят южная часть Севастополя, лагеря, батареи и окопы армий союзников, а также поля, где совершали свои подвиги те, кто сражался в боях у Балаклавы, и где происходила кровопролитная битва под Инкерманом. Второй из малых полуостровов — Керченский, на востоке Крыма. Он был хорошо знаком древним афинским купцам и оставил о себе память в истории как место, где в течение восьми веков находилось Боспорское царство. Этот полуостров расположен между Азовским и Черным морями, его длина с запада на восток около 80 миль, а средняя ширина с севера на юг 24 мили. Он соединен с остальной частью Крыма перешейком чуть больше 10 миль в ширину, поверхность которого совершенно ровная и плоская. Третий малый полуостров интересен своей формой: это узкая полоса земли, которая протянулась на север возле Арабата, ее длина 70 миль, но ширина часто бывает не больше четверти мили. Она отделяет Азовское море от его залива, Гнилого моря, и расположена очень низко над их уровнем. Эти два моря связаны между собой у северной оконечности этой косы Геначеским (правильно: Генический. — Пер.) проливом. Слово «пролив» звучит немного хвастливо: из-за своей малой ширины — всего 100 ярдов — этот водный путь больше похож на искусственный канал. Здесь стоит мост, который связывает полуостров с материковой Россией, и этим путем осуществляется основное сообщение между восточной частью Крыма и материком. Дорога идет по узкой дамбе, на которой для удобства путешественников размещены несколько почтовых станций. Эта необычная возвышенность состоит частично из более или менее уплотненного ракушечного песка. Кроме почтовых станций по ней то тут, то там разбросаны крестьянские хижины.
Черное море омывает Крым с запада и юга; поскольку на этом море не бывает приливов и отливов, воды его почти полностью замкнутых сушей маленьких бухт похожи на озерные. Само оно отличается большим размером, компактной формой и почти ничем не разрываемой поверхностью: однообразие его водной глади нарушают только один маленький остров возле устья Дуная и две скалы около берегов Крыма. Его максимальная длина с востока на запад составляет примерно 690 миль, а максимальная ширина с севера на юг, между Одессой и Константинопольским проливом, равна 390 милям. Между южной оконечностью Крыма и Синопом, расположенным напротив нее на другом берегу, в Малой Азии, море сужается до размера чуть меньше 160 миль. В восточном направлении оно тянется на 300 миль, но ближе к концу становится эже. Его воды занимают площадь примерно в 180 000 квадратных миль — больше, чем Балтийское или Каспийское море, но меньше, чем Северное. Общая площадь его бассейна, куда входят земли, вода с которых стекает в Днестр, Днепр, Буг, Дон, Кубань и другие реки, немногим меньше 1 000 000 квадратных миль. Сюда входят около трети Европы и небольшая часть Юго-Западной Азии. Длина побережья более 2000 миль. Полибий писал, что расстояние по диагонали через море от Фракийского Босфора до Босфора Киммерийского, то есть от Константинопольского пролива до пролива Керченского, равно 500 римским милям. Эта цифра очень точна и доказывает, что у древних существовал более точный, чем мы обычно считаем, способ определять расстояние, пройденное кораблем. Они сравнивали его по форме со скифским луком, уподобляя южный берег тетиве, а остальную часть самому луку. Сходство приблизительное, но все же достаточно точное. Из-за огромного количества осадочных пород, принесенных северными реками, Полибий рискнул предсказать, что Черное море в будущем обречено стать непригодным для судоходства, а возможно, вообще превратится в сушу. Но его большая глубина в сочетании с мощным и постоянным потоком воды, идущим через Константинопольский пролив, всегда сможет справиться с осадочной почвой, принесенной реками, и море не придет к такому концу — хотя идет образование новых участков суши возле устьев рек. Во времена греческих географов на расстоянии одного дня плавания от Дуная существовала большая отмель длиной в тысячу стадиев, на которой часто по ночам застревали суда моряков. Но сейчас нет никаких ее следов. Вероятно, за девятнадцать или двадцать веков земли возле устья накопилось так много, что бывшая отмель, когда-то находившаяся на расстоянии тридцать или сорок миль от берега (примерно столько мог проплыть за день древний корабль), стала частью суши. Вода в Черном море не такая соленая, как в Средиземном, но намного солоней, чем в Балтийском, несмотря на большое количество пресной воды, поступающей из рек, и на постоянное вытекание из него воды через Константинопольский пролив. Чтобы объяснить это, некоторые географы предположили, что существует подводное течение от архипелага через Дарданеллы и оно подсаливает воды, с которыми под конец смешивается. Но достаточным и более удовлетворительным объяснением является изобилие соли на северных берегах. Должно быть, часть этой соли постоянно просачивается в море.
Этот расположенный в глубине материка огромный водоем был известен под разными именами, в том числе — противоположными по значению. Латинские писатели часто называли его просто Pontus, то есть море. Греки в самом начале его истории именовали его Axenus — «негостеприимный». Вероятно, это имя досталось морю из-за штормов, которые часто случаются на нем в некоторые периоды года и были грозной опасностью для робких и неумелых моряков, а также из-за варварских нравов народов, живших на его берегах: некоторые из этих северных скифских племен даже слыли людоедами. Позже, основав свои колонии на этом побережье, греки заменили это название на более благоприятное Euxinus — «гостеприимное», «дружелюбное к чужеземцам», — чтобы воздать хвалу своим цивилизованным манерам и привлечь туда новых поселенцев. Но плохая репутация — все равно, справедливо она приобретена или нет, — крайне прилипчива. Несмотря на перемену названия, старая поговорка о собаке, которой один раз дали плохое имя, в этом случае оправдалась: люди были упрямы и относились к «Гостеприимному морю» так же плохо, как раньше к «Негостеприимному». И до сих пор у них сохраняется впечатление, что в характере этого моря есть что-то особенно скверное, чего нет у других морей. Его современное имя лишь укрепило это представление.
Нынешнее название Черное море впервые появилось у турок (на их языке оно звучит Kara-dengis). Оно не вызывает приятных мыслей, и в его стойкости нет ничего особенного. Названия морей и берегов, как правило, присваивались им весьма произвольно и на основе лишь части их свойств, причем таких, которые есть не только у мест, именами которых они стали. Белое море не белей, чем залив Баффина; Багряное море (так раньше испанцы называли Калифорнийский залив. — Пер.) не более розовое, чем Левант; Красное море не красней, чем Персидский залив, а Тихий океан бушует так же грозно и так же часто, как Атлантический. Такие неудачные определения приносят несчастье: в начале жизни человека они производят на его сознание впечатление, которое приобретенные позже знания могут исправить, но редко уничтожают полностью. Турки и другие восточные народы привыкли называть словом Kara — «черный» стоячие воды, которые обычно бывают темного цвета, а быстро текущие горные ручьи называют «белыми», поскольку их вода, как правило, прозрачная. Но Эвксинское море темно-синее и полная противоположность сонным морям.
Однако на Востоке часто называют «черными» бурные реки и воды, переправа через которые трудна или опасна, — так же как злодеев, которые страшны для своих сородичей. В Османской империи есть много Карасу — «черных вод», и так же много было в ее истории великих визирей, пашей и сераскиров, которые, как живший в начале ее существования Кара Чалиб Чендерели (Chalib Chendereli), приобрели дурную славу и получили такое же прозвище.
Точно так же зловещее выражение «Черное море» могло применяться в переносном смысле и означать подлинные или предполагаемые опасности для плавания, зимние бури и туманы в начале весны и в конце осени. Но до последнего времени по этим водам никогда не плавали опытные и достаточно умелые моряки; внутренние моря Великобритании при таких обстоятельствах тоже имели бы большие права на мрачные названия.
Ни одну часть земного шара не ругали так, как области возле Эвксинского, оно же Понтийское, оно же Черное, моря. Два античных автора — Овидий и Тертуллиан, поэт и служитель церкви, пространно рассуждали о недостатках этого края — особенно Овидий, который несколько лет провел на западном берегу этого моря. На пятьдесят первом году жизни он был выслан из Рима указом императора Августа — вероятно, за то, что не мог держать язык за зубами и сплетничал о каком-то придворном скандале. В этом постановлении ему было приказано жить в городе Томы — колонии милетских греков возле устья Дуная; в те дни это была самая дальняя граница цивилизованного мира. Овидия отправили туда так же бесцеремонно, как многих неосторожных болтунов отправляли по этапу из Санкт-Петербурга в Сибирь. Он добрался до места назначения зимой, проплыв по бурным морям, и умер на девятом году своего изгнания. Поэт любил вино, бани, духи, фрукты, цветы и дорогие удобства, и приговор обрушился на него как удар грома. Никогда человек не принимал свою судьбу в более печальном настроении. Его Tristia («Скорбные элегии») и «Понтийские письма» — короткие стихотворения, присланные друзьям, — полны смиренных малодушных просьб об отмене приговора и детских жалоб на все — землю, воду и небо, климат, почву, воздух и людей. Овидий писал: «Я живу под небом края мира. Увы! Как близок от меня край земли!» Страну, где он вынужден жить, поэт ругает такими словами: «Ты самая невыносимая часть моего несчастного изгнания. Ты никогда не ощущаешь весны, украшенной венками из цветов, и не любуешься обнаженными телами жнецов. Ни одна осень не протягивает тебе плотные гроздья винограда, но все времена года сохраняют сильный холод. Ты сковываешь море льдами, и часто в океане рыбы плавают, замкнутые в покрытой льдом воде. У тебя нет ручьев, кроме потоков воды, почти такой же соленой, как море, о которой неясно, утоляет она жажду или усиливает. На открытой местности растет мало деревьев, и те не сильные; и на суше можно видеть точное подобие моря. Ни одна птица не щебечет свой напев — разве что случайно бывает это в далеком лесу. Горькая колючая полынь растет на бесплодных равнинах, и этот урожай своей горечью подходит для места, где он растет».
Если в первой части описания есть хоть какая-то доля правды, то со времени Овидия климат в этом краю изменился к лучшему. Вторая часть отрывка точно описывает степную растительность и внешнее сходство степи с морем.
Об обычной понтийской зиме Овидий рассказывает так:
«Снег глубок, и, пока он лежит, его не растапливают ни солнце, ни дождь. Борей делает его твердым и вечным. Поэтому, когда прежний лед еще не растаял, за ним уже следует новый, и во многих местах лед часто держится два года подряд. Сила северного ветра так велика, что, когда он пробуждается, набирает такую силу, что способен сровнять с землей высокие башни и унести крыши. Жители этих мест слабо защищаются от холода шкурами и ткаными штанами, оставляя открытым из всего тела только лицо. Часто их волосы, если шевелятся, звенят от висящих на них сосулек, и белая борода блестит от образовавшегося на ней льда. Жидкое вино становится твердым и сохраняет при этом форму сосуда; так что они глотают жидкость не глотками, а кусками, которые им подают. Почему я должен упоминать о том, как замерзшие реки становятся твердыми и как из ручьев выкапывают ломкую воду? Сам Дунай, который не эже, чем река, несущая на себе папирус, и в течение многих месяцев сливается с просторным океаном, замерзает, когда ветра делают твердыми его лазурные струи, и его воды катятся к морю под крышей изо льда. Там, откуда ушли корабли, люди теперь ходят пешком, и копыто коня ударяет по водам, затвердевшим от холода. Сарматские быки тянут неуклюжие повозки по этим диковинным мостам, а под ними течет вода. Я видел замерзшее просторное море, покрытое льдом, и скользкая корка покрывала его неподвижные воды. Я шел по затвердевшему океану, и поверхность воды была у меня под ногами, но они не намокали». С поправкой на поэтическое преувеличение мы все же можем считать этот отрывок свидетельством в пользу подтвержденного другими фактами предположения, что климат большей части Европы в прошлые эпохи был намного суровей, чем сейчас. Ведь в наше время только самые северные порты Черного моря, а также Керченский пролив и Азовское море замерзают каждый год. Шекспир в своей трагедии «Отелло» упоминает «ледяное течение Понтийского моря», и в то время даже Константинопольский пролив соответствовал этому описанию. В 401 году от Рождества Христова крупные участки Эвксинского моря сильно замерзли, а когда погода изменились, мимо Константинополя плыли такие громадные ледяные горы, что горожане испугались. В царствование Константина Копронима случилась такая суровая зима, что люди ходили по льду из Константинополя в Скутари. Теперь и первое, и второе события были бы чем-то совершенно из ряда вон выходящим.
Церковный деятель еще больше, чем поэт, виновен в преувеличении недостатков Понтийского края. В своей речи против еретика Маркиона Тертуллиан создал вот этот непревзойденной образец литературной клеветы:
«Этот путь, который называется Понт Эвксинский — Гостеприимное море, — лишился всех милостей, и самое его имя стало насмешкой над ним. День никогда не бывает ясным: солнце никогда не светит охотно. Существует только один вид воздуха — туман. Весь год дуют ветры, и каждый ветер прилетает с севера; жидкости бывают жидкими только перед огнем; лед перегородил реки; горы стали выше от куч снега; все окоченело и стало жестким от холода. Теплом жизни там наполнена одна лишь жестокость — я имею в виду ту жестокость, которая наделила этот край легендами о жертвоприношениях тавров, о колхидской любви и о кавказских пытках. Но самое варварское и скверное в Понте — то, что он породил на свет Маркиона. Этот человек более дик, чем скиф, более непостоянен, чем дикий житель кибитки, более бесчеловечен, чем массагеты, более дерзок, чем амазонки, темней, чем туман, холодней, чем зима, его нервы более хрупки, чем лед, он более вероломен, чем Дунай, и движется к своей цели более стремительно и безудержно, чем стремятся вверх Кавказские горы». Раз по миру ходили такие описания Эвксина, это море легко могло стать нелюбимым повсюду и быть в представлении народа чем-то вроде огромного Стикса — местом, где могут плавать по морю только кентавры, а бывать на берегах — только сатиры.
Правда в том, что у Черного моря есть свои особые опасности и недостатки, как и у большинства других провинций империи Нептуна. Зимой и в дни равноденствий на это море часто налетают сильнейшие бури с севера; сопровождаются ослепляющим снегом — сухим или мокрым. Весной и осенью здесь часто бывают густые туманы, и легкий ветер собирает поверхность моря в складки, создавая не опасные, но беспокоящие людей волны. Но в течение многих месяцев года Черное море прекрасно подходит для судоходства. Глубина его почти везде большая, поэтому даже самые крупные суда могут идти близко от берега, и им не мешают ни мели, ни острова; оно предоставляет судам много свободного места и имеет несколько прекрасных гаваней. Но до последнего времени государства, которые владеют его берегами, не делали ничего или делали мало, чтобы повысить безопасность приплывающих к ним моряков. На побережье длиной более чем в 2000 миль есть не больше двадцати маяков. Карт было мало, и по большей части они были неточными, а большинство матросов были бы «сухопутными моряками» для мореходов, привыкших плавать вокруг мыса Горн. Турок во время шторма делает все, на что способен, но мало пользуется картой или компасом и примиряется с катастрофой как с неизбежным приговором «кисмета», то есть судьбы. Русские команды судов, плавающих вдоль берега, не намного опытней. При плохой погоде начинают обычно с того, что выбрасывают за борт все предметы, которые можно сдвинуть, а если положение не улучшается, применяют второе и последнее средство — падают на колени перед образами святых, отдавая корабль на волю святого Николая или святого Александра Невского. Рассказывают, что один английский капитан, подплывая к Дарданеллам, встретил судно, которое шло из Крыма, и хозяин этого судна спросил у англичанина, где он находится. Оказалось, что поднятые ветром волны несколько дней носили его то в одну сторону, то в другую, затем вынесли из Черного моря через Босфор, Пропонтиду и Дарданеллы, и теперь он совершенно не мог определить свое местоположение. Немного лет прошло с того времени, когда о некоторых русских военных кораблях ходила дурная слава, что их команды умеют водить суда только при хорошей погоде и ровном море, потому что у большинства офицеров и матросов при сильном ветре всегда начиналась морская болезнь. Рассказывают, что однажды, когда один русский адмирал находился на корабле между Севастополем и Одессой, он и его офицеры полностью сбились с пути и флаг-адъютант, увидев на берегу деревню, предложил сойти на берег и спросить дорогу. Хотя в этом утверждении есть доля злой шутки, правда то, что до последнего времени Эвксин обвиняли во многих несчастьях, причиной которых было просто недостаточное владение мореходным искусством.
С востока Крым ограничен Азовским морем, его заливом — Гнилым морем и Керченским проливом, через который поддерживается связь с Черным морем. Азовское море — это Меотийское море латинских и греческих географов. Хотя его размеры примерно двести миль с северо-востока на юго-запад и сто в противоположном направлении, по своим свойствам оно гораздо больше похоже на озеро, чем на море: глубина в нем везде малая, и вода почти пресная. В центре самая большая глубина не превышает семи с половиной морских саженей, а ближе к берегу воды редко хватает для того, чтобы к нему близко подошла двенадцативесельная шлюпка. В Таганроге, на северном побережье, корабли при погрузке или разгрузке стоят на расстоянии пятнадцати верст, то есть примерно десяти миль, от берега. От него до Азова, города на противоположном берегу моря, тянется мель, верней, цепочка мелей, и при сильном восточном ветре море отступает так далеко, что местные жители могут пройти от одного из этих городов до другого по суше, а расстояние между ними около четырнадцати миль. Однако такой переход — рискованное предприятие, потому что ветер внезапно меняет направление, быстро возвращает воды на прежнее место, и они порой уничтожают человеческие жизни. Этот необычный муссон дует почти каждый год после середины лета.
Люди считают, что это море быстро мелеет, и похоже, что это верно. Паллас в 1793 году упомянул в своих записях о спуске на воду крупного фрегата там, где сейчас с трудом плавают даже лихтеры. Это происходит из-за грязи и ила, которые приносит Дон; из-за них же вода в море совсем не голубая и далеко не прозрачная. С ноября по март его поверхность покрыта льдом, и плавание по нему редко становится безопасным раньше апреля. Начиная с этого времени до середины лета почти постоянно дует юго-западный ветер, который облегчает путь судам из Черного моря и преграждает путь выходящему течению, чем сильно увеличивает глубину Азовского.
Сиваш, по-русски гнилое море, расположено между основным побережьем Крыма и Арабатским полуостровом и связано с Азовским морем маленьким Геначеским проливом. Его название вызывало любопытство у многих людей, которых нынешние события впервые заставили взяться за изучение карт этого края. Они предположили, что оно связано с чем-то ужасным и трагическим, вроде жестокой резни, когда вода покраснела от крови жертв, а потом воздух долго был заражен. Однако оно объясняется очень просто и обыденно. Гнилое море — один из тех мелких водоемов с болотами и топями по краям, которые труднопроходимы для людей и животных и над которыми в летнюю жару поднимаются ядовитые испарения, из-за чего вся окружающая местность в это время года вредна для здоровья. Над водой нависают ивы, большие заросли которых служат летним приютом для множества болотных птиц. Древние вернее, чем мы, характеризовали этот водоем, называя его болотом или озером — Palus Putris. Это устоявшее перед временем название доказывает, что с незапамятных времен данная местность имела эти неприятные свойства. Но иногда восточные ветры оттесняют воды Азовского моря от Таганрога и пригоняют их через Генический пролив в Сиваш; в этих случаях вода затопляет грязевые отмели; тогда Сиваш выглядит свежее, и его вредное действие на время прекращается.
Эти внешние водоемы связаны с основным, большим Черным морем через Керченский пролив, который когда-то носил название Босфор Киммерийский. Его древнее имя напоминает о древних коренных жителях этих берегов — киммерийцах, наполовину легендарном, наполовину историческом народе. В Одиссее они описаны как народ, живущий за океаном во мраке и не благословленный лучами Гелиоса-Солнца. Второе слово названия — «Босфор», точней, «Боспор» — в древности обозначало и Константинопольский пролив (его, чтобы отличить от Киммерийского, называли Босфором Фракийским). Это слово объясняют по-разному. По одной из легенд, через эти два пролива Ио, превращенная Юпитером в быка, переходила с одного материка на другой во время своих странствий. Более реалистичное объяснение — что люди впервые переправились через них на корабле, нос которого был украшен изображением быка, и от этого проливы получили название Боспорус — «Бычья Переправа». Но это имя может означать и переход скота; в таком случае оно могло означать переход стад с одного берега на другой в зимнее время по льду. Геродот утверждал, что «херсонесские скифы, которые живут с внутренней стороны рва (то есть Перекопа. — Авт.), переходят Босфор по льду со своими повозками, чтобы пройти в страну индийцев». Митридат сражался на льду в той самой части Киммерийского Босфора, где прошлым летом произошло морское сражение. Надпись на мраморной плите, которую обнаружили на азиатском берегу пролива, утверждает: «В году 6576 (1068 год от Р. Х.) князь Глеб измерил море по льду, и расстояние от Тьмутаракани (Тамани) до Керчи было равно 30 054 морским саженям». В наше время в суровые зимы телеги с грузом иногда проходят через Керченский пролив, и вполне вероятно, что в прошлую зиму русские могли этим путем переправить в Крым и солдат, и запасы. Этот пролив — узкая вьющаяся полоса мелкой воды с песчаными мелями по бокам. Таким же он был в дни Полибия, и можно ожидать, что таким будет всегда: его изгибы не дают водам Азовского моря ворваться в него напрямую и способствуют накоплению осадочных пород.
На обоих берегах пролива наблюдаются признаки псевдовулканической деятельности. Возле Керчи есть грязевой вулкан, но самый замечательный из таких вулканов находится на противоположном берегу, на расстоянии двадцати семи миль от Тамани. В своем обычном состоянии этот холм похож на большую зажившую язву. Его напоминающая кратер вершина покрыта многочисленными отверстиями, из которых выделяются вода, темная грязь и зловонный газ. Но иногда можно увидеть и нечто вроде извержения — выброс большого количества грязи, который сопровождается огромными столбами огня и дыма. Одно из этих извержений произошло 27 февраля 1794 года; тогда пламя поднялось на высоту 300 футов, и грязь била фонтаном. По оценке побывавшего на этом месте Палласа, за короткое время в воздух взлетело 100 000 кубических саженей грязи. Казаки удостоили это место названия Прекла, что значит «Ад». В 1799 году недалеко оттуда в результате подводного извержения в Азовском море возник остров, который затем был виден какое-то время, но постепенно ушел под воду. Жителей этого берега тревожат ужасные шумы и подземные толчки. Вполне вероятно, что в прошлом вулканические процессы в этой местности были гораздо активнее, и стали причиной существовавшего у всех античных авторов представления, что Киммерия находится возле входа в подземное царство Аида.
Моря Крыма, особенно вдоль восточного побережья, изобилуют рыбой, и мало есть мест, где ее так много, как в Азовском море. Добываемую рыбу делят на два разряда. К первой группе относятся прекрасные осетры, которые перемещаются из соленых вод Черного моря в пресную воду Дона и обратно, загромождая находящийся посередине пролив. Во вторую группу входят скумбрия, сельдь, палтус и другие виды. Кроме них, в Черном море водятся акулы, дельфины, тюлени, морские свиньи (разновидность дельфина. — Пер.), а из Средиземного моря приплывают на нерест тунцы. Акулы не большие и не агрессивные; их иногда едят, но охотятся на них в основном ради грубой кожи, которую используют в своей работе столяры-краснодеревщики и полировщики. Одна из самых необычных рыб — бычки. Их мясо всегда вызывает жар у тех, кто его ест, а еще они строят для своего потомства настоящее гнездо, как птицы. Самец и самка собирают стебли камыша и мягкие водоросли и укладывают их в маленькую ямку на берегу. Оба сторожат гнездо, пока мальки не вылупятся из икринок и не уплывут из него в подводный мир. Это поведение — исключение из правила, существующего у рыб, — было замечено Аристотелем у другого вида, есть и еще несколько подобных примеров. Каждый год в Керченском проливе вылавливают огромное множество осетров и сельди и заготавливают большое количество осетровой икры. Сельдь либо доставляют на ближайшие рынки в сыром виде, либо засаливают и продают перекупщикам, приезжающим из внутренних областей России. Пока Восток был христианским, в Константинополь, Малую Азию и другие местности везли из Крыма в больших количествах соленую рыбу, поскольку многочисленные посты православной церкви порождают большой спрос на этот товар. Крымская рыба была знаменита и в более давние времена. На монетах греческих городов Эвксинского побережья была изображена рыба, а иногда рыболовный крючок, что свидетельствует о древности местного рыболовства и о том, как высоко ценилось это занятие.
В Крыму нет ни одной реки, которая достойна называться рекой в течение всего года. В жаркие и засушливые летние месяцы многие малые речки полностью пересыхают, а более крупные становятся узкими и мелкими или превращаются в цепочку прудов, слабо связанных между собой. Самая крупная река, Салгир, зарождается в горах на южном берегу, протекает мимо Симферополя — современной столицы полуострова, входит в степи и медленно добирается через них до Гнилого моря. Почти на всех участках ее русла до того, как она достигает равнины, ее можно летом перейти, не замочив ног, по камням, лежащим в ее русле, — просто перепрыгивая с одного из них на другой. Но ливни осенью и таяние скопившегося в горах снега весной превращают Салгир в глубокую и быструю реку. В Симферополе 19 января, в день Крещения, происходит церемония освящения воды, которая проводится греко-русской церковью во всей империи. Это большой праздник. Священники во всем великолепии своих богослужебных одежд спускаются к реке в сопровождении должностных лиц государственной власти и служат молебен на ее берегу, а затем несколько раз погружают в реку крест. После этого люди толпой спешат к реке, и каждый наполняет свою посуду освященной водой, которую потом бережно хранит, чтобы использовать при необходимости. Они сильно верят в целебные свойства этой воды и считают, что она излечивает от болезней и людей, и животных. Салгир и все ручьи, стекающие с гор, заметно изменяются после того, как пересекают границу степи. Поскольку на равнине совсем нет камней, все потоки лишаются слоя щебня и гальки на дне, теряют прозрачность и становятся похожи на канавы.
Река Альма, которая теперь знаменита в военной истории, точно так же в зависимости от времени года превращается из быстрого потока в жалкий ручеек. Она начинается поблизости от Бахчисарая, бывшей татарской столицы Крыма, течет к западному побережью и на всем своем пути протекает среди холмов. Ее берега красивы, а поскольку эти земли хорошо возделаны, они покрыты пышной растительностью. С обеих сторон видны плодовые сады или виноградники и укрывшиеся среди деревьев уютные дома их владельцев. Летом в рощах от заката до рассвета непрерывно поют соловьи. Тысячи лягушек подпевают им, что увеличивает громкость концерта, но вовсе не украшает мелодию. Но хотя их кваканье не музыкально, оно не создает диссонанса с соловьиным пением. В нем звучит веселье и немного самодовольства, оно похоже на хохот. Как будто лягушки смеются не просто потому, что довольны своей судьбой, а от переполняющей их радости. Альма — очень извилистая река. Оммер де Гелль (французский путешественник, географ и геолог. — Пер.) пересекал ее восемнадцать раз за три часа. Еще один поток, возле которого нашли свою могилу многие доблестные солдаты, называется у русских река Черная. Ее название у татар — Буюк-Узин, то есть Большая Вода, что, при ее малом размере, ясно указывает, как бедны водой их реки. Ее основной исток находится в Байдарской долине, оттуда она течет через Инкерманскую долину и впадает в море в верхнем конце севастопольской гавани. Холмы вблизи нее живописны, но сама она так же некрасива, как наши болотные речки, во всяком случае в своем нижнем течении, где русло заросло высоким камышом, тростником и другими водяными растениями. Но с точки зрения любителей охоты у нее есть одно достоинство, искупающее этот недостаток: в некоторые периоды года эти заросли становятся любимым убежищем бекасов и диких уток.
Однако для правительства Черная — большое зло: в ней размножаются мельчайшие черви, одинаково опасные в соленой и пресной воде. Они повреждают корабли в Севастополе, из-за чего те разрушаются раньше времени. Ущерб, который причиняют эти маленькие животные, может сократить жизнь русского военного корабля до восьми лет, в то время как средний срок существования кораблей британского и французского флотов примерно вдвое больше. Для защиты судов применялись многие средства, но ни одно из них не принесло ожидаемого успеха.
В степи есть много соленых озер, из которых добывают в больших количествах соль, которую затем перевозят на огромные расстояния. Самое большое и поставляющее больше всего этой необходимой приправы озеро тянется от южной оконечности Перекопа вдоль брега Гнилого моря. Телеги заезжают по оси в мелкую воду, и их сразу же нагружают солью, которая лежит на дне как песок. Затем соль отсылают во внутренние области России, и выручка от нее составляет значительную часть дохода, который правительство получает с полуострова. Соленые озера есть также вблизи Керчи и Феодосии, соль из них используется для торговли с побережьем Черного моря. Существуют такие озера и возле Евпатории, соль оттуда поставляют главным образом на внутренний рынок. Недалеко от этого города располагается маленькая деревня Саак на берегу соленого озера. Еще несколько лет назад это место было никому не известно, но теперь приобрело громкую славу. В деревне есть большая гостиница, и каждый год в Саак съезжается целая толпа светских модников, причем некоторые приезжают из таких далеких городов, как Москва и СанктПетербург. В июне и июле, во время летней жары, вода в этом озере испаряется и оставляет осадок в виде липкой грязи, по густоте похожей на тесто, черной и соленой. Главная цель приезжих — искупаться в этой грязи, когда она сильно нагрета солнцем: она излечивает ревматизм и кожные болезни. Поблизости живет медик, который устанавливает, сколько времени должны продолжаться ванны. В теплой грязи выкапывают яму, купальщик располагается в ней полулежа, затем его тело засыпают грязью, оставляя над поверхностью только голову, словно указательный знак над могилой живого человека. Судя по описаниям тех, кто это испытал, сначала их ощущения были далеко не приятными: тяжесть лежащей на груди грязи мешает дышать, и в первый раз это погребение заживо можно выдержать лишь несколько минут. Но после повторов эта процедура легко переносится в течение более долгого времени, и некоторые пациенты лежат в своей добровольной могиле по нескольку часов. Русские газеты полны рассказами о чудесных исцелениях, произошедших на этом месте, но не обязательно совершать путешествие в Крым, чтобы испытать на себе достоинства горячей солевой ванны и тем более — чтобы поваляться в грязи. Популярность саакских грязевых ванн — лишь еще один пример той любви ко всему новому, которая во всех странах и во все времена заставляла людей предпочитать далекий Иордан находящимся рядом Аванам и Фарфарам. (Авана — древнее название реки, протекающей возле Дамаска. Фарфар — древнее название еще одной из рек, протекающих через Дамаск или рядом с ним, обе упомянуты в Библии. — Пер.).
Глава 2
Горы и степь
Природа разделила Крым на две области, которые почти так же резко отличаются одна от другой, как день от ночи. Вдоль южного побережья поднимаются горы, а к северу от них лежит обширная равнина, которая занимает основную часть полуострова. Место перехода от гор к равнине можно было бы считать третьей областью, для которой характерны пологие холмы и широкие равнины. Для русского путешественника, никогда не наблюдавшего таких пейзажей, вид крутых скал и живописных ущелий, которые открываются перед ним на пути из Москвы или Санкт-Петербурга в южную часть Крыма, вполне может иметь не выразимое словами очарование. До этих мест весь его путь, более тысячи миль, проходит по однообразной плоской равнине, высоту которой иногда изменяют лишь холмы и цепи низких пологих гор, а поверхность покрывают главным образом луга, болота и песчаные пустоши. Контраст между этими равнинами, от которых глаз быстро устает, и горами усиливает действие горных пейзажей на воображение, что стало причиной преувеличенных похвал красоте и величию этого края. В Крыму действительно есть и приятные, и романтические, и величественные пейзажи, но он не уникален в этом отношении. По этим признакам пейзажи других частей Европы равны крымским, а часто даже превосходят их.
Цепь гор тянется вдоль побережья от окрестностей Севастополя на восток, в сторону Керченского полуострова, ее длина около ста миль, а ширина от двенадцати до двадцати миль. Расстояние между горами и морем в некоторых местах меньше трех миль и нигде не бывает больше двенадцати. Значительная часть линии берега — это крутые отвесные скалы. Возле Ялты в Черное море далеко выдается конический Аю-Даг — Медведь-гора. Она получила это название из-за предполагаемого сходства с медведицей, которая спускается к морю со своими медвежатами, чтобы напиться воды; с медвежатами сравнивали несколько стоящих рядом с горой каменных глыб. Скалы вдоль берега изрыты пещерами и гротами, которые проделали в них волны. Раньше в этих пещерах укрывались пираты, а позже поселились морские птицы. Кое-где у входа в пещеру растет дикая смоковница.
Вдоль этой прибрежной горной цепи построена хорошая дорога для экипажей. Она проложена от Севастополя до Алушты, на высоте в среднем две тысячи футов над уровнем моря. Местность между этой дорогой и берегом защищена от суровых холодных северных ветров и полностью открыта теплым южным ветрам, поэтому отличается прекрасным климатом, в котором отлично растут виноградные лозы, оливы и гранаты. По этой причине ее прозвали «русской Италией». Еще одна дорога идет, пересекая горы, из Алушты в Симферополь, ее самая высокая точка находится на высоте 2800 футов над уровнем моря. С нее открывается великолепный вид на берег внизу и на синий простор Черного моря. Возле этой точки стоит обелиск, отмечающий место, где стоял, любуясь видом с нее, император Александр I во время своего последнего приезда в Крым в 1824 году. Совсем рядом, возле родника, стоит памятник Кутузову. Эти дороги, которые делают труднопроходимый край легкодоступным, были построены под покровительством князя Воронцова, когда тот был генерал-губернатором этой провинции, а строительство князь поручил молодому офицеру инженерных войск.
Со стороны моря горы круто поднимаются вверх, в некоторых местах даже становятся каменной стеной высотой 1800 футов, а с другой стороны очень плавно понижаются до уровня северной равнины. Основная каменная порода здесь известняк, похожий на тот, который встречается в горах Юры, но более хрупкий. Однако встречается много выходов на поверхность различных видов гранита, зеленого камня и других вулканических пород. Дворец князя Воронцова в Алупке построен в основном из зеленого камня, добытого по соседству. Гранит, добытый из недр Медведь-горы, широко применялся при строительстве доков, набережных и фортов Севастополя. Плато, на котором армии союзников стояли лагерем перед этим городом, состоит в основном из известняка, а также из песчаника. Эти породы, за исключением тех мест, где камень выступает на поверхность, покрыты слоем легкой плодородной почвы, толщина которого варьируется от двенадцати до восемнадцати дюймов. Но дождь превращает эту землю в тяжелую липкую грязь, идти по которой так же трудно, как по свежевспаханному полю после ливня. Самая необычная особенность этих гор — форма их вершин. Они не округлые и не остроконечные как игла, а широкие и плоские. Народ называет такое плоскогорье словом «яйла», что означает «горное пастбище». Зимой эти яйлы покрыты снегом, но ближе к концу мая он тает, и на его месте возникает пышный ковер из трав. Эта трава остается свежей все лето, а на равнинах растительность высыхает от жары. Тогда татары со своими стадами покидают степь, переходят на эти возвышенности, куда легко подняться с северной стороны, и остаются на них, пока опять не наступает то время года, когда дождь на вершинах крымских гор превращается в снег.
Хорошим примером этого общего правила является каменная глыба-останец, которая находится около восточного края этой цепи, возле Карасу-Базара. Она называется Ак-Кая, то есть Белая скала, потому что состоит из белого известняка. Но русские называют ее скалой Ширинов из-за исторических воспоминаний. Этот одинокий утес высотой от пяти до шести футов и длиной примерно три мили поднимается посреди волнистой равнины. Одна его сторона почти вертикальная и такая ровная, что он похож на большую крепость. С другой стороны на него можно подняться без труда. На его плоской вершине когда-то разбивали свой лагерь татарские патриоты, боровшиеся за свою независимость. В дни расцвета татарского ханства Белая скала принадлежала самой богатой семье подданных хана. Родовое имя этой семьи было Ширин, и она владела всей восточной частью полуострова. Только мужчинам из этой семьи было разрешено вступать в брак с дочерями ханов. Веря в свое могущество, вожди рода Ширин часто восставали против своих повелителей. В этих случаях они приказывали своим вассалам и слугам явиться вооруженными на вершину Белой скалы. Вот откуда появилось название скала Ширинов.
Самая высокая вершина этих гор — Чатырдаг, каменная масса впечатляющих размеров, которая находится чуть левее дороги из Алушты в Симферополь. Ее название означает «Шатер-гора». Она поднимается на высоту 5135 футов над уровнем моря и состоит в основном из хрупкого серого известняка с прожилками более темного цвета. Когда этот известняк ломается, от него исходит слабый зловонный запах. Его толща изрезана гротами и пещерами, и в некоторых из них лед не тает от зимы до зимы. Откосы Чатырдага очень крутые, леса на них нет; но на нижних склонах и вокруг его подножия растет густой лес. Вершина совершенно голая, это просторная неровная площадка. Она поднимается самое меньшее на тысячу футов над всеми другими возвышенностями и имеет необычную, очень четко очерченную форму. Когда пар сгущается и образует облака вокруг вершины, татары, зная по опыту, каким обычно бывает результат этого природного явления, говорят, что Чатырдаг надел свою шапку. Так же говорят и другие горцы, швейцарцы, когда их вершины окутываются таким же покрывалом. Страбон упоминает нынешний Чатырдаг под названием Трапезус; гора, несомненно, была так названа за сходство с гигантским столом или алтарем. Но ее форма подсказывала разные имена различным народам, сменявшим друг друга в этой стране. И каждое имя в какой-то степени отражает привычки тех, кто его дал. Эта вершина носила название Стол-гора у греков, народа домоседов и любителей роскошной жизни; потом она стала Шатром-горой у татар, которые первоначально были кочевниками, а еще позже Седлом-горой у казаков, бесстрашных и неутомимых наездников. Рассказывают, что недавно один англичанин вернулся из поездки в Севастополь, считая, что Чатырдаг больше всего похож на филейную часть бычьей туши.
Вокруг Чатырдага в разное время жили многие народы, разные по обычаям, языку и религии — скифы, греки, римляне, аланы, готы, гунны, хазары, татары, генуэзцы, турки и русские; и между некоторыми из них шла борьба не на жизнь, а на смерть. В одной из пещер до сих пор сохранились следы такой смертельной схватки. Пещера эта носит выразительное название Фоул-Куба (foul по-английски «вонючий» или «мерзкий». — Пер.). Тот, кто решил в ней побывать, вооружается сальной свечой и влезает в обычную дыру, а затем проползает на четвереньках двадцать или тридцать ярдов. Когда он карабкается, а порой бывает вынужден ползти на животе по этому пути, его пугает стук человеческих черепов и костей. После такого неприятного начала отверстие расширяется, и посетитель пещеры может выпрямиться во весь рост в обширном зале с огромными сталактитами. Кажется, что эти природные колонны держат на себе его потолок, от которого до пола около сорока футов. Дальше идут другие залы. Слышно, как вдали журчат водяные струи: там есть родники. Но до сих пор неизвестно, где кончается эта система пещер, хотя говорят, будто один француз шел в глубь ее полдня. Кости у входа — останки несчастных генуэзцев, которые во время своих войн с татарами укрывались в этом убежище; татары задушили их дымом. Неподалеку есть другая пещера, Кизил-Куба; она известна своим великолепным входом, но еще не была подробно исследована.
Моряки замечают необычный силуэт Шатер-горы издалека, еще задолго до того, как могут рассмотреть местность между ним и берегом, а с ее вершины в ясную погоду глаз видит весь полуостров, кайму вод Черного моря вокруг его берегов на юге и просторную равнину за перешейком Перекоп на севере. Вот что рассказывает человек, видевший эту панораму: «Начиная от самых наших ног и ниже, так вертикально, что мы могли бы, бросив камень, попасть им в деревья внизу, до которых было 2000 футов, раскинулись очаровательные своим разнообразием леса и луга. Над редкими группами деревьев, которые возвышались среди этой похожей на парк местности, поднимались, завиваясь в кольца, струйки голубого дыма. Стада коров и быков, уменьшенных расстоянием до крошечного размера, казались большими горстями перца, который кто-то разбросал по этим богатым пастбищам. Через хорошо возделанные долины, по которым словно рассыпаны уютные на вид татарские деревни, текли к морю, извиваясь по пути, горные речки. Моря же мы почти не различали за плотной завесой облаков, полностью скрывавших от нас горизонт на юге. На западе напротив нас вздымала в небо свои огромные изумительные утесы гора Бабуган-Яйла, соперница Чатырдага. А на севере, насколько мог видеть глаз, простиралась степь, покрытая волнами травы; ближе к перешейку Перекоп она сужалась. Мы смогли рассмотреть покрытую лесом долину Салгира и на его левом берегу — белые дома Симферополя, а еще ближе разглядели буковые леса, через которые ехали верхом в то утро, и обширное плоскогорье, об известняковые камни которого спотыкались. Мы выбрали большой камень и сбросили в пропасть с наименее отвесного участка скалы, а потом, вытянув шеи, попытались увидеть, долетел ли он до дна. Но мы смогли лишь услышать его удары, когда он падал с утеса на утес, и их эхо. Великолепный орел, удивленный этими совершенно необычными здесь звуками, величаво поднялся в небо со своего гнезда, которое находилось на несколько футов ниже на этом обрыве, и улетел прочь, оставив нас единственными хозяевами вершины Чатырдага».
Рельеф этой горной местности формирует дикие ущелья, боковыми сторонами которых служат отвесные обрывы, и очаровательные долины, ограниченные средними по высоте и покрытыми лесом горами. Ущелья часто бывают усыпаны огромными каменными глыбами, которые откалываются от скал и падают вниз, иногда уничтожая людей и их имущество. Татары очень любят строить свои хижины высоко на уступах скал и в расщелинах гор, и поэтому, если какая-то скала вдруг падает и стремительно катится вниз, она разрушает их на своем пути. Иногда не выдерживает нагрузки почва, на которой стоят эти жилища, и оползень разрушает целые деревни. Но обычно перед такими судорогами земли почва проседает или дрожит, а потому жители хижин, как правило, успевают спастись. В деревне Кучук-Куи (ее название означает «маленькая деревня» и верно указывает на ее размер), мимо которой проходит горная дорога на южном побережье, сохранились свидетельства такой природной катастрофы. Деревня эта расположена на большой высоте, и добраться до нее можно лишь по очень труднопроходимым тропам. Татары упорно не хотят ее покидать, хотя примерно полвека назад оползень уничтожил значительную часть ее домов вместе с жителями.
Мало есть мест, которые восхваляли бы за красоту больше, чем хвалят Байдарскую долину, которая находится на расстоянии короткой поездки верхом от Балаклавы. Ее называли таврической Аркадией и крымской долиной Тампе (знаменитая своей красотой долина в Греции. — Пер.). По форме эта долина представляет собой изящную овальную чашу с окружностью более чем тридцать миль. Она не глубока, но окружающие ее холмы покрыты прекрасными лесами, которые орошают две речки с прозрачной водой. Населяют ее только татары, которые благодаря плодородию местной почвы живут богаче, чем их единоверцы на равнине. Их деревни, числом одиннадцать, окруженные плодовыми садами и стоящие под круглыми кронами ореховых деревьев, выглядят очень приятно. В прошлом единственной связью между Байдарской долиной и побережьем был проход Мердвен. Его название означает «лестница», и он действительно состоит из ступеней, вырубленных в скалах. Эта лестница короткими зигзагами поднимается на высоту примерно 300 футов. Хотя они расположены почти под прямым углом, местные лошади без труда и спускаются по ним вниз, и карабкаются вверх. Всадники, разумеется, при этом спешиваются. Это место очень живописно: его укрывают своей тенью деревья, стволы и ветви которых, переплетаясь, образуют причудливые фигуры всевозможных форм и облегчают путешественнику движение вперед. С появлением Воронцовской дороги пользоваться этим путем уже не обязательно. Самый красивый из перевалов, по которым можно перейти прибрежные горы, — тот, по которому идет дорога из Ялты в долину Осембаш, в сторону Бахчисарая. При подъеме на этот перевал человек видит пейзаж, полный резких контрастов. Если смотреть от моря, на внутреннюю часть полуострова, на горизонте виднеется, словно дымка, далекая степь. Пространство ближе и вокруг занимают долины, окруженные высокими стенами из песчаника и усеянные развалинами крепостей — это в основном следы генуэзцев и их набегов. Над долинами поднимаются величавые утесы и пики; вершины их голы, но ниже они одеты густыми и темными сосновыми лесами. В противоположном направлении видны виноградники побережья, город Ялта со своим заливом и благородный простор Черного моря, такой же синий, как небо над ним. В результате глаза видят с одной стороны что-то подобное Норвегии, с другой — нечто похожее на Италию.
Эти горы играли важную роль в истории Крыма при сменах власти на полуострове. Племена, изгнанные с равнины пришедшими с севера захватчиками, отступали к горам и укрывались в их естественных крепостях. А хозяева южного берега, для защиты от вторжений из внутренних земель, строили укрепления на господствующих и самых крутых вершинах. Одна из самых замечательных среди этих более поздних цитаделей — город-крепость Мангуп-Кале. Она знаменита по всему Крыму, и его старожилы всегда говорят о ней с почтительным восхищением. Эта крепость была построена на вершине отдельно стоящей полукруглой скалы, на которую можно было подняться лишь с одной стороны по очень крутой тропе. Когда-то эта тропа на всем своем протяжении была вымощена камнями. Теперь она разрушена и стала труднопроходимой, однако татарские лошади легко поднимаются по ней. Вершина скалы ровная, ее длина около мили, а ширина примерно четверть мили, она покрыта прекрасным дерном везде, кроме тех мест, которые заняты обломками старых зданий. Этих обломков так много, что видно: в былые времена здесь располагалась не только крепость, но и город. Вероятно, им владели по очереди греки, готы, генуэзцы и татары. Но его история покрыта мраком неизвестности. Последними его обитателями были евреи-караимы, которые постепенно покинули его к концу прошлого века, оставив после себя обветшавшую синагогу и кладбище с могилами своих отцов. Теперь это опустевшее место выглядит угрюмо и печально. Но весной кусты сирени цветут над памятниками прежних поколений, составляя с ними резкий контраст. Когда доктор Кларк (вероятно, Эдвард Дэниэл Кларк, живший на рубеже XVIII–XIX веков английский путешественник, писатель и профессор минералогии. Одно из своих путешествий он совершил по России и при этом побывал в Крыму. — Пер.) карабкался вверх на четвереньках, чтобы бросить взгляд за край почти отвесного склона, полуголый татарин, дикий как ветер, подскакал на коне к самому краю той же пропасти. Конь был совсем молодой, почти жеребенок, без седла и уздечки, такой же дикий, как всадник. И татарин стал весело указывать рукой на различные части пейзажа в том просторе, который видел оттуда глаз. В склонах этой горы вырублены просторные комнаты, которые соединяются между собой пробитыми в камне переходами. Попасть в них можно сверху, по ступеням. Совершенно неизвестно, для какой цели были созданы эти жилища в скалах — возможно, они служили наблюдательными пунктами для военных. Одна из самых известных скальных комнат была вырублена в далеко выдающемся вперед остроконечном уступе горы; с трех сторон в нее ведут входы, имеющие форму арок. Уступ носит название мыс Ветров, и действительно, он доступен почти всем ветрам. Через арочные проемы с одной стороны, в направлении южного хребта, видны крутые вершины и дикие ущелья, а с другой стороны, в направлении Симферополя, взгляду открываются холмы, долины, фруктовые сады и луга, пересеченные ручьями. В третьем направлении в ясную погоду можно разглядеть далекое море, отвесные скалы вдоль его берега и гавань Севастополя. Рассказывают, что при завоевании Крыма русскими последний сопротивлявшийся им татарский отряд укрывался в Мангуп-Кале.
Природа рассекает Крым и на другие крупные части: она делит его на несколько степей, то есть равнин, которые тянутся от гор на юг до перешейка Перекоп и на восток до оконечности Керченского полуострова. Слово «степь» имеет русское происхождение и означает плоскую открытую равнину без леса, покрытую густой, пышно разросшейся травой. Такой обычно и бывает местность, носящая это название, но в нее входят и большие участки болот, а также солончаков и настоящей пустыни. Крымская равнина является продолжением на юг, через перешеек, соединяющий полуостров с материком, огромной полосы таких равнин, которая тянется от границ Венгрии до самого центра Азии. Именно об этой полосе степей было сказано, хотя и с явным преувеличением, что теленок, который начнет пастись у подножия Карпатских гор, мог бы, продолжая есть без остановки, дойти до Китайской стены и стать за это время взрослым быком. Голландский путешественник Рубрук, проезжавший через степь в XV веке, точно описал ее: Nulla est sylva, nullus mons, nullus lapis, что на латыни означает «ни леса, ни холма, ни камня». Он писал: «Мы двигались на восток, не видя ничего, кроме земли и неба, да иногда, с правой стороны, моря, которое называется море Танаиса (Азовское) и еще — гробницы куманов, как нам казалось, находившиеся на расстоянии двух лиг от нас. Они были построены согласно похоронному обряду, существовавшему у предков этого народа». По этой земле, замечательной своим плодородием и пышностью своих трав, человек может пройти сотни миль, не встретив ни одного дерева. Однако в нескольких благоприятных местах есть небольшие рощи, в которых водится дичь. Татары знают про них и ходят туда охотиться. В степи встречаются большие участки с почти идеально ровной поверхностью, но чаще она представляет собой ряд пологих низких холмов. В ней также есть глубокие ямы и небольшие круглые углубления, похожие на следы ног какого-то титана, который прошел по равнине. Такие места играют важную роль в жизни степи, потому что в них скапливается дождевая вода. Хотя часть воды быстро испаряется под действием солнца, а часть впитывается в землю, эти низменные участки остаются влажными, и трава на них бывает зеленой еще долго после того, как рядом она полностью высыхает. За это их очень ценят пастухи. Еще одна разновидность степного рельефа, противоположность низинам, — могильные холмы, которые местные жители называют словом «курган».
Эти курганы представляют собой холмы конической формы, покрытые отличным дерном. Высота их обычно бывает от 25 до 30 футов над уровнем равнины. Форма их очень проста, но иная, чем у естественных возвышенностей, то есть они были созданы руками людей. Курганы стоят на всем пространстве степного региона — от берегов Дона до Прута и даже до Дуная. Область, где их можно обнаружить, простирается от границ Польши и центра России на юг до Крыма. В Крыму же их особенно много на Керченском полуострове, где они стоят очень близко друг к другу. Форма этих насыпных холмов породила много догадок относительно их предназначения, но большинство курганов, несомненно, гробницы людей, умерших в прежние времена. В тех внутренних областях полуострова, которые были колонизированы греками, обнаружены каменные саркофаги и внутри их — кости, сосуды, монеты, серьги, браслеты, а также золотые украшения такой искусной работы, что они могли бы сравниться с изделиями лучших современных ювелиров. Многие из этих предметов сейчас находятся в музеях Керчи и Санкт-Петербурга. Похоже, что грубые племена, которые одно за другим владели этими степями, хоронили своих умерших подобным же образом, но не так заботливо и с менее сложными обрядами — просто насыпали кучи земли над останками. Эти погребальные памятники Древнего мира просты, но именно в простоте их величие: такая гробница рассчитана на то, чтобы стоять вечно. На ней есть и природная надгробная надпись, которая остается понятной даже спустя столетия после того, как время уничтожило мраморные плиты и письменные эпитафии. Недавно было обнаружено, что во многих случаях часть земли, из которой состоит курган, не такая, как почва по соседству с ним, то есть, видимо, была привезена издалека. У донских казаков до сих пор существует похожий обычай: они берут с собой в далекий поход мешочек с родной землей, носят его на груди и, если смерть настигает их вдали от дома, берут эту землю с собой в могилу. Люди многих племен также считали своим священным долгом доставить землю родной страны на могилы своих друзей и родственников, нашедших вечный покой далеко от родины.
Но у этих необычных возвышенностей были и другие задачи. Некоторым из курганов их строители специально придали не такую форму, как у остальных. Во многих раскопанных курганах не было найдено никакого погребения. На тех обширных участках степи, где она совершенно плоская, без волнистых изгибов рельефа, курганы часто были элементами системы связи или военных укреплений. Иногда курганы, числом от пяти до семи, образуют ряд. Для каждого ряда характерно свое направление и свой строй. Вполне естественно предположить, что там, где большая орда надолго становилась лагерем, варвары насыпали холмы, чтобы укрыться от сильных ветров, чтобы защитить шатры своих вождей или чтобы поставить на вершине наблюдателя. Находившиеся далеко один от другого отряды могли поддерживать связь с помощью сигналов, подаваемых с этих высоких точек, или костров, зажженных на них. А если кто-то погибал в сражении или умирал естественной смертью, эти насыпные холмы принимали внутрь себя останки умерших и становились могильным курганами. Во всяком случае, точно известно, что сейчас курганы в Крыму и в других местах находят себе практическое применение. Пастухи, которым нужно созвать порученных им лошадей или коров, поднимаются на вершину кургана, чтобы видеть с высоты равнину вокруг. Эти древние наблюдательные посты были удачно использованы при проведении телеграфной линии через полуостров. Хотя мрак, который окутывает происхождение курганов, возможно, никогда не рассеется полностью, они всегда будут вызывать интерес и производить на людей впечатление как памятники давно прошедшей жизни былых времен. Во многих случаях места, где стоят курганы, теперь необитаемы на много лиг вокруг, и туда лишь случайно заходят стада коров и быков, крестьяне — пастухи этих стад и проходящие мимо путники.
Путешественники часто пишут о гнетущем однообразии жизни во время плавания по морю: только небо наверху и вода внизу и вокруг. Но «ветер, зыбь или буря» вносят изменения во внешний вид поверхности океана, и часто обитатели морских глубин поднимаются на поверхность, развлекая этим пассажиров. В облике степи гораздо больше скучной одинаковости. Даже весной, в единственное время года, когда она на короткое время становится красивой благодаря свежей траве и распустившимся цветам, степной пейзаж скоро начинает утомлять однообразием. Правда, вначале эта равнина своей кажущейся бескрайностью производит сильное впечатление на чужестранца, но, как только он привыкает к отсутствию видимых границ, очарование проходит. Его сменяет нетерпение, потому что, как бы лихач извозчик ни погонял своих лошадей громкими воплями и плетью, путешественнику кажется, что он за несколько дней пути не сдвинулся с места ни на шаг. Вокруг него все та же плоская, как диск, равнина. Если лето уже в разгаре, солнце в буквальном смысле слова поджаривает степь, и она выглядит печальной и голой. Травы и цветы уже стали пылью, и поверхность равнины превратилась в настоящую пустыню. Теперь она в состоянии нести на себе лишь несколько пучков травы и низких чахлых кустов. Ни один из них не окрашен в какой-нибудь из зеленых тонов, все эти растения имеют либо болезненно-желтый, либо пепельно-серый цвет.
Но особенно мрачно и уныло выглядит все в степи зимой, когда снег становится владыкой почвы и стирает все следы дороги или колеи. Но если нет снежной бури, татары никогда не рискуют заблудиться: они хорошо знают форму и направление каждого кургана, а мельчайшие предметы, мимо которых другие прошли бы не заметив, становятся для них ориентирами. Теперь направление главных дорог указывают каменные пирамиды в 12 футов высотой, поставленные на одинаковом расстоянии одна от другой благодаря стараниям князя Воронцова. Поэтому, если не падает снег, сильно ограничивающий обзор, сбиться с дороги невозможно.
Летом в этих местах часто можно увидеть оптические иллюзии, подобные тем, которые бывают в жарких восточных пустынях. Они немного разгоняют скуку, которую обычно вызывает местная природа, и развлекают усталого путешественника. Часто курган, лошадь или фигура человека на далеком горизонте появляются перед путником, увеличенные до гигантского размера и приподнятые над землей, словно они движутся на ходулях или висят в воздухе. Иногда неравномерное преломление лучей в воздухе порождает сложные и живописные сочетания фигур, которые проецируются на горизонт, и на краю степи возникают изображения башен, шпилей, мостов и деревьев, словно там стоит город. Но когда зритель приближается к этому месту, картина постепенно становится расплывчатой; наконец, она исчезает совсем, и перед ним оказывается только высохшая трава, которая качается на ветру.
Чаще встречается другая иллюзия — обманчивые мнимые озера на туманном горизонте. Они поражают своим сходством с настоящими, потому что у скота на пастбищах издалека видны только туловища, и кажется, что ноги животных погружены в воду. Но каким бы правдоподобным ни выглядело видение, стада никогда не принимают его за настоящую воду: они всегда могут отличить ее по запаху. Кружащиеся вихри тоже вносят разнообразие в степной пейзаж. Жара и засуха совместно превращают растительность в пыль, и она скапливается на равнине в огромных количествах. Вихревые потоки воздуха, которые очень часто возникают здесь, в своем круговом движении переносят с места на место огромные массы этой пыли и создают из нее высокие темные столбы, которые величаво и бесшумно движутся по поверхности равнины. Часто бывает можно увидеть сразу несколько таких движущихся колонн, которые образуют что-то вроде процессии и словно спешат куда-то по какому-то таинственному делу. Или же они собираются в группу и меняют свое положение относительно друг друга, так что кажется, будто это весело резвятся какие-то духи-великаны.
Иногда у путешественников бывает и еще один, неприятный вид развлечения — нападение дорожных грабителей, хотя, как правило, путешествие по этим местам достаточно безопасно. Нападающие — не пешие бандиты, а конные разбойники. Не так давно в местности между Симферополем и Перекопом действовал разбойник-татарин по имени Алим, которого много лет не могли поймать, несмотря на все старания правительства. Он был скорее из породы Робин Гуда, чем из породы Роб Роя: соблюдал определенные правила в своем деле. Не известно ни одного случая, чтобы он убил или искалечил кого-либо. К тому же он никогда не отнимал безжалостно все у своих жертв. Взяв с них дань, он отдавал часть добычи беднейшим членам ограбленного отряда. Когда его здоровье ослабло, он прекратил свои грабежи, а поскольку был бездомным и отверженным, ему пришлось жить и питаться из милости у пастухов, которые тайно укрывали его у себя. В конце концов один из них выдал его властям, соблазнившись наградой, которую те предлагали за помощь при его задержании. Алим был бит кнутом, а затем отправлен доживать свои дни в Сибирь.
С точки зрения геологии степь состоит из известняка, который образовался в самый поздний, третичный период, и находится на высоте от 120 до 200 футов над уровнем Черного моря. Это каменное плоскогорье покрыто слоем пригодной для вспашки почвы. Толщина и состав этого пахотного слоя в разных местах различны, но почти всегда он состоит из слегка солоноватой глинистой почвы. Иногда между ним и известняком есть прослойка настоящего морского песка, которая во многих местах выходит на поверхность. На поверхности часто оказывается и известняк из-за того, что дожди смывают верхний слой почвы. Поскольку он очень хрупкий камень, атмосферные явления легко разрушают его везде, где он подвергается их влиянию. В результате известняк превращается в почти неощутимую пыль, и даже самый легкий ветер поднимает в воздух целые облака этой пыли. Обычно цвет известняка пепельно-серый, но иногда он бывает ослепительно-белым, а в этих краях такой яркий блеск вызывает боль в глазах. Даже местные жители, которые привыкли к этой особенности своей земли, каждый год в одно и то же время страдают от воспаления глаз. Известняк широко используется как строительный материал. В степных деревнях дома более богатых жителей целиком построены из него. Из этого же камня построено большинство жилых домов и общественных зданий в Симферополе, Севастополе, Керчи, Николаеве, Херсоне и Одессе. Легкость, с которой он обрабатывается, и малое количество древесины являются побудительными причинами для его применения. Известняк состоит из раковин, которые слабо скреплены между собой, поэтому он поддается пиле и топору так же легко, как дерево. Для перевозки его обычно рубят на длинные четырехугольные блоки. Для русских с их маниакальной страстью к быстрому строительству этот камень оказался настоящим подарком Бога. Благодаря ему они имеют возможность быстро и дешево строить в этом краю новые поселения, украшая их колоннами и архитравами, и здания из этого материала выглядят красиво и внушительно — если недавно вышли из рук архитектора.
Но известняк, мягкий и пористый, быстро изнашивается под действием стихий, и у еще новых построек, сделанных из него, уже появляются повреждения, характерные для старых зданий. Если древние греки строили свои города на побережье из степного известняка, а это вполне вероятно, то неудивительно, что от некоторых из этих поселений почти не осталось даже обломков, по которым можно определить место, где они стояли.
Ночь в степи приходит на смену дню необычным для чужестранца образом — так внезапно, что это сильно впечатляет, а сначала даже немного пугает своей быстротой. В стране, где есть леса и различные части местности имеют разную высоту, тени деревьев и холмов постепенно удлиняются, предупреждая путника, что солнце приближается к западному горизонту. Но на этой великой равнине ничто не препятствует солнечным лучам, пока диск дневного светила не касается горизонта, и ничто не отбрасывает теней, которые предупреждали бы, что темнота вот-вот скроет лицо природы. Земля и небо залиты ярким светом до тех пор, пока не начинается закат. Через несколько минут солнечный диск полностью исчезает за горизонтом. Яркий свет, озарявший степной пейзаж, гаснет, и закрываются темные шторы ночи. Внезапность и быстрота этого перехода удивляет путешественника и придает обыкновенному природному явлению сверхъестественное величие и необычность.
Глава 3
Растительный мир, животный мир и климат
Весной, когда трава растет, степь похожа на бескрайний океан, окрашенный в самый свежий и яркий оттенок зеленого. Но этот цвет вскоре перестает быть единственным, а на обширных участках степи почти полностью исчезает: растения гордо выставляют напоказ свою красоту, и на ветру начинают раскачиваться массы цветов различных окрасок. Можно увидеть тысячи акров земли, где пурпурные свечи дельфиниума чередуются с пятнами ярко-алых маков и розовыми кустами дикого персика. А кроме них, в степи растет бесчисленное множество тюльпанов, крокусов, гвоздик, гиацинтов и анемон, которые составляют друг с другом великолепный контраст — и много резеды, но у нее нет запаха, который возделывание придало садовой резеде. Степная растительность очень мощная, но не отличается разнообразием. Ботаники насчитывают на этих огромных пастбищах около пятисот видов растений, и обычно растения каждого вида занимают обширные пространства. Самая распространенная трава — луговник, по-латыни Stipa capillata, она часто покрывает больше половины поверхности степи. Следующий по распространенности — ее близкий родственник, ковыль перистый, Stipa pennata, который русские называют шелковой травой. Этот ковыль часто выращивают для красоты в английских садах. Хотя у нас эти травы не считаются кормом для крупного рогатого скота и овец, на равнинах Южной России они — главная пища стад и отар. Семена обеих трав созревают в июле, вызывают опасные мучения у овец и обременяют пастухов изнурительной работой. Эти острые семена прицепляются к овечьей шерсти, а затем с удивительной ловкостью проскальзывают в глубину шерстяного покрова, пока не вопьются в кожу животного. Они постоянно раздражают кожу, в летнюю жару подверженные их действию участки начинают воспаляться. Эта болезнь приводит к смерти животного, если не устранить ее причину. Чтобы сохранить овец, пастух и его семья обычно каждый вечер вынимают семена из их шкур. Это очень утомительная работа, учитывая число овец в отаре и количество растений, вооруженных такими средствами нападения.
В повседневной жизни пастухов и в простых песнях, которые хорошо знакомы их детям, ни одно слово не встречается так часто, как «бурьян» — общее название трав, которые дают мало корма или вовсе не дают корма для скота. Зато деревянистые стебли бурьяна зимой можно использовать как топливо. Среди трав этой группы выделяются чертополохи. Иногда они достигают высоты шесть или восемь футов, поэтому можно верить рассказам о казаках, которые прятались вместе со своими конями в степном чертополохе. Полынь тоже относится к этой категории. Она вырастает до шести футов в высоту. Если лето очень жаркое, скот вынужден есть эту траву, и от этой пищи молоко и масло приобретают отвратительный горький вкус. Но самый многочисленный представитель этой непригодной в пищу части растительного царства — гипсофила метельчатая, по-латыни Gypsophila panikulata. Народ называет ее «степная ведьма» и посвятил ей много сказок и детских песен. Это растение достигает высоты трех футов; его ствол делится на множество направленных вверх ветвей и образует густой круглый куст с симпатичными маленькими цветами. Осенью, когда гипсофила высыхает и увядает, первый же сильный ветер ломает ее главный стебель низко над землей, и круглая верхушка от его дуновения катится по земле, прыгая и подскакивая. За нее цепляются другие мелкие высохшие растения, и постепенно образуется огромный уродливый шар неправильной формы. Когда ветер сгоняет вместе несколько таких шаров, они сцепляются друг с другом, как огромные репейники. Когда они, приплясывая и подпрыгивая, катятся, гонимые сильным ветром, в их движениях действительно есть что-то колдовское. Часто можно увидеть сразу сотни таких травяных шаров, которые как будто соскребают грязь с поверхности степи. Издали их можно принять за охотников или за стада диких животных. Бегу ведьм кладет конец сильный дождь, или ветер сдувает их в Черное море, которое бесцеремонно останавливает их.
Естественные леса существуют только в гористой части Крыма. Деревья в них в основном корявые. Причина этого — большая потребность в дровах и беспечность, с которой вырубали лес на топливо. Уничтожение лесов, увеличивающих влажность климата, уже привело к вредным последствиям: некоторые реки заметно обмелели, многие родники теперь дают меньше воды и чаще пересыхают. Наиболее распространенные деревья — сосна, дуб, вяз, ясень, бук, липа, тис, скипидарное дерево и можжевельник. На самых высоких, открытых непогоде участках гор крымская сосна Pinus Taurica имеет низкий рост и неправильную форму. Но в ущельях и на более низких склонах она отличается великолепным размером и красотой пропорций. Ее темная хвоя защищает нижние склоны горной цепи и в жаркие дни лета укрывает их столь желанной в это время тенью. Дубы в этих местах низкорослые. Многие другие деревья имеют склонность приобретать кустовую форму, при которой не достигают привычной для нас высоты. В Ореанде был обнаружен экземпляр одного из местных видов можжевельника, Juniperus excelsa, ствол которого имел в диаметре не меньше трех с половиной футов. Поскольку это дерево растет очень медленно, при таком размере его возраст должен быть больше тысячи лет. Значит, в своей юности этот можжевельник пережил Великое переселение народов, когда полуостров часто менял хозяев. Груша, дикая яблоня, слива, кизил, фундук и привычная для нас лещина растут здесь в диком виде; лещины очень много в лесах, покрывающих более низкие горы. Осенью крестьянки собирают созревшие орехи. Иногда они проводят вне дома две недели подряд, взяв с собой необходимый запас еды и ночуя под открытым небом, пока не закончат свою работу. Деревня Партенит на южном побережье гордится огромным деревом лещины, под которым князь де Линь сочинял свое письмо к императрице Екатерине II. Густая листва этого дерева покрывает тенью обширное пространство, а окружность его не меньше восьми ярдов. Его ствол окружен широким деревянным диваном, где почти всегда сидят путешественники, которые используют его вместо трактира. Местные жители чтят это дерево-патриарх и встречаются в его тени, чтобы обсудить дела своей деревни.
В долинах растут великолепные деревья грецкого ореха, каштаны и шелковицы. Иногда всего одно дерево грецкого ореха дает от 80 000 до 100 000 плодов, и часто такое дерево бывает главным источником средств к существованию для крестьянской семьи. Вблизи побережья часто можно увидеть старые оливы и дикие виноградные лозы огромного размера. Оба этих растения когда-то завезли в Крым греки или генуэзцы. Кипарисы растут здесь прекрасно, но, хотя их много и они большие, это дерево появилось в Крыму меньше семидесяти лет назад. Князь Потемкин в 1787 году посадил в Алупке два кипариса в память о визите Екатерины в Крым. Эти деревья живы и теперь, и все остальные кипарисы Крыма выращены из черенков, взятых от них.
Виноград рос в Крыму еще в глубокой древности. Плохо сохранившаяся древнегреческая надпись на плите из белого мрамора, выкопанной из земли возле Севастополя, кажется, увековечивает благодарность народа какому-то гражданину или должностному лицу за то, что он впервые насадил в этих местах виноградники. В то время, когда русские завладели Крымом, татары неумело возделывали виноградные лозы в долинах как на северных, так и на южных склонах прибрежного хребта. Новые хозяева сохранили виноградники лишь во второй из этих местностей, поскольку она открыта жаркому солнцу. Из других стран были вывезены лозы лучших сортов и вместе с ними необходимые мастера, чтобы производить вина, способные соперничать с французскими и рейнскими. На это были потрачены огромные суммы. В 1826 году князь Воронцов начал свою попытку усовершенствования, а через восемь лет, в 1834 году, на полуострове было уже 2 000 000 лоз, выращенных из черенков, добытых в разных частях мира. В том же году суммарное количество лоз на старых и новых виноградниках достигло 7 100 000.
Округ, где занимаются виноградарством, тянется от Альмы, затем вокруг мыса Херсон и до Судака, но в основном это побережье моря между Балаклавой и Алуштой. Когда британцы овладели Балаклавой, долина, которая тянется от верхней оконечности гавани до деревни Кадикой (это название означает «деревня судьи»), — та долина, через которую теперь проложена железная дорога, — была засажена красивыми виноградниками, которым придавали разнообразие вкрапления тополей. Оливковые рощи в Крыму встречаются, но широкого распространения не получили, поскольку выращивание олив связано с большими рисками. Весной часто случаются холодные ночи, которые губят молодые побеги, а неожиданные сильные морозы уничтожают целые плантации деревьев.
Кроме несвоевременных морозов и повреждающих растения засух, у растений и на равнине, и в горном краю есть еще один враг — саранча. Это насекомое — ужасное бедствие; правда, к счастью для плантаторов и хлебопашцев, саранча лишь изредка собирается в огромные губительные стаи. Много лет подряд она может не причинять ущерба из-за своей малочисленности. Потом в течение нескольких лет ее количество постепенно увеличивается. И наконец, миллионы насекомых, сменяя другие такие же миллионы, покрывают землю и, взлетев, превращаются в черную тучу. В Крыму обитают несколько видов саранчи, разные по размеру и окраске. Некоторые из них пожирают траву, другие объедают кусты и деревья. Но самый распространенный вид — Gryllus devastator (южноафриканская саранча. — Пер.). Как можно догадаться по названию (которое означает «опустошающая». — Пер.), он наносит самый большой вред. Согласно распространенной поговорке, эта саранча кусает еду как лошадь, прожорлива как волк, а по быстроте, с которой переваривает пищу, не имеет себе равных. В начале мая яйца, отложенные самками в землю предыдущей осенью, согреваются в тепле вернувшегося лета, и маленькие саранчи, пробив их оболочку, выползают наружу. В это время саранча-детеныш по величине примерно равна маленькой мухе. Несколько дней молодые насекомые остаются на месте своего рождения, потом вся трава оказывается съедена, и огромный аппетит заставляет их отправиться в путь. Поскольку у них нет крыльев, они медленно ползут по земле или передвигаются прыжками. Они останавливаются в ночное время и в холодную сырую погоду. Но если они движутся вперед, их не остановит никакое препятствие, природное или искусственное. Они преодолевают и огонь, и воду. Если на их пути зажечь костры, передние ряды погибают, но гасят огонь своими телами, и идущее сзади огромное полчище насекомых безопасно проходит дальше. При переправе через реку или ручей тысячи насекомых погибают, но миллионам удается переплыть на противоположный берег или перейти на него по трупам своих собратьев. Один автор недавно написал: «В 1851 году мне случилось быть на берегах Альмы, и в это время пришло известие, что к ее противоположному берегу приближается огромная масса саранчи. Я слышал, что эти насекомые боятся воды, и мне стало любопытно узнать, как они поступят, ведь река в том месте имела ширину примерно десять ярдов, и течение было достаточно сильным. К тому времени, когда я подошел к кромке воды, через реку уже переправилось немало саранчи, вода была черна от насекомых, а противоположный берег, высотой пять или шесть футов, был покрыт движущейся массой, очень похожей на пчелиный рой, когда он свисает из летка улья перед тем, как улететь. Задние ряды давили на передние, те под их нажимом прыгали в реку и плыли к противоположному берегу. Миллионы насекомых тонули, унесенные течением, но не было заметно, чтобы саранчи стало меньше. Несмотря на свою прожорливость, эти насекомые иногда проявляют разборчивость в еде. Однажды они прошли через поле проса, оставив его невредимым, съели листья табака на соседнем поле, а войдя в сад, набросились на водяной перец и некоторые из овощей, а остальные овощи не тронули».
Обычно там, где прошла армия саранчи, исчезает вся зелень — от листьев в лесу до трав на равнине. Поля, виноградники, сады, пастбища — все превращается в голые бесплодные пустоши. «Земля впереди саранчи — райский сад, а позади нее — печальная пустыня». Как правило, саранча движется по прямой линии, но теперь начинает считать возделанные растения более вкусными и сворачивает влево или вправо, чтобы напасть на плантации какого-нибудь города или деревни. Татары пытаются одолеть этого врага, хлеща по земле ветками деревьев. Кроме того, для защиты полей, которым угрожает нападение саранчи, выкапывают глубокие рвы и наполняют их горящей соломой. В Одессе по участкам земли, занятым саранчой, провозили на большой скорости запряженные лошадьми длинные железные катки. Но все средства против нее, которые существуют в настоящее время, малоэффективны и применяются больше для очистки совести. Как бы много насекомых ни было уничтожено, ощутимого уменьшения их числа не происходит. За четыре или пять недель саранча достигает своего полного размера — примерно дюйм с четвертью в длину, и насекомые начинают линять. Из своей старой шкурки они вылезают на свет уже с полностью сформировавшимися крыльями. Это происходит в середине июня, потом они большими тучами летают по окрестностям до середины сентября. После этого они умирают, но в августе самки успевают отложить в землю свои яйца. Когда стая саранчи находится в воздухе, ни один луч солнца не может пробиться через нее, и тень на земле от этой массы насекомых такая же густая и четко очерченная, как от грозовой тучи. Один путешественник рассказывал: «Я ехал верхом рядом с коляской и читал книгу. Мы медленно двигались вперед, и вдруг я увидел большое черное облако на вершине холма. Сначала я решил, что оно предвещает грозу: в течение всего нашего пути грозы случались каждый день. Но меня поразило, как это облако двигалось. Оно принимало, кажется, все возможные формы — то вытягивалось в длину, то сжималось, то извивалось множеством способов. Я не знал, чем это объяснить, но, разумеется, сразу же приписал эти движения причине, которой обычно и безошибочно объясняют все физические явления, — электричеству. Пока я разглядывал облако, коляска внезапно остановилась, и граф, который сидел в ней, сделал мне знак подъехать. „Вы видите вон то большое черное облако вдали?“ — „Я уже довольно долго смотрю на него“, — ответил я. „И как вы думаете, что это такое?“ — „Нетрудно сказать, что это, но я ломаю голову, пытаясь понять, что заставляет его проделывать такие движения“. Пока я говорил, облако вдруг вытянулось в длинную нить. „Посмотрите на них теперь, — сказал граф. — Это летит саранча. Я вряд ли раньше видел в воздухе такую армию насекомых. Мы узнаем об ущербе, который она причинит, еще до того, как приедем в Одессу. Горе тому, на чьи поля она опустится!“»
В течение четырех месяцев своей крылатой жизни саранча менее прожорлива и потому не является такой грозной опасностью, как в молодом возрасте. А поскольку у нее есть средства для полета, ее иногда удается отпугнуть криками, барабанным боем и выстрелами из ружей. Случается, что полчище саранчи опускается на какой-нибудь город или деревню. Стая насекомых как ковер покрывает крыши домов и каждый дюйм земли на улицах. Тысячи их ударяются в окна, словно дождевые капли во время ливня, и еще тысячи падают внутрь домов через дымоходы.
Еще одно бедствие для местной растительности — гусеницы определенного вида, которые нападают в основном на живые изгороди, фруктовые сады и леса. Но они, так же как саранча, достигают опасной численности лишь раз в несколько лет. Когда их много, они быстро и полностью лишают дерево листвы, и на ветвях, голых, словно зимой, остаются только сплетенные насекомыми паутины. Иногда, если их необычайно много, они вторгаются в города, проникают в дома. Их даже видели ползущими по улицам Севастополя.
Животное царство Крыма богато разнообразием видов. В лесных округах обитают волки, лисы, олени и косули. Волки большую часть года не покидают труднодоступных горных лесов, но зимой голод заставляет их выходить на открытую местность и в поисках добычи бродить вокруг овечьих стад или идти за караванами. Если татарин обнаруживает волка на равнине, далеко от укрытия, редко случается, чтобы ему не удалось загнать зверя и быстро добить обессилевшего хищника тяжелой плетью. За это он получает вознаграждение от властей, для чего предъявляет им голову волка, а кроме того, выгодно использует шкуру.
Хомяки — маленькие зверьки, которые роют себе норы, досаждают крестьянам, опустошая их запасы зерна и овощей. Более безвредные и изящные тушканчики, которых немцы-колонисты называют «земляными зайцами», развлекают путешественника своими веселыми прыжками. Питаются они степными луковичными растениями.
Здесь водится много видов хищных птиц — орел, гриф, сокол, ястреб, коршун; цапля, журавль, ворон и сова, а из певчих и красивых птиц встречаются соловей, жаворонок, пчелоед с его ярким пестрым оперением, удод и иволга. В группу птиц, на которых охотятся, входят куропатки, перепелки, бекасы, утки, вальдшнепы и дрофы, которыми этот край изобилует. Дроф особенно много во всей степной части Крыма, и в гостиницах полуострова эта птица — дежурное блюдо. Любопытно, что на полуострове нет фазанов, хотя их много по другую сторону узкого Керченского пролива и на всем Кавказе.
Пресмыкающиеся земноводные широко представлены в Крыму. В число последних входит красивая древесная лягушка, которая встречается главным образом на южном побережье. Она окрашена в такой яркий зеленый цвет, что ее почти нельзя отличить от листвы деревьев, на которых она живет. Эта лягушка особенно интересна своими повадками и голосом, похожим на птичий. Она предчувствует изменения погоды, и потому ее часто используют вместо барометра. Такую лягушку держат в большой стеклянной банке, которая до половины наполнена водой. В банке стоит маленькая лесенка; и в ясную погоду лягушка поднимается по ней в верхнюю половину сосуда. Стремление животного укрыться в воде означает скорую перемену погоды. Змеи часто встречаются везде, кроме наиболее густо населенных округов. Их защищает нелепое суеверие русских, которые считают, что убийство змеи приносит несчастье. Можно увидеть змей длиной в пять или шесть футов, но самые крупные особи, которые соперничают по величине с удавами, живут в камышовых зарослях Днепра и Днестра. Укус двух видов ядовит, но не смертелен, и они встречаются редко. Широко распространены сколопендра, она же стоножка, длиной от шести до восьми дюймов, и крупный паук тарантул. Их вполне обоснованно боятся, потому что укус сколопендры вызывает тяжелые последствия и может даже привести к смерти. Тарантулы в изобилии встречаются вблизи Севастополя.
Из домашних четвероногих на полуострове есть козы, верблюды и буйволы, а также стада овец, лошадей и быков. Козы раньше бегали по горам в полудиком состоянии и в большом количестве. Но местная администрация объявила им войну из-за того, что они наносили вред плантациям, обгрызая молодые побеги. Коз поторопились уничтожить, и эта спешка была неразумной, потому что их уничтожение нанесло урон важной отрасли промышленности — производству сафьяновой кожи. В степях можно найти небольшое число вполне ручных коз; как правило, это вожаки, идущие впереди отары овец. Верблюды — крупные могучие животные вида бактриан, то есть двугорбые. Их используют, когда нужно тянуть тяжело нагруженные телеги на большие расстояния по грязным равнинным дорогам. Эти животные светло-коричневого цвета; с шеи между передними ногами у них спускается великолепная грива. Их шерсть повсюду используют в хозяйстве: татарские женщины прядут ее, а затем делают из нее одежду. Обычно верблюды ласковы, но к ним надо приближаться осторожно: у них бывают приступы дурного настроения, и тогда они могут сильно укусить подошедшего человека. Ради приносимой ими пользы владельцы заботливо ухаживают за ними. Буйволы — тягловые животные горных округов. Это крупные неуклюжие животные, очень сильные. Когда они не заняты делом, они любят валяться в грязи.
В Крыму разводят овец двух пород — исконной татарской и завезенной испанской мериносной. Местные овцы отличаются огромными хвостами; эта особенность есть и у других восточных пород. Жир, который содержится в этих гигантских хвостовых придатках, — такое же обязательное блюдо на татарских праздниках, как суп из черепахи на муниципальных банкетах. Содержание больших отар обходится очень дешево, поскольку эти овцы не подвержены болезням и могут позаботиться о себе в любую погоду, если земля не покрыта глубоким снегом. Лошади малы и не слишком красиво сложены.
Летом погода в Крыму стабильная; она замечательна также тем, что одинакова из года в год. В жаркие месяцы — июнь, июль и август — температура держится в пределах от 29 до 38 градусов по Цельсию, и от этой жгучей жары страдает вся природа, за исключением высоких гор. Ночи в это время на южном побережье угнетают духотой, но на северных равнинах свежи и прохладны. В начале лета небо имеет ярчайший лазурный цвет. По мере того как жара усиливается, эта прозрачная синева исчезает, и небосвод окутывает молочно-белая дымка, из-за которой солнце на горизонте приобретает кроваво-красную окраску. Много недель, а порой и месяцев подряд нигде не выпадает ни капли дождя, только в горах иногда из грозового облака проливается целый поток воды. Жара особенно невыносима, когда дует ветер из жарких азиатских пустынь. Но самое тяжелое испытание из всех особенностей крымского климата — внезапные и необыкновенно резкие смены температуры, которые часто случаются осенью и весной. В ноябре утром может быть так холодно, что приходится надевать теплую одежду, а днем начинается горячий ветер и так повышает температуру, что через несколько часов после наступления темноты термометр показывает около плюс 27 градусов по Цельсию. Весной великолепная теплая погода, при которой зелень начинает быстро расти, иногда внезапно сменяется похолоданием ниже нуля.
Крымская зима — противоположность лета: для полуострова характерны значительные изменения погоды в течение одной зимы и поразительная разница между предыдущей и следующей зимой. Зимой 1795/96 года льда не было, и погода была теплой до 6 февраля — дня, когда Паллас видел в Крыму изобилие весенних цветов. Потом погода изменилась, и выпал глубокий снег, но сильных холодов не было. В 1798/99 и 1799–1800 годах было наоборот: холода начались уже в конце октября и продолжались до конца марта, и в течение зимы ужасающие штормы чередовались с сильными морозами. Сильно замерзли не только Азовское море и Керченский пролив, но и залив Кафы, и другие гавани Черного моря, которые обычно совершенно свободны от льда. В 1842/43 году на южном побережье до 17 марта погода была прекрасная, и термометр ни разу не опустился до точки замерзания. Следующая зима была в основном теплой до апреля, когда ртуть несколько раз опускалась ниже нуля. Татары называют такие поздние похолодания «зимой скворца» или «зимой удода». Эти птицы предвещают весну, но, совершив в положенное время перелет на север и попав из Малой Азии в Крым, они погибают в огромном количестве, если весна необычно строга и в ней чувствуется жесткость зимы. Обычно зима сурова и неласкова; в ней бывают, чаще всего в феврале, периоды сильного холода и глубокого снега. Но в Севастополе средняя температура на 5 или 6 градусов выше, чем на северных равнинах. А значит, разница температур между частями полуострова может быть 20 градусов против 25 в пользу укрытого от непогоды южного берега. Доктор Э. Д. Кларк в Крыму встретил бедняка-татарина, который в своем саду жаловался на ущерб, который сильный весенний мороз нанес его фруктовым деревьям. «У нас никогда раньше не бывало такой плохой погоды», — говорил он. Сейчас его пожилые соплеменники говорят то же самое и прибавляют, что летние засухи тоже стали длинней и сильней. Вероятно, их убеждение не имеет под собой оснований. Скорее это один из тех очень частых случаев, когда люди, испытывая трудности в настоящем, под их давлением благосклонно относятся к прошлому совершенно независимо от его достоинств.
В Крыму, как и во всей Южной России, а также на соседних с ним морях, бывают ужасающие своей силой бури, которые сопровождаются дождем, снежной крупой или снегом. Они происходят зимой или в дни равноденствия. Одна из этих бурь в конце 1854 года разрушила лагерь армии союзников у Севастополя и нанесла большой ущерб флоту в соседних водах. Для того чтобы уберечь свои дома, люди защищают их с северной стороны тяжелыми камнями, а с южной укрепляют подпорками. Стада коров и быков, отары овец и табуны диких лошадей собираются в тесный круг, чтобы противостоять буре, если не имеют возможности добраться до укрытия. Но случалось, что она с бешеной скоростью гнала вперед сбившееся в кучу стадо, пока не сбрасывала его все целиком с пропасти в ущелье или не сдувала с утесов в Черное море. Бывали случаи, когда такой ураган сбрасывал в воду людей, которых заставал врасплох возле моря. Если на пути такой бури оказываются крыши, деревья, камни или другие предметы, она отрывает их от земли, поднимает в воздух, как мякину на гумне, и уносит по клубящемуся вихрями воздуху на много верст от первоначального места. Правительственным курьерам разрешено, когда бушует вьюга, оставаться на почтовых станциях в течение трех дней: это ее обычная продолжительность. «Изобилует бурями», — сказал Страбон о приморской горной части Крыма, и в течение части года его слова верны.
Глава 4
Легендарная, греческая и римская эпохи
История Крыма насчитывает более двадцати четырех веков, но в его летописи есть много пустых мест, которые невозможно заполнить, и так же много совершенно неинтересных страниц, которые состоят из скупого перечисления имен и дат. Заметное место Крымский полуостров занял в ранней истории Греции и в истории Рима в годы его самого большого величия. Для Афин в дни Демосфена Крым был тем же, чем Египет стал для Рима в эпоху империи — источником продовольствия, от которого зависели афинские граждане, рынком для торговцев и колыбелью флота. Связи Крыма с цивилизованным миром можно ясно проследить как минимум с VI века до начала христианской эры. В те времена Британия и Галлия, самые известные сейчас страны земного шара, были частично населены лишь медведями, волками и бобрами и покрыты сосновыми и дубовыми лесами, а кое-где непроходимыми болотами. Другую их часть населяли малочисленные племена татуированных дикарей, которые знали о мире за пределами того, что видели собственными глазами, лишь одно: где и какая водится дичь и рыба. Чуть позже по Темзе и Сене плавали только плетенные из ивовых прутьев лодки — корзины с веслами, которыми управляли голые дикари, и до появления других судов было еще долго, а на берегах этих рек стояли вигвамы из веток. В Крыму тогда уже существовали города, храмы, большие гребные суда, урожаи, рыбные промыслы, экспортная и импортная торговля и происходили события, о которых подробно рассказывали ораторы и трагики из Пирея. Но во мраке истории слабо мерцает и более далекий огонь из времен более древних, чем сказание о Трое. Чтобы его увидеть, надо прислушаться к стихам, сказаниям и мифам.
Финикийцы отдали торговлю на Черном, тогда Эвксинском, море в руки эллинских народов — вероятно, потому, что считали ее малоценной по сравнению со своей прибыльной торговлей с Западным Средиземноморьем. Знаменитое сказание об аргонавтах, если его перевести на язык истории, видимо, было воспоминанием о первых плаваниях предприимчивых греков к черноморским берегам. Ясон и его спутники, искатели приключений, о которых оно повествует, названы в нем минийцами или эолийцами. Так называлась одна из ветвей народа, который из-за места своего проживания очень рано почувствовал интерес к подвигам на море. В сказании говорится, что они приплыли в Колхиду, страну на восточном побережье Черного моря, чтобы завладеть золотым руном. Существует остроумное предположение, что это руно символически означало драгоценные металлы этой страны и способ их добывания: бурные горные реки Кавказа приносят вниз частицы золота, и коренные жители Колхиды добывали его, окуная в реку овечьи шкуры. Но «золотое руно» — вполне естественное метафорическое обозначение тонкой шерсти и подобных ей товаров, ради которых в древнейшие времена торговцы совершали героические дела.
Дальше в легенде сказано, что аргонавты после того, как достигли этой главной цели своего путешествия, поднялись на своем корабле вверх по реке Танаис, иначе Дон. По пути они, конечно, проплыли через Босфор Киммерийский и видели восточные берега Херсонесской Таврики. В этом сказании есть связи с мифологией и вымышленные поэтом чудеса, но едва ли оно могло появиться на свет без исторической основы в виде действительных путешествий и приключений — торговых или пиратских. Традиционно считается, что Ясон и его спутники совершили свое плавание примерно за сто лет до осады Трои.
Знаменитый путешественник Дюбуа де Монпере постарался перенести странствия Одиссея из Средиземного моря в Черное. Он узнал в Балаклавской гавани место, описанное в десятой главе Одиссеи.
«Там есть длинный укромный залив, окруженный отвесными утесами, остроконечные вершины которых высоко возносятся к небу. Выступы берегов, поднимаясь с обеих сторон, сжимают вход в залив и разбивают мчащиеся волны. Наши нетерпеливые моряки заметили это прекрасное укрытие и направили в эту гавань свой плотно нагруженный флот — ведь в этом уединенном месте засыпают огромные волны, которые могут потопить корабль, и ласковая тишина покрывает серебром морские глубины. Только я отказался встать на якоре в том заливе и причалил к берегу».
Автор поэмы — Гомер или кто-то другой — действительно приводит своего героя на земли киммерийцев. Но похоже, что он не имеет в виду какую-то определенную местность, а лишь поэтически использует ее название как обозначение далекой страны, которая находится в другой стороне, за границами известного людям мира.
Самыми ранними жителями Крыма были киммерийцы — широко распространившаяся по миру ветвь человеческого рода, история которой полностью покрыта мраком. Но о том, что они жили на земле полуострова, ясно говорят название Киммерия, обозначавшее часть его во времена Геродота, и название Киммерийский Босфор, а также современные английские названия полуострова — нынешнее Crimea и более раннее Crim-Tatary. Этих исконных жителей изгнали с полуострова скифы. Слово «скифы» долго было у цивилизованных народов общим обозначением всех неизвестных им невежественных завоевателей. Завладев полуостровом, новые хозяева изгнали с него прежних обитателей — за исключением небольшого числа тех, кто смог удержаться в труднодоступных горах — совсем как уэльские кельты из наших старинных летописей. Одно из названий уэльских кельтов тоже «кимры», и некоторые ученые полагают, что наши кельты — одна из ветвей того же самого киммерийского народа. Они тоже отстаивали свои земли в горах Уэльса, сражаясь против захватчиков — саксонцев и нормандцев.
Дальше мы читаем о жившем в крымских горах народе тавров, которых нередко называли «тавроскифами». Это название могло произойти от древнего корня «тау», означавшего «гора», и указывать на место проживания народа. Весьма вероятно, что оно означает остаток киммерийцев, которые могли в итоге до какой-то степени смешаться с захватчиками. В результате этого слияния двух народов могло возникнуть смешанное сообщество, в точности соответствующее своему названию — тавро-скифы. Греки считали их дикарями, которые сражаются камнями и дубинами, жестоки к чужеземцам и не строят себе жилищ, а живут в отверстиях скал и выбитых ударами гонимых бурей волн пещерах на побережье. Из-за такого нрава местных жителей соседние с этими берегами воды и получили свое прежнее название — «негостеприимное море», а по имени народа тавров полуостров получил название Таврика, под которым был известен в классический период Античности. В слегка измененной форме Таврида оно теперь обозначает русскую провинцию, в состав которой входит Крым, а также дворец в Санкт-Петербурге на берегу Невы, который императрица Екатерина подарила Потемкину в награду за присоединение этого края к ее империи.
Легенда об Ифигении в Тавриде, которую любили пересказывать в приукрашенной форме поэты Древнего мира, а Еврипид написал на ее сюжет одну из своих драм, рассказывает о жизни варваров-тавров или тавро-скифов в те времена, когда они уже строили на своей земле храмы и совершали в них кровавые обряды. Руководила обрядом девственная жрица, а жертвами были мужчины, обычно чужеземцы, которых кораблекрушение выбросило на берега полуострова. Самый смертоносный среди этих храмов, вызывавший наибольший ужас, стоял на том величественном выступе южного берега, который позже стал называться мысом Партениум. Этот храм был посвящен Диане Таврической, и, по словам Еврипида, который записал устную традицию, образ этой богини, стоявший в храме, упал в свой алтарь с неба. Это же предание через пять столетий после греческого драматурга повторял глава городской администрации Эфеса, но связывал его с Дианой Эфесской. Согласно легенде, Ифигения, дочь Агамемнона, когда обет, данный отцом, обрек ее на безвременную смерть, была благодаря вмешательству Дианы спасена от гибели и переправлена в Тавриду, чтобы там руководить кровавыми обрядами в честь этой богини. Она оплакивала свою судьбу, считая эту обязанность ужасной и отвратительной. Вот ее жалоба, сочиненная поэтом: «Теперь я живу на чужбине, в неуютном доме у неласкового моря, незамужняя, бездетная, без города, без друзей. Я не пою в честь Юноны в Аргосе и не сижу у приятно шумящего ткацкого станка, украшая с помощью челнока образы Афинской Паллады и титанов. Нет, я пятнаю алтари кровью чужеземцев, жалобно вскрикивая и проливая слезы жалости». Два ее земляка, Орест и Пилад, самые близкие друзья, отправляются в путь по волнам Эвксинского моря. Им поручено увезти образ богини в страну афинян. Используя силу огромной волны, они попадают в маленькую бухту возле храма и рассчитывают прятаться в ней, пока благоприятный случай не поможет им выполнить их намерение. Но местные жители обнаруживают их и приводят к жрице, чтобы она выполнила над этими чужеземцами подготовительные обряды, а потом принесла обоих в жертву. Ифигения узнает в Оресте своего брата, последнюю опору дома ее предков. С помощью хитрости все трое бегут из Тавриды и увозят с собой статую Таврической Дианы.
Эта легенда в изложении трагика, жившего двадцать три столетия назад, содержит отрывочные описания природы, в которых можно узнать характерные черты Крыма. Это скалистый берег с множеством изгибов и щелей, в одной из извилин которого два искателя приключений пытаются укрыться от местных жителей, — южный берег полуострова. Обнаружившие друзей рыбаки добывают моллюсков для изготовления пурпурной краски — это тоже характерно для Крыма. Во время бури, едва не помешавшей им бежать, море тоже ведет себя как в Крыму: его волны яростно бушуют возле узких входов в почти замкнутые сушей бухты, но в самих бухтах вода остается спокойной. Эта особенность есть у гаваней Севастополя и Балаклавы. Упомянуто также суеверие, которое до сих пор существует в этих краях, хотя и сменило внешний облик. Между Ифигенией и ее спутниками, которые увезли с полуострова изображение Таврической Дианы, чтобы благословить берега Греции, и русской императрицей, приславшей в Севастополь изображения святых Николая и Александра Невского для защиты фортов, арсенала и флота царя, нет принципиального различия. В обоих случаях люди приписывают неодушевленным предметам влияние на местность, где те находятся. Главное различие в том, что в древнем сказании речь идет о давно прошедших временах язычества, а современное подлинное событие произошло в XIX веке после возникновения христианства. Один из фрегатов российского Черноморского флота носит название «Ифигения».
Начало VII века до н. э. Фукидид охарактеризовал как время, когда греки сделали большой шаг вперед в кораблестроении и благодаря этому смогли регулярно совершать дальние плавания и основывать торговые поселения на далеких берегах. Милет, «мать многих великих городов в Понте и в Египте и во многих других частях мира» (как сказано в одной надписи), сыграл ведущую роль в этом установлении постоянных связей с Черным морем, отправив часть своих граждан на восточное побережье Крыма — на тот полуостров, который теперь называется Керченским. Примерно в этот же период, в VI веке до Рождества Христова, их соплеменники из Гераклеи завладели юго-западным побережьем, которое в память метрополии получило название Гераклейский Херсонес. Дорога была открыта, и, поскольку первые поселенцы богатели и процветали, целые флоты с новыми эмигрантами отважно пускались в этот рискованный путь, не боясь штормов. Они отвоевывали большие участки морского берега у варваров-тавроскифов, а те отступали в глубь полуострова или в соседние горные крепости и часто становились враждебными соседями для вторгшейся к ним цивилизации.
Милетские греки основали два главных города полуострова — Пантикапей и Феодосию и еще несколько городов на восточном берегу Киммерийского Босфора — Фанагорию, Гермонассу и Танаис. Вначале эти поселения были независимы друг от друга, но с течением времени объединились в монархию, которая называлась Босфорское царство. Столицей этого царства в конце концов стал Пантикапей. По упоминаниям античных историков, по фразам на монетах и надписям, найденным на берегах Черного моря, был составлен список царей этого государства. Их было сорок пять в течение нескольких столетий до и после Рождества Христова, точнее, примерно с 502 года до н. э. до 344 года н. э. Границы царства за эти века сильно менялись, но в дни своего наивысшего расцвета, при Митридате Великом, оно контролировало весь Крым и территорию от Кубани до Днепра. Пятый по счету босфорский царь, Левкон, мудрый и могущественный правитель, упомянутый в речи Демосфена против Лептина, поддерживал этот союз с метрополией и особенно поощрил торговлю с Афинами, отменив все пошлины на экспорт товаров в этот город и на импорт из него. Афины в ответ включили его и его детей в число своих граждан. Царь приказал, чтобы постановление об этом было вырезано на трех мраморных колоннах, одна из которых была установлена в Пирее, вторая на Фракийском Босфоре, а третья на берегу Киммерийского пролива — то есть в начале, в середине и в конце пути торговых судов. Его подданные усердно возделывали землю, которая, по словам тогдашних авторов, была так плодородна, что, даже едва тронутая плугом, приносила крестьянам урожай в тридцать раз больше того, что было посеяно. Афиняне действительно ввозили из этого края больше зерна, чем из всех других мест. По словам Демосфена, количество этого зерна достигало 2 100 000 медимнов, что равно приблизительно 400 000 квартеров (квартер — английская мера веса, может быть равна 12,7 кг или 11,34 кг. — Пер.). Интересно, что гречиха из Керчи — из этого же края — получила приз на Великой выставке 1851 года в Гайд-парке. Кроме зерна, с полуострова вывозили шерсть, меха, соленые продовольственные товары и осетров для греческих гурманов. О том, какие товары ввозились в Крым, история умалчивает. Но на этот вопрос дают ответ украшения, найденные в курганах на берегу Босфора, и мраморные блоки в кладке частных и общественных зданий. Разумеется, на полуостров привозили все, что роскошь и богатство вводили в обиход в Афинах.
Южный очаг древней цивилизации — земли, освоенные греками-эмигрантами из Гераклеи, — имел в основном республиканскую форму правления: хотя иногда упоминается царь, речь в этих случаях идет о главе сената. Маленькая территория, занятая этими колонистами, теперь известна всему миру. Ее частью был город Херсонес, который часто называли Херсон; русские дали это название городу на Днепре. Позже в этом краю был построен город Евпаториум. В его границах находились увенчанный храмом мыс Партениум, а также бухта Символов и Ктенус Страбона. Первая из них — это, без сомнения, нынешняя Балаклавская бухта, которую географ описал очень точно, а вторая — гавань Севастополя. Поселенцы выкопали между верхними оконечностями этих двух бухт ров и построили стену для защиты от набегов варваров-туземцев и от диких северных племен, которые снова и снова вторгались на полуостров. В начале нынешнего века между Инкерманом и Балаклавой сохранялись очень крупные фрагменты этого укрепления, и его остатки видны до сих пор. Босфорцы тоже применяли этот способ для защиты своей территории и обозначения ее границ. Сохранились следы стены, которая тянулась от окрестностей Кафы до Азовского моря у Арабата. По мере того как царство приходило в упадок и его народ терял свои земли, граница отодвигалась все дальше внутрь его территории. Последнее из босфорских укреплений, которое все еще существует в окрестностях Керчи, отделяло от остального полуострова лишь маленький перешеек. Теперь оно служит местом отдыха и укрытием в непогоду для караванов, которые в зависимости от направления ветра останавливаются либо с восточной, либо с западной стороны крепостного вала.
О больших периодах истории греков в обеих частях полуострова не известно ничего. Но однажды под давлением племен из внутренних земель они были вынуждены искать помощи у Митридата Понтийского. Этот монарх, которого обычно называют Великим, и великий в том же смысле, что российский царь Петр, послал просителям на помощь армию во главе со своим военачальником Диафантом, который разместил свою ставку в Херсоне. Примерно наказав варваров, этот полководец построил для защиты Херсона крепость — а крепость обычно становилась ядром города. Вероятно, он выбрал для этого передового укрепления место ближе к внутренним областям полуострова. Крепость он назвал Евпаториум в честь царя, своего господина, у которого было и второе имя Евпатор. Кончилось тем, что Митридат присоединил весь этот край к своим наследственным владениям: понтийский монарх добился, что босфорский царь Перисад II добровольно уступил ему свою корону. Именно эти новые владения стали убежищем для Митридата в час беды и местом его смерти. Понтийский царь был непримиримым врагом Рима и двадцать семь лет воевал против армий западной республики, желая изгнать римлян из Малой Азии и распространить свою власть на все народы, живущие вокруг Эгейского и Черного морей. Даже после нескольких поражений его решимость не была сломлена. Несмотря на неудачи, он продолжал добиваться своей цели, но был снова побежден Помпеем и бежал в дикие горы между Черным и Каспийским морями. Митридат благополучно прошел через них на Босфорский полуостров и поселился в Пантикапее. Для его противника эти места были слишком отдаленными и незнакомыми, чтобы идти вслед за ним. Здесь Митридат, хотя был уже стар и страдал от неизлечимой язвы, не утратил «ни капли мужества и надежды»: у него возник дерзкий замысел пойти на запад вдоль брегов Черного моря, собирая под свое знамя дикие племена сарматов и гетов, и затем повести эти полчища на границы римского государства, уподобившись Ганнибалу. Его приготовления остановило землетрясение, уничтожившее целые города и деревни. Когда план не удался, недовольство сторонников Митридата положило конец жизни царя. Его любимый сын Фарнак, которому он завещал свою власть, устроил заговор против него. Вся армия и народ Пантикапея встали на сторону мятежника. Митридат, который сумел бежать и укрылся в хорошо укрепленной башне, предпочел умереть, чем быть свергнутым с трона и оказаться в плену. Яд, который он принял, не подействовал, и тогда царь попросил помощи у одного из своих наемников, который заколол его мечом. Это случилось в 63 году до Рождества Христова.
Отцеубийца Фарнак, вместо того чтобы упрочить свое положение на троне, отправил посольство к Помпею, изъявляя ему свою покорность и предлагая заложников как гарантию своей верности. Римский полководец принял эти предложения и дал ему царство и звание друга и союзника римского народа. Но когда Фарнак не устоял перед искушением и вторгся в Малую Азию, чтобы вернуть себе земли, утраченные отцом, Цезарь разгромил его в решающем сражении возле Зелы. Исход этой битвы Цезарь описал своей знаменитой лаконической фразой: «Пришел, увидел, победил». Последующие босфорские цари получали свою власть от Рима: римские императоры либо назначали их, либо одобряли их вступление на престол. Об этой зависимости свидетельствуют монеты и имена царей. Полемон I, который первоначально был жрецом в одном из римских храмов, был обязан троном Марку Антонию и Августу. На монетах Савромата I изображены регалии, присланные из Рима для его коронации. Рескупорид I добавил к своему имени имя Тиберий, чтобы польстить императору, правившему в его время. Котис, правивший в дни Нерона, взял себе имя Нерон-Котис. На монетах его преемника Рескупорида II изображены на одной стороне сам Рескупорид, на другой голова Домициана. Сохранились похожие свидетельства времен Траяна, Марка Аврелия, Коммода, Севера и Каракаллы. Но римское влияние в этой стране всегда было невелико из-за ее удаленности от места пребывания власти и из-за географической изолированности.
Вскоре после падения Митридата жители Херсона стали независимыми от его слабых преемников, хотя и находились под властью Рима и сохраняли у себя республиканскую форму правления. Похоже, что императоры поощряли это поведение херсонитов, поскольку оно помогало сдерживать соседнее государство. Члены херсонского сената назывались «отцами города», а их председатель носил титул «вождь». Он был высшим должностным лицом города в мирное время и полководцем во время войны. Народ Херсонеса приобрел большое значение в жизни города благодаря своему трудолюбию, предприимчивости в торговых делах и стратегически выгодному положению города, укрепленного самой природой. О последнем из этих преимуществ мы можем судить по собственному опыту, вспомнив о Севастополе: этот крупный город-крепость и военный порт нашего времени стоит примерно на том месте, где находился старый греческий Херсонес. Диоклетиан за выдающиеся услуги империи освободил граждан Херсона от уплаты подати, а Константин на том же основании навсегда освободил от всех налогов их торговый флот. Сорок городов на побережье просили их о защите и подражали им. Но и метрополия, и зависевшие от нее города вместе со всем цивилизованным миром много раз терпели превратности судьбы и перемены обстоятельств из-за вторжения варварских племен. Херсон до сравнительно позднего времени выдерживал все бури, хотя постепенно потерял значительную часть своей важной роли, и население его стало очень пестрым. Его имя снова появится в этой книге. Но о Босфорском царстве ничего не стало слышно с середины IV века, когда это государство-призрак, получив сарматскую династию, покорилось херсонитам в результате спровоцированной войны с ними. Босфорская столица Пантикапей и Феодосия были покинуты жителями еще раньше.
Памятников Древнего мира в Крыму мало, если не считать курганы. Большая часть их погибла во время бурных переворотов в эпоху раннего христианства и Средневековья. Античная Феодосия, «дар Бога», которая также называлась Ардабда, что означало «Семь Богов», стояла на том же месте или рядом с тем местом, где в XIII–XIV вв. возник новый город, называвшийся Кафа, что значит «Неверный». Император Александр возвратил Кафе ее древнее имя, но изменил его написание на латинском алфавите: в древности оно писалось Theodosia, теперь Feodosia, потому что русские произносят греческое Th как F. Арриан, в рассказе о своем плавании вдоль берегов Черного моря, писал о Феодосии как о покинутом людьми месте, а он жил в начале II века. В нынешнем городе нет следов греческой эпохи, кроме тех, которые привезли издалека и собрали в его музее усердные любители древности. Преемницей Пантикапея, название которого, вероятно, составлено из двух греческих слов, означающих «всюду сад», стала стоящая на том же месте Керчь. «Увы, — говорил Демидов, — скажите мне, как по-гречески будет „нигде нет сада“, и вы назовете Керчь. Мы не можем вспомнить, чтобы видели хотя бы одну даже самую жалкую плантацию». Сам город почти полностью застроен новыми красивыми зданиями из степного известняка, и в сознании путешественника могут пробудиться воспоминания об историческом прошлом, если он остановится в «Босфери Трактир» — гостинице «Босфор». Очень интересны окрестности города. Равнина возле Керчи уставлена огромными коническими холмами — земляными насыпями над могилами богатых жителей древней столицы. Много веков кладоискатели раскапывали эти курганы, надеясь найти в них золото, серебро или еще что-нибудь ценное. В результате было обнаружено много похоронных реликвий, коллекции которых сейчас хранятся в Керченском музее и во дворце Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Это прекрасно сохранившиеся скелеты мужчин и женщин, гробы из кедрового дерева, украшенные изящной резьбой, мраморные надгробия с надписями на всевозможных языках — от чистого греческого до диалектов, которые состоят с ним лишь в дальнем родстве. Кроме них, в курганах были найдены бронзовые светильники, стеклянные сосуды, вазы, выполненные в стиле, более или менее похожем на этрусский, статуэтки, браслеты для предплечья, серьги и другие украшения из золота, которые свидетельствуют, что древние колонисты из Милета жили богато. Возле города есть холм, один из склонов которого обращен в сторону моря. Народ дал ему название гора Митридат и считает, что на нем когда-то стоял дворец, из которого царь Митридат гордо смотрел на свой флот. Возможно, на этом месте располагался акрополь Пантикапея. Один из окрестных курганов, который выделяется среди них высотой и размером, носит название Могила Митридата. Но историкам известно, что бессердечный сын великого царя, чтобы расположить к себе Помпея, прислал ему тело своего отца, заклятого врага Рима. И Помпей велел похоронить Митридата в Синопе, в склепе его предков.
Херсон находился немного южнее Севастополя. Пока хозяевами полуострова были татары, на месте, где стоял этот город, сохранялось много его следов. У татар они вызывали изумление и почтение. В число этих памятников прошлого входили остатки стен, ворота, дома и склепы горожан, а также три греческие церкви, наполовину погребенные в земле, и разбросанные по ее поверхности обломки колонн и капителей. Стены состояли из двух параллельных рядов толстой каменной кладки, а пространство между рядами заполнял цемент, в который были добавлены глиняные черепки и другие грубые материалы. Две мощные башни этих укреплений были еще целы в 1794 году. Русские, придя в этот край, без малейшего сожаления уничтожили эти памятники прошлого, используя их как готовый материал для своих построек. Император Александр в 1818 году, находясь в Крыму, строго приказал сохранить остатки древних сооружений. Но приказ поступил слишком поздно: многое было уже уничтожено. Доктор Кларк видел интересное надгробие философа из Херсона. В надписи на памятнике было указано имя этого философа — Теаген. Сам памятник представлял собой плиту с красивым барельефом из белого мрамора: когда-то она закрывала вход в гробницу Теагена. Скульптор изобразил на плите супружескую пару — Теагена и его жену. Философ держал в левой руке свиток и был обут в сандалии. Жена была в длинной греческой одежде, складки которой небрежно ниспадали до земли. Судя по стилю надписи, надгробие было изваяно не позднее чем за два века до начала христианской эры. Кларк ходил смотреть на могилу, из которой была извлечена плита, и обнаружил, что это семейный склеп, вырубленный в скале, за стенами города, с нишами внутри для тел умерших. Хотя он был открыт, кости хорошо сохранились. То немногое, что осталось от Теагена, после двух тысяч лет покоя было выброшено из склепа и разбросано среди соседних развалин.
Существующая сейчас Евпатория стоит не на месте древнего города Евпаториума. Она почти современный город татарского происхождения. Русские вернули некоторым городам исторические названия, утраченные при смене владельцев, но в других случаях дали новым городам названия исчезнувших. Так приморский город Козлов получил имя Евпатория. Татары упорно держатся за старое название, и в устной речи чаще всего до сих пор употребляется именно оно, хотя в официальных документах применяется только новое. Описаниям места, где стоял Евпаториум, основанный Диафантом, полководцем Митридата, для защиты Херсона от племен из внутренних земель, соответствует то место возле оконечности главной гавани Севастополя, где сейчас стоит Инкерман. Там есть остатки крепостных сооружений на плоской вершине крутой скалы. В склонах этой скалы и в соседних скалах вырублено множество пещер; одни из них использовались как погреба, другие как жилые помещения. Но развалины башен и стен на вершине — остатки не первоначальной крепости, а другой, более поздней, построенной на этом же месте, поскольку с военной точки зрения эта вершина господствует над местностью. Пещеры и гроты тоже созданы не в греческую эпоху. Некоторые из них, возможно, относятся к более ранним временам. Может быть, их начали создавать еще дикие коренные жители этих мест, которые вырубали себе жилища в скалах. Но подавляющее большинство пещер моложе греческой эпохи. Их вырубили беженцы, отшельники и монахи времен раннего христианства. Некоторые из языческих императоров Рима изгоняли на земли Херсонеса неугодных им людей. Если верить церковной традиции, Климент Римский по указу Траяна был сослан в эти края и приговорен к работе в каменоломнях. Говорили, что обращенная Климентом в христианство племянница императора Тита тоже была изгнана в Херсонес. Вероятно, в этой провинции собралось много людей, бежавших от преследования со стороны властей: этому способствовала ее удаленность от центра, а добровольные отшельники, желавшие вести аскетическую жизнь, могли найти в ее горах достаточно мест, подходящих, чтобы укрыться от мира. Они и создали главную особенность этих мест — пещеры. Беглецы делали это, чтобы остаться незамеченными, а отшельники в угоду своему суеверию. Когда-то это место было религиозным учреждением, обитатели которого поддерживали постоянную связь с греческой церковью, и называлось Теодори. Завоеватели-турки назвали его Инкерман, что означает «город пещер».
Маленькие пещеры, простые по форме и ничем не украшенные, очевидно, были кельями монахов. На их стенах до сих пор видны следы резца. Внутри можно рассмотреть углубления-очаги, где горел огонь, и ниши для ночного сна. Эти кельи собраны в большие группы и соединены узкими извилистыми проходами. Их так много, что они образуют целые подземные монастыри. Другие пещеры использовались как склепы. В них были обнаружены каменные гробы, уже давно очищенные от лежавших внутри человеческих костей и превращенные в поилки для скота. Были и более просторные пещеры с полукруглыми сводчатыми потолками и рядами столбов, над которыми поднимаются арки, разделяющие помещение на части. Они украшены изображением православного креста, что ясно говорит об их назначении: это были греческие церкви и часовни. Алтари и все покрытые резьбой каменные блоки, которые когда-то могли в них быть, исчезли. Вероятно, их использовали для каких-то строительных работ в Севастополе или сожгли, чтобы получить известь для его зданий. Еще недавно в этих пещерных жилищах жили татары. Позже пещеры использовали как пороховые погреба и военные склады, а совсем недавно русские, британские и французские солдаты выбивали из них друг друга.
Леди Крейвен, позже маркграфиня Ансбахская, так написала об этом в 1786 году: «Здесь командует граф Войнович, у которого есть маленькая ферма рядом с Инкерманом — городом, который, должно быть, когда-то был замечательным и очень большим, но от которого теперь остались только комнаты, вырубленные в скалах. Здесь есть большая часовня с весьма интересными столбами и алтарями: камень, из которого они сделаны, беловатый и несколько похож на мрамор. Я поднялась по одной лестнице, а потом медленно пробиралась внутрь весьма замечательных помещений, просторных и удобных, и так же медленно выбиралась из них. Я вошла в эту единственную в своем роде гору из жилищ у ее подножия, а вышла, как трубочист, на вершине. Хотя мне стоило немалого труда проходить повороты, я не представляла себе, что поднялась так высоко, пока не огляделась вокруг. Тут у меня сильно закружилась голова: я увидела внизу под местом, где стояла, Инкерманский залив и все Черное море, и до них было не меньше 250 футов». Леди Крейвен верно судила о вместимости соседней с этим местом бухты и ее рейда еще в то время, когда на ее берегах не было Севастополя. «Благодаря необыкновенной форме берега эта гавань не похожа ни на одну из тех, которые я видела. Это образованная Черным морем длинная узкая бухта между двумя горными хребтами, такими высокими, что „Слава Екатерины“, один из самых больших кораблей русского флота, который стоит в ней на якоре, не виден с них, потому что берег выше его вымпела. Глубина воды такая, что этот корабль стоит вплотную к берегу. Все флоты Европы были бы в безопасности от штормов и врагов в этих бухтах или гаванях, потому что их много. Батареи у входа в них могли бы достаточно эффективно уничтожать корабли, которые попытались бы прорваться внутрь; а будучи развернуты в сторону моря, они могли бы даже помешать войти целому флоту».
Природа по прошествии многих эпох остается невредимой, а труды рук человеческих рассыпаются и погибают. Города, храмы, ворота и стены древних греков больше не стоят на побережье Таврии: материал, из которого они были построены, износился под действием стихий или был разворован людьми. Но бури, с которыми столкнулись древние греки, бухты, служившие укрытием их ладьям, мысы, на которые они смотрели, и теперь остаются характерными чертами Крыма. Какой из них был мысом Партениум, нельзя точно определить, но это потому, что в указанном месте есть несколько отвечающих его описанию высоких отвесных скал, по которым хлещут волны и пробивают в них дыры. Между Балаклавой и монастырем Святого Георгия есть одна огромная совершенно отвесная скала, которая резко обрывается в море. Татары называют ее Айя-Бурун — Святой мыс (существует другое толкование этого названия — «мыс Коршунов». — Пер.).
Глава 5
Средние века
В период Великого переселения народов, когда на западе Римской империи настал конец, а на востоке ее потряс мощный удар, на Крымский полуостров вошли племена беспокойных авантюристов — аланы, готы и гунны. Это были боковые струи огромного людского потока, который катился по Европе от мрачных лесов ее северных земель до просторных степей ее восточной границы. Аланы, светловолосый кочевой народ, проводили дни на конях, а ночи в крытых повозках, были всегда готовы к войне и стремились к грабежу. Они появились в Крыму примерно в середине I века н. э. Во II веке этот народ, к кому времени уже ставший оседлым, был изгнан с полуострова готами. Большинство аланов ушло к подножию Кавказа, где путешественники увидели их через тысячу лет. В IV веке, ближе к его концу, на готов напали гунны, изгнавшие их с равнины в горы. Однако новые грабители не пытались навсегда сохранить за собой захваченные земли. Они ушли дальше искать более широкое поле для своей отваги и любви к приключениям. Уцелевшие готы продолжали владеть горной частью Крыма как независимым княжеством. Они перешли к оседлости и занялись сельским хозяйством, приняли христианство и получили епископа от императора Юстиниана. Их горная родина еще долго носила название Готия или Готланд. В это время напуганное до ужаса греческое население побережья владело своими городами и деревнями на ненадежных основаниях и иногда терпело разорение. Оно покупало себе спасение от нападений или получало это спасение от византийских монархов. Юстиниан приказал построить для их защиты линию укреплений в господствующих точках берега, и ее остатки до сих пор существуют в Алуште, Гурзуфе и Большом Ламбате (теперь это поселок Малый Маяк. — Пер.). Но, спасая местных греков от варварского насилия, крепости ставили их в зависимость от Византийской империи, и Херсонская республика стала платить дань Византии.
В правление Юстиниана Европа впервые услышала слово «тюрки» — название большой семьи народов. Турки-османы — современная ветвь, берущая начало от этого тюркского корня. Первоначально тюркские народы жили на высоких нагорьях Центральной Азии — области, которая тянется от границы Китая до Алтайских гор. Вероятно, они переселились ближе к западу задолго до начала христианской эры. Некоторые племена соблазнились возможностью приобрести лучшие пастбища, другие были подняты в путь воинственными вождями, желавшими приобрести добычу и власть. В то время, о котором идет речь, то есть в середине V века, при византийском дворе услышали, что отряды конных воинов, называющих себя тюрками, расположились лагерем на берегах Меотийского моря, через которое они прошли по льду, согнав с привычных мест жившие на его берегах племена. Но хотя само слово было для Европы новым, народы этого семейства гораздо раньше уже переходили ее границу и, вероятно, уже много столетий были европейцами. Существуют веские основания считать, что скифы, которые вторглись в Крым еще до дней Геродота, аланы, готы и гунны, сделавшие то же самое в первые века нашей эры, а также хазары, печенеги и куманы, которые появляются в летописи Крыма позже, состоят между собой в близком родстве и принадлежат к тому же семейству, что тюрки. Родственные народности получили разные имена, приобрели значение в истории и расселились по новым местам обитания при разных обстоятельствах и в разные эпохи. Вот почему большинство современного населения полуострова имеет однородный состав, и, хотя этот народ носит только одно название — татары, на самом деле он тюркский.
Хазары, тоже тюркский народ, сначала появились на северных берегах Каспия, а потом на землях, расположенных к северу от Черного моря. В начале VII века они подчинили себе равнинную часть Крыма и дали ей свое имя. Теперь эта бульшая часть полуострова называлась Хазария, а за северными горами сохранилось прежнее название Готия. После этого в течение трех столетий имя хазар было великим в Восточной Европе. Оно означало народ, который основал обширную и могучую империю, простиравшуюся от Каспийского моря на востоке до Днестра на западе. На юге ее граница проходила по Кавказу, а на севере за Казанью. Таким образом, в Хазарскую империю входили все южные области нынешней Европейской России. Ее правители, носившие титул «каган» или «хан», имели столицу возле устья Волги, вероятно на месте нынешней Астрахани. Константинопольские императоры поддерживали с ними дружеские отношения. Один носитель императорского пурпура даже породнился с ними через брак: император Константин Копроним, умерший в 775 году, был женат на Ирине, дочери одного из ханов. Их сын, император Лев IV, получил прозвище Хазар из-за своего происхождения по матери. Константин Багрянородный поддерживал с этим народом дружеские отношения, но сурово осуждал поведение своего предшественника и отмечал, что «хазары вместо того, чтобы быть православными христианами, вообще не христиане, а нечестивые язычники». Большинство хазарского народа так никогда и не приняло христианство, однако не все хазары были язычниками, и они относились терпимо к другим религиям. Ханы и многие знатные семьи исповедовали иудейскую веру; закон Моисея распространили среди хазар евреи, изгнанные из Византийской империи. По словам Ибн-Хаукаля, правители страны были обязаны исповедовать иудейскую религию, но девять министров хана могли быть иудеями, христианами, магометанами или язычниками. Каким бы странным ни казался этот обычай, слова Ибн-Хаукаля, бесспорно, соответствуют истине. В конце существования Хазарской империи некоторые ханы были христианами.
Хазары, которые вначале были кочевым пастушеским народом, позже перешли к оседлой жизни. Некоторые из городов были построены арабскими или византийскими архитекторами и претендовали на то, чтобы считаться богатыми и великолепными. В Хазарской империи развивались мореплавание, торговля и ремесла. Столица была знаменита коврами тонкой работы, которые ткали ее жители. Мед, шкуры, кожи, меха, рыба, соль и уральская медь обменивались в южных областях на шелк, вина, пряности и украшения, которые затем доставлялись в северные края. Волга, Днепр и их притоки были крупными торговыми путями. Предприимчивые и дальновидные хазары за тысячу лет до Петра Великого создали предшественницу той системы водного транспорта, которую этот царь основал в России. Во второй половине X века русские и печенеги уничтожили могущество хазар, хотя бульшая часть Крыма сохраняла название Хазария до тех пор, пока не вошла в состав Западной Татарской империи.
У очень многих людей сложилось впечатление, что связь между Россией и Черным морем возникла недавно. Но еще при непосредственных преемниках Рюрика, основателя русской монархии, который жил в X веке, русские ладьи целыми флотами спускались по Днепру, затем сворачивали в Дунай, а оттуда русские частично по морю, частично по суше добирались до столицы Греческой империи. Эти походы имели торговые или враждебные цели в зависимости от того, мир или война были между императорами и великим князьями. Из-за этой угрозы русского вторжения даже возникло широко известное тогда пророчество, что в последние дни мира русские станут хозяевами Константинополя. На Таманском полуострове, который находится к востоку от Киммерийского Босфора, было русское княжество. А в 998 году юго-западный угол Крыма на время был захвачен русским великим князем. Владимир I решил отказаться от поклонения идолам и принять православие, но пожелал достичь своей цели с помощью военной силы и не просто быть принятым в число христиан, а приказать, чтобы его приняли. Кроме того, он надеялся получить вместе с новой верой руку Анны, сестры императора Василия, и был намерен завоевать невесту мечом. Для того чтобы принять крещение и отпраздновать свою свадьбу, Владимир выбрал Херсонес — город, зависимый от империи. Он привел к этому городу большой флот и начал осаду. Доблестные жители Херсонеса и его мощные укрепления противостояли армии великого князя так же стойко и почти так же долго, как его преемник Севастополь сражался против англо-французской армии. После шести месяцев непрерывных штурмов кандидату на крещение угрожала опасность остаться язычником, поскольку его атаки не оставили никаких следов ни на городских стенах, ни в душах защитников города. Казалось, что Владимиру остается только снять осаду.
Но кто-то сообщил осаждающим о том, что Херсонес — так же как Севастополь — зависит от воды, которая поступает в центр города из далеких от него родников по подземному водопроводу. Путь воде был перекрыт, и горожане были вынуждены сдаться. Теперь завоеватель стал господином стольких священников и архимандритов, что мог окрестить все свое войско, и владельцем священных сосудов, церковных книг, изображений святых и освященных реликвий. Обряд крещения был исполнен, Владимир посватал греческую принцессу и получил ее в жены, чтобы русские не напали на Константинополь. После этого Владимир вернул Херсонес императору, который теперь был его шурином, и возвратился в свою страну. Приехав в Киев, он приказал бросить в Днепр бога грома. Огромную, вырезанную из дерева статую этого бога привязали к конскому хвосту и так везли до берега реки, и воины, назначенные князем, громко били по идолу дубинами во время его пути к воде. Затем князь отдал приказ всем жителям города на следующий день прийти к реке для крещения. Так Россия стала христианской, и эта великая перемена началась в Крыму. За это свое дело Владимир был объявлен святым. В летописях он назван апостолом и Соломоном своей страны. Причины для второго из этих сравнений не ясны, разве что он действительно имел до своего обращения пять жен и восемьсот наложниц. Екатерина II в 1782 году учредила рыцарский орден Святого Владимира, чтобы увековечить память этого «святого равноапостольного князя», как он назван в сокращенной надписи на орденском знаке. На некоторых планах Севастополя отмечена церковь Святого Владимира. Она находится за чертой города, немного южней его. Это одна из церквей того старого Херсонеса, от которого теперь остались одни развалины.
Какие бы планы завладеть землями на юге ни строили русские князья той ранней эпохи, им было суждено долгие годы не видеть берега южных морей и быть смиренными данниками более могучего государства. Однако еще до того, как открылась эта ужасная страница русской истории, князей, уже хорошо знакомых с этим побережьем, не пропускали к нему и часто наносили им урон победоносные печенеги. Этот азиатский народ из числа тюркских, продвигаясь на запад и на север, поселился в Крыму в начале X века и подчинил своей власти весь полуостров, за исключением территории Херсонеса и обширного северного куска бывшей Хазарской империи. Сменив варварские обычаи и кочевой образ жизни на цивилизованную жизнь и трудолюбие, они проявили такие способности к коммерческой деятельности и вели ее так активно, что отобрали у херсонитов торговлю между Азией и Константинополем. Они покупали у азиатских торговцев пурпурную краску, ткани высокого качества, вышитые одежды, шкуры леопардов, меха горностаев и других пушных зверей, перец и другие пряности и продавали эти товары в своих портах купцам из греческой столицы. Период наибольшего подъема продолжался полтора столетия, и в это время Крымский полуостров процветал. Этой эпохе положили конец куманы, убегавшие от монголо-татар.
Мы приступаем к рассказу о начале XIII века. Для бульшей части Восточной Европы начинается новая эпоха. Печенеги и куманы исчезают со страниц истории. Русские разгромлены, для них начинается гибельное время рабства и угнетения. Крым становится провинцией великой Кипчакской империи, и в течение двух с половиной столетий в его летописях упоминаются лишь два народа — татары и генуэзцы.
В 1227 году окончил свой жизненный путь Чингисхан. Этот правитель, который в начале своей жизни был лишенным наследства вождем племени черных татар на границе с Китаем, у Великой стены, стал основателем гигантской империи, самой большой по размеру в Средние века, и, возможно, самым безжалостным опустошителем, которого когда-либо видел мир. Одним из своих последних распоряжений он назначил своего внука Бату-хана наместником западной части тех земель, которые завоевал. Эти провинции простирались до Волги и быстро расширились в сторону Европы при новом правителе, который повел в поход армию из 660 000 воинов. Разгромив Крым, Россию, Польшу и Венгрию, его армия вошла в Германию. Битва при Лигнице в Силезии, случившаяся 9 апреля 1241 года, положила конец завоеваниям варваров: захватчики, хотя и одержали в ней победу, были так поражены отвагой тевтонских рыцарей, что даже не пытались идти дальше. Бату-хан выбрал для своих огромных владений название Кипчак. Это слово означало «дуплистое дерево» и было названием воинственного народа, жившего между Волгой и Доном. Народ же был так назван по плоской равнине, где он жил. Она носила название Дешти-Кипчак — «Степь дуплистого дерева». Одна из степей возле Каспийского моря до сих пор называется так. У империи было и другое название — Золотая Орда, то есть «Золотая стоянка». Свирепый завоеватель создал себе столицу под названием Большой Сарай, в нижнем течении Волги. Он же основал Бахчисарай в Крыму. В столице, в золотом шатре Бату-хана, русские князья стояли перед ним на коленях, как положено вассалам. Там же он принимал послов, направленных из западных стран, чтобы умиротворить его: народы Запада узнали о новом опустошительном нашествии и спешили отвести от себя беду. Итальянец Иоанн де Плано Карпини был одним из тех, кому было дано такое поручение. Его назначили послом на съезде в Лионе в 1245 году, и он благополучно осуществил свое рискованное предприятие. В рассказе о своих приключениях он описывает печальные следы истребительной войны, которые видел в пути, — большие кучи костей и черепов на поверхности степи. Через восемь лет после него, в 1253 году, фламандец Виллем Рубрук совершил это же путешествие в качестве посланника короля Франции Людовика IX, который желал отвратить военную угрозу со стороны язычников-татар от западных христианских стран и направить ее на юг, против магометан.
Существующее применение названия «татары» приводит к большому заблуждению. Это слово потеряло всякое этнографическое значение еще до того, как его узнали в Европе, хотя в обыденном сознании считается синонимом слова «монгол». Первоначально оно означало несколько безвестных племен, живших на границе с Китаем. Под властью Чингисхана эти племена приобрели независимость и могущество, взяли себе имя «небесные монголы», отказавшись от прежнего названия «тата», поскольку на их языке оно означало «покорность» и больше не подходило им. Но эти монголы, расширяя свои владения на запад до Каспия и восточной части Европы, называли покоренные народы тем именем, которое отвергли сами: ведь по своему происхождению оно обозначало именно положение покоренных. Из этих народов набирали воинов в монгольские войска, и со временем они стали составлять такую большую долю армии завоевателей, что жители Западной Европы смешали названия «монголы» и «татары», считая, что они обозначают один и тот же народ. Европейцы даже охотней применяли второе название, считая его настоящим, поскольку оно обозначало значительное большинство народа. Есть свидетельства, что в той армии, во главе которой Бату-хан опустошал Восточную Европу, из 660 000 воинов только 160 000 были монголами. Остальные 500 000 были из покоренных тюркских, славянских и финских народностей. В Кипчакской империи ханы, вожди, знатные и великие люди были монголами; они также были татарами — потомками тех племен, которые изначально назывались татары. Но подавляющее большинство их подданных были не монголами, а только татарами в политическом смысле этого слова, то есть покоренными народами. Этнически они были тюрками, славянами или финнами — по большей части тюрками. Это были те же народности, которые прежде были известны под именами «печенеги», «хазары» и другими названиями. Нынешние так называемые татары в Южной и Восточной России не признают себя татарами, а называют себя тюрками, и они такие же члены тюркской семьи народов, как турки-османы. Однако у иностранцев за ними закрепилось название «татары», и его применение не причинит вам никаких неудобств, если вы предусмотрительно скажете, что оно имеет лишь политический смысл.
То, что было сейчас сказано, не должно создавать у читателя впечатление, будто завоеватели-монголы не смешивались с племенами, которые они покоряли. Похоже, что было как раз наоборот. Когда Чингисхан отправлял кого-то из своих сыновей или военачальников управлять завоеванными странами, то посылал вместе с ним монгольское племя или часть племени, чтобы оно держало в страхе покоренный народ и принуждало его к повиновению. Преемники Чингисхана следовали в этом его примеру. Мистер Эрскин пишет: «Племя, которое использовали для этой цели, получало в назначенной ему стране земли, и монголы поселялись со своими семьями и стадами на пастбищах тех племен, к которым были посланы. В результате взаимосвязи, которая неизбежно возникает между людьми, которые, живя под властью одного и того же правительства и по соседству, привыкают друг к другу и сближаются благодаря смешанным бракам, торговле и другим видам общения, два народа в значительной степени смешивались, что отражалось и в их языке, и в очертаниях их лиц и тел». Отсюда происходит заметная разница во внешности между татарскими племенами Южной и Восточной России. Ногайцы, живущие в равнинной части Крыма и в степи возле Азовского моря, говорят на одном из диалектов турецкого языка, но очертания и выражение лиц у них монгольские.
Монахи и священнослужители были поражены сходством между словами «татары» и «тартар», что означает «преисподняя», и потрясены разрушениями, которые оставляли после себя эти полчища завоевателей, словно посланные самим адом. Похоже, именно они стали писать название «татары» как Tartar. Это написание широко распространено до сих пор, но является неверным. Король Франции Людовик писал своей жене, королеве Бланке: «Наши души всегда будет приводить в восторг то посланное Богом утешение, что сейчас нам угрожает опасность от татар. Либо мы отбросим их обратно в тартар, либо они отправят нас всех на Небеса». Рассказ о делах татар и страх перед их именем дошли до самого дальнего обитаемого угла Европы. Отважные моряки ее северных и западных берегов, скандинавы и фризы, не решались выходить из гаваней в обычные для них дальние плавания, опасаясь, что в их отсутствие враги нападут на их хижины. По этой причине в сезон 1238 года ни одно судно не пришло, как делало обычно, в «сельдевые» порты Англии. А поскольку рыбу не вывозили, она продавалась по цене от тридцати до сорока штук за шиллинг. Как странно: никому не известные орды, бродившие где-то возле Китайской стены, чуть меньше чем за тридцать лет стали грозной силой, которая вызвала страх у западных правителей и повлияла на цены на рыбном рынке Англии.
Новые хозяева Крыма после того, как установили над ним свою власть, обычно проявляли терпимость по отношению к покоренному ими народу. И как только прекратился беспорядок, вызванный захватом полуострова и политическими переменами, торговля возобновилась. Один из городов Крыма, старинная греческая колония Солдайя (современный Судак), на время стал главным портом полуострова, сохранил свое самоуправление и был столицей христианского населения Крыма, пока его не затмили и не вытеснили с первого места генуэзские купцы. Около 1258 года Берке, третий правитель Кипчакской империи, принял ислам, и с тех пор эта религия укоренилась в Крыму и на юге России. Но татары, как мы с этого времени должны называть основную часть местного населения, никогда не были фанатичными последователями Мухаммеда, как турки, хотя иногда вспышки насилия на почве фанатизма случались и здесь. Татары, как правило, жили в мире с христианами — православными и католиками.
Власти Западной Татарии своей суровостью сделали это государство доступным для иностранцев. Многие купцы и ремесленники из Западной Европы приезжали туда, чтобы торговать или чтобы найти работу при дворе местных князей. Таким образом, два брата, Николо и Маффео Поло, приплыли на собственном, нагруженном товарами корабле из Венеции в Константинополь и решили ехать в Крым, узнав, что там смогут выгодно продать свой груз. Они добрались до крымского города Солдайи, а оттуда верхом доехали до Золотой Орды на Волге. Хан Берке принял их с большим почетом, и они прожили год в его владениях. Преемник Берке, Менгли-Тимур, отдал Крым в качестве удела своему племяннику. С тех пор полуостров находился под управлением удельных ханов, которые находились в подчинении у великих ханов Кипчакской империи, и назывался Крым или Малая Татария. Эти «вице-ханы» жили в Эски-Крыме, что значит Старый Крым. Теперь это просто деревня возле Карасу-Базара, но в ней сохранились развалины крупного города, в том числе остатки дворца. Именно в правление великого хана Менгли, при первом удельном хане, генуэзцы, которые раньше приезжали на полуостров в роли купцов-авантюристов, поселились на его восточном побережье как колонисты. Они горячо просили, разумеется сняв шляпы, разрешить им жить в Крыму и вымолили это разрешение; затем они купили участок земли, согласились платить таможенные пошлины и в 1280 году основали Кафу на месте древней Феодосии — в точке, которая господствует над красивым и удобным рейдом. Но смиренные торговцы быстро превратились в крупных коммерсантов и военных диктаторов. Наша Ост-Индская компания примерно таким же образом получила доступ в Бенгалию и, закрепившись на ее берегах, совершила такое же превращение. Вместе с генуэзцами в Крым пришло латинское христианство.
Три великие торговые республики Средних веков — Генуя, Венеция и Пиза — стали снабжать западный мир произведениями природы и ремесел восточного мира. Они часто враждовали между собой, особенно Венеция и Генуя, каждая из которых старалась стать монополисткой в этой торговле. В середине XII века они основали фактории в Константинополе, на середине торгового пути, приобрели земли и арендовали помещения. В конце концов они смогли вырвать у слабых императоров такие большие привилегии, что их фактории стали маленькими независимыми республиками внутри столицы империи. Кварталы венецианцев находились в самом городе, но генуэзцы, чье влияние было сильней, добились того, что им был отдан целый пригород Галата, иначе называвшийся Пера. Они постоянно укрепляли его и наполняли всем необходимым для ведения торговли и войны. Из него эти проницательные торговцы, издалека чуявшие запах богатых прибылей, посылали свои корабли исследовать берега Черного моря и основывали поселения на берегах Крыма и Кавказа, чтобы забрать в свои руки всю торговлю между Европой и Азией. До открытия пути из Атлантического океана в Тихий вокруг мыса Доброй Надежды товары из Китая, Индии и других стран Востока везли караванами через Азию до берегов Каспия, а оттуда переправляли в Черное море, где их встречали галеры итальянцев. Связь между двумя морями осуществлялась либо через Кавказский перешеек по суше из Куры в Фазис или по более удобной местности между Волгой и Доном. Похоже, что более употребительным был второй путь. Он проходил только через страны, подвластные татарам. И генуэзцы, и венецианцы всегда придавали очень большое значение тому, чтобы владеть колониями в устье Дона. В одном месте две великих реки сближаются, и расстояние между Какалинской на Дону и Дуборкой на Волге составляет всего сорок миль. Здесь товары и разобранные на части баржи перевозят из одной реки в другую на телегах. Эта дорога существует уже много веков. Петр Великий пообещал заменить жалкий рельсовый путь каналом и поручил инженеру-англичанину Перри провести съемку местности и составить планы. Но другие замыслы отвлекли императора, и инженеру пришлось потратить немало сил и пережить много неприятностей, чтобы получить из казны плату за свой труд. Один из султанов Османской империи предвосхитил этот проект и даже начало работы, но московиты применили силу и разрушили его планы. Теперь ходят разговоры о железной дороге.
Кроме своего главного штаба в Кафе генуэзцы имели факторию в Тане, современном Азове, у места впадения Дона в море. Там же имели свои торговые поселения венецианцы и пизанцы. Благодаря этим предприимчивым спекулянтам на западные рынки попадали шелка, пряности и духи с «великолепного Востока», ароматы и лекарства, ревень из Астрахани, шкуры, меха, конопля, лен и железо из Сибири. Одним из самых ценных товаров с Востока был высококачественный белый воск, который был постоянно нужен и приобретался по высокой цене во всех крупных городах христианского мира для изготовления свечей. Они были необходимы для пышных обрядов греческой и латинской церкви.
Соль из неисчерпаемых запасов Перекопа отправляли в Константинополь и на острова архипелага. Кроме нее, туда вывозили соленую рыбу и икру. Эту дозволенную в посты пищу переправляли через владения православной церкви. Дельцы из итальянских городов были неразборчивы в средствах и торговали любым товаром, лишь бы он приносил выгоду, поэтому на их репутации есть одно очень грязное пятно. Великие ханы во время своих войн захватывали в плен огромное число жителей России и Польши. Этих пленных продавали в рабство южным народам. Тех жителей русских городов, которые не могли уплатить подушный налог, тоже обращали в рабство, уравнивая с движимым имуществом. Кафа была крупным центром работорговли, а торговали рабами генуэзцы. Главными покупателями были египетские султаны, которые набирали из этих рабов отряды мамелюков, а потому получили от греческих императоров особое разрешение раз в год присылать с этой целью один корабль через ворота Черного моря.
Возвышение Кафы было таким быстрым, что через шесть лет после того, как генуэзцы создали эту колонию, девять галер были посланы из ее порта на помощь городу Триполи, который тогда осаждали сарацины. Венецианцы с сильнейшей завистью смотрели на это поселение, и, когда в 1292 году между республиками-соперницами началась война, венецианский адмирал Морозини ввел в залив флот из шестидесяти галер и разграбил Кафу, которая в тот момент оказалась без средств защиты. Эта победа не принесла грабителям пользы. Проведя в городе зиму, они были вынуждены покинуть его из-за болезни и нехватки продовольствия и даже оставить в нем часть своих судов: в командах осталось так мало людей, что они не могли привести весь флот обратно в Адриатику. После того как над Кафой снова взвился генуэзский флаг, город быстро поднялся из развалин. Несколько лет Кипчакскую империю терзала гражданская война: могущественный вождь Ногай боролся за верховную власть, но потерпел поражение и умер от полученной в бою раны. Он оставил своим сторонникам свое имя: народ, который они образовали, до сих пор называется ногайцы или ногайские татары. Позже они жили в Бессарабии, на Кубани и в Крыму.
В начале XIV века папа Иоанн XXII сделал Кафу епископской кафедрой. Он же в 1323 году заступился за жителей Солдайи, которые были изгнаны из своих домов во время вспышки мусульманского фанатизма (возможно, чем-то спровоцированной), а их церкви были превращены в мечети. Стоит отметить, что хан Узбек, когда церковный глава Запада обратился к нему, прислушался в своих прикаспийских степях к могучему голосу Рима и уступил папе — приказал вернуть изгнанникам их дома и право пользования их древними привилегиями. Некоторые потомки этого хана правили племенами в Туркестане, и эти племена сохранили в память о нем название «узбекские татары». Прелаты и священники Кафы ничем не прославились, но у самого города есть место в истории библейской литературы. В 1341 году один из жителей Кафы завершил перевод четырех Евангелий на персидский язык. Через три столетия этот перевод был напечатан в пятом томе знаменитой шеститомной лондонской многоязычной Библии Б. Уолтона. Оригиналом для печати послужила рукопись, принадлежавшая доктору Пококу (Эдуард Покок, английский священник и ученый, специалист по Востоку и Библии, провел несколько лет в сирийском городе Алеппо как капеллан английского коммерсанта и в это время собрал большую коллекцию ценных рукописей, а позже, вернувшись в Англию, активно участвовал в составлении уолтоновской Библии. — Пер.). Рукопись завершается примечанием: «Эти четыре славные Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна были завершены в городе Кафе, населенном христианами, с молитвой, в третий день недели, девятого числа месяца Тамуза, который на латыни называется июль, в год 1341 от Рождества Христа Мессии, рукой слабейшего из народа Божьего, Симона ибн Йосефа ибн Абрахама аль-Табризи». Переводчик Симон с длинным именем явно перешел в католическую веру из иудейской. Его перевод пересыпан цитатами из Вульгаты (Вульгата — латинский перевод Библии. — Пер.), а также из записей ритуалов и легенд. В завершающем примечании также сказано: «Да явит Бог тех, кто страшится Его, через Свои благодать и провидение, милость на то, чтобы люди, слушая или читая эту книгу Евангелий, смогли прочитать „Отче Наш“ и „Богородицу“, молясь за этого бедного писателя. Тогда, по милости Божьей, ему, возможно, будут прощены его грехи. Аминь».
Эгоистичные и алчные «купеческие князья» Генуи не допускали в Черное море не только других западных коммерсантов. Даже грекам из Константинополя они позволяли плавать в нем только, если те имели на это разрешение от них — хозяев черноморских вод. Никифорас Грегорас, лично видевший это их поведение, писал: «Теперь они верили, что приобрели власть над Эвксинским морем, и потребовали для себя исключительного права на торговлю в нем, запрещая грекам плавать в Меотиду, в Херсонес и в любое место на побережье по ту сторону устья Дуная без их разрешения. Этот запрет они распространили и на венецианцев. В своей гордыне они дошли до того, что стали брать налог с каждого корабля, проходящего через Босфор». Для поддержки этих претензий они оскорбляли жителей столицы из-за стен своих укрепленных кварталов в пригороде Пере, не побоялись войны с императором Кантакузином и его союзниками венецианцами и под предводительством своего великого адмирала Дориа одержали победу над объединенной армией союзников.
В начале своей истории генуэзцы из Кафы обращались с татарским населением очень справедливо и честно, и татары часто просили их решить свои внутренние споры. Но, став богаче и многочисленней, генуэзцы возгордились своим богатством и стали вести себя властно с соседями, которые, при своей сравнительной бедности, были все же независимыми людьми. И у тех и у других был горячий нрав. Начались ссоры, мелкие стычки и ужасные войны. В Тане в 1343 году генуэзский торговец, оскорбленный татарином, зарезал своего обидчика. На это насилие татары ответили насилием: хан Кипчакской империи Джанибек приказал всем иностранцам покинуть его страну. Когда они отказались это сделать, хан вторгся в колонию Кафу. Город Кафа выдержал долгую осаду, и народы Европы были так обеспокоены его судьбой, что папа Климент VI объявил Крестовый поход для его освобождения. Загородные дома состоятельных купцов в окрестностях Кафы опустели, но ее консул Бокканегра (титул консула соответствовал званию губернатора) успешно защищал город, пока обе враждующих стороны не обессилели. Тогда противники были вынуждены пойти на компром
Thomas Milner THE CRIMEA ITS ANCIENT AND MODERN HISTORY The Khans, the Sultans and the Czars © Перевод и издание на русском языке, ЗАО «Центрполиграф», 2015 От автора Представляя на суд читателей эту книгу, я хочу подчеркнуть, что в мои намерения не входило подробное описание событий нынешней войны (то есть Крымской войны 1850-х годов. – Пер.) или критика того, как она велась. Я хотел только создать иллюстрации к ее событиям и перечислить в хронологическом порядке основные вехи истории полуострова, который в прошлом был знаменит, затем забыт и вдруг опять приобрел известность как место, специально выбранное западными государствами для битвы против России. Подобного случая еще не было в истории: на таком малом пространстве собрались армии пяти великих правителей – королевы, императора, короля, султана и царя, принадлежавших к четырем ведущим религиям Европы – протестантской, римско-католической, магометанской и греко-российской. К сожалению, описание Керченского музея нужно читать как рассказ о том, чего больше нет: все его экспонаты – реликвии древних милетских греков – уничтожены. Очевидно, это сделали турки и зуавы. Глава 1 Крымский полуостров и его прибрежные воды Каким бы ни оказался политический итог происходящей сейчас войны, она уже привела к одному результату, которого не планировала ни одна из воюющих сторон: наши познания в географии стали лучше и шире. «Милорды» Адмиралтейства внесли немало исправлений и подробностей в свои карты Балтийского и Черного морей благодаря работе гидрографических судов наших эскадр. Теперь им знакомы местоположение, очертания, свойства и опасности многих узких заливов и маленьких бухт, которые раньше были совершенно неизвестны или неточно нанесены на карту. Кроме того, немало людей из образованных слоев общества просветились относительно многих местностей и смогли ясно представить себе очертания и свойства мест, о которых раньше знали лишь понаслышке. А названия стран и местностей, морей, берегов, рек, проливов и островов стали частью повседневной речи десятков или даже сотен тысяч людей, которые совершенно не знали их восемнадцать месяцев назад. Кто не слышал и не говорил о Крыме, о Севастополе и Балаклаве, Перекопе и Евпатории, Инкермане и Альме? Аристократы в своих дворцах, дворяне в своих залах, крестьяне у своих очагов, ремесленники за своей работой, жители хижин на далеких пустошах и рыбаки на мрачных берегах – все слышали и повторяли эти названия и прекрасно понимали их смысл. Но для очень большой части этого сообщества еще недавно край, о котором они говорят, был совершенно неизвестной землей. Если бы тогда кто-то упомянул про Севастополь, это была бы трудная тема разговора для хозяина фермы, где зашла о нем речь, и для его собеседника-конюха. А ведь теперь они имеют достаточно знаний, чтобы свободно говорить о короле или королеве, о мужчинах или женщинах, рыбе, мясе или дичи. Газетные репортажи о передвижениях флотов, переходах армий, повседневной суете военных лагерей, о суровости боев и усилиях, которых они требуют, а также дешевые карты районов боевых действий стали для этих людей учителями географии. Пока жители Западной Европы таким образом расширяли свои познания о восточноевропейских странах, их восточные соседи пользовались тем же преимуществом относительно их самих – хотя бы в малой степени. Никогда со времен Готфрида Буйонского в окрестностях Константинополя не видели такого множества европейцев, как при проходе англо-французских флотов и армий через Босфор. Это зрелище заставило много раз воскликнуть «Машалла!» – «Аллах велик!» – турок, сидевших скрестив ноги и бесстрастно потягивавших кофе или куривших чубук. Можно также предположить, что попутно эти турки узнали что-то и о родных краях своих западных помощников. Подданные его высочества султана не были знамениты достижениями в географии. Даже члены Дивана не раз проявляли в этом смысле забавное невежество. Фон Хаммер рассказывает, что в 1800 году он был переводчиком в Константинополе и, когда поступило предложение прислать на помощь Порте английские войска из Индии, великий визирь решительно отрицал возможность такого предприятия, не зная, что из Индийского океана есть водный путь в Красное море. Сэр Сидней Смит с великим трудом убедил его, что эти два моря связаны между собой, показав карты и представив другие убедительные свидетельства. А еще раньше, в 1769 году, когда русский флот впервые совершал плавание вокруг Западной Европы с намерением действовать против турок в Греческом архипелаге, Диван просто отказывался верить звукам выстрелов его тяжелых орудий и вполне серьезно утверждал, что между Балтикой и Средиземным морем нет прохода! Когда это неверие немного пошатнулось, Диван обратился к австрийскому правительству с просьбой не дать этим кораблям пройти и через Триест и Адриатику! Теперь советники султана лучше знакомы с картой Европы, поскольку уже примерно полвека опасности, угрожавшие Османской империи, заставили их обратить внимание на Европу, в особенности на места проживания западных народов и на средства, которыми те располагают. Нынешняя гигантская битва, должно быть, просветила на этот счет больше восточных умов. Чтобы быть честным, автор должен отметить, что правители с Босфора были не единственными людьми на подобных должностях, плохо знавшими географию. Еще на нашей памяти наше собственное министерство по делам колоний выпустило в свет документ – вероятно, работу новичка, который получил свое место не по заслугам, – где одна из подчиненных нам территорий на Южноамериканском материке была названа вест-индским островом. Поэтому автор посчитал уместным предварить общий обзор истории Крыма кратким описанием физической географии этого полуострова. Крым, который раньше назывался Крымской Татарией, а в более отдаленные времена Херсонесской Таврикой – это полуостров на северном берегу Черного моря, часть материковой земли Южной России, выступающая в морские воды. Он является частью крайнего юго-восточного угла Европы. Эта местность, которая теперь знаменита в нашей истории, расположена между 32 градусами 45 минутами и 36 градусами 39 минутами восточной долготы и 44 градусами 40 минутами и 46 градусами 5 минутами северной широты. Таким образом, он лежит в тех же широтах, что север Италии и юг Франции. Он тянется более чем на 130 миль с севера на юг и на 170 миль с запада на восток, но вторая цифра включает в себя узкую длинную полосу земли, которая простирается в восточном направлении от основного полуострова. Его общая площадь равна примерно 10,050 квадратной мили. Средневековые путешественники иногда называли Крым островом Кафой по имени города Кафы, стоявшего на его восточном берегу, и потому, что Крым почти является островом. Вполне вероятно, что когда-то он и в самом деле был полностью отделен от материка, то есть был настоящим островом. Так считали Страбон, Плиний и Геродот, и форма перешейка, который связывает полуостров с Европейским материком, подтверждает их предположение. Перешеек Перекоп, о котором идет речь, – его длина примерно семнадцать миль, а ширина пять, – так низок, что наблюдателю, стоящему в центре этой полосы суши, кажется, что море с обеих сторон выше уровня земли и что достаточно будет даже слабого толчка от ветра, чтобы эти воды слились вместе. В очень давние времена греки укрепили перешеек, который в их географии назывался Тафрос. Это слово означает «ров», то есть указывает, что в этом месте были укрепления. Похоже, что по соседству с ним был и город, тоже называвшийся Тафрос. Ров шел от моря до моря, и через равные промежутки над ним были построены башни, стража на которых старательно охраняла его, чтобы не дать варварским племенам вторгнуться на полуостров. С тех пор перешеек много раз укрепляли подобным же образом и в том же самом месте. А населенный пункт, когда-то носивший имя Тафрос, позже стал называться Ор-Гапи, что значит Царские Врата. Величественное название этой скромной татарской деревни указывало на то, что в этом месте можно было пройти в Крым по мосту, переброшенному через ров, через сводчатые ворота под одной из башен. И наконец, Россия дала ему нынешнее название Перекоп, означающее ров между двумя морями. Сам ров, широкий и глубокий, существует и теперь, хотя сильно обветшал, другие же укрепления не готовы для обороны. На полуострове есть еще три похожих, но менее крупных участка земли. Один из них – уголок суши на его юго-западном побережье. ограниченный морем и линией, проведенной от дальней оконечности основной гавани Севастополя до Балаклавской бухты. Эта местность носила у древних название Гераклейский Херсонес, а иногда ее называли Малым Херсонесом, в отличие от Большого Херсонеса – основной территории полуострова. С этим краем связаны многие поэтические и исторические памятные события давних времен, а теперь он на протяжении более чем шести месяцев привлекал к себе внимание всего цивилизованного мира. В него входят южная часть Севастополя, лагеря, батареи и окопы армий союзников, а также поля, где совершали свои подвиги те, кто сражался в боях у Балаклавы, и где происходила кровопролитная битва под Инкерманом. Второй из малых полуостровов – Керченский, на востоке Крыма. Он был хорошо знаком древним афинским купцам и оставил о себе память в истории как место, где в течение восьми веков находилось Боспорское царство. Этот полуостров расположен между Азовским и Черным морями, его длина с запада на восток около 80 миль, а средняя ширина с севера на юг 24 мили. Он соединен с остальной частью Крыма перешейком чуть больше 10 миль в ширину, поверхность которого совершенно ровная и плоская. Третий малый полуостров интересен своей формой: это узкая полоса земли, которая протянулась на север возле Арабата, ее длина 70 миль, но ширина часто бывает не больше четверти мили. Она отделяет Азовское море от его залива, Гнилого моря, и расположена очень низко над их уровнем. Эти два моря связаны между собой у северной оконечности этой косы Геначеским (правильно: Генический. – Пер.) проливом. Слово «пролив» звучит немного хвастливо: из-за своей малой ширины – всего 100 ярдов – этот водный путь больше похож на искусственный канал. Здесь стоит мост, который связывает полуостров с материковой Россией, и этим путем осуществляется основное сообщение между восточной частью Крыма и материком. Дорога идет по узкой дамбе, на которой для удобства путешественников размещены несколько почтовых станций. Эта необычная возвышенность состоит частично из более или менее уплотненного ракушечного песка. Кроме почтовых станций по ней то тут, то там разбросаны крестьянские хижины. Черное море омывает Крым с запада и юга; поскольку на этом море не бывает приливов и отливов, воды его почти полностью замкнутых сушей маленьких бухт похожи на озерные. Само оно отличается большим размером, компактной формой и почти ничем не разрываемой поверхностью: однообразие его водной глади нарушают только один маленький остров возле устья Дуная и две скалы около берегов Крыма. Его максимальная длина с востока на запад составляет примерно 690 миль, а максимальная ширина с севера на юг, между Одессой и Константинопольским проливом, равна 390 милям. Между южной оконечностью Крыма и Синопом, расположенным напротив нее на другом берегу, в Малой Азии, море сужается до размера чуть меньше 160 миль. В восточном направлении оно тянется на 300 миль, но ближе к концу становится эже. Его воды занимают площадь примерно в 180 000 квадратных миль – больше, чем Балтийское или Каспийское море, но меньше, чем Северное. Общая площадь его бассейна, куда входят земли, вода с которых стекает в Днестр, Днепр, Буг, Дон, Кубань и другие реки, немногим меньше 1 000 000 квадратных миль. Сюда входят около трети Европы и небольшая часть Юго-Западной Азии. Длина побережья более 2000 миль. Полибий писал, что расстояние по диагонали через море от Фракийского Босфора до Босфора Киммерийского, то есть от Константинопольского пролива до пролива Керченского, равно 500 римским милям. Эта цифра очень точна и доказывает, что у древних существовал более точный, чем мы обычно считаем, способ определять расстояние, пройденное кораблем. Они сравнивали его по форме со скифским луком, уподобляя южный берег тетиве, а остальную часть самому луку. Сходство приблизительное, но все же достаточно точное. Из-за огромного количества осадочных пород, принесенных северными реками, Полибий рискнул предсказать, что Черное море в будущем обречено стать непригодным для судоходства, а возможно, вообще превратится в сушу. Но его большая глубина в сочетании с мощным и постоянным потоком воды, идущим через Константинопольский пролив, всегда сможет справиться с осадочной почвой, принесенной реками, и море не придет к такому концу – хотя идет образование новых участков суши возле устьев рек. Во времена греческих географов на расстоянии одного дня плавания от Дуная существовала большая отмель длиной в тысячу стадиев, на которой часто по ночам застревали суда моряков. Но сейчас нет никаких ее следов. Вероятно, за девятнадцать или двадцать веков земли возле устья накопилось так много, что бывшая отмель, когда-то находившаяся на расстоянии тридцать или сорок миль от берега (примерно столько мог проплыть за день древний корабль), стала частью суши. Вода в Черном море не такая соленая, как в Средиземном, но намного солоней, чем в Балтийском, несмотря на большое количество пресной воды, поступающей из рек, и на постоянное вытекание из него воды через Константинопольский пролив. Чтобы объяснить это, некоторые географы предположили, что существует подводное течение от архипелага через Дарданеллы и оно подсаливает воды, с которыми под конец смешивается. Но достаточным и более удовлетворительным объяснением является изобилие соли на северных берегах. Должно быть, часть этой соли постоянно просачивается в море. Этот расположенный в глубине материка огромный водоем был известен под разными именами, в том числе – противоположными по значению. Латинские писатели часто называли его просто Pontus, то есть море. Греки в самом начале его истории именовали его Axenus – «негостеприимный». Вероятно, это имя досталось морю из-за штормов, которые часто случаются на нем в некоторые периоды года и были грозной опасностью для робких и неумелых моряков, а также из-за варварских нравов народов, живших на его берегах: некоторые из этих северных скифских племен даже слыли людоедами. Позже, основав свои колонии на этом побережье, греки заменили это название на более благоприятное Euxinus – «гостеприимное», «дружелюбное к чужеземцам», – чтобы воздать хвалу своим цивилизованным манерам и привлечь туда новых поселенцев. Но плохая репутация – все равно, справедливо она приобретена или нет, – крайне прилипчива. Несмотря на перемену названия, старая поговорка о собаке, которой один раз дали плохое имя, в этом случае оправдалась: люди были упрямы и относились к «Гостеприимному морю» так же плохо, как раньше к «Негостеприимному». И до сих пор у них сохраняется впечатление, что в характере этого моря есть что-то особенно скверное, чего нет у других морей. Его современное имя лишь укрепило это представление. Нынешнее название Черное море впервые появилось у турок (на их языке оно звучит Kara-dengis). Оно не вызывает приятных мыслей, и в его стойкости нет ничего особенного. Названия морей и берегов, как правило, присваивались им весьма произвольно и на основе лишь части их свойств, причем таких, которые есть не только у мест, именами которых они стали. Белое море не белей, чем залив Баффина; Багряное море (так раньше испанцы называли Калифорнийский залив. – Пер.) не более розовое, чем Левант; Красное море не красней, чем Персидский залив, а Тихий океан бушует так же грозно и так же часто, как Атлантический. Такие неудачные определения приносят несчастье: в начале жизни человека они производят на его сознание впечатление, которое приобретенные позже знания могут исправить, но редко уничтожают полностью. Турки и другие восточные народы привыкли называть словом Kara – «черный» стоячие воды, которые обычно бывают темного цвета, а быстро текущие горные ручьи называют «белыми», поскольку их вода, как правило, прозрачная. Но Эвксинское море темно-синее и полная противоположность сонным морям. Однако на Востоке часто называют «черными» бурные реки и воды, переправа через которые трудна или опасна, – так же как злодеев, которые страшны для своих сородичей. В Османской империи есть много Карасу – «черных вод», и так же много было в ее истории великих визирей, пашей и сераскиров, которые, как живший в начале ее существования Кара Чалиб Чендерели (Chalib Chendereli), приобрели дурную славу и получили такое же прозвище. Точно так же зловещее выражение «Черное море» могло применяться в переносном смысле и означать подлинные или предполагаемые опасности для плавания, зимние бури и туманы в начале весны и в конце осени. Но до последнего времени по этим водам никогда не плавали опытные и достаточно умелые моряки; внутренние моря Великобритании при таких обстоятельствах тоже имели бы большие права на мрачные названия. Ни одну часть земного шара не ругали так, как области возле Эвксинского, оно же Понтийское, оно же Черное, моря. Два античных автора – Овидий и Тертуллиан, поэт и служитель церкви, пространно рассуждали о недостатках этого края – особенно Овидий, который несколько лет провел на западном берегу этого моря. На пятьдесят первом году жизни он был выслан из Рима указом императора Августа – вероятно, за то, что не мог держать язык за зубами и сплетничал о каком-то придворном скандале. В этом постановлении ему было приказано жить в городе Томы – колонии милетских греков возле устья Дуная; в те дни это была самая дальняя граница цивилизованного мира. Овидия отправили туда так же бесцеремонно, как многих неосторожных болтунов отправляли по этапу из Санкт-Петербурга в Сибирь. Он добрался до места назначения зимой, проплыв по бурным морям, и умер на девятом году своего изгнания. Поэт любил вино, бани, духи, фрукты, цветы и дорогие удобства, и приговор обрушился на него как удар грома. Никогда человек не принимал свою судьбу в более печальном настроении. Его Tristia («Скорбные элегии») и «Понтийские письма» – короткие стихотворения, присланные друзьям, – полны смиренных малодушных просьб об отмене приговора и детских жалоб на все – землю, воду и небо, климат, почву, воздух и людей. Овидий писал: «Я живу под небом края мира. Увы! Как близок от меня край земли!» Страну, где он вынужден жить, поэт ругает такими словами: «Ты самая невыносимая часть моего несчастного изгнания. Ты никогда не ощущаешь весны, украшенной венками из цветов, и не любуешься обнаженными телами жнецов. Ни одна осень не протягивает тебе плотные гроздья винограда, но все времена года сохраняют сильный холод. Ты сковываешь море льдами, и часто в океане рыбы плавают, замкнутые в покрытой льдом воде. У тебя нет ручьев, кроме потоков воды, почти такой же соленой, как море, о которой неясно, утоляет она жажду или усиливает. На открытой местности растет мало деревьев, и те не сильные; и на суше можно видеть точное подобие моря. Ни одна птица не щебечет свой напев – разве что случайно бывает это в далеком лесу. Горькая колючая полынь растет на бесплодных равнинах, и этот урожай своей горечью подходит для места, где он растет». Если в первой части описания есть хоть какая-то доля правды, то со времени Овидия климат в этом краю изменился к лучшему. Вторая часть отрывка точно описывает степную растительность и внешнее сходство степи с морем. Об обычной понтийской зиме Овидий рассказывает так: «Снег глубок, и, пока он лежит, его не растапливают ни солнце, ни дождь. Борей делает его твердым и вечным. Поэтому, когда прежний лед еще не растаял, за ним уже следует новый, и во многих местах лед часто держится два года подряд. Сила северного ветра так велика, что, когда он пробуждается, набирает такую силу, что способен сровнять с землей высокие башни и унести крыши. Жители этих мест слабо защищаются от холода шкурами и ткаными штанами, оставляя открытым из всего тела только лицо. Часто их волосы, если шевелятся, звенят от висящих на них сосулек, и белая борода блестит от образовавшегося на ней льда. Жидкое вино становится твердым и сохраняет при этом форму сосуда; так что они глотают жидкость не глотками, а кусками, которые им подают. Почему я должен упоминать о том, как замерзшие реки становятся твердыми и как из ручьев выкапывают ломкую воду? Сам Дунай, который не эже, чем река, несущая на себе папирус, и в течение многих месяцев сливается с просторным океаном, замерзает, когда ветра делают твердыми его лазурные струи, и его воды катятся к морю под крышей изо льда. Там, откуда ушли корабли, люди теперь ходят пешком, и копыто коня ударяет по водам, затвердевшим от холода. Сарматские быки тянут неуклюжие повозки по этим диковинным мостам, а под ними течет вода. Я видел замерзшее просторное море, покрытое льдом, и скользкая корка покрывала его неподвижные воды. Я шел по затвердевшему океану, и поверхность воды была у меня под ногами, но они не намокали». С поправкой на поэтическое преувеличение мы все же можем считать этот отрывок свидетельством в пользу подтвержденного другими фактами предположения, что климат большей части Европы в прошлые эпохи был намного суровей, чем сейчас. Ведь в наше время только самые северные порты Черного моря, а также Керченский пролив и Азовское море замерзают каждый год. Шекспир в своей трагедии «Отелло» упоминает «ледяное течение Понтийского моря», и в то время даже Константинопольский пролив соответствовал этому описанию. В 401 году от Рождества Христова крупные участки Эвксинского моря сильно замерзли, а когда погода изменились, мимо Константинополя плыли такие громадные ледяные горы, что горожане испугались. В царствование Константина Копронима случилась такая суровая зима, что люди ходили по льду из Константинополя в Скутари. Теперь и первое, и второе события были бы чем-то совершенно из ряда вон выходящим. Церковный деятель еще больше, чем поэт, виновен в преувеличении недостатков Понтийского края. В своей речи против еретика Маркиона Тертуллиан создал вот этот непревзойденной образец литературной клеветы: «Этот путь, который называется Понт Эвксинский – Гостеприимное море, – лишился всех милостей, и самое его имя стало насмешкой над ним. День никогда не бывает ясным: солнце никогда не светит охотно. Существует только один вид воздуха – туман. Весь год дуют ветры, и каждый ветер прилетает с севера; жидкости бывают жидкими только перед огнем; лед перегородил реки; горы стали выше от куч снега; все окоченело и стало жестким от холода. Теплом жизни там наполнена одна лишь жестокость – я имею в виду ту жестокость, которая наделила этот край легендами о жертвоприношениях тавров, о колхидской любви и о кавказских пытках. Но самое варварское и скверное в Понте – то, что он породил на свет Маркиона. Этот человек более дик, чем скиф, более непостоянен, чем дикий житель кибитки, более бесчеловечен, чем массагеты, более дерзок, чем амазонки, темней, чем туман, холодней, чем зима, его нервы более хрупки, чем лед, он более вероломен, чем Дунай, и движется к своей цели более стремительно и безудержно, чем стремятся вверх Кавказские горы». Раз по миру ходили такие описания Эвксина, это море легко могло стать нелюбимым повсюду и быть в представлении народа чем-то вроде огромного Стикса – местом, где могут плавать по морю только кентавры, а бывать на берегах – только сатиры. Правда в том, что у Черного моря есть свои особые опасности и недостатки, как и у большинства других провинций империи Нептуна. Зимой и в дни равноденствий на это море часто налетают сильнейшие бури с севера; сопровождаются ослепляющим снегом – сухим или мокрым. Весной и осенью здесь часто бывают густые туманы, и легкий ветер собирает поверхность моря в складки, создавая не опасные, но беспокоящие людей волны. Но в течение многих месяцев года Черное море прекрасно подходит для судоходства. Глубина его почти везде большая, поэтому даже самые крупные суда могут идти близко от берега, и им не мешают ни мели, ни острова; оно предоставляет судам много свободного места и имеет несколько прекрасных гаваней. Но до последнего времени государства, которые владеют его берегами, не делали ничего или делали мало, чтобы повысить безопасность приплывающих к ним моряков. На побережье длиной более чем в 2000 миль есть не больше двадцати маяков. Карт было мало, и по большей части они были неточными, а большинство матросов были бы «сухопутными моряками» для мореходов, привыкших плавать вокруг мыса Горн. Турок во время шторма делает все, на что способен, но мало пользуется картой или компасом и примиряется с катастрофой как с неизбежным приговором «кисмета», то есть судьбы. Русские команды судов, плавающих вдоль берега, не намного опытней. При плохой погоде начинают обычно с того, что выбрасывают за борт все предметы, которые можно сдвинуть, а если положение не улучшается, применяют второе и последнее средство – падают на колени перед образами святых, отдавая корабль на волю святого Николая или святого Александра Невского. Рассказывают, что один английский капитан, подплывая к Дарданеллам, встретил судно, которое шло из Крыма, и хозяин этого судна спросил у англичанина, где он находится. Оказалось, что поднятые ветром волны несколько дней носили его то в одну сторону, то в другую, затем вынесли из Черного моря через Босфор, Пропонтиду и Дарданеллы, и теперь он совершенно не мог определить свое местоположение. Немного лет прошло с того времени, когда о некоторых русских военных кораблях ходила дурная слава, что их команды умеют водить суда только при хорошей погоде и ровном море, потому что у большинства офицеров и матросов при сильном ветре всегда начиналась морская болезнь. Рассказывают, что однажды, когда один русский адмирал находился на корабле между Севастополем и Одессой, он и его офицеры полностью сбились с пути и флаг-адъютант, увидев на берегу деревню, предложил сойти на берег и спросить дорогу. Хотя в этом утверждении есть доля злой шутки, правда то, что до последнего времени Эвксин обвиняли во многих несчастьях, причиной которых было просто недостаточное владение мореходным искусством. С востока Крым ограничен Азовским морем, его заливом – Гнилым морем и Керченским проливом, через который поддерживается связь с Черным морем. Азовское море – это Меотийское море латинских и греческих географов. Хотя его размеры примерно двести миль с северо-востока на юго-запад и сто в противоположном направлении, по своим свойствам оно гораздо больше похоже на озеро, чем на море: глубина в нем везде малая, и вода почти пресная. В центре самая большая глубина не превышает семи с половиной морских саженей, а ближе к берегу воды редко хватает для того, чтобы к нему близко подошла двенадцативесельная шлюпка. В Таганроге, на северном побережье, корабли при погрузке или разгрузке стоят на расстоянии пятнадцати верст, то есть примерно десяти миль, от берега. От него до Азова, города на противоположном берегу моря, тянется мель, верней, цепочка мелей, и при сильном восточном ветре море отступает так далеко, что местные жители могут пройти от одного из этих городов до другого по суше, а расстояние между ними около четырнадцати миль. Однако такой переход – рискованное предприятие, потому что ветер внезапно меняет направление, быстро возвращает воды на прежнее место, и они порой уничтожают человеческие жизни. Этот необычный муссон дует почти каждый год после середины лета. Люди считают, что это море быстро мелеет, и похоже, что это верно. Паллас в 1793 году упомянул в своих записях о спуске на воду крупного фрегата там, где сейчас с трудом плавают даже лихтеры. Это происходит из-за грязи и ила, которые приносит Дон; из-за них же вода в море совсем не голубая и далеко не прозрачная. С ноября по март его поверхность покрыта льдом, и плавание по нему редко становится безопасным раньше апреля. Начиная с этого времени до середины лета почти постоянно дует юго-западный ветер, который облегчает путь судам из Черного моря и преграждает путь выходящему течению, чем сильно увеличивает глубину Азовского. Сиваш, по-русски гнилое море, расположено между основным побережьем Крыма и Арабатским полуостровом и связано с Азовским морем маленьким Геначеским проливом. Его название вызывало любопытство у многих людей, которых нынешние события впервые заставили взяться за изучение карт этого края. Они предположили, что оно связано с чем-то ужасным и трагическим, вроде жестокой резни, когда вода покраснела от крови жертв, а потом воздух долго был заражен. Однако оно объясняется очень просто и обыденно. Гнилое море – один из тех мелких водоемов с болотами и топями по краям, которые труднопроходимы для людей и животных и над которыми в летнюю жару поднимаются ядовитые испарения, из-за чего вся окружающая местность в это время года вредна для здоровья. Над водой нависают ивы, большие заросли которых служат летним приютом для множества болотных птиц. Древние вернее, чем мы, характеризовали этот водоем, называя его болотом или озером – Palus Putris. Это устоявшее перед временем название доказывает, что с незапамятных времен данная местность имела эти неприятные свойства. Но иногда восточные ветры оттесняют воды Азовского моря от Таганрога и пригоняют их через Генический пролив в Сиваш; в этих случаях вода затопляет грязевые отмели; тогда Сиваш выглядит свежее, и его вредное действие на время прекращается. Эти внешние водоемы связаны с основным, большим Черным морем через Керченский пролив, который когда-то носил название Босфор Киммерийский. Его древнее имя напоминает о древних коренных жителях этих берегов – киммерийцах, наполовину легендарном, наполовину историческом народе. В Одиссее они описаны как народ, живущий за океаном во мраке и не благословленный лучами Гелиоса-Солнца. Второе слово названия – «Босфор», точней, «Боспор» – в древности обозначало и Константинопольский пролив (его, чтобы отличить от Киммерийского, называли Босфором Фракийским). Это слово объясняют по-разному. По одной из легенд, через эти два пролива Ио, превращенная Юпитером в быка, переходила с одного материка на другой во время своих странствий. Более реалистичное объяснение – что люди впервые переправились через них на корабле, нос которого был украшен изображением быка, и от этого проливы получили название Боспорус – «Бычья Переправа». Но это имя может означать и переход скота; в таком случае оно могло означать переход стад с одного берега на другой в зимнее время по льду. Геродот утверждал, что «херсонесские скифы, которые живут с внутренней стороны рва (то есть Перекопа. – Авт.), переходят Босфор по льду со своими повозками, чтобы пройти в страну индийцев». Митридат сражался на льду в той самой части Киммерийского Босфора, где прошлым летом произошло морское сражение. Надпись на мраморной плите, которую обнаружили на азиатском берегу пролива, утверждает: «В году 6576 (1068 год от Р. Х.) князь Глеб измерил море по льду, и расстояние от Тьмутаракани (Тамани) до Керчи было равно 30 054 морским саженям». В наше время в суровые зимы телеги с грузом иногда проходят через Керченский пролив, и вполне вероятно, что в прошлую зиму русские могли этим путем переправить в Крым и солдат, и запасы. Этот пролив – узкая вьющаяся полоса мелкой воды с песчаными мелями по бокам. Таким же он был в дни Полибия, и можно ожидать, что таким будет всегда: его изгибы не дают водам Азовского моря ворваться в него напрямую и способствуют накоплению осадочных пород. На обоих берегах пролива наблюдаются признаки псевдовулканической деятельности. Возле Керчи есть грязевой вулкан, но самый замечательный из таких вулканов находится на противоположном берегу, на расстоянии двадцати семи миль от Тамани. В своем обычном состоянии этот холм похож на большую зажившую язву. Его напоминающая кратер вершина покрыта многочисленными отверстиями, из которых выделяются вода, темная грязь и зловонный газ. Но иногда можно увидеть и нечто вроде извержения – выброс большого количества грязи, который сопровождается огромными столбами огня и дыма. Одно из этих извержений произошло 27 февраля 1794 года; тогда пламя поднялось на высоту 300 футов, и грязь била фонтаном. По оценке побывавшего на этом месте Палласа, за короткое время в воздух взлетело 100 000 кубических саженей грязи. Казаки удостоили это место названия Прекла, что значит «Ад». В 1799 году недалеко оттуда в результате подводного извержения в Азовском море возник остров, который затем был виден какое-то время, но постепенно ушел под воду. Жителей этого берега тревожат ужасные шумы и подземные толчки. Вполне вероятно, что в прошлом вулканические процессы в этой местности были гораздо активнее, и стали причиной существовавшего у всех античных авторов представления, что Киммерия находится возле входа в подземное царство Аида. Моря Крыма, особенно вдоль восточного побережья, изобилуют рыбой, и мало есть мест, где ее так много, как в Азовском море. Добываемую рыбу делят на два разряда. К первой группе относятся прекрасные осетры, которые перемещаются из соленых вод Черного моря в пресную воду Дона и обратно, загромождая находящийся посередине пролив. Во вторую группу входят скумбрия, сельдь, палтус и другие виды. Кроме них, в Черном море водятся акулы, дельфины, тюлени, морские свиньи (разновидность дельфина. – Пер.), а из Средиземного моря приплывают на нерест тунцы. Акулы не большие и не агрессивные; их иногда едят, но охотятся на них в основном ради грубой кожи, которую используют в своей работе столяры-краснодеревщики и полировщики. Одна из самых необычных рыб – бычки. Их мясо всегда вызывает жар у тех, кто его ест, а еще они строят для своего потомства настоящее гнездо, как птицы. Самец и самка собирают стебли камыша и мягкие водоросли и укладывают их в маленькую ямку на берегу. Оба сторожат гнездо, пока мальки не вылупятся из икринок и не уплывут из него в подводный мир. Это поведение – исключение из правила, существующего у рыб, – было замечено Аристотелем у другого вида, есть и еще несколько подобных примеров. Каждый год в Керченском проливе вылавливают огромное множество осетров и сельди и заготавливают большое количество осетровой икры. Сельдь либо доставляют на ближайшие рынки в сыром виде, либо засаливают и продают перекупщикам, приезжающим из внутренних областей России. Пока Восток был христианским, в Константинополь, Малую Азию и другие местности везли из Крыма в больших количествах соленую рыбу, поскольку многочисленные посты православной церкви порождают большой спрос на этот товар. Крымская рыба была знаменита и в более давние времена. На монетах греческих городов Эвксинского побережья была изображена рыба, а иногда рыболовный крючок, что свидетельствует о древности местного рыболовства и о том, как высоко ценилось это занятие. В Крыму нет ни одной реки, которая достойна называться рекой в течение всего года. В жаркие и засушливые летние месяцы многие малые речки полностью пересыхают, а более крупные становятся узкими и мелкими или превращаются в цепочку прудов, слабо связанных между собой. Самая крупная река, Салгир, зарождается в горах на южном берегу, протекает мимо Симферополя – современной столицы полуострова, входит в степи и медленно добирается через них до Гнилого моря. Почти на всех участках ее русла до того, как она достигает равнины, ее можно летом перейти, не замочив ног, по камням, лежащим в ее русле, – просто перепрыгивая с одного из них на другой. Но ливни осенью и таяние скопившегося в горах снега весной превращают Салгир в глубокую и быструю реку. В Симферополе 19 января, в день Крещения, происходит церемония освящения воды, которая проводится греко-русской церковью во всей империи. Это большой праздник. Священники во всем великолепии своих богослужебных одежд спускаются к реке в сопровождении должностных лиц государственной власти и служат молебен на ее берегу, а затем несколько раз погружают в реку крест. После этого люди толпой спешат к реке, и каждый наполняет свою посуду освященной водой, которую потом бережно хранит, чтобы использовать при необходимости. Они сильно верят в целебные свойства этой воды и считают, что она излечивает от болезней и людей, и животных. Салгир и все ручьи, стекающие с гор, заметно изменяются после того, как пересекают границу степи. Поскольку на равнине совсем нет камней, все потоки лишаются слоя щебня и гальки на дне, теряют прозрачность и становятся похожи на канавы. Река Альма, которая теперь знаменита в военной истории, точно так же в зависимости от времени года превращается из быстрого потока в жалкий ручеек. Она начинается поблизости от Бахчисарая, бывшей татарской столицы Крыма, течет к западному побережью и на всем своем пути протекает среди холмов. Ее берега красивы, а поскольку эти земли хорошо возделаны, они покрыты пышной растительностью. С обеих сторон видны плодовые сады или виноградники и укрывшиеся среди деревьев уютные дома их владельцев. Летом в рощах от заката до рассвета непрерывно поют соловьи. Тысячи лягушек подпевают им, что увеличивает громкость концерта, но вовсе не украшает мелодию. Но хотя их кваканье не музыкально, оно не создает диссонанса с соловьиным пением. В нем звучит веселье и немного самодовольства, оно похоже на хохот. Как будто лягушки смеются не просто потому, что довольны своей судьбой, а от переполняющей их радости. Альма – очень извилистая река. Оммер де Гелль (французский путешественник, географ и геолог. – Пер.) пересекал ее восемнадцать раз за три часа. Еще один поток, возле которого нашли свою могилу многие доблестные солдаты, называется у русских река Черная. Ее название у татар – Буюк-Узин, то есть Большая Вода, что, при ее малом размере, ясно указывает, как бедны водой их реки. Ее основной исток находится в Байдарской долине, оттуда она течет через Инкерманскую долину и впадает в море в верхнем конце севастопольской гавани. Холмы вблизи нее живописны, но сама она так же некрасива, как наши болотные речки, во всяком случае в своем нижнем течении, где русло заросло высоким камышом, тростником и другими водяными растениями. Но с точки зрения любителей охоты у нее есть одно достоинство, искупающее этот недостаток: в некоторые периоды года эти заросли становятся любимым убежищем бекасов и диких уток. Однако для правительства Черная – большое зло: в ней размножаются мельчайшие черви, одинаково опасные в соленой и пресной воде. Они повреждают корабли в Севастополе, из-за чего те разрушаются раньше времени. Ущерб, который причиняют эти маленькие животные, может сократить жизнь русского военного корабля до восьми лет, в то время как средний срок существования кораблей британского и французского флотов примерно вдвое больше. Для защиты судов применялись многие средства, но ни одно из них не принесло ожидаемого успеха. В степи есть много соленых озер, из которых добывают в больших количествах соль, которую затем перевозят на огромные расстояния. Самое большое и поставляющее больше всего этой необходимой приправы озеро тянется от южной оконечности Перекопа вдоль брега Гнилого моря. Телеги заезжают по оси в мелкую воду, и их сразу же нагружают солью, которая лежит на дне как песок. Затем соль отсылают во внутренние области России, и выручка от нее составляет значительную часть дохода, который правительство получает с полуострова. Соленые озера есть также вблизи Керчи и Феодосии, соль из них используется для торговли с побережьем Черного моря. Существуют такие озера и возле Евпатории, соль оттуда поставляют главным образом на внутренний рынок. Недалеко от этого города располагается маленькая деревня Саак на берегу соленого озера. Еще несколько лет назад это место было никому не известно, но теперь приобрело громкую славу. В деревне есть большая гостиница, и каждый год в Саак съезжается целая толпа светских модников, причем некоторые приезжают из таких далеких городов, как Москва и СанктПетербург. В июне и июле, во время летней жары, вода в этом озере испаряется и оставляет осадок в виде липкой грязи, по густоте похожей на тесто, черной и соленой. Главная цель приезжих – искупаться в этой грязи, когда она сильно нагрета солнцем: она излечивает ревматизм и кожные болезни. Поблизости живет медик, который устанавливает, сколько времени должны продолжаться ванны. В теплой грязи выкапывают яму, купальщик располагается в ней полулежа, затем его тело засыпают грязью, оставляя над поверхностью только голову, словно указательный знак над могилой живого человека. Судя по описаниям тех, кто это испытал, сначала их ощущения были далеко не приятными: тяжесть лежащей на груди грязи мешает дышать, и в первый раз это погребение заживо можно выдержать лишь несколько минут. Но после повторов эта процедура легко переносится в течение более долгого времени, и некоторые пациенты лежат в своей добровольной могиле по нескольку часов. Русские газеты полны рассказами о чудесных исцелениях, произошедших на этом месте, но не обязательно совершать путешествие в Крым, чтобы испытать на себе достоинства горячей солевой ванны и тем более – чтобы поваляться в грязи. Популярность саакских грязевых ванн – лишь еще один пример той любви ко всему новому, которая во всех странах и во все времена заставляла людей предпочитать далекий Иордан находящимся рядом Аванам и Фарфарам. (Авана – древнее название реки, протекающей возле Дамаска. Фарфар – древнее название еще одной из рек, протекающих через Дамаск или рядом с ним, обе упомянуты в Библии. – Пер.). Глава 2 Горы и степь Природа разделила Крым на две области, которые почти так же резко отличаются одна от другой, как день от ночи. Вдоль южного побережья поднимаются горы, а к северу от них лежит обширная равнина, которая занимает основную часть полуострова. Место перехода от гор к равнине можно было бы считать третьей областью, для которой характерны пологие холмы и широкие равнины. Для русского путешественника, никогда не наблюдавшего таких пейзажей, вид крутых скал и живописных ущелий, которые открываются перед ним на пути из Москвы или Санкт-Петербурга в южную часть Крыма, вполне может иметь не выразимое словами очарование. До этих мест весь его путь, более тысячи миль, проходит по однообразной плоской равнине, высоту которой иногда изменяют лишь холмы и цепи низких пологих гор, а поверхность покрывают главным образом луга, болота и песчаные пустоши. Контраст между этими равнинами, от которых глаз быстро устает, и горами усиливает действие горных пейзажей на воображение, что стало причиной преувеличенных похвал красоте и величию этого края. В Крыму действительно есть и приятные, и романтические, и величественные пейзажи, но он не уникален в этом отношении. По этим признакам пейзажи других частей Европы равны крымским, а часто даже превосходят их. Цепь гор тянется вдоль побережья от окрестностей Севастополя на восток, в сторону Керченского полуострова, ее длина около ста миль, а ширина от двенадцати до двадцати миль. Расстояние между горами и морем в некоторых местах меньше трех миль и нигде не бывает больше двенадцати. Значительная часть линии берега – это крутые отвесные скалы. Возле Ялты в Черное море далеко выдается конический Аю-Даг – Медведь-гора. Она получила это название из-за предполагаемого сходства с медведицей, которая спускается к морю со своими медвежатами, чтобы напиться воды; с медвежатами сравнивали несколько стоящих рядом с горой каменных глыб. Скалы вдоль берега изрыты пещерами и гротами, которые проделали в них волны. Раньше в этих пещерах укрывались пираты, а позже поселились морские птицы. Кое-где у входа в пещеру растет дикая смоковница. Вдоль этой прибрежной горной цепи построена хорошая дорога для экипажей. Она проложена от Севастополя до Алушты, на высоте в среднем две тысячи футов над уровнем моря. Местность между этой дорогой и берегом защищена от суровых холодных северных ветров и полностью открыта теплым южным ветрам, поэтому отличается прекрасным климатом, в котором отлично растут виноградные лозы, оливы и гранаты. По этой причине ее прозвали «русской Италией». Еще одна дорога идет, пересекая горы, из Алушты в Симферополь, ее самая высокая точка находится на высоте 2800 футов над уровнем моря. С нее открывается великолепный вид на берег внизу и на синий простор Черного моря. Возле этой точки стоит обелиск, отмечающий место, где стоял, любуясь видом с нее, император Александр I во время своего последнего приезда в Крым в 1824 году. Совсем рядом, возле родника, стоит памятник Кутузову. Эти дороги, которые делают труднопроходимый край легкодоступным, были построены под покровительством князя Воронцова, когда тот был генерал-губернатором этой провинции, а строительство князь поручил молодому офицеру инженерных войск. Со стороны моря горы круто поднимаются вверх, в некоторых местах даже становятся каменной стеной высотой 1800 футов, а с другой стороны очень плавно понижаются до уровня северной равнины. Основная каменная порода здесь известняк, похожий на тот, который встречается в горах Юры, но более хрупкий. Однако встречается много выходов на поверхность различных видов гранита, зеленого камня и других вулканических пород. Дворец князя Воронцова в Алупке построен в основном из зеленого камня, добытого по соседству. Гранит, добытый из недр Медведь-горы, широко применялся при строительстве доков, набережных и фортов Севастополя. Плато, на котором армии союзников стояли лагерем перед этим городом, состоит в основном из известняка, а также из песчаника. Эти породы, за исключением тех мест, где камень выступает на поверхность, покрыты слоем легкой плодородной почвы, толщина которого варьируется от двенадцати до восемнадцати дюймов. Но дождь превращает эту землю в тяжелую липкую грязь, идти по которой так же трудно, как по свежевспаханному полю после ливня. Самая необычная особенность этих гор – форма их вершин. Они не округлые и не остроконечные как игла, а широкие и плоские. Народ называет такое плоскогорье словом «яйла», что означает «горное пастбище». Зимой эти яйлы покрыты снегом, но ближе к концу мая он тает, и на его месте возникает пышный ковер из трав. Эта трава остается свежей все лето, а на равнинах растительность высыхает от жары. Тогда татары со своими стадами покидают степь, переходят на эти возвышенности, куда легко подняться с северной стороны, и остаются на них, пока опять не наступает то время года, когда дождь на вершинах крымских гор превращается в снег.