Как я не стал богословом бесплатное чтение
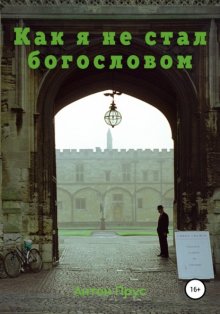
«То что я пишу – для гадких утят. Для тех, кто хочет найти не другой птичий двор, а самих себя». Григорий Померанц. «Записки гадкого утенка».
Одинокая планетка
Алексей Балабанов однажды сказал, что смысл жизни в том, «чтобы найти своих и успокоиться». Я начал искать прямо с детства, заглядывал в глаза детсадовских мальчиков и девочек, брал за руку воспитательниц, пытался понять родителей, бабушек и дедушек. Но у всех для меня было отведено очень мало времени, всего лишь мгновения, да и в этих мгновениях я не был уверен, ведь когда они проходили, казалось, что я их выдумал, а на самом деле – я просто чужой всем. И только в моих мыслях все «другие» люди были настоящими: друзьями, папой и мамой, бабушкой и дедушкой. С выдуманными можно было разговаривать, а с настоящими не очень-то поговоришь, когда ты маленький, а они такие большие, и всегда заняты чем-то более важным, чем ты и твои вопросы.
В школе расстояние до «других» стало бесконечным, и от этого возникали истерические влюбленности в разных девочек: вдруг покажется, что это та самая, та «своя», которую ждал все 12, 15, 17 лет жизни в полном одиночестве, изнуряя себя воображаемыми друзьями и родственниками. Девочка, почти любая – мгновенно заполняла все внутри, она заменяла все, и даже воображать ее во время мастурбации было неловко, ведь она живая и реальная, а девочки из сознания мальчика – как куклы, выполняющие грязные мысли… И когда становилось понятно, что и эта девочка существует только в твоем воображении, что и у нее для тебя нет всего времени, что даже те мгновения, в которые, как показалось, она стала вполне «своей», прошли без остатка, моя внутренняя планетка пустела полностью, заполняясь воображаемыми девочками для удовольствий, причем та, самая прекрасная и любимая, становилась в их ряд. Снаружи ничего живого не было. Но оставалось странное и болезненное желание найти «своих», как-то верилось, что они есть, должны быть.
Потом я, конечно, повзрослел, как минимум – снаружи, и уже не пытался привлечь к себе внимание слезами и плохим поведением, записками и дешевыми брошками для девочек. Девочки склонялись передо мной с пугающей доступностью, а отсутствие понимания у друзей я с лихвой заменял алкоголем, и чем больше было алкоголя, тем больше друзей собиралось вокруг, и это казалось вполне искренним мероприятием! Каждое утро приносило не только головную боль, но и понимание, что друзья существуют только по вечерам. Я не оставлял попыток и старался найти друзей среди врачей, бандитов, сумасшедших, хасидов, наркоманов, родственников, геев, книжных персонажей, рок-музыкантов, священников.
Врачи – как те, с которыми я учился в Военно-медицинской академии, а потом в первом меде – сами ничего не знали, и своих не нашли. Они могли пить чай, пока больной умирал в операционной, рассуждая об ошибках нашего правительства, или просто трахали медсестер в ординаторской. Те, что учились со мной, хотели узнать смысл жизни у меня, ну, в крайнем случае, переспать со мной, перескакивая из врачей, через ступеньку «друзья» в разряд девочек, впрочем, не без моей активной помощи. Никто не был готов открыться хоть на мгновение, никто не впускал в себя не только своих пациентов, но и друзей. Я был не против, но своими с коллегами мы друг друга так и не почувствовали.
Бандиты, я какое-то время работал врачом сборной страны в одном из восточных единоборств, а там все были так или иначе связаны с криминалом, за очень редким исключением, были точно приличнее врачей. Они как минимум не врали, а рассказывали все как есть – кого ограбили, кого убили, кому продали… Я им дарил Евангелие, не читая его сам, и их вопросы о вере были часто глубже, чем мои ответы. Ограбить меня было невозможно, так как ничего у меня не было, да и лечил я их неплохо. Их честность внушала огромное уважение. Иногда они исчезали навсегда. Своими… нет, своими они не стали, уж слишком другими они были, слишком страшными были их откровения, и потихоньку они ушли из моей жизни.
Сумасшедшие, наверное, находили меня своим, так как в отличие от них, я прошел сумасшедший дом, но это отдельная история о том, как я косил от армии после третьего курса Военно-Медицинской Академии, отдав вооруженным силам три года своей жизни. После нескольких месяцев, проведенных в клинике психиатрии, сумасшедшие вызывали больше симпатии, чем врачи и бандиты. Врачи и бандиты могли еще вызывать опасения, но психи, те, кого я видел, и кто стали моими товарищами на многие годы – никогда. Мы окружены гораздо более опасными типами, чем солдаты-неврастеники, заикающиеся при виде офицера. Или психопаты, с их неуклюжими попытками убить себя или своего начальника после длительных пыток, а служба в армии, в церкви, и даже в простом советском «ящике» – пытка в чистом виде.
Да о чем я, просто учеба в школе и нахождение в детском саде – пытка для личности, не способной покрыть себя глухой коростой, защищающей от муки жизни в нашем, впрочем, в любом обществе. Даже простая семейная жизнь, когда любовь заменена регистрацией в Загсе – обычно пытка, когда два человека сладострастно пытают друг друга, наслаждаясь не сексом, а местью за свое пожизненное одиночество. Психопат по сравнению со многими из нас – цветок на помойке жизни, который нужно просто любить. Шизофреники среди друзей – это вообще удача. Конечно, они бывают разными, и жить с ними очень трудно. Но десяти тупым, социально адаптированным нормальным людям я предпочту сотню шизиков! Вот с клептоманами, МДПшниками и ребятами с глубокой депрессией общаться было трудно. Наверное, я был недостаточно психом, их искренность была очень приятной, но их мир, который они с радостью мне открывали, был хоть и чище, чем у бандитов, но жить там было трудно, жить там мне не хотелось, как не хочется любителю высоких гор бродить по темному лесу, заваленному мертвыми деревьями и покрытому топкими болотами. Нет, я не мог успокоиться с ними. Но огромное доверие к ним осталось.
Хасиды в Советском Союзе приравнивались к сумасшедшим, впрочем, как и все верующие. И конечно, встретить их можно было именно в сумасшедшем доме, причем в каждом, где я и встретил первого. Мой новый друг открыл для меня глаза на Библию и каждый раз, когда он возвращался после инсулинотерапии, а это такой способ мстить инакомыслящим в зверском совке, он, постепенно приходя в себя, рассказывал свои ощущения от ввода инсулина, а по сути о том, как умирает мозг, пока не введут глюкозу. Мы разговаривали с ним о боге, о вере, о еврейской литературе. Я читал ему свои плохие стихи, а он мне рассказывал истории из Торы. Потом я был у него на свадьбе, приколачивал Мезузу, пил с раввинами кошерную водку и читал ему свои мои новые плохие стихи. Но постепенно пришло ощущение, что хасиды слишком увлечены своими традициями, больше, чем Богом, и уж точно больше, чем мной, дружбой со мной. Нет, похоже, хасиды не были «своими», да и никаких еврейских корней я не смог найти, хотя и искал с пристрастием.
Наркоманы, родственники, геи и книжные персонажи, несмотря на всю мою инклюзивность в общении, были слишком на периферии моего круга. С наркоманами я не мог достаточно погрузиться во всю их дурь, так как она мешала заниматься спортом. Они, безусловно, были интереснее родственников, находящихся в наркотической зависимости от ненависти друг к другу, чего я не разделял. Друг друга ненавидели родители, дядья, племянники, и все они вместе ненавидели евреев, цыган, азиатов, и всех, кто подвернется, мне было скучно с ними, кроме ненависти их мало что интересовало. К геям меня не тянуло, я, собственно, не разделял людей на геев и гетеросексуалов, а вот они ко мне тянулись. Эти вундеркинды, учителя, знакомые и малознакомые внезапно раскрывались в своей любви ко мне. Мне казалось, что я совсем не привлекательный, кривоногий, сутулый, лохматый, подслеповатый парень. У них было другое мнение: я им определенно нравился. Кто-то пытался «задружиться», кто-то просто был в компании, никакой истины они не смогли мне открыть, хотя я всегда очень ценил нестандартные пути человека и старался понять, хоть и теоретически, в чем их путь состоит. Короче говоря – они, далеко не все, пытались проникнуть в меня, а я в их сознание. Нет, они не были «своими», их терзали те же глупости, страхи, проблемы, разочарования, что и меня. Они остались для меня этакой интересной группой, более интересной, чем бессознательно идущие в колее.
А вот книжные персонажи по-прежнему были для меня гораздо более реальными, чем все остальные. Это понятно, с книгами я проводил по 5 часов в день, а это больше, чем с любыми реальными людьми. С ними можно было много беседовать, ведь они отвечали моим голосом. Китайские древние поэты, русские религиозные философы, немецкие романтики, поэты серебряного века… да мало ли кто еще, все они значили намного больше, чем живые люди. И они делились самым важным – своими мыслями, а не как живые люди, которых обычно интересовало, что выпить и кого трахнуть. Изредка – что пожрать. Очень редко, как и где пожрать, чтобы потом еще и кого-нибудь трахнуть, этот вариант рефлексии обычно был самым сложным. Нет, книжные герои слушали крик обезьян в горах, описывали цветы шиповника и кусочек бисквита на чайной ложке, разговаривали со змейками, боролись с призраками, умирали от любви… Этого мира вокруг не существовало. Точнее – он существовал для меня, но не для тех людей, что меня окружали. Наверное, я плохо искал. Но как найти «своих» в тех, кого с нами нет. Я был слишком нормальным, чтобы полностью погрузиться в общение с призраками. Поэтому я пошел к реальным поэтам и музыкантам.
Рыжая богиня
Из дурдома я вынес не только опыт общения с психами, которые оказались настолько интереснее нормальных людей, но и большую любовь. Влюбиться в своего психотерапевта – это как схватить насморк питерским ноябрьским вечерком, штука банальная. Восхитительной случайностью было то, что моим психологом была божественная, рыжая, умная студентка последнего курса психфака ЛГУ. Я писал для нее стихи, дрался с психами, которые «порочили» ее имя во время трудотерапии в подвале, когда мы за три копейки штука крутили розочки для похоронных венков из тонкого поролона, тоскливо смотрел из окна своей палаты на окно ее кабинета.
Она была на шесть лет старше, а я был для нее неврастеником-курсантом. Мне и в эротическом сне, сопровождающимся многократными поллюциями, не могло привидеться, что у меня будут поцелуи в электричке по пути к ней в Красное Село, и Новый Год с изнуряющим и божественным сексом, как мне тогда казалось, а теперь ясно, что наш секс был однообразным и скучным, что будет даже секс в этом кабинете, на окно которого я медитировал, и путь из клиники, через палаты с психами, под взглядами моих бывших товарищей по отделению, сидящих перед телеком, который им было позволено смотреть по расписанию…
А ее друзьями были те музыканты, поэты, которых мы все теперь знаем, и просто прекрасные бездельники, на чьи выставки, выступления и просто посиделки мы ходили вместе. На одной выставке я был потрясен: одна из наших знакомых художниц выставлялась вместе с картинками БГ, и вот, между Его летчиком в кабине и храмом на фоне голубого неба, стояла моя обнаженная богиня, укутанная в свои рыжие волосы. У нас чуть не случился секс прямо в выставочном зале… Она могла загипнотизировать контроллера в поезде, и он проходил мимо нас, безбилетников, или хама-официанта в ресторане, и он из тролля превращался только для нас в ангела-хранителя с подобострастной улыбкой.
На время, на год или чуть больше, она стала всем моим миром, где много неизвестных книг, новых поэтов, случайных встреч и неожиданных впечатлений. Она была ключиком к этому всему, а без нее ничего не работало. Без нее всем этим прекрасным людям хотелось как обычно – бухнуть, трахнуть, а в крайнем случае услышать, что они гении. Однажды под утро один такой поэт позвал меня, мол, он ночью записал гениальные стихи на магнитофон. Мы включили запись. Там было: «Я – гений. Я хочу быть гением. Хочу», и все. Больше ничего. Короче, они казались ничем, а она – всем. Теперь я знаю, что эти известные люди, которых сегодня знает каждый, были очень интересными, просто я для них – нет. Мне очень нравилась моя прыщавая любовь к рыжеволосой богине, а разбираться с ее великими друзьями я был не готов. Так эти сегодняшние мэтры, а тогда вялые и подвыпившие, не сильно стремившиеся открыться мне, и не стали моими «своими».
А потом она сказала словами Помяловского: «Вот и кончилось наше мещанское счастье». Я чуть-чуть поплакал, прогуливаясь с ней по железнодорожной платформе, утопающей в кустах цветущей сирени (уж не знаю, зачем она для расставания выбрала такой роскошный интерьер), а потом улыбнулся. Она вопросительно посмотрела на меня, а я сказал, что зато я купил отличную книжку. Это были рассказы и миниатюры Тонино Гуэрры «Птицелов». Вот тогда она меня и поцеловала в последний раз, наверное, поняла, что ее ангельская миссия по пробуждению человека в гадком, обиженном жизнью утенке – закончилась.
Как птица гадит на капот
Со времен хасидов вопросы религии меня не очень касались, и я чувствовал себя то православным мистиком с книжкой Павла Флоренского, то дзен-буддистом, и читал хокку с друзьями, попивая чай и нанизывая строфы, изредка посещая занятия в мединституте, предпочитая ему публичную библиотеку с латиноамериканскими, модными тогда, писателями, редко общаясь со своей новорожденной дочкой и изменяя своей первой жене с легкостью птицы, гадящей на свежевымытые машины… Да, после разрыва с богиней я шустро женился, ну как бы чтобы показать ей, что не очень переживаю. Странным образом я считал свою первую дочку плодом нашей любви с богиней, а не с моей женой, перед свадьбой с которой я написал то ли ей, то ли самому себе ужасные стихи о том, что не люблю ее.
Не принес для тебя я сегодня цветов,
Я любовь потерял, навсегда ли? Не знаю,
Только знаю теперь, что я путь начинаю,
От закрытых дверей, от основы основ…
Регулярный, еще подростковый, лихой и задиристый, но довольно механический секс, который почти что освобождал от гнета мастурбации, и, очевидно, обычное дело в браке по обязанности – пара абортов, какие-то книги, пьянки, спорт, все было механическим, и все обещало быть навсегда, на всю оставшуюся жизнь. И даже первую дочку, после полугодового ее безымянного существования, я подло назвал Ксения, то есть «чужая», хотя она – одна из немногих «своих» для меня сейчас. Нет, ничто меня не привязывало к реальности, я плыл где-то в облаках, периодически цепляясь членом за реальность…
Так я и нашел свою вторую любовь, в Хибинах, при поддержке горных лыж и белого вина. Это теперь я с величайшим удивлением понимаю, что чудом нашел «свою» в угаре студенческих пьянок и необязательного секса с малознакомыми девушками. Тогда я только интуитивно понял, что нашел опору в мутном болотце своей ненужной жизни. Питер скрылся в тумане, и я оказался московским доктором-травматологом в травмпункте на Варшавском шоссе, а вокруг поликлиники ходила моя молоденькая любимая жена с коляской и новорожденной дочкой, которую я назвал именем, означающем на древнееврейском – дар божий.
И вот тут меня накрыл СТРАХ. Страх за то, что я сделал, что оставил первую жену, бросил маленькую дочку, назвал ее «чужой». Не раскаяние, а страх за жизнь второй дочери. Я присутствовал во время родов – она не задышала сама, ей пришлось помочь. Потом снова, на руках у жены она вдруг перестала дышать, а может мне показалось. Я встряхнул ее и приложил к груди матери. Дочка очнулась и стала сосать грудь. Но ночами меня мучили ужасы о том, что она умрет, что бог меня накажет, что нужно как-то все исправить. Я стал ходить по книжным православным лавкам, покупать все книги подряд, умолять священников в церквях стать моими духовными отцами. Рванул в деревню к бабушке и крестился вместе с маленькой дочерью в полуразрушенной церкви, там, где лазал по развалинам в детстве, осторожно переступая огромные взрослые какашки, и этот образ надолго остался у меня в голове как образ церкви. Пил со священником кагор в алтаре, попросил рекомендацию для поступления в семинарию и твердо решил стать священником. «Свои» должны были быть только в церкви. Где же еще?! Да и Бога нужно было как-то задобрить. Я решил отгородиться от бывшей «греховной» жизни забором из священников, и в голове у меня были сплошные кресты.
Своих тут нет
Но и священники только в моем пылком воображении неофита могли мне помочь. На самом деле они оказались, как правило, малообразованными, уставшими, раздражительными, придерживались пещерных взглядов. Я очень старался объяснить их необъяснимое поведение, читая всевозможные назидания и поучения. Тщетно. Чем благообразнее был священник и его окружение, тем хуже обстояли с ним дела, и тем меньше мне хотелось с этим кругом общаться. Оказалось, что в церкви – все как в жизни, и приличных людей там так же мало, как и везде. И они, приличные люди, никому не нужны и в церкви. Их там убивают, изгоняют, лишают, преследуют. И вот, в начале сентября 1991 года убили известного православного священника, богослова, проповедника, мыслителя и писателя. И это перевернуло мою жизнь уже в который раз.
Мне снова показалось, что вот же, все приличные христиане шли за этим великим человеком, что они и есть носители истины, которая мне так нужна! Естественно, я стал прихожанином этого храма, усердно посещал все службы, покупал и читал все книжки, стал преподавать в воскресной школе при храме, вести группы для взрослых, а потом стал учиться в православном университете при приходе. А так как в православии с управлением всегда беда, ну не могут православные ни расписания составить, ни документы на грант, ни помещения под занятия найти, ни книжку издать – ну что делать, взялся с товарищем за все это, и вся моя медицина, где зарплата была целых 10 долларов в месяц, пошла прахом.
Прошла пара лет, и у нас были и помещение, и 120 преподавателей, и деньги на их зарплаты, и не в месяц, как у меня в поликлинике, а 15 долларов в час. И толпы студентов, и куча изданных книг. Однако последователи убитого священника посчитали, что истина перешла от него к ним, его ученикам, и что никого из тех, кто не знал покойного, привлекать нельзя. Как же, сказали мы, ведь образование должно быть лучшим, нам нужны лучшие философы, переводчики, богословы, филологи, лингвисты, искусствоведы. И издавать мы должны лучшие книги в этой области, а не унылые воспоминания друзей об убитом… Так нарисовался раскол, и с виду приличные люди кричали с амвона во время проповедей, что работать с моим другом, ректором Университета, и со мной – это плевать на могилу покойного. Мы стали врагами в своем приходе, и хотя годы спустя те священники извинились перед нами, обратно мы не вернулись.
Мы снова остались одни – прекрасные люди, готовые вот-вот стать «своими». Несколько соратников: наши учителя – божественные досоветские старички, современные философы, богословы и просто умные люди, поддержали нас. Мы же решили, что если и строить, то по примеру лучших университетов мира. А чтобы понять, как там все устроено, нам нужно было поучиться именно там. Первым поехал мой друг, ректор, потом еще пара преподавателей. И вот, настала очередь проректора и издательского директора, то есть моя. И, конечно, я был уверен, что именно в Оксфорде я найду «своих», только там, меж готических соборов и темных пабов, ходят великие и ужасные мыслители, к которым я себя, безусловно, причислял! Вот только нужна была рекомендация православного священника, а с нами был только наш любимый игумен, но он был чаще пьян, что не мешало ему быть одним из самых чистых душ на свете, которых я знал.
Священник с двумя отверстиями
Себя игумен называл священником с «двумя отверстиями». «Отверстие» царских врат в храме – это награда священнику, который зарекомендовал себя в своем служении. Нашего игумена наградили дважды, по ошибке. Он был фантастически одаренным человеком, полиглотом, переводчиком Евангелия, к тому же работал в свое время спичрайтером у патриарха. Там и пить начал, не вынеся всей этой кухни, далекой от Благой Вести. Однажды июньским утром мы шли на какую-то конференцию, и он предложил выпить пива где-то прямо на Бульварном кольце. Мы сели на белые пластиковые стульчики и потягивали пиво. А вокруг ходили очень приятные люди. Пара девушек подошла к нам, и они спросили священника, не грешно ли выпивать, а он был, натурально, в рясе. Слегка раскачиваясь на шатких ножках белого стульчика, он с медью в голосе ответил, подыгрывая девушкам, мол, выпивать не грех, а вот напиваться грешно! При этом ножки стула подогнулись, и он повалился на спину, выпростав из-под рясы длинные голые ноги, прикрытые белыми шортами, а пиво залило его густую бороду.
В другой раз, в Мюнхене, возвращаясь с конференции, он с детским азартом заявил, что в дьютифри он купил пастис, мол, давно хотел попробовать. В самолете он просто исчез, и когда вышли все пассажиры, и в салоне стало пусто, мы тоже вышли. У паспортного контроля мы встретили нашего игумена земли русской: стюард вез его в тележке для багажа, а отче спал сном праведника. Он никогда не заботился о своем имидже, подбирал нищих у метро и вел к себе домой: кормил их и выпивал с ними. Однажды в 90х он даже путч ГКЧП пропил и проспал, заявившись в довольно помятом виде на очередной богословский семинар, он с детским удивлением выслушал страшную историю попытки возвращения СССР, и опять-таки по-детски радовался и смеялся, был себя по ляжкам ладонями, узнав, что все обошлось. Впрочем, как мы знаем теперь, ГКЧП таки победил у нас в стране. Короче, он единственный из тех священников, которых я знал, вел Евангельскую жизнь. Он мне и дал блестящую характеристику, конечно, кроме тех знаний, которыми он щедро делился. И я поехал.
Вы не заблудились?
Еще до того, как я сел в самолет с открытой датой обратного билета, мне стало совершенно ясно, что задуманное мною – бред. Английский я учил года полтора, но думать, что я могу общаться с профессором на отвлеченные темы, переводить с греческого на английский и слушать в сводчатых средневековых залах лекции вместе с аристократическими отпрысками, упертыми индусами и развязными американцами?! Как быстро меня выгонят? Будут открыто смеяться или просто наблюдать, как я тону? Я смотрел в окно самолета, но видел только жалкую неизвестность впереди, как и земля, закрытая облаками, жизнь совершенно не просматривалась впереди. Что там будет делать маленький одинокий ребенок, влюбчивый школьник, озабоченный сексом студент, друг психов и молодой отец?
С автобусной Виктории сверкающий автобус вез меня, потного, дрожащего, жалкого, оставившего шестилетнюю дочку и прекрасную молодую жену в Москве, и еще другую дочку в Питере… От пота промокла не только рубашка, но и пиджак – на улице был ранний октябрь, солнце шпарило как в июле в Питере. Оксфорд. Колесо у чемодана отвалилось, очки залиты потом со лба, ботинки натирают жуткую кровавую мозоль. Я экономлю, иду два километра до своего дома пешком. Рядом останавливается старенькая машинка, за рулем очаровательная бабушка, рядом с ней улыбающийся дедушка. Молодой человек, вы не заблудились? Вас подвезти? Вы куда направляетесь? Потом я понял, что нас, таких горемык, в начале первого триместра, потерянных и неуверенных, плачущих и одиноких, кроме, конечно, тех, кого до арендованного на время обучения особнячка не подвозит личный водитель (да и богатые плачут, как нам стало известно в 90е), нас тысячи, мы как грачи весной опускались на город, таун и гаун оживали, и так происходит уже почти тысячу лет. Вряд ли старички были настолько стары, но они явно знали, кто я и зачем я здесь. И они хотели помочь.
Я добрался до своей комнаты, принял душ, сел в свое кресло перед забитым картоном камином, а в окно светило предзакатное солнце, сделал пару глотков виски из дьютифри и лег спать, голодный, морально я был не готов идти и искать магазин, делать покупки и готовить. Я засыпал, слушая шум от паба Кингз Армз напротив моего дома. На столе лежала открытка от старенького профессора Пола Эллинсворса из шотландского Абердина. Он приветствовал меня в Оксфорде, боялся, что открытка не успеет к моему приезду, писал, что помнит свой первый день в университете, как ему было одиноко тогда! И вот, хоть мы и встречались несколько раз, но он вспомнил обо мне и написал. Мне было жутко приятно, я был не один. Я со своим английским понял, что говорят милые бабушка и дедушка в машине, я был рад посланию профессора Эллинсворса, я понимал даже крики пьяных студентов, когда паб закрылся, и они расходились, весело напевая какие-то песни. Я заснул, почти что ощущая себя дома.
Пишите письма!
Утром же меня ждало первое страшное открытие. Вот к этому я действительно не был готов, тут ничего, кроме культурного шока я испытать не мог. Оказывается, в этой странной стране и в этом странном городе люди по делу не звонят друг другу, не ходят друг к другу, а пишут письма! Советский человек к этому не готов органически, наши письма идут месяцами, а в исключительном случае – неделю. Нет! Молодой человек, вы отнимаете наше время, не приходите, не звоните, пишите письма! Я уж подумал, что меня ненароком отчислили, но нет, так принято.
А второй шок – ответы на эти письма стали приходить в этот же день! Ты утром отправил, а вечером – ответ. От администратора, от научного руководителя, от всех! 1996 год, электронная почта только в компьютерном центре универа, а туда еще ползти полчаса. И да, письмом быстрее! Приглашения на вечеринки, на встречу участников моей программы, все, вообще все письменно. И писать нужно грамотно, а это не то, в чем я был силен, особенно все эти RSVP и прочие шифры и коды.
Впрочем, я быстро все понял, и писал всегда со словарем, а вот мой Украинский друг заявился в администрацию лично, в наименовании аэропорта, а он пытался получить компенсацию за билеты, которая нам полагалась, он как-то неправильно произносил одну букву. Так ему пытались отказать на том основании, что он воспользовался неизвестным всем аэропортом и теперь вымогает деньги. Я хоть этого избежал!
Секс на потолке
Особенной насмешкой было и то, что Оксфорд встретил меня безудержным сексом, и под этот аккомпанемент я читал богословские труды, переводил Евангелие с греческого и писал свои эссе на темы, далекие от разврата. Только на свежем воздухе секс не преследовал меня. Поначалу я даже не представлял, кто же источник всего этого праздника жизни: мой потолок кричал, стучал, рычал, стонал, бил мелкой дрожью, и заканчивал быстрым диминуэндо на два голоса…
Потом, может через неделю, я выяснил, что надо мной в студенческом доме на Банбери роуд жила печальная и нежная девушка в берете. Когда она стояла на остановке автобуса перед моими окнами, то выписывала некие па ножкой, и я назвал ее балериной. Потом появился он: низкий, плотный, мускулистый, с шепелявым кокни и в хулиганской кепке. Я не знаю, что эти бурные любовники изучали в Оксфорде, но позже в холле нашего дома появилась афиша, там мой сосед выступал на соревнованиях по боксу.
Первый триместр они занимались любовью упоительно, регулярно, долго. Второй триместр они то трахались, то ругались, причем в свободном порядке, и свидание могло закончиться чуть не дракой с криком и ее слезами, а могло – бурным сексом и его запыхавшимися извинениями. Третий триместр, даром, что весна, принес только их ссоры, хотя я и подучил английский мат. Секс был редким, и после него хлопала дверь, а девушка плакала. Я здоровался с ней при встрече с большой симпатией, но она всегда проскакивала мышкой, никогда не появлялась на кухне. Я так и не узнал ни что она изучала, ни чему он учился, ни почему они ссорились. В конце триместра потолок молчал, я слышал только легкий звук ее шагов…
Поцелуй за фунт
Одинокий русский с парой тысяч фунтов на карте, всю стипендию неосмотрительно переводили студенту на счет, проживающий в комнате с окнами, выходящими на паб – ситуация сложная. Но ведь я никогда по пабам не ходил. Да и в ресторане-то бывал только за чужой счет, и то редко. А одиноко – жуть. Интернета нет, письма из России раз в несколько дней, телевизора у меня в комнате нет, платить нужно. Лекции, и те не каждый день, а с тьютором встречи и вообще раз в неделю. Наверху секс три раза в день, а у меня секс только с древнегреческим текстом Евангелия… Нет, так жить нельзя и я медленно, нехотя, выплываю из комнаты, привет Джулия, это соседка, она изучает английскую и немецкую литературу в Оксфорде, но не может прочитать заданную Волшебную гору Манна и написать по нему эссе. Пиво? Нет, пойду читать! Ничего не понимаю в этих немцах!
На улице темно, редкие машины. В паб стекаются студенты, но и их мало. Сажусь за столик. Двойной виски без льда. Как можно его пить час? Можно. Это от одиночества. Много пить – денег нет. Поболтать не с кем. Бармен занят, да и хз, пойму ли я его. О, стайка студентов, две девушки и три парня, заказали пиво. Одна прямо красавица, высокая, этакая артнуво, короткое черное каре, большие черные глаза. Эх, где мои ленинградские беспутные деньки… теперь изучаю богословие… И вообще. Нет, я старик для нее, 27 лет, русский чел, на ломаном английском изъясняюсь.
Проходит час или около того. Девица шумит, и вдруг заявляет, что ебть, денег-то нет на еще одну пинту, а нужен-то всего один фунт. Они в полутора метрах от меня, она смотрит на друзей, по сторонам, останавливает взгляд на мне. А я, старые грехи расшевелились, видимо, достаю из кармана фунт и протягиваю ей, типа, не парься, вот, возьми. Девица подходит и что-то быстро так говорит, типа спасиб и все такое. Мне стыдно, но я медленно, а виски скорости не добавляет, говорю, что я русский, говори чуть медленнее, только вот приехал учиться. Она повторила, но я все-равно не понял, но закивал, мол, да, конечно, понимаю. Она железный фунт берет, улыбается, поворачивается к друзьям и с размаху меня в щеку целует, и на ухо так нежно – спасибо.
Фунт не весть какая сумма для такой девицы в модном платье. А я лохматый русский в очках а ля директор деревенского клуба. Но мне приятно. Так приятно, что беру еще один двойной виски, выпиваю, и иду к себе спать, на ходу оглядываюсь на мою «подругу», но она не смотрит, а спорит с друзьями. Я уже засыпаю, и слушаю как народ выходит из паба, но голосов не различить, и в темноте никого не видно. Больше я ее и не видел. Но поцелуй, теплый и пахнущий гиннесом, помню.
Милые гомофобы
Из бывшего союза приехал не я один, по этой же программе приехали Заза из Грузии и Олег из Украины. Понятно, что мы подружились, одиночество на чужбине сильно сближает. И во всем они были хороши, но груз интеллигентной гомофобии лежал сметанным пятном на галстуке их религиозно-философских представлений. Понятно, что сейчас, когда они такие видные и выдающиеся профессора, директора, представители и попечители – они вам в этом не признаются. Но тогда, в 96ом, этот пункт нами бурно обсуждался в Берд-енд-Беби, что на Сент Жиль, прямо за столиком Толкиена и Льюиса, причем я был единственным борцом с гомофобией, и не дай бог поучаствовать в таком споре челу из совка, не обтертому оксфордскими профессорами, могли бы просто прибить и выбросить в ближайшую помойку.
Но Олег с Зазой были уже джентльменами и не позволяли себе особенных резкостей. Их возмущал тот факт, а фактом он был только по слухам местных православных консерваторов, что настоятель англиканского студенческого храма Марии Магдалены, Большая Мэри, как мы его называли, отец Хью, был «предводителем» местных англиканских геев. Как! Ах, боже мой! Студенты! Как можно! Я отлично знал отца Хью, отчасти потому, что тот в совершенстве владел русским языком – учился во время войны в шпионской школе в Лондоне, много раз был в Москве и читал нам лекции. Кроме того, он был прекрасным специалистом по истории православия, но самое главное – настоящим английским джентльменом.
Я часто заходил к нему выпить чаю тоскливыми ноябрьскими вечерами. Он всегда был рад мне. В один из таких вечеров, когда мне было уж совсем хреново, мы сидели у камина, пили чай, обсуждали мою учебу. И я спросил его, что мне делать, с моего счета колледж не списывает деньги, а за год это полторы тысячи фунтов, деньги фантастические тогда для меня. Он спросил, кому я написал, а я всем написал трижды, но счета не приходили. Хью улыбнулся и сказал, что я выполнил все необходимые действия, больше не нужно никого беспокоить, посещать и требовать, но держать деньги на счету на всякий случай в течение двух лет, когда их могут хватиться. Потом Хью вспомнил, что у меня скоро день рождения, и почему бы не пригласить моих друзей отпраздновать у него дома? Да, подумал я, вот они будут рады зайти в логово предводителя! Я заблаговременно написал им письма (жили мы на разных концах города и виделись раз в неделю на наших дружеских попойках), естественно, на английском, конечно, со всеми этими RSVP и прочими экивоками, и попросил их быть в назначенный день у входа в Рэндолф. Не хотел дискуссий заранее!
Дверь в пятиэтажный дом Хью на Бомон был в десяти метрах от Рэндолфа, шикарного ресторана, Ритца местечкового розлива. К Зазе приехала жена, Олег, я и отец Анджей, католический священник, пристрастивший меня там к нефильтрованному пиву. Вот мы встретились, а друзья засуетились, мол, давай скинемся, поучаствуем, тут же дорого! Я, ну прямо как лорд, так мне казалось, купил подержанный вельветовый пиджак и бархатные мягкие брюки (не знаю как называется этот материал), с мягкой бабочкой на шее… Так вот, я улыбаюсь и веду их не внутрь ресторана, а в сторону, к красной двери и звоню. Я отошел, чтобы видеть реакцию моих дорогих гомофобов. Да, на лицах были видны усилия по удержанию нижней челюсти от падения. Хью стоял на пороге и улыбался, а мои друзья вымучивали улыбки.
Хью был великолепен не только как проповедник, писатель и джентльмен, но и как кулинар. Поэтому всем, кому кажется, что английская кухня им не нравится, я могу сказать только – ХА. Вы ее просто не пробовали! От фантастической закуски из карамелизированной индейки с черносливом, через нежного лосося в медовом соусе, к шарообразному пудингу из сухофруктов, и палитре английских сыров после десерта… Это был не ужин, а фейерверк. Херес для начала, два вида вина под эти изыски, и виски у камина… Я уверен, что если у моих друзей и остались предрассудки к концу ужина, то самому Хью они точно простили все, хотя на самом деле, прощать-то было и нечего. На всю жизнь мы сохранили нежнейшие чувства к отцу Хью, к его книгам, к его пунктуальности и его рецептам!