Жития убиенных художников бесплатное чтение
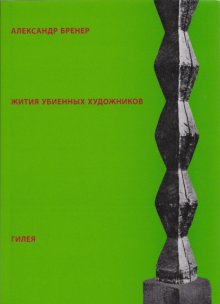
© Книгоиздательство «Гилея», перевод, 2015
Лучшее из всех известных мне определений искусства принадлежит Стендалю: une promesse de bonheur.
И.С. Тургенев
Об этой книге
Книга эта – не мемуары.
Скорее, она – опыт плебейской уличной критики. Причём улица, о которой идёт речь, – ночная, окраинная, безлюдная. В каком она городе? Не знаю. Как я на неё попал? Спешил на вокзал, чтобы умчаться от настигающих призраков в другой незнакомый город.
Освещена эта улица не глянцевым светом рекламы, не неоном ресторанов и аптек, не яркими фонарями. Дважды полоснули мне по глазам фары грузовиков, и промерцали из-под припаркованного автомобиля кошачьи глаза. Да вот ещё пара горящих окон. Там, за этими стёклами, люди не спят, как и я. От этого делается легче, теплее. Как будто там – друзья. Два светящихся окна – два друга.
В этой книге меня вели за руку два автора, которых я считаю – довольно самонадеянно – своими друзьями. Это – Варлам Шаламов и Джорджо Агамбен, поэт и философ. Они – наилучшие, надёжнейшие проводники, каких только можно представить. Таким был Вергилий – для Данте. Таким был Артюр Рембо – для Артюра Кравана. Только вот не знаю, хороший ли я спутник для моих водителей.
Шаламов испытал, что это такое: бродить по пустым, замороженным, страшным улицам. Научился он и другому: как не подчиняться толпе. Я иду по этой улице, думая о поэте Шаламове.
Слияние поэзии и критики – задача, поставленная и осуществлённая Агамбеном. Слияние поэзии и критики – именно эта идея вела меня, направляла в писании этих очерков. Смог ли я соединить поэзию и критику на свой собственный – плебейский, низовой, уличный – лад? И вообще: есть ли действительно во мне элемент плебейской поэзии, плебейской критики?
Шум времени – дневной и ночной неумолчный гул – стёр разницу между высоким и низким, благородным и плебейским. Вокруг меня – одна мусорная асфальтовая пустыня. Но я упрямо брожу по улицам в поисках осколков плебейского знания. Это упрямство, эта настойчивость – может быть, они и есть элемент плебейства во мне.
Но действительно ли я неуправляем, как подобает плебейскому поэту? По-настоящему никому не подвластен? И что это значит: быть неподвластным, неуправляемым?
Спросить Шаламова уже не смогу. Спросить Агамбена?
Я стою на безлюдной улице, и Агамбена рядом нет. Я – один, со всеми своими предчувствиями и страхами, надеждами и сомнениями.
И опять меня обступают призраки, вышедшие из этих рассказов. Призраки убитых или при жизни мёртвых художников, с которыми я провёл слишком, слишком уж много времени…
Эй, призраки, надоели! Отстаньте! Сгинь!
Моя нестерпимая любовь к Сергею Калмыкову
Але-оп!
Мой первый любовный опыт с художником был и самый сладострастный.
Мне стукнуло лет семь.
Я вышел из дома и оказался перед храмом – Театром юного зрителя.
Меня страшно влекло к этому парфенону со смеющимися и плачущими масками на фронтоне.
И вот вижу: перед театром шевелится опьянённая толпа.
В центре её бесчинствует кто-то в разноцветных лохмотьях.
На нём – голубой берет со звенящими бубенцами, жёлтые штаны с алыми лампасами, зелёная пелерина с бахромой.
Перед ним – мольберт.
На мольберте – картина.
Художник дирижирует кистью и производит на холсте мазки.
Потом отбегает в сторону и глядит – хорошо ль получилось?
Снова подбегает и мажет.
Толпа следит за ним, затаив дыхание.
А живописец действует как паяц или демиург.
Лицо у него – обугленное.
Седины – сальные.
Жесты – колизейные.
Это был гениальный художник Сергей Иванович Калмыков.
Он почитал себя выше Кандинского – так оно и было на самом деле.
Кандинский был слишком занят своими цветовыми ритмами и композициями.
А Калмыков живописал План Маршалла на Марсе.
Или Инженера Эйфелевой башни на Вавилонской башне.
Или обнажённых Дочерей Великого Костюмера в гриме.
Или Человека с Орденом Мухи.
Или ливийскую одалиску в оренбургских снегах.
Или безголовую голую буфетчицу на античной колонне.
Или алма-атинский пустырь, а рядом – кусты.
Или трёхголового пса Цербера внутри вертящейся планеты.
Или нити спермы.
Сергей Калмыков был для меня лучше Тулуз-Лотрека и Михаила Врубеля. Лучше Густава Климта. Лучше Джеймса Энсора. Лучше Пабло Пикассо. Лучше Жоана Миро и Хаима Сутина. Лучше Жана Фотрие и Андре Массона. Лучше Джексона Поллока. Лучше Жана Дюбюффе. Лучше Сальвадора Дали. Лучше Энди Уорхола.
Лучше всех них вместе взятых.
Лучше – потому что он был мой первый святой художник. Божественный, по-настоящему сумасбродный, беспомощный. И власть его была не от мира сего.
В его творчестве сквозила одновременно невинная девица в тесных трусах и обалденная грязная блядь с сочащейся пиздой.
Он был соглядатаем парковых совокуплений, свидетелем коитуса на строительном пустыре.
Духовидец с начала до конца, он мне хрестоматиями не был навязан.
Калмыков Сергей Иванович родился в 1891 году в Самарканде. Он почти там не жил, а всё-таки впитал в себя излучение самаркандских изразцов и заоблачные формы самаркандских мечетей. Как, впрочем, впитал он позднее и персидскую миниатюру. И Дионисия. И Джотто. И Пизанелло. И Дюрера. И Домье.
И Курбе, и импрессионистов.
И Ван Гога.
И Сёра.
И Мунка.
И ещё много чего: стиль модерн, фовистов, сюрреализм… Как он умудрился сделать это в советской Средней Азии? А вот так: тоска по мировой культуре…
Он изворачивался, гримасничал. Затевал тайные оргии с эпохами и титанами.
Он – оборванец и бомж в искусстве – танцевал животом, плечами и бёдрами.
Он – хвататель объедков и открыватель мусорных гротов – трясся в трансе.
Он, оса, высасывал из лужицы мёда всё: от пещерной живописи Ласко до Одилона Редона и Клее.
Как он умудрился это в сталинской провинции?
А так – настоящий босяк, скоморох, изображающий Саломею, бурлак духовного Ганга, блаженный.
Голодный и ненасытный птенец птицы Феникс.
Калмыков – подзаборная Майя Плисецкая, ненаёбная птица, а не фальшивка в лофте!
Болтали, что ему в пятидесятые годы Пикассо послал письмо с предложением обмениваться работами.
Скорее всего, брехня, а может и нет.
В любом случае Пикассо по сравнению с ним – пузатый, гладкий и умный хомяк, держащий за щекой весь Лувр.
А Сергей Иванович висел пушинкой в воздухе, дрожал стрекозой. Облетал одуванчиком. Блеял и вонял козой. Дрочил на Данаю и Лукрецию – и они ему по утрам живьём являлись и все свои щели показывали!
А сам он был похож на старую ведьму – кисть вместо метлы.
Обтруханным калмыком и стоптанным каблуком он был.
А всё равно: одалиски райские его, вонючего дервиша, веерами опахивали.
Всю свою жизнь Калмыков оставался парашей и парией.
Зато он якшался в парковых сортирах с сатирами, а на азийских базарах – с Агарями.
А «реальность»?
В 1910-е годы Калмыков С.И. учился в Москве у К.Ф. Юона. Потом в Петербурге – у Добужинского и Петрова-Водкина. Его учителя были занудными домашними доброжелателями рядом с ним – юным бездомным факиром.
Он самозабвенно припадал к филигранному соску югендштиля в пику папаше Репину.
Впрочем, у него все стили модернизма переплавлены в его собственное рукоблудие. Он – гримасничающий, дурной, с ломающимся голосом, резкими жестами, сутулый и смутный.
А стили брал, чтоб над ними куражиться и извиваться в экстазе и самозабвении.
В начале 20-х годов он в Москве увидел Маяковского с полированной тростью в руке, вскочившего на извозчика.
Ему понравился этот люмпен-денди, он им залюбовался (и писал об этом в своём дневнике).
А жил он тогда в захолустном Оренбурге и малевал афиши для цирка.
Как и Владимир с его флейтой-позвоночником, Сергей явился в мир жонглёром и канатоходцем, но пролетарским певцом не стал. Зато шёл по невидимой, но отчётливой линии, проведённой для него Рафаэлем – не автором «Сикстинской мадонны», а героем «Шагреневой кожи».
Шёл по ниточке, приплясывая.
И куда, как вы думаете?
А как всякий настоящий художник: за своим Образом, который вёл его к неминуемой катастрофе.
А какой же это был Образ?
А такой: смутный, блудный.
Женственно-насекомый.
Смертельно опасный образ – богомол этакий с горбом лобка и комком кудрей. Стрекоза-егоза с тонким торсом и острым ворсом.
Длинноногая тощая Незнакомка с мутными каплями из промежности, с глазами осы, с запахом лисы, с сиськами козы – в соломенной шляпке с терракотовыми фруктами: вот калмыковский образ.
В дневниках его много воплей в честь этой красавицы, словно сошедшей с листа Фелисьена Ропса, с узким мучительным следком Аполлинарии Сусловой, которую наш кавалер де Грие лобызал издалека, при явлении которой стыл и ныл, как старик Карамазов, и молился, как Бердслей пред иконой Лисистраты, и мычал, как дворник Герасим…
Потом эту Муму поглотили воды вечности…
В 30-е годы Калмыков попал в Алма-Ату, столицу Казахстана.
Нанялся декоратором в Театр оперы и балета имени Абая, где и кормился лет двадцать.
Здесь он по ночам перешивал себе костюмы из театрального гардероба, добиваясь особой яркости и пышности, чтоб его заметил из космоса Леонардо да Винчи и пригласил на ужин.
Калмыков мало общался с современниками, зато тайно обнимал Тинторетто, залезал пальцем в промежность Сусанны.
Он сгрёб весь духовный хлеб себе в склеп и радовался, как анахорет.
Он пребывал в СССР на планете Венера.
А однажды потерял работу в театре и стал жить на крошечную пенсию, опьяняясь нищетой и заброшенностью, ибо верил, что так и подобает гению.
Он и был им, он – не вы.
Говорят, питался этот старик в основном молоком да хлебом, а ютился в комнатёнке, где вместо мебели лежали кипы газет. То он из них соорудит кресло, то кровать – почище всякого конструктивиста.
Рисовал же на мятой бумаге, попорченных холстах, старых клеёнках, найденных на дворе картонках, картах, обёрточной бумаге, и доводил свою живопись до состояния пузырчатого клея, сгнившего йода, жжёного сахара, засохшей крови, застарелой зелёнки, втёртой в ладонь полыни, больничных помоев, змеиной кожи, старушечьих трусов, жабьей икры.
Образы создавал потешные, кромешные, обольстительные, мучительные, похабные, дряблые, иссохшие, заглохшие, искусственные, насильственные, раболепные, непотребные, кликушеские, исходящие малафьёй и святым духом, паршивые, избыточные, мускулистые, очаровательные, любительские, запутанные, изощрённые, театральные, девчачьи, любострастные, взвинченные, издёрганные.
Жизнь и искусство Калмыков не различал и в обеих сферах предпочитал иллюзорное, вздорное, экстравагантное, распоясанное, кладбищенское, лунное, голое, экзальтированное, недодуманное, смехотворное, старушечье, фантазматическое и подростковое.
Был он, одним словом, как Игитур или Фаустроль, как Плюм или Лоплоп, как Щелкунчик или как гоголевский ублюдок: подвержен брехне, хвастовству, самоопьянению, многословной бессмыслице, возгласам, блеянью, скрытности, безмолвию, животности и бескорыстному артистическому паясничанью.
Ну а вы, нынешние…
Ну какие вы-то артисты?
Вы – со своими опасениями и оглядками… Со своей осторожностью, мобильными телефончиками… Со всеми вашими мягкими кончиками, коммуникационными сетями, проторёнными путями… Со своей этой похабной международной инфраструктурой, журнальной макулатурой, документированными перформансами, бонусами, конкуренциями и конкурсами…. Со всеми этими коммерческими граффитистами, литургическими пиздами, смертоносными кураторами, интернетовскими навигаторами…
Вы – со своими тусклыми интригами и в кармане фигами… С трусливыми печёнками, зарубежными гонками, вежливым жлобством, непроходимым холопством…
Вы – с вашим послушным остолопством, тоскливыми сборищами, тощим остроумием, блядским скудоумием, отсутствием воображения, недостатком кипения, взрослой недоброжелательностью, позорной старательностью…
Вы – с базарной хитростью, чванством и куриным приличием…
Какие вы, к чёрту, художники?
Посмотрите-ка лучше на эту блаженную тень: вот!
Сергей!
Иванович!
Калмыков!
Из пыльной Алма-Аты.
Бешеный эклектик, дважды-два-эпилептик…
Говна летописец, древнегреческий вазописец (на осколках вазы)…
Сновидец, сочащийся липкими мутными струями.
Востроносый маньерист и служитель Аполлона Опустошённого.
Балбес и кудесник!
Ну? Ясно теперь?
Можете вы у него хоть чуть-чуть поучиться?
Нет? Не можете?
Он ведь странный был, а вы – нет.
На него детям хотелось смотреть во все глаза, а на вас – нет.
В конце концов он, не спавший с женщинами, но изнурённый вечными сношениями с образами, впал в сумеречное состояние и потерял всякое чувство реальности.
Изголодался, износился окончательно, состарился, высох, стал похож на грязную мумию.
Заболел дизентерией и загадил свои холсты и газеты.
По одной версии, так и умер на этих газетах – в нечистотах, в одиночестве.
По другой же, попал в местную психиатрическую больницу, уже снабжённую музейчиком душевнобольных.
Там и скончался.
После его смерти соседи выкинули его творения на помойку, откуда их забрал в своё собрание главврач психбольницы профессор Гонопольский.
Прямо-таки образцовая историйка об отверженном нищем художнике, не правда ли?
Сейчас из него, калмыка безземельного, делают великого русского художника, а на деле он – мучительнейшая и сладчайшая нить беспризорной падучей звезды: творчества-в-запустении.
Он не удосужился создать свою «манеру», «поэтику», «эстетику», «метод».
Он питался отбросами систем и ценностей и из них творил божественную чепуху.
Бабочкой он был в искусстве, мотыльком с чешуйчатыми драконьими крыльями и паршивой пыльцой – бабочкой, а не музейным работником.
Идите вы отсюда на хуй, торговцы признанием и государственными прозвищами.
И оставьте Сергея Калмыкова, кавалера ордена Мухи, нам – мальцам и антидельцам, которые лучше в нём разбираются и не испоганят собственной важностью.
Он подарил нам, деткам, узор бухарского уленшпигеля и памфалона.
Он оставил нам свою безвременную ошибку.
А вот второе моё воспоминание о любимом художнике.
В Алма-Ате на широкой асфальтовой площади стоял могущественный и подлый Дом правительства. Он был с византийскими колоннами.
А по бокам его били струями в небо четыре гранитно-бронзовых фонтана. Окружены они были кустами благоухающей сирени.
И всё это – под васильковым небом, в солнечной тёплой атмосфере, в незапамятные Средние века в Средней Азии.
В один из этих фонтанов граждане пристрастились бросать мелкие монеты – на счастье.
А мальчишки эти монеты из фонтана вылавливали и прикарманивали. Это составляло ихнее счастье, тоже ненадёжное.
Как-то в жаркий полдень я в полном одиночестве залез в тот счастливый фонтан и увидел в нём медные копейки – на крем-брюле.
Но тут я поднял голову, и вот: Калмыков в тяжёлом промасленном плаще и засученных штанах стоит предо мной в воде и тоже ищет.
Древние бархаты его поникли, набухли, а лицо было тёмное, исхудалое.
Показался он мне в первый момент страшен, как прокажённый.
Однако заметив моё чрезвычайное волнение, он приосанился и скинул с плеч свою хламиду, бросил её на край фонтана.
Теперь он стоял передо мной голый по пояс, нисколько не смущаясь своего тощего бледного тела. А я в те времена страшно стеснялся своего, да и сейчас стесняюсь.
В следующую минуту гений искусства уже лез на каменное возвышенье фонтана – прямо туда, откуда взвивались в синеву роскошные струи.
Он был ловок и проворен – я и сейчас вижу его рёбра, хребет.
Вскоре старик стоял наверху в патрицианской позе, с чеканно поднятым к солнцу профилем Вельзевула.
Мощная струя, извиваясь, почти сбивала его с ног, но он держался.
Это было великолепное, архаическое видение – водяной Лаокоон!
И всё только для меня!
Таким и должно быть истинное Событие.
А теперь третье и финальное воспоминание.
Я забрёл в сосновый парк и сел на скамейку.
Калмыков умер в 1967-м году, значит, мне никак не больше десяти.
И я сижу, погружённый в незрелую грёзу.
И тут опять вдруг вижу его, художника моего новобрачного, на соседней скамейке.
Он рисует что-то на бумаге графитным карандашом.
А рядом с ним лежит странная круговидная лоскутная сума, которую он носил на перевязи через плечо, совсем как странник из книги схимонаха Илариона «На горах Кавказа».
И тут вдруг, как в сахарнопудренной сказке, идут мимо две чернобровые цыганки – большая в шали и крошечная цветастая девочка.
У большой тоже есть сума на боку, а в руке – бутыль.
Молочная то была бутылка – стеклянная, литровая.
И обе цыганки пьют на ходу молоко из горлышка.
И солнце светит.
И приближаются эти цыганки к скамейке оборванца-гения, которого ни НКВД не прикончило, ни Союз художников не изнасиловал, ни слава пошлая не сгубила.
И тут Калмыков тоже увидел эту бутыль. И вот бросил он рисовать, залез рукой в свою холщовую сумку и достал из неё не что иное, как резиновую длинную соску – были такие когда-то: жёлтые, вроде презерватива.
И он протянул эту соску большой цыганке: мол, надень на бутыль – будет удобнее пить.
А она взяла её и бросила в траву.
И вместо девочки эту соску стали сосать муравьи.
Так они друг друга признали – калмык и цыганки.
Тут сладкой сказочке и конец.
А сейчас я вот что подумал: какой же он был несчастный, этот гений!
Куда же завёл его этот Образ длинноногой мухи-блядушки, стрекозы-девчушки, мучивший его с младых ногтей?
Как беспросветны его картины!
Как беспощадна и злорадна судьба!
Голова его превратилась в нечто вроде стеклянной затуманенной тары, где образы и символы мировой культуры замариновались, скукожились, иссохли, превратились в коричневые крендельки и пропитанные хлороформом отходы!
И эти-то образы кромешные он таскал в себе, вынашивал и выхаживал, а потом страстно и уныло переносил на холсты, силясь вдохнуть в них жизнь цветуще-поникшего сада, тенистого парка-склепа, чудесного закоулка-погоста, катакомбы-бомбоубежища, захоронения тайного и постыдного!
А лучше бы он не силился, не бесновался, а спрятался, мальчишка, в жасминовых кустах да глядел на муравьёв и на пятнистых волосатых гусениц, и сосал мёд из цветочков махровых, и кушал пушистые незрелые персики, сорванные воровской рукой.
И пусть бы опасные образы остались на внутренней стороне его морщинистых век, а глаза бы всё смотрели на снежные хрящеватые горы, на верхушки пирамидальных тополей, на цветущие яблони да в журчащие арыки!
И пусть бы не было конвульсий изломанных линий на картоне, толчеи слов в дневниках, лихорадочных жестов на площади – всего этого тошного озноба искусства, страшной и пустоватой враждебности, исходящей из сырой пещеры одинокого испепеляющего творчества!
Но нет, всё уже случилось и закончилось.
Век-живодёр заживо рвал кожу с боков и ляжек, судьба била головой об стену, истоптались в скитаньях и бегствах подошвы и пятки, театр оперы и балета извалял мозги, тело изворочилось на лежанке из старых газет, смерть-афродита показала стариковский анус, врач Гонопольский расстелил простыни в психушке, картины-клеёнки попали в мавзолеи-музеи, искусствоведы строчат грубые, непристойные абзацы…
Так?
Так, да не так.
Ведь не всё ещё потеряно: ведь увидит же какая-нибудь ласковая и стойкая девочка холст обалдевшего мастера, обязательно увидит – и встрепенётся её воображение, и полетит она на крыльях обожания к новой вольности, и оживут, преобразятся образы поруганной красоты и замаранной непокорности, эти вот смутные образы, которые склеивал Сергей Иванович Калмыков в своей комнатёнке…
И станут эти образы в голове мальчишки или девчушки первозданно прекрасными и совершенно, умопомрачительно непокорными.
И будет мальчишка жив этими образами, и жизнь его будет артистична и неуправляема до великолепия.
Да?
Или – нет?
Стариковское вино Исаака Иткинда
Однажды, когда мне было лет десять, отец посадил меня в такси и повёз на окраину города.
Там были пустыри, сады.
То, что я пишу, – это, конечно, смесь разных припоминаний-палимпсестов, иначе и быть не может.
Стояли домики, фруктовые деревья, косые заборы.
Из машины мы вышли не на асфальт, а в грязь.
Пахло дровяным дымом, потому что мне нравится этот запах, и я хочу, чтобы Алма-Ата моей памяти пахла именно так.
На самом-то деле она ещё пахла паклей, пылью, школьным туалетом и какими-то соплями.
Дом был белый, одноэтажный.
Отец отворил калитку, и мы очутились во владениях старца Исаака Яковлевича Иткинда – скульптора.
Мой отец откуда-то его знал и фотографировал.
У Иткинда было лицо младенца Иисуса, которого постигла судьба старика Лира.
Ещё он был Мюнхгаузеном, ибо обожал врать: без вранья скучно жить. Его враньё было безотказным средством обогащения жизни.
Иткинд занимался изготовлением масок. Он их вырезал из карагача.
Карагач был самым распространённым деревом в Алма-Ате.
Может быть, Иткинд резал и из другого дерева, не знаю.
В конце, когда Иткинду стукнуло почти сто лет, сил на скульптуру уже не было. Тогда за него резал молодой человек, помощник, имя которого мне неизвестно. Иткинд только показывал парню, где и как резать. Говорить и врать к этому времени он тоже почти разучился, только жевал губами.
Иткинд резал маски Пушкина, Моцарта, Паганини, мудрецов, Гёте, пророков, молодых женщин, всемирных гениев, фашистов, свои собственные маски, маски Джамбула и Берты фон Зутнер, каких-то казахских писателей и старичков.
Всё это были посмертные маски.
Как известно, все маски – маски предков. Но значения их варьируются. Маски предков могут внушать священный трепет, почитание, могут служить иконами и ликами.
Секрет масок Иткинда заключался в том, что они всегда хихикали – иногда явно, а иногда скрыто.
Его маски указывали вовсе не на посмертное величие, а на детскую радость и благодать.
У Иткинда было чёткое понимание, что все заботы, треволнения и тяготы жизни – это лишь потрескавшаяся скорлупа. А под ней – чистое и гладкое, как яйцо, лицо детскости.
Эту благодать можно в жизни и не заметить, но задача искусства – её выявить.
Вот он и ваял её, выявляя под всеми личинами.
В дверях нас встретила жена Иткинда – красавица Соня. Она улыбалась и ворковала.
Соне было 60 лет, а Иткинду почти 100.
Но он считал, что Соня для него старовата.
Он, как Марсель Дюшан, любил юных невест и наслаждался видом молоденьких женщин. Он хотел даже поскорее умереть и очутиться в Раю, чтобы там было как можно больше голых девушек и деревьев, из которых можно резать маски.
Иткинд вообще, как и Варлам Шаламов, считал, что женщины лучше, сильнее мужчин. В них индивидуально-химерическое проявляется меньше, а беспричинная радость открывается легче. Нужно только быть с ними поласковее.
Иткинд любил, когда женщины раздеваются, и считал, что и они получают от этого удовольствие.
Студия художника – это место для раздевания, говорил он.
Сам Иткинд ваял наготу в лицах.
А смотреть на женское раздевание в чужих мастерских он, по его словам, обожал.
Он рассказывал, что однажды у скульптора Сергея Конёнкова видел невообразимо красивую голую женщину со спины – она была вылитая Венера Веласкеса!
Великолепным достижением Иткинда было то, что он преодолел или вовсе проигнорировал Родена.
Огюст Роден, как справедливо заметил Владимир Иванович Марков (Матвей) был посредственным скульптором. Он старался следовать природе, но природа-то ваяла лучше Родена.
А вот негры с их масками были блистательны. Они занимались изощрённейшим бриколажем из подручных вещей.
Иткинд, конечно, не был негром, но зато он был греком и ассирийцем, то есть ухитрился существовать как бы до роденовской интерпретации классики.
Жизнь Исаака Иткинда была замечательна.
Он родился в 1871 году в Дикарке возле Сморгони Виленской губернии, в еврейской хате.
Его отец и дед были хасидскими раввинами и читали Талмуд даже в полной темноте.
Отец послал Исаака в хедер. Подростком он подрабатывал, читая вслух Тору в богатых семьях.
Он мог бы тоже раввинствовать, но стал переплётчиком книг, и до 30 лет, уже отцом семейства, работал в захолустной типографии.
Там-то ему в руки и попала книжка о скульпторе Антокольском.
Разглядывая картинки, Иткинд захотел стать ваятелем.
Он стал лепить и резать у себя дома, так что в Сморгони думали, что он спятил.
Но как-то Иткинда посетил писатель Перец Гиршбейн, который восхитился работами самоучки и написал в газету статью о молодом даровании.
Иткинд поступил в художественное училище в Вильно, где подружился со своим сверстником польским профессором живописи Фердинандом Рушицом, который и взялся за его обучение.
В 1912 году Иткинд оказался в московской Школе ваяния и зодчества, в студии скульптора С.М. Волнухина.
Ему, студенту, было уже 40 лет!
Уже тогда любимым материалом Иткинда стало дерево, потому что оно было телесно-тёплым, вкусно пахло и, работая с ним, можно было забыть о голоде. А от камня ему хотелось кашлять.
Как выживал Иткинд в Москве?
Евреям, за редким исключением, жить в столицах не полагалось. Но в число исключительных лиц иудейской веры, которые имели право на проживание в Москве, входили проститутки.
Две еврейские девушки с жёлтыми билетами приютили Иткинда, кормили его и баловали. Однако, по его рассказам, это продлилось недолго.
Подошло время принудительного медицинского осмотра, которому подвергались все представительницы древнейшей профессии.
И тут выяснилось, что обе девушки – девственницы!
Обманщиц выставили из Москвы, а Иткинд остался.
У него нашлись новые покровительницы.
Он стал жить в доме трёх сестёр баронесс Розенек. Туда же вскоре перебрался и его сын Израиль.
Проблема незаконного проживания двух евреев в столице была решена сёстрами путём ежемесячной выплаты дворнику нескольких ассигнаций за недоносительство.
Позже Иткинд развёлся со своей первой женой и женился на одной из сестёр – Ф. Розенек.
В 1910-е Иткинд получал денежную помощь от известных скульпторов Паоло Трубецкого и Анны Голубкиной. Тогда же он подружился с Е. Вахтанговым, О. Книппер-Чеховой, Л. Пастернаком и С. Конёнковым.
Резчик масок был весёлым собеседником, хоть и имел чудовищный местечковый акцент.
Он стал завсегдатаем артистического кабачка «Стойло Пегаса» и «Кафе поэтов», где познакомился с Маяковским, Каменским, Бурлюком и Жоржем Якуловым.
А потом была революция.
В 1918 году М. Горький организовал первую персональную выставку Иткинда в Москве.
В этом же году Иткинд вместе с Шагалом преподавал в подмосковной трудовой школе-колонии «3-й Интернационал», где содержались еврейские беспризорники (в Малаховке).
С детьми он лепил из глины статуэтки сатиров и нимф, рассказывал хасидские притчи, колол дрова и варил перловку.
Он не хотел в Париж, как Шагал. Ему нравилась Малаховка.
В 20-е годы Иткинд стал известным деятелем искусств и, по его словам, часто обедал с Маяковским, Есениным, Горьким, Мейерхольдом и Бабелем.
Из художников он знал Альтмана, Фаворского, Александра Шевченко, Эрьзю.
И всё же, несмотря на успех, Иткинд остался неустроенным человеком, бродяжкой, не имел приличного костюма, постоянно терял документы, частенько не знал, где будет ночевать, а от неприятностей спасался благодаря дружбе и покровительству женщин, которые всегда ему симпатизировали.
В 1926 году у Иткинда открылось кровохаркание и по ходатайству Михоэлса его отправили в Крым подлечиться.
В Ялте у него случился роман с заведующей столовой, и он стал лепить скульптуры из теста, выставляя их в витрине заведения.
Потом на некоторое время он осел в Симферополе, но должен был бежать оттуда при следующих обстоятельствах.
Кто-то из его доброжелателей позволил ему ночевать и работать в доме, где помещалось местное отделение ГПУ.
Однажды Иткинд заснул на тюфяке, не погасив папиросу. Тюфяк загорелся, вспыхнули занавески, начался пожар.
В последнюю минуту Иткинд выскочил из пылающего здания, но все его творения погибли.
Он ухитрился сесть на поезд и прибыл в Ленинград.
С 1927 года Иткинд – на невских набережных.
Поэт Николай Тихонов дарит ему полушубок, завязалось знакомство с Заболоцким.
Иткинд, когда мог, участвовал в художественной жизни Ленинграда. Он создал скульптурные портреты Спартака, Гарибальди, Ленина, Лассаля, Маркса, Пушкина, Толстого, Тараса Шевченко, Гейне.
О нём писали статьи, он дружил с артистом Качаловым и графиком Семёновым-Кипрским, а его вещи приобрёл Русский музей!
Из-за границы приезжали любители искусства, покупали работы Иткинда.
Алексей Толстой записал устные рассказы Иткинда и напечатал их в журнале «Звезда».
О нём одобрительно отзывался Киров!
В 1937 году Иткинда приглашают в Государственный Эрмитаж на важную юбилейную выставку, посвящённую столетию со дня смерти А.С. Пушкина.
Через несколько дней после открытия выставки Иткинда арестовывают прямо на улице и доставляют в Большой дом на Литейном.
Ему предъявляют обвинение в шпионаже и передаче Японии секретных сведений о советском Балтийском флоте.
Ваятель масок был помещён в Кресты, где ему выбили зубы, сломали рёбра и отбили барабанные перепонки.
Однако, так и не добившись никаких признаний, сослали в Казахстан.
По слухам, Иткинда спасло то, что во время допросов он говорил только на идиш и отказался подписывать какие-либо бумаги. Сам Иткинд считал, что выжил потому, что в подвалах НКВД лепил из хлебного пайка фигурки зверей, а потом съедал их. Это было более питательно.
Следователь бил Иткинда по бокам и голове. В результате резчик масок почти потерял слух и еле передвигался.
После девяти месяцев заключения Иткинда выслали в посёлок Зеренду Кокчетавской области.
Так начался последний этап сновидческой мениппеи мальчика из Дикарки.
В Зеренде умный начальник не дал погибнуть Иткинду.
Начальник понял, что перед ним – не японский шпион, не вероломный враг народа, а беззлобный, живучий, легконравный, не потерявший юмора детский старик с искуснейшими пальцами и ясной головой.
Начальник помог Иткинду выжить, а в конце войны отвёз старика в Алма-Ату.
Вскоре поползли по городу слухи, что где-то на окраине ютится в землянке седобородый карлик, который таскает к себе в яму корни и пни, и делает из них головы неописуемой красоты.
И кто-то даже говорил, что это – Бранкузи!
Исаак Яковлевич жил в своей землянке ещё лет десять (или это были враки).
Он всё ваял и ваял маски, и уже ходили к нему почитатели, художники, собиратели и интеллигенты.
А потом Иткинд нашёл свою Соню, и стали они жить вместе в белом домике, а во дворе у него была мастерская, заваленная деревяшками.
Когда мы с отцом вошли, Иткинд спал.
Он почти всегда уже спал, ибо состарился.
Но стоило Соне к нему притронуться, ваятель открыл глаза, и сна в них не было.
Жив был этот столетний старец – жив и оживлён на удивление.
Он сказал:
– Дай, Соня, нам сладкого винца.
Соня вышла и принесла стаканы с подслащённой водой.
Иткинд не мог пить вино, но любил развлекать себя этой игрой.
Я не припомню, чтобы он показывал нам свои произведения.
От визита у меня осталось самое беззаботное ощущение.
Иткинд разговаривал крайне неразборчиво, на какой-то смеси идиша и русского.
А голос у него был совершенно особенный – вроде шарманки. И ещё это был голос гнома, который живёт себе в своём собственном мире, где нету места суете и мракобесию.
Откуда же возникало такое ощущение?
В 1989-м году Нина Берберова приехала в Советский Союз, посетила Москву и Ленинград. Она заметила, что поразительным свойством советских интеллигентов – тех, с кем она встречалась, – является то, что они охотнее беседуют об отношениях Пушкина с Кюхельбекером, или о безумии Батюшкова, чем о каких-нибудь нынешних делах. Это, сказала Берберова, кардинально отличает их от её западных знакомых. В Америке об Эдгаре По или Уитмене говорят только историки литературы или поэты, то есть профессионалы. А в Ленинграде люди умеют жить прошлым.
Невероятное жизнелюбие, добросердечие Исаака Иткинда, возможно, происходило из того же источника. Он помнил Библию, знал стихи Пушкина, Некрасова, Блока. Он пересказывал хасидские легенды и истории Шолом-Алейхема. Он сочинял свои собственные байки. Таким способом он сбегал из настоящего в мир чистых ликов и эмблем, в компанию славных людей и ясных форм, где и предпочитал оставаться. С тенями предков было интереснее, уютнее и надёжнее, чем с сомнительными современниками. Как сказал Клее: «Мне хорошо с мёртвыми и нерождёнными».
Отсюда – ход к маскам, понимание скульптуры как изготовления улыбчивых ликов. Иткинд не был экспериментатором или искателем новых пластических форм. Он был осколком древней традиции благодатного масковаяния. Общаться с предками радостно и умно, а остальное не имеет значения. О палачах и их харях можно забыть.
Павел Зальцман и Ларисины ступни
Ходил по улицам Алма-Аты Павел Яковлевич Зальцман – элегантный, стройный, посторонний.
Он был намного приличней Калмыкова и Иткинда, но всё же по справедливости считался третьим и последним осколком той мощной эры, когда по планете ещё ходили кентавры, рапсоды и Анны Пророчицы.
Если у Калмыкова штаны были в таких широких складках, что если б их раздуть, то в них можно было бы поместить весь модернизм с окрестностями, то брюки Зальцмана заключали в себе целую филоновскую школу с далеко разбросанными юртами.
Художник Зальцман родился за два года до Первой мировой войны и поэтому на ней не воевал.
Зато в конце 20-х годов он вместе с папой, мамой и молодой женой обосновался в Ленинграде, где стал учеником Павла Николаевича Филонова и участником группы «Мастера аналитического искусства».
Там он научился рисовать как Альтдорфер, а хорош собой был как Кэри Грант.
Через Алису Порет и Татьяну Глебову юный Зальцман познакомился с Хармсом, Введенским и другими обэриу- тами – и посещал их баснословные собрания.
Одновременно Павел Яковлевич работал художником на киностудии «Ленфильм» и сотрудничал с известными тогда советскими режиссёрами – братьями Васильевыми, И. Траубергом, А. Ивановым.
Он ухитрился сидеть на двух стульях сразу: на авангардистском, подпольном и опасном, и на куда более надёжном – сработанном советской кинопромышленностью.
В Алма-Ату Зальцман попал в 1942-м году, когда туда эвакуировали «Ленфильм», и остался в городе навсегда, как скрытый посол иной, более продвинутой цивилизации. Он, собственно, и был дипломатом – как в искусстве, так и в жизни.
После войны Зальцман получил должность художника-постановщика на Казахфильме, но при этом не оставил живопись и графику, писал в стол стихи и прозу.
Он даже преподавал историю искусства в нескольких учебных заведениях Алма-Аты и состоял членом Союза художников Казахской ССР.
Зальцман был местным мифом, но по мифическому статусу уступал Калмыкову-Ра и Иткинду-Аврааму. Он был вроде как Иосиф Прекрасный.
Однажды в летнем кафе «Акку» я пил рислинг с девушкой Асей.
Лицо Аси было подобно луне, а руки – струйкам табачного дыма. Она напоминала гравюры Хокусая.
Было мне тогда лет шестнадцать, и я от неловкости и смущения истекал всеми соками: потом, спермой, гнойными прыщами, слюной. Но с Асей нас связывала самая целомудренная дружба и сугубо интеллектуальные отношения.
Она удивительным образом соединяла в себе зрелую матрону и маленькую девочку, а курила «Беломорканал».
Чрезвычайно начитанная и рафинированная, Ася дружила с самыми интересными жителями Алма-Аты и распространяла среди них самиздатовскую литературу – Мандельштама, Пастернака, Зинаиду Гиппиус, Гумилёва, Цветаеву, Клюева, Розанова, Бердяева.
Она была близкой знакомой Зальцмана и очень этим гордилась. В её однокомнатной квартире, подаренной ей родителями, на стенке висели две обрамлённые работы этого замечательного художника.
Она угощала меня грузинским вином и армянским коньяком, а я стащил из дома китайскую статуэтку хихикающего мудреца и подарил ей в знак моего глубочайшего восхищения.
Конечно, я просил Асю познакомить меня с Зальцманом, но она упрямилась. Сказала, что это очень деликатное дело.
Павел Яковлевич трудно сходится с людьми и имеет крайне узкий круг друзей и собеседников.
Впрочем, я и сам не слишком рвался в этот круг.
В то время я уже дружил с подвально-маргинальными художниками, которые были на двадцать лет старше меня и которых я очень уважал.
Эти люди не ценили творчество П.Я. Зальцмана.
Кстати, примерно в это же время в Алма-Ате вышла книга о Павле Яковлевиче – альбом с репродукциями его графики, снабжённый вступительной статьёй какого-то искусствоведа.
Я внимательно изучил репродукции, и у меня осталось двойственное впечатление.
С одной стороны, работы поражали своей продуманностью и сделанностью. Больше всего мне пришлись по душе изображения злых анонимных персонажей на фоне городских руин и кособоких домишек. Это были портреты «полых людей», полускотов-полумумий, духовных выкидышей.
Они заставляли вспомнить не только вещи Филонова, но и Энсора, и Макса Бекмана, и Макса Клингера, например.
С другой стороны, я решил, что зальцмановские работы – конформистские.
Было в них что-то уступчивое, соглашательское, что-то подчинённое официальному искусству, его языку и эстетике.
А как же иначе мог быть напечатан этот альбом?
Калмыковские монографии ведь не выходили!
Может, Зальцман никогда не преодолел академизм?
Может быть, он всё-таки советский, то есть приспособившийся, художник?
Я презирал и отрицал советское искусство!
В это время я боготворил Сутина и открыл Джорджо де Кирико.
П.Я. Зальцман оставался на периферии моих интересов.
Но вот однажды Ася позвонила и сказала: мы можем посетить Павла Яковлевича.
Только, предупредила она, необходима бутылка токайского.
Она хотела, чтобы я украл бутылку токайского вина из родительского шкафа – и я, конечно, украл, а как же иначе.
Однако перед самым визитом, буквально за час, возникло одно осложнение.
Дело в том, что я в то время был влюблён в Ларису.
Лариса ни в коем случае не считалась интеллектуалкой и мало интересовалась искусством.
Она была нимфоманкой.
Ася и Лариса были несовместимы. Зато при одной мысли о Ларисе у меня сразу вставал член. Даже не вставал, а взлетал.
Я тогда встречался и ебался с Ларисой везде, в любое время.
Это было настоящим безумием.
Мы делали это у неё дома (она жила со своей одинокой мамой), у меня дома, в подъездах, в арках, в нишах, на чердаках, в подвалах, в кино (на утренних сеансах), в парке, в общественном туалете, в бане, в кустах, на пустырях, в рощицах, в микрорайонах, даже в троллейбусе!
У неё был удивительный цветочный запах во время секса, переходящий в острый звериный аромат.
Она жила с матерью в бараке, в крайне неопрятном, рабочем районе.
Каждый день я отправлялся туда на автобусе – и мы целовались, раздевались, совокуплялись. В рот, в вульву, в анус, в подмышки, в пупок…
Я бредил Ларисой, вечно искал её, но боялся, что она мне изменяет.
Её аппетит в любовных делах был неописуем.
Она могла разговаривать в окошко с соседкой, а я её в это время ебал за занавесками сзади.
Но больше всего Лариса любила не коитус, не анальные игры, не минет, не куннилингус – не то и не это.
Больше всего она любила дрочить и выцеживать мой член своими ступнями.
При этом она тоже кончала.
Мы ложились на пол друг против друга, голые, полуобморочные, как собаки-архангелы, и она обхватывала мой пенис своими бледными ступнями с длинными ступенчатыми пальцами, так что от одного взгляда на них у меня рот переполнялся слюной, а член – спермой.
Пенис мой становился древнеегипетским жезлом, кривым вздрагивающим посохом, фиолетовым ужасающим фаллом.
И она массировала эту палку, нежничала с ней, отделывала её по-своему.
Я же в это время смотрел на её разбросанные юные груди, плоский живот с выпученным пупком, на её прикрытые очи с жёсткими ресницами, на её приоткрытый, распустившийся, как роза, рот…
Так вот: эта сладострастнейшая Лариса неожиданно объявилась за час до нашего с Асей визита к Павлу Яковлевичу Зальцману.
И я, конечно, не мог, да и не хотел от неё отделаться.
У меня сразу встал член, и я уже не мог соображать…
Ася, само собой, пришла в ярость.
Она немало презирала Ларису, считала её низшим существом и всячески избегала. И разумеется, она и представить себе не могла, что ей придётся вести эту тварь к гению Зальцману.
Но как-то так случилось, я уж не помню в деталях, что мы всё равно отправились к прославленному художнику втроём – и с бутылкой токайского.
Зальцман жил в самом центре, в хорошем районе. В доме, построенном японскими военнопленными. Этот дом, кстати, так и назывался – Дом артистов. Там жили актёры и писатели.
Ася позвонила, и он открыл – красивый, моложавый, стройный, с волнистыми седыми волосами и яркими глазами.
Одет он был тщательно – галстук, голубая сорочка и пиджак, а на ногах – какие-то изящные домашние туфли, отнюдь не шлёпанцы.
Комната, в которой мы оказались, источала дух благородного аскетизма. Горела люстра.
На красивом столике стояло небольшое, но изысканное угощение.
Вспоминаю блюдо с холодными закусками, вспоминаю тарелку с эклерами.
Павел Яковлевич был сдержан, приветлив.
Ася играла роль приближённого человека, но без малейшей вульгарности.
Зальцман оказался очень умелым, тонким собеседником.
Завязался разговор о поэзии.
Я страшно смущался, потел и помалкивал. Мычал что-то абсолютно невразумительное.
Лариса сидела с бокалом в руке, слушала.
Говорили только Зальцман и Ася.
Вино было выпито, на столике возникла бутылка коньяка.
Ася цитировала что-то из раннего Заболоцкого.
Зальцман в ответ прочитал стихотворение Вагинова.
Ася поставила музыку – Вивальди.
Помню ещё, что Павел Яковлевич вспомнил в разговоре высказывание Т.С. Элиота: мол, было бы очень скучно беседовать с кем-то, кто любит всю поэзию без разбора и исключения.
Речь зашла о личных предпочтениях.
Ася сказала: Клюев, не Есенин.
Вечер выдался приятный, хотя и несколько натянутый, несмотря на выпитое. Я просто не мог не волноваться в присутствии ученика Филонова.
А потом случилось нечто невероятное.
Я не знаю, как это произошло, не помню…
Лариса оказалась сидящей в кресле с совершенно голыми ногами – с этими своими мускулистыми ляжками, коленями, икрами.
И главное: с выставленными на всеобщее обозрение обнажёнными боттичеллиевскими ступнями!
Как это случилось и почему?
Ведь стояла зима, все мы были в чулках, носках, штанах, даже в обуви. Зальцман оказался настолько вежлив, что, вопреки всем советским обычаям, запретил нам снимать сапоги и ботинки.
Как же Лариса вдруг – да босиком?
Для чего она разулась?
Под влиянием выпитого?
Или ради провокации?
Или же её, вакханку, охватил внезапно экстаз?
Я не знаю.
Лариса была существом непредсказуемым.
Что бы там ни было, а мизансцена мгновенно изменилась.
Ася взглянула, побледнела – и ссутулилась. Но это было бы полбеды.
Главное, ушёл в себя Зальцман – резко и невозвратимо.
Он отрешился – как святой или мудрец.
Или спрятался в себя, как улитка.
Он не смотрел уже ни на что, ни на кого. Ни на Асю, ни на меня, ни на столь притягательные, адские, невинные, разнузданные лядвии и лапы Ларисы.
Через минуту он встал и исчез.
С беседой – и со всем вечером – было покончено.
Ася подала мне знак: смываться!
Делить веселье все готовы: никто не хочет грусть делить.
К сожалению, это была моя первая и последняя встреча с замечательным алма-атинским художником.
Позже Ася объяснила мне, из-за чего произошло фиаско.
По её словам, Зальцман не переносил вида голых нижних конечностей – ни мужских, ни женских. Не переносил вида нагих ступней.
Они оскорбляли его эстетическое чувство – так объяснила Ася.
Я принял её объяснение без лишних слов.
Мне это уже было по фигу.
Я всё больше и больше отдалялся от творчества Павла Зальцмана – в сторону более фундаментальных и опасных художественных опытов.
Какой там Зальцман, когда есть его великий учитель Филонов, когда есть «Чёрный квадрат» и Летатлин? Когда есть Хлебников?
Мои страстные, нервные друзья-маргиналы пренебрегали Зальцманом.
Работы Павла Яковлевича всё больше виделись мне выхолощенными, высушенными, принуждёнными…
Сейчас, однако, я думаю иначе.
Важнейшим свойством искусства и всей фигуры Зальцмана является одиночество. Странное и глубокое, это одиночество вытесняет всё остальное. И оно – никакая не поза. В его мире всё видимое становится посторонним и чуждым.
И это очень здорово, это прекрасно, в этом – волшебство!
Он знал и любил Филонова. Но со временем Филонов сделался чужим, и он ушёл от него, а хода назад не было.
Он знал и понимал старое искусство. Но оно осталось позади, где-то там, в юности – и хода назад не было.
Он умел и любил рисовать, но и это умение стало чужим.
Он встречался, разговаривал с людьми, с художниками, но не принадлежал их обществу – был один.
Он не был модернистом.
И к маргиналам он не присоединился.
И к официалам тоже.
Дочь, жена – ну ладно, пусть.
Он писал стихи, книги, но как можно писать в этом чужеродном, пустом мире, а тем более печататься?
Стихи тоже были чужими, пустотными.
Я думаю, Зальцман понимал, что он сам – пустой, полый, как те полые люди, которых он рисовал, как брошенные, опустошённые домики на его чёрно-белых листах. Как все мы.
Зальцман любил героев Т.С. Элиота, которые заполняли свою пустоту каким-то хламом, пошлостью, вульгарностью, вздором. Но эстетическое чутьё Зальцмана не позволяло ему впасть в пошлость, полюбить хлам. Он держал хлам – и себя – под контролем, в строгости. Он был достаточно умён, чтобы умело обращаться с пустотой и хламом. И он был достаточно честен, чтобы признаться себе в собственной пустоте, даже играть с ней.
Мир – весь, полностью – оказался чужим, не его. И себя в этом мире он тоже не узнавал, не ощущал.
Зальцман хорошо передал это отсоединение, эту подступающую пустоту, непричастность.
Это было самое правдивое, самое важное в нём и в его искусстве.
Он это не высосал из пальца, не кокетничал.
Он не изображал стоика.
Он им был.
Он не запутался в отвратительном лживом сабантуе культуры, а держался в сторонке, особняком, этаким советским денди. Он научился жить в своей впадине, выемке, под упавшим листом, как гусеница. Люстра тихо светила в комнате за портьерами.
Ах, поучиться бы у него всем этим нынешним плясунчикам под дудочку! Поучиться бы невключённости, отстранённости. Но они и слышать не хотят про дистанцию, про аскетизм, про отрешённость и неучастие. Они вечно сбиваются в стаи, в тараканьи полчища, и не могут оторваться от своей мушиной вклеенности в коммуникацию. Они не гусеницы. Они – муравьи, поедающие гусеницу. Они ничего не помнят, не ведают, кроме толпы и сутолоки, кроме своей муравьиной запрограммированности, и понятия не имеют, как вести себя в толпе по-шаламовски, как быть в толпе не-толпой – чем-то другим, более странным, особенным.
А он был одиноким, неприсоединившимся художником – Павел Яковлевич Зальцман.
Спрятавшиеся в кусты куклы Михаила Махова
Отец мой, врач-рентгенолог, любил искусство и знал двух-трёх алма-атинских художников.
Одного звали Циркуль, другого – Мастихин.
Они сидели у нас в гостиной и пили арманьяк, привезённый папой из Москвы.
Мама угощала их тортом «Наполеон», который она делала лучше всех.
У мамы была фигура как у Джины Лоллобриджиды, и художники смотрели на её ноги с одобрением.
Был ещё фотограф и график Валентин Григорьев – горбун.
Он рисовал фривольные картинки и фотографировал разные части женского тела – сосок, пупок, волосок.
Однажды я пришёл из школы и вижу: Григорьев сидит за столом, косит глазом.
Он был страшно уродлив – я вздрогнул.
Всем стало неловко.
Не смутился только сам горбун: подошёл ко мне, подал руку, пошутил.
У него были невероятно длинные, красивые пальцы.
А лицо – как у Джакко Макакко.
В нашей квартире имелась неплохая библиотека, в том числе альбомы по искусству, биографии художников. Я обожал иллюстрации.
Доре.
Кукрыниксы.
Конашевич.
Бердслей.
Билибин.
Маврина.
Отличные картинки Николая Ушина к сказкам «Тысячи и одной ночи».
Гравюры Рокуэлла Кента к «Моби Дику».
И ещё «Страшный суд» Ганса Мемлинга в немецкой монографии. Я рассматривал, рассматривал, рассматривал: голые женские и мужские тела в центральной части триптиха, фигура архангела Михаила в рыцарских доспехах, весы, с помощью которых он разделяет блаженных и проклятых.
Эта вещь повергала меня в длительное оцепенение.
Но Гранвиль был лучше всех.
Среди репродукций я выискивал сладострастные изображения голых женщин.
Больше всего возбуждала Олимпия с бархаткой на шее.
И спящая Венера Джорджоне – с пальцами в паху.
В другой раз я пришёл домой и вижу: отец сидит с парнем иконописной наружности. На нём рубашка красная опадает парусом, рукава закатаны, а руки – женские, с матросскими татуировками и браслетами кручёными. Волосы – белокурые, на плечи падают. И во всём облике есть нечто девичье и одновременно монашеское.
Это был художник моей отроческой страсти – Миша Махов, скульптор и рисовальщик. Сутулый, тонкорукий, улыбчивый. С носом Спаса, с голубыми татуировками и такими же очами – словно глядящий на меня с неосвящённой иконы.
Он был крайне застенчив, заикался. И держал себя тихо, как подмастерье – да такой подмастерье, что знает: быть ему великим мастером.
Вскоре после первого Мишиного прихода жильё наше стало наполняться его творениями – мой отец страстно увлёкся Маховым и сделался его собирателем. И Миша тоже: радостно и одержимо трансформировал двухкомнатную нашу квартиру в вертеп, где волнообразные и водорослеподобные скульптуры его сплетались, образовывали туловища зверей, тела дев, торсы героев и завитки духов. Квартира превращалась в полуизбу-полугрот, что приводило меня, любителя кустов и шалашей, в неописуемый восторг.
И сам художник тихо ликовал, часто у нас появлялся и подолгу просиживал – иногда один, а иногда с каким-нибудь приятелем. И всегда они выпивали и разговаривали о творчестве.
В жестах и фигуре Махова было что-то несовременное и очаровательное, больше всего напоминавшее ту сцену из фильма «Андрей Рублёв», где Андрей наблюдает на реке языческий праздник, и прекрасная девка, скинувшая с себя тулуп и оголившаяся, соблазняет монаха. Миша был одновременно и девкой, и Рублёвым. Говоря это, я хочу подчеркнуть сказочную удалённость Махова от окружающего его мира. Он обитал не там, не в советской Алма-Ате, а в оболочке своих девственных представлений о творчестве, красоте, миссии художника. Он мыслил ребячески и плевать хотел на то, что творилось в казахстанском изобразительном искусстве или, к слову, на Западе.
Он был не Эрнст Неизвестный, а Микеланджело местный.
Выпив, Миша спрашивал моего отца:
– А скажите, Давид Моисеевич, ведь я не хуже Иткинда?
И отец сразу соглашался, ибо ни в чём не мог отказать Мише.
В отличие от Иткинда Махов резал не маски – его предметом были куклы.
Куклы отличаются от масок тем, что они предназначены не для почитания или восхищения, а для соблазнения.
Кукол кладут с собой в постель, зацеловывают, обнимают, убаюкивают, шепчутся с ними, заслюнявливают, колотят, пачкают, покрывают ссадинами, выцарапывают им глаза, вырывают волосы, отрывают конечности, раздевают их, ищут гениталии, дают им имена, а потом их меняют, таскают с собой, забывают где-нибудь.
Куклы – это самые интимные дружки. Над живыми друзьями нельзя так измываться, как над куклами. Но куклы также – это возлюбленные, замещение возлюбленных, опаснейшая подмена, ибо если ты заигрался с куклами, то можешь потом и возлюбленную принять за куклу.
Все эти свойства истуканчиков были известны Мише и присутствовали в его куклах.
Михаил Махов обожал вырезать кукол театральных: Арлекина, Пульчинеллу, Коломбину, Фантеску, Панталоне. Резал он и Доктора, Короля Лира, Гамлета, Отелло, Офелию, Джульетту, Бобчинского, Хлестакова, Осипа.
Также Махов любил вырезать из дерева гномов, русалок, тритонов, химер, индейцев, ханов, древнерусских дружинников, кентавров, князя Игоря, Ярославну, Али-Бабу, Бабу-ягу, Ваньку-встаньку, Ивана-царевича, Марью-красу – долгую-косу, носорога, навеянного гравюрой Дюрера, Пиноккио, карликов, ковбоев, викингов.