Вопрос о вещи. Опыты по аналитической антропологии бесплатное чтение
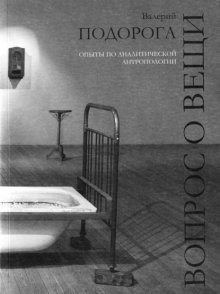
© В.А. Подорога, 2016
© ООО «Издательство Грюндриссе», 2016
Предисловие
Настоящий том примыкает к «Кайросу-I»1, но не является его продолжением. Теперь моя цель – не поиск и собирание кайрос-мгновений в актуальных произведениях искусства, а нечто совсем иное. Нужно пройти достаточно короткий и обрывистый путь, пытаясь на каждой остановке определить смысл того, что мы зовём Вещью. Правда, не стремясь дать исчерпывающее и «строгое» определение. По сути дела, эта работа – движение вокруг понятия вещи с одной-единственной целью – выявить области её существования, там, где она формируется, откуда открыто заявляет о себе, где «скрывается», где претендует на то, чтобы стать именем произведения искусства, и где она ещё настолько неотделима от нашего чувственного, телесно-миметического переживания мира, что мы готовы находить её повсюду, говорить с ней и доверяться ей.
Вопрос остаётся: не является ли вещь именем для безымянного, ведь она нигде не проявляет себя в качестве этого или того предмета опыта? Не остаётся ли вещь именем – неким языковым индексом, указывающим на то, что мы вступаем в область феноменологического описания опыта, где всё ещё может случиться и ничто не названо, и только вещь как имя всех имён господствует над разными предметными областями мысли? В этом вся двусмысленность нашей установки, когда мы пытаемся различать вещи, не понимая или не учитывая весь ход (практику) её применения. Вероятно, вещь относится к таким слепым именам, которыми можно назвать всё что угодно, так, даже назвав «что-то» вещью, мы его не назовём, – названное не изменит ни одно из своих свойств. Поражает усердие и терпение (если не упрямство) великого классика мысли Гегеля, который медленно и кропотливо выстраивает являемость опытного сознания через саму Вещь, по мере того как она наделяется именами, её различающими, но не упраздняющими. И это тот ресурс, которым гордится философская традиция, – мыслить мир, не изменяя его, а только готовя к длительному и глубокому созерцанию, мира (как) абсолютной Вещи. Каждое произведение искусства обладает тем, чем оно воздействует, своим кайросом, или использует эффект изначального отрицательного миметизма для «разрывания» временного потока и перевода его в образ. Кайрос – не просто непосредственно мгновенное воздействие на читателя/зрителя, это ещё и счастливый случай, удача, что именно это произошло, хотя произведение искусства и строится таким образом, чтобы произвести впечатление. Но вопрос отнюдь не снят – состоится ли его «воздействие», будет ли оно кем-то воспринято, тем более пережито? Не станет ли произведение искусства неким заложником своего будущего воздействия? Ведь его существование мы замечаем на границах мгновенного воспоминания длительного забвения. Другими словами, кайрос указывает на временной обрыв, «точку», «пропуски» и «остановки», на процедуры пунктирования, т. е. указывает на то, как эстетическое переживание существует во времени и какой длительностью обладает. Если сказать иначе, то бывают длительности долгие, а бывают краткие, и те, и другие относятся всё-таки к переживанию как следствию восприятия той или иной эстетической информации. Все эти длительности можно отнести к практикам созерцания, и даже те, которые воспринимаются мгновенно, не оставляя времени на переживание. Высказывание Г. Гадамера безупречно: «С временной точки произведение существует только мгновение (т. е. сейчас); “сейчас” оно именно это произведение, и вот его уже нет»2. Время переживания постоянно сокращалось, пока мы не оказались вытесненными в качестве созерцающих, вот тут мы и получили новое искусство, modern art.
Вопрос: какие композиционно-пластические и аналитические средства потребовались, чтобы перейти от исследования длительных форм созерцания к кратким, шокирующе мгновенным, которым не нужна поддержка со стороны воспитанного эстетического чувства. И что понимать здесь под переживанием? Переживание – это то, что остаётся от воздействия на нас некоего острия актуальности, того, что нас касается, «укалывает», «пронизывает», «взрывает», заставляя вздрагивать, вызывая смешанные чувства: то сострадание и боль, то отчаяние и надежду, то страх смерти, то очарование и любовь.
Хайдеггер называет это «возгонкой острия», Киркегор – «жалом в плоть», Барт – «пунктумом». Мы часто компенсируем шок длительностью его после-переживания, постепенно оттесняя его к зоне забвения и беспамятства, как бы «стирая» его следы. Но сегодня шокирующее в практике современного искусства более не соотносится с переживанием, оно не «ранит», не «уязвляет», а просто говорит, что может быть и так, и по-другому. Новейшие опыты в искусстве придают реальности новые измерения, для которых нет адекватной структуры восприятия, да она и не нужна. Господствует констатация: всё так и есть, и всё есть во всём. Современные формы восприятия больше не в силах активизировать глубинные миметические слои, и оно остаётся в границах констатации положения дел. Нет ни удивления, ни радости, ни трагедии, ни боли, ни страдания – все эти переживания, все эти «прошлые» страсти оказываются вне сферы эстетического интереса. Те же шокирующие мгновения, которые всё-таки проступают в эстетике новейших опытов, недостаточно энергичны и заметны. А если заметны, то они становятся частью ожидаемого развлечения (управляемого удовольствия).
Я бы даже сказал, что новейшее искусство не нуждается в теории аристотелевского мимесиса и не видит в том, что оно создаёт, даже слабого подобия прежнему статусу произведения. Оно не желает иметь ни форму, не один единый образ, и главное, не желает быть Вещью, этой магической и органической частью наших жизненных переживаний, а желает познавать Мир (Реальность), не соприкасаясь с ним. По сути дела, в современном искусстве атака на Вещь никогда не прекращалась. Современное искусство, оставляя после себя некие шифры спровоцированных неудач, которые собирают, толкуют и доводят до ранга произведения искусства критики и знатоки, начинает именовать несуществующее… Для его объектов приготовлены тысячи имён, и новый арт-конструктор, он же диджей и дизайнер, он же трикстер и номад, он же неудачник и герой, не устаёт именовать всё, к чему прикасается, взывая к самой Вещи… Но та не откликается… На наших глазах идёт утверждение номиналистической традиции в искусстве, возобновляющей древнейшую – иконоборческую.
Конечно, сегодня вещь в том виде, в каком она могла быть вещью, чем-то особенным и автономным, наделённым «своими» качествами, больше не существует. Вещь, с которой мы встречаемся и которую хотим присвоить, уже сделана. В привычной массе случаев не найти новых правил для «сделанной» вещи. Современный человек лишь косвенно участвует в производстве вещей постиндустриальной эпохи, он – не продуцент в традиционном ремесленно-профессиональном или классовом смысле. Истинным убежищем Вещи и вещей остаётся искусство. Там и только там вещи ещё наделяются неприкосновенностью, аурой, погружаются в атмосферу, только там они вдруг оживают и становятся самыми близкими и самыми страшными, несущими радость и наслаждение, но и смертельную опасность (под «взглядом Другого»). Только там ещё в силе культ Руки, да и фактор сделанности не забыт в производстве образа, правда, «руки» могут вытесняться, что и происходит в современном искусстве, где художник с помощью Концепта/Идеи начинает возвышаться над всяким «своим» руко-делием, руко-прикладством и руко-писанием. Но это лишь полезная иллюзия для развёртывания авангардной эстетической идеологии, которая должна провоцировать, пробуждать внимание и интерес к необычному опыту социо-артиста. Созерцание, как бы оно ни было сжато в отдельных отрезках времени, не устранить из современного искусства.
Вопрос о Вещи – это вопрос о Будущем. Но как мы можем стать вопрошающими, и о чём вопрошать и что вопрошать? Не о том ли, что старая вещь ушла и пришла новая, совсем новая, которую мы лишь частично узнаём, а большей частью или отвергаем с порога, или ещё не умеем ею пользоваться, или она эстетически просто неприемлема. Хайдеггер, задавая вопрос о Вещи, знал, что этот вопрос приведёт нас к той области существования предметов, которые нужно будет назвать являющимися. Не к тем, которые есть, а к тем, которые являются, пока мы пытаемся их «схватить», «упорядочить» и «назвать». В этом своём скользящем существовании, существовании-потоке, они-вещи являют нам своё многообразие качеств, ни одно из которых не остаётся постоянным. Так имя Вещь означает и всё и ничего. Всё являет через себя, ничего не являя до конца. Вот почему мы так озабочены Вещью, ибо через её явление нам она передаёт разнообразные качества той реальности, от имени каковой она и является в нашем сознании. Но главное – вещь находится в паутине наших интенциональных переживаний, и чтобы остановить поток являемости её качеств, нужно наделить её Именем. И вот первое ограничение, которое мы находим в вопрошании Хайдеггера (а ранее у Гегеля в «Феноменологии духа»): вещь означается указательным местоимением и вводится в философский дискурс, получая имя «эта» или «та», или «те»: «эта, которая ближе и здесь, и та, которая дальше и там»3.
I
Что такое вещь?
1
В словаре В. Даля вещь наделяется значением в трёх этимологических позициях: с одной стороны, вещь как «нечто, предмет, отдельная единица, всякая неодушевлённая особь; в обширн. смысле, всё, что доступно чувствам», менее употребимо: «дело, поступок, случай, происшествие»4. Сюда же относится вещество, вещный, вещественность, т. е. некая материя вещи, её состав, качество и т. п. Но с другой, – вещь сближается с вече: совещание, собрание, «народное вече» (Новгородское), сходка и т. п. И наконец последнее: это вещь в качестве речи, вещания, напр. вещать, оповещать, или радио-вещание, со-вещание, и здесь же предсказательная функция: вещун, «вещий твой язык», вещунья, «вещий Олег»… Итак, многозначимость вещи, если удерживать эти значения в одном этимологическом горизонте, – это: собираться, сходиться по какому-то поводу, и быть чем-то определённым, т. е. какой-то вещью со своими свойствами, но и быть неким возможным действием — делом, поступком, поводом, а также именем для всего неназванного.
2
Что же такое вещь? В одной из филологических статей под названием «Русская вещь» можно найти ответ. Если выстроить, как полагает автор, этимологическую цепочку от древнегреческого слова фюзис до древнеславянских языковых моделей, можно прийти к пониманию русского слова «вещь». Странное слово, скорее скрывающее свою антитетическую природу: «В известном смысле – это философский термин, обозначающий враждебный чувственный мир, сотканный из событий и существ, которые можно покорить словом и делом, воплощая их в вещи. Это и вина, и дело, и естество, и причина, и свершение, и результат. Динамизм мышления древнего русича проникал и в это первоначально церковное понятие: его интересует не результат, а процесс»5. Такова динамика семантического поля «вещи». Следует обратить внимание на то, что она представлена как дело (Произведение) и как процесс (Про-изведение, делание), но и как нечто природное, нерукотворное (Природа), т. е. как суть природного события. В повседневном употреблении мы часто пользуемся такими выражениями, как «вещизм» (любовь к вещам). Множество языковых штампов, в которых «вещь» играет роль всеобщего эквивалента: «Уберите ваши вещи!», «Что это за штука (или штуковина)»? Вещь как штука или штуковина – это вещь, удивляющая чем-то в данный момент, непонятная, «без хозяина» и той близости, которой она, весьма вероятно, заслуживает. В сущности, это не вещь. Мы говорим: «Стоящая вещь!!» Или такое выражение: «Покажите ваши вещи». Не в том, конечно, смысле, как говорит таможенник на границе, а скорее как коллекционер, когда у него просят: «Покажите вашу коллекцию, ваши вещи…» (т. е. какая вещь и какого художника у вас имеется?). На искусствоведческом жаргоне вещь часто идентифицируют с произведением, а точнее, с тем, что про-из-ведено. Вещь и есть Произведение: нечто сотворённое, существующее отдельно и по своему закону. Любой предмет, если снять с него обязанность быть практичным и функциональным, подверженным действию времени, может открыть свою вещность, без которой нет вещи. Подлинным бытием вашей, только вам принадлежащей Вещи могут оказаться сновидения, воспоминания детства, привычки, отношения с другими, решающие «события» и трагические «истории». Или «вещдоки» в уголовной юстиции («вещественные доказательства», улики). Смысл этой вещественности в том, что она наглядна, доступна, что она может быть предъявлена Другому и не является ни фикцией, ни фантазмом. Мосс указывает на важные аспекты латинской правовой этимологии res: «Далее, res вначале не должна была быть грубой и только осязаемой вещью, простым и пассивным объектом передачи, которым она стала. Вероятно, наилучшая её этимология – та, что сравнивает её с санскритским словом rah, ratin – “дар”, “подарок”, “приятная вещь”. Res должна была быть прежде всего тем, что доставляет удовольствие кому-нибудь другому. С другой стороны, вещь всегда отмечена печатью, меткой собственности семьи. Понятно поэтому, что из этих вещей mancipi торжественная традиция – mancipatio создаёт правовую связь. Поскольку в руках accipiens она ещё остаётся в какой-то степени принадлежащей “семье” первого собственника, она сохраняет связь с ним и связывает теперешнего обладателя вплоть до того момента, когда последний будет освобождён выполнением договора, т. е. компенсаторной передачей вещи, денег или услуги, которая свяжет, в свою очередь, первого участника договора»6.
3
Общий ареал обитания вещи можно составить из двух групп планов. Первая группа связана с начальными, метафизическими определениями вещи. Здесь вещь – и дело, и предмет, и слово, и дух (как «вещь-в-себе»). Каждое из этих имен находится в едином поле взаимодействия со всеми другими. Например, немецкое слово Sache7. Вещь пребывает в автономии и полноте своих качеств, часто неопределимых и только предполагаемых. Вещь здесь просто есть, она дана, она само бытие. Другими словами, являет собой целое, некий гештальт, а не часть, качество или отдельную функцию. На этом общем плане развёртываются онтологические основания вещного бытия. Необходимость вещи объясняется из чисто метафизических соображений: вещь как имя – это наиболее удобный способ говорить/размышлять о Мире, Качествах, Материи, Событиях, имея в виду ни физически реальную, ни естественнонаучную картину универсума, а виртуальную или воображаемую. Вещь в размышлении играет роль сущностной единицы, она – общее имя для любых качеств, образующих собственное единство во времени/пространстве. Некие «атомы», «частицы», «монады» описывали и идеальное и конкретно-физическое состояние мировой материи, и уже не были вещами. Зачем вещь? Вероятно, именно для того, чтобы создать повод для метафизических вопросов о единстве, начале и конце Мира/Вселенной, и всего того, что есть, что существует и пребывает в себе? Когда-то Декарт говорил: я (есть) мыслящая вещь, res cogitans, Кант пишет эссе о «Последних вещах»8. Всюду, где у каждой системы мысли есть своя вещь: есть, например, вещь Канта (категорический императив), вещь Хайдеггера (Dasein), вещь Рильке (Offene), вещь Пруста, вещь Лакана/Фрейда9, можно и нужно говорить об основаниях метафизики. Без вещи она была бы невозможна. Вещь есть, и она имеется у всякого живущего, ибо он сам есть некое начальное единство, единица или монада бытия, набор не упраздняемых «вещных» признаков. Но это не дело, не деяние, не творение, это именно вещь. Другими словами, то, что содержит в себе нечто, что должно принадлежать кому-то одному, а принадлежит всем. Вещь как полное и ничем не обусловленное выражение идеи бытия. Не относится ли словоупотребление вещи к правилам поведения адепта в культовых (сакральных) для него пространствах?
Ведь только будучи тем, что она есть сама по себе, вне какого-либо контекста, а как наделённая собственной энергией сущность, она, Вещь, и имеет смысл.
4
Вторая группа планов выстроена на ином типе отношений. Здесь вещь зависит от действий, которые с ней производят. Вещь созерцается – а это значит, что эстетическое многообразие вещи подчиняет практике созерцания (выставки, демонстрации, инсталляции), вещь делается, создаётся, изготавливается, с ней экспериментируют (научная лаборатория, студия алхимика, келья монаха, мастерская ремесленника), вещь собирается, её хранят, помнят, ею обмениваются (это музей, архив, библиотека и т. п.), вещь разрушается или подвергается разрушению, она больше не вещь, теряет свои эстетические и все другие полезные и операциональные качества, она есть отрицание самой себя, само-разрушение, антиэстетическое переживание (открытые пространства маргинального, «ненужного», пограничного искусства).
5
И всё-таки почему и зачем вещь? Ведь этот вопрос необходим именно потому, что сегодня мыслить вещь не нужно, точнее, в этом нет необходимости, – если имя вещь и используют, то только для того, чтобы именовать всё, что пока не имеет имени и не нуждается в нём. Вещь выступает в речи наравне с избранными местоимениями: это, оно, нечто и т. п. Обычно предлагается тезис: «Сущность вещи в её употреблении»10. Да кто будет спорить, но в момент употребления/использования она уже не вещь, а нечто иное, одно из тех качеств, которое ей приписывается и поэтому теперь она: объект – предмет – орудие – единица – элемент – атом – монада – фрагмент – осколок. Можно продолжать: качество выбрано и вещь исчезла. Зачем упорно продолжать называть вещью то, что уже не является вещью, поскольку та потеряла свой избыток, ту полноту присутствия в мире, некую неопределимую вещность («чтойность»), без которой она не существует? Прекрасный образ: как только мы пытаемся воспользоваться вещью как орудием, она «терпит и молчит», но как только предоставляем её нашему созерцанию, она «начинает говорить тысячью голосами»11.
6
Тайная магия вещи притягивает всегда, и часто она так долго удерживается потому, что является следствием двух трудно совместимых измерений опыта. С одной стороны, вещь – это слово-имя, которое мы относим к явлениям, обладающим некой целостностью и определённостью. Вещь присутствует (дана) в том, что о ней говорится, т. е. составляет важный элемент высказывания. Вещь становится именем для того, что ещё не названо12. В этом измерении её существование чисто индексально (указательно), она – вектор в высказывании, она – знак-стрелка, след, она и символ, – всё это указывает на присутствие вещи… Но так имя вещи не может существовать, ему необходима сама вещь. Действительно, если посмотреть с другой стороны, ведь есть и чувственно воспринимаемая, материальная вещь, – как быть с ней? Как она связывается с нами, ведь она не только феноменальна, но и реальна, она – вот тут, прямо передо мной: «…чувственно являющаяся вещь с её чувственной формой, цветом, запахом и вкусом отнюдь не есть знак чего-либо иного, но в известном смысле есть знак самой себя»13. В этом измерении вещь открывается через посредничество действий, которые она провоцирует и от которых сама зависима, и это уже не вещь как имя, а вещь, доступная чувственному восприятию, выходящая за границы языковой пелены высказываний. Полнота вещи в чрезмерности проявления тех качеств, которые мы воспринимаем, но и тех, которые её сопровождают, поддерживают, но нами не воспринимаются. Иногда она «воспринимается» как нечто противостоящее нам и чуждое, как «опасная вещь». Но это не значит, что в таком случае вещь освобождается от нашего внимания и обособляется: за пределы сознания, в котором она впервые проявила свои свойства, она выйти не может. Парадокс, который сопутствует этому двойному измерению, как раз и состоит в том, что его прежнее разрешение находили в структуре интенционального сознания, и, шире, в развитии идеи так называемого «чистого сознания».
7
Другими словами, нужно испытать опыт данности вещи в сознании, отказавшись от её понимания как res (нет вещи вне сознания, вещь как феномен сознания). Таково движение феноменологической мысли: сначала идти со стороны объекта (Реальности), а затем со стороны субъекта (Сознания). На втором шаге вводится сознание и тогда всё переворачивается: всё, что есть субъект, и всё, что есть объект, существуют только в границах испытывающего себя сознания (как итог его самоописания и ре-флексии). Основное же теперь это: «Мы искали конститутивную сущность вещи в пределах вещного сознания»14. Вопрос: есть ли проблема вещи вне сознания вещи, наблюдаема ли вещь в некоем опыте реальности, где она ничем не отличима от способов её сознавания? И что тогда – кантовская «вещь в себе»? И снова радикальное уточнение: «Понять реальность – это понять смысл конституции её сознания»15. Так конституируются некие качества вещи, которые определяют её со стороны видимости: автономность (Hypokeimenon или Selbsttragerschaft), наличность собственного места (Eigenposition), ощутимость (Tangierbarkeit) и телесность (Leiblichkeit). Например, Н. Жинкин давал следующее определение: «…вещь есть очевидно тело, имеющее своё особое место, принципиально доступное ощущению, с подложенным под него носителем. Проще говоря, чувственность реализуется в носителе»16. Мыслить вещь – это найти место для неё в противопоставлении с тем, чем она быть не может. Забавно наблюдать, как всюду отыскивают вещь: во сне, галлюцинациях, в реальности и метафизике… Но и этому находится объяснение. По сути дела, это поиск границ универсального дискурса вещей. А это значит, что всё, что не может уместиться в предлагаемой когнитивной рамке анализа, т. е. ещё не разложено на свои качества, только и может быть названо вещью. Как только вещь переходит в фазу использования, она получает вполне определённое техническое и оперативное имя. Можно прийти к выводу, что сегодняшнее употребление термина вещь имеет смысл только в отведённых для неё временных зонах: это прошлое (коллекционирование) и вечное (как практика созерцания, вневременная) и это мгновенное (малые созерцания, как знаки распада вещного). Последнее время – это время modern art, где вещь существует в тесных, почти не воспринимаемых промежутках времени, где ею движет конечная, катастрофическая энергия кайроса – проявить себя и тут же исчезнуть. Только там ещё возможна новизна восприятия, новизна момента исчезновения, она – взрывная. Заметим, вещь всегда воспринимается целостно, даже в том случае, если она существует лишь одно мгновение…
8
Вещь авангарда = эстетическому парадоксу. Термин вещь в эстетике авангарда активно использовался, хотя, например, К. Малевич вводит такое художественное явление, как «беспредметничество», т. е. ориентируется не на вещь как на некую Реальность со своей автономией качеств и плотностью, а на открытый мир объектов, а точнее, орудий/инструментов, машин и разного рода устройств, с помощью которых можно как разрушать, так и создавать новые миры. И причём с той свободой, какую может иметь не только техническое воображение. Управление собственным телом – вот что главное, поэтому так необходим дрессаж, широкая подготовка множества пролетарских тел и телесных комплексов к новой задаче – индустриальному труду17. Но это не всё. Не менее важно и потребление, удовольствие от использования вещей, наслаждение ими. Возможно ли, например, «пролетарское понимание» вещи?18 И как создать совершенно новый порядок вещей, который бы полностью был свободен от старого, уже «мёртвого»? «Мы знаем, что каждая вещь обладает ей одной положенной сущностью. Стул. Стол. Лампа. Телефон. Книга. Дом. Человек. – Всё это целые вселенные со своими особенными ритмами своих особенных орбит. Вот почему мы, изображая вещи, срываем с них ярлыки их обладателей, всё случайное и постоянное, выявляя скрытый в них ритм сил»19. Старая вещь (традиционных форм искусства) переделывается в вещь-конструкцию: вместо цвета – тон, вместо начертания и графики – линия как направление сил, вместо объёма – глубина, вместо статики – кинетические ритмы.
9
Попробуем суммировать наши наблюдения. Итак, вещь20 предстаёт в таких главных аспектах:
(а). Обозначает нечто неопределённое: или всё, или ничего; т. е. вполне конкретную и любую вещь, но и ту вещь, которая может вызывать ужас. Вещь как ничто, она скрывает себя под маской, за которой нет лица21. Или напротив, переходя в крупный план фотообраза, она олицетворяется, т. е. наделяется смыслом, которым ранее не обладала. Вещь – то, что есть, что существует – противостоит ужасу. Ничто – той первоначальной пустоте, которая скрывается в глубинах самой вещи. Вещь рождается из ничто, ex nihilo. Всё то, что наделяет вещь сакральной силой, внушающей ужас и трепет22. Эффект обычно усиливается, когда живое, в силу его тайной античеловеческой силы, угрожает нашему существованию, когда говорят: «Это нечто!» Или в английском неизвестное живое существо, чьи качества невозможно определить, называют: The Thing – Нечто (современный фантастический триллер под тем же названием).
В марксистском анализе Г. Лукача вещь понимается как товар, и все виды товарного обмена представляют её в опасном противопоставлении экзистенциально-нравственному существованию личности: отчуждение (entfremdung), овеществление (verdinglichung), вещность, вещизм, овеществлённое сознание как ложное, искажённое и т. п.23
(b). Вероятно, основное в определении вещи – это необходимость её существования, то, что предполагает её нужность, «близость», «подручность», и это близость не расположения, а делания. Вещь – то, что делается руками, в этом смысле она «подручна», всегда «под рукой», близка и достижима, она – часть мира, самая ближайшая к нам, а он вещно полон. Вот аксиома: всякая вещь имеет время и место. Но есть вещи, которые уже не вещи, они не близки нам, а близость и есть основное определение вещи, которое, например, даёт Хайдеггер. Причём это касается не всех вещей: к тем, которые нас ужасают, нас превосходят, которыми мы восхищаемся, – это не относится.
(с). Но есть и ряд других значений «вещи», где она уже предстаёт в качестве чистого медиатора, и своё значение получает не от того, что она просто есть, существует, а от отношения, которое связывает двух субъектов благодаря «третьему» (пре имущественно юридическому). Вещь как cause (дело, причина) и res (как вещь в юридическом смысле). «Латинский язык называл вещь словом res, которое указывает на определённую реальность, а именно объект юридических процедур или сам судебный процесс, поэтому в античности обвиняемый назывался res в силу того, что он вызывался магистратами в суд. Как если бы единственно возможная человеческая реальность возникала только из решений суда»24. Здесь вещь в традиционном толковании перестаёт существовать. Истинная вещь взывает к размышлениям и метафизике, она не транзитивна, скорее предмет созерцания и покоя, но также игры.
10
Дистанцирование есть необходимое условие перехода к созерцательной практике. Наличие вещи как некоего единства и есть форма созерцания, когда за созерцаемым признаётся автономное существование. Существование вещи без дистанции возможно только при ее преобразовании, которое приносит с собой использование. Собственно, то, что мы называем вещью, мы определяем как нечто идентичное переживанию, или созерцанию. Вещь – не фрагмент, не часть, не элемент, но всегда целое (гештальт), она существует, есть и причём вне всякой обусловленности чьей-то волей или Законом.
Трудности начинаются с того момента, как мы начинаем понимать (на основании прочтения множества первоисточников, старых и современных), что ВЕЩЬ не поддаётся достаточно точному переводу на «выбранный» язык понимания. Всякий раз остаётся что-то, что не вписывается в то, что уже кажется завершённым определением. Эта неопределимость вещи, которая оказывается, с другой стороны, как раз много варьируемой определимостью, множественностью (элементов значения). Можно согласиться с Лаканом, указывающим на топологическую неопределённость вещи. Вот что он замечает: «Достаточно лишь прописать это на доске, поместив в центре das Ding и расположив вокруг организованный как совокупность означающих связей мир бессознательного, как сразу станет видно, насколько трудно представить эту картину топологически. Ибо в центре das Ding находится в том смысле, что оно из картины исключено. Другими словами, das Ding, это не поддающееся забвению доисторическое Другое, на обязательном первенстве которого Фрейд так настаивает, следует, на самом деле, представлять себе как лежащее вовне, в форме чего-то такого, что, будучи мне чуждым, entfremdet, находится, тем не менее, в самой сердцевине моего Я – в форме того единственного, что на уровне бессознательного представляет представление»25. Определить – это значит найти приемлемую форму кружения мысли вокруг искомого и центрального Х. Идея круга – движение линии, образующей круг, та общая граница, которая всё на себя беря, в то же самое время не препятствует кружению. А ведь почти каждое отношение, намеченное на карте, и есть факт кружения мысли. Сравнительное «как» играет здесь роль индекса кругового движения. Действительно, если в центре находится то, что всем известно, доступно, понятно и тем не менее неопределимо, то всякая попытка его определить создаёт этот эффект кружения. А что это значит – кружение мысли? Для Гегеля, например, аргументация строится через преодоление высказанного, а это и есть возврат мысли к себе и повторение попытки. Приблизительно так же через повторение и варьирование аргумента строится мысль Хайдеггера.
План-карта: Определённость вещи
Вот почему я решил расположить в центре диаграммы вещь так, как если бы она определялась, но оставалась неопределённой. Мы установили двойной дискурс вещи и закрепили его определение: посредством расширительно толкуемой созерцательной практики. Но есть ещё и практика использования. В этом противоречивом горизонте существует вещь и вся её метафизика (и наконец, наша способность её определить). Выделенная на рисунке плана-карты вещь может читаться одновременно в многообразии актов созерцания и использования. Главная оппозиция: вещь, которая возникает и «живёт» в ауре прикосновений, взглядов, касаний, дыхания, колебаний, – всего растворяющего вещь движения, похожего на поток; а с другой стороны, вещь, которая уничтожается в опыте снятия всех её культовых и наследуемых качеств; так она становится ничейной, существующей вне собственной ауры. Теперь она лишена времени созерцания и существует только одно мгновение, и это время исчезновения самой вещи. Bещь-с-аурой и вещь-без-ауры – два крайних предела, в которых возможен поиск определения вещи, т. е. ответа на вопрос: что такое Вещь26.
11
Каждая вещь обладает аурой, или тем облаком/облачением явленности своих главных свойств. Мало этого, мы обнаруживаем, что аура определяется близостью самого дальнего, т. е. исключительно близостью. Каждая вещь существует в нашем восприятии на основе её близости к нам. Раз так, то надо сделать ещё шаг, и он приведёт нас к осмыслению роли руки в формировании нашей близости к миру. Рука, которая занята вещью, – производит, трогает, хватает, крушит, поглаживает, разрывает, – и есть некое условие существования вещи под табу и его нарушениями, но есть ещё вещь «сделанная», вещь, которая всегда «под рукой», рукотворная, или что-то ручное. Но есть ещё вещи, которые нам не принадлежат, которые мы называем вещью Другого. Здесь вещные характеристики получают существа, наделённые душой и волей (или им их приписывают). Ведь и маска, и марионетка, и кукла (сюда можно отнести также идолов, «божков», «духов», фетиши и тотемы) в разнообразии их театральной репрезентации рассказывают нам об овеществлении человеческого и животного. Здесь вещь негативна, она отрицает существование живого, входя в него и образуя его овеществлённую «окаменевшую» часть. Сила маски велика, она в состоянии овеществить всё то, что наделено душой, и представить в виде ограниченного набора повторяемых качеств.
В сущности, наши тематизации Вещи/Ding можно приравнять к тому, что Гуссерль называл горизонтом вещного, – в них вещь и находит возможность для своего проявления. Вещь получает имя в силу своей принадлежности к чему-то или кому-то, вещь имеет собственника, находится в его распоряжении или владении. Вещь, которая проявляет себя в горизонте собственности: больше нет просто вещи, а есть вещь чья-то… и моя. Вот тогда-то и начинают собираться вещи, тогда-то и образуется коллекция, не одна вещь, а многие, – вещь к вещи.
Поразительные сходства с алхимической психологией К. Юнга. В этом отношении ВЕЩЬ философов и ДЕЛО-ДЕЛАНИЕ (OPUS) алхимиков начинают совпадать. Действительно, с одной стороны, алхимик занят настоящим творением вещей: он экспериментирует с химическими соединениями и веществами, смешивает их, утончает, дистиллирует, возжигает, растворяет, короче, совершает operatio, т. е. оперирует с материей. А с другой, создаёт систему образов, даже некую образную ткань благодаря искусству amplification, за которым стоит игра воображения и поиск всё более адекватных соотношений между психическими контурами алхимических операций и самим веществом материи. «Итогом проекции является бессознательная идентификация между психе алхимика и тайной вещества, т. е. духом, заключённым в материи»27. И понимать процессы воображения надо как материальное бессознательное, или, по определению Юнга, как «тонкое тело»28. Воображение оперирует тонкими телами, занимающими переходную область между материально-телесным и духовным.
12
Обратим внимание на то, что на плане-карте отмечено как Вещь-гибрид, некая промежуточная социо-среда, которая растворяет в себе все оппозиции, да и само представление о ВЕЩИ29.
С первых книг Б. Латур погружается в исследование срединных, гибридных вещных образований, полагает как основную задачу – историческую критику прежней метафизики вещи. Тему Срединной империи вещей (гибридов, уродов, квазиобъектов, «третьих вещей» и т. д.) заслонила вся эта мифология Нового времени, когда распалась на Новое и Старое, Прошлое и Будущее, Варваров и Цивилизованных, Дикость и Просвещение. Идеология познания Нового времени пыталась использовать этот разрыв – этот нескончаемый список оппозиций – собственную «разорванность» для того, чтобы закрепить превосходство духа, ментального начала над вещным миром, и порвать по-картезиански радикально с Прошлым ради Будущего30.
Жан Батист Шарден. Медный бак. Ок. 1733
Надо отказаться от веры в эту ложную, посткартезианскую мифологию Нового времени и вернуться к самим вещам. Придать абсолютное значение всему промежуточному, срединному, медиаторному, всему от века к веку разрастающемуся континууму новых вещей, образующих сетевую ткань современных западных обществ31. Но как это возможно, если давно известно, что расколдование мира идёт с такой силой и столь глобально, что вещное – вещь как таковая – не выдерживает натиска со стороны всё более усложняющегося сетевого порядка и гибнет? Вещь больше не нужна в качестве вещи, т. е. некоего индивидуального и автономного синтеза качеств. На неё больше нет времени ни в искусстве, ни в практике постиндустриального общества.
II
Обволакивание. Наброски к теории ауры
Итак, древнекитайская мысль, на все лады перебирая этот мотив, беспрестанно заставляет нас грезить о бесконечном могуществе ветра; его невидимое дыхание, пролетая над землёй, добирается до каждой былинки и заставляет её трепетать, его нематериальное присутствие без устали обволакивает всё и всё приводит в движение.
Фр. Жюльен
13
Тема ауры давняя проблема, она была прекрасно преподана нам ещё Лессингом в его знаменитом сочинении «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии» (1766). В его комментарии к «Илиаде» Гомера мы читаем: «…когда в смятении битвы один из важнейших героев подвергается опасности, в которой никто не может оказать ему помощи, кроме божества, то у поэта покровительствующее божество облекает обыкновенного героя густым туманом или тьмою и таким образом выводит из битвы. Так Парис спасён был Венерой, Идей – Гефестом, Гектор – Аполлоном». Это облако – чисто условный символ исчезновения (спасения героя). Когда некоторые подражатели Гомера (а живопись полна этими образцами) пыталась изобразить вещественно-конкретный образ облака, то нарушали эту условность, за которой стояло только исчезновение. Другими словами, древняя аура скрывала в себе вещное, и чем это быстрее происходило, тем более значительна была сакрализация события, индивида или вещи. Внутри облака пустота, там нет ничего вещного, – лишь это ауратическое наполнение, искажающее физические и другие качества вещи32. И наконец, аура – это когда видимое, то, что перед нами, не движется, а сияет. Откуда сияние? Можно предположить, что одни качества накладываются на другие: первые, или те, что могут быть видимы (переживаемы непосредственно), на те, что возможны только в результате полного обзора видимого. Видимый предмет наделяется энергией двух скрыто действующих оптик, проксимальной и дистальной. Видимое открывается как ближайшая близость дальнего, или как удалённость самого наиближайшего – то, что В. Беньямин и называл аурой: «Странное сплетение места и времени: уникальное ощущение дали, как бы близок при этом рассматриваемый предмет ни был. Скользить взглядом во время летнего полуденного отдыха по линии горной гряды на горизонте или ветви, в тени которой расположился отдыхающий, пока мгновение или час сопричастны их явлению – значит вдыхать ауру гор, этой ветви»33. Аура как чисто оптический эффект? Не мы вступаем в ауру, которая окружает предметы, а сам мозг, водитель разума в своей внутренней структуре образует нечто вроде внутреннего пространства или сцены, где одно изображение накладывается на другое, и уже в таком виде он представляет нам как образ глубины, дали, так и самой ближайшей близости. Не чередуя их, а давая разом и вместе.
14
Всякий раз, когда перед нами вещь недоступная, к которой мы не можем приблизиться, мы относим её к культовой. Дистанция устраняется в акте созерцания, который приближает видимое в ореоле ближайшей близости. Дымка (sfumato), используемая на пейзажных образах живописи Возрождения, появляется именно как знак преодолённой дистанции. Аура окрашивает предмет, превращая его в вещь именно тогда, когда складывается согласие между фоном и отделившейся вещью, они переходят друг в друга свободно, на одном дыхании. Дистанция меняется между близким планом, до которого можно дотянуться, и дальним, до которого – нельзя. Аура окружает вещь, чья зависимость от среды велика настолько, что мы не можем воспринимать её отдельно. Чем вещь ближе к нам, тем дальше, и чем дальше, тем ближе, – игра дистанций. Так пульсирует субстанция живой вещи. Но как только аура распадается, обнажается вещь без фона, окружённая пустотой, она начинает умирать, – и её предают забвению, оставляют распаду. Фотография как раз так и действовала, обнажая пустоты, или исключая диалектику восприятия из процесса видения. Аура – это и радуга, и облако, и небесное свечение, и нимб, и ореол, – одним словом, она даёт нам переживание фантастичности («нереальности») происходящего. Оживляет вещи настолько, что они начинают с нами говорить…
Аура, конечно, существует вне времени, но только в том случае, когда её «плотность» и «лучезарность» насыщаются сакральностью повседневной временности; будущее время она впитывает в себя как губка, будто оно настоящее. Поразительное явление стояния паломников к святым мощам несколько лет назад («Пояс Богородицы»), недавнее паломничество московской очереди на выставку Серова… Вспоминаю себя ещё малышом (шесть-семь лет), стоящим с мамой в громадной очереди, протянувшейся к мавзолею В.И. Ленина от начала Александровского сада. Это вечное прощание, нескончаемые похороны того, кого нельзя похоронить. Пока самый последний из самых последних пролетариев не придёт увидеть мумию вождя, она так и останется в центре мира. Ленин-мумия – это и есть великая пролетарская Вещь. Вижу (как сейчас) светящееся маленькое тело вождя, особенно поразили его маленькие, прямо-таки детские ручки. Помню в полумраке этого удивительного склепа милиционера, который не давал задерживаться ни на мгновение, и видеть мумию вождя можно было, только проходя, в движении. Проход занимал, наверное, секунд пять. Что-то похожее на паломничество к Ленину и Богородице была очередь к величайшему шедевру всех врёмен – к «Моне Лизе» Леонардо да Винчи (Москва, 2005). Всё так же как и прежде очередь из десятка тысяч москвичей и приезжих, но в этот раз, учитывая невероятный ажиотаж вокруг события, было решено хорошо к нему подготовиться. Вот сообщение об этой подготовке: «Специально для зрителей картины Леонардо будет сделан отдельный проход в музейную комнату, где за пуленепробиваемым стеклом и лазерными лучами охраны повесят знаменитый портрет. К тому же устроители учли японский опыт: перед картиной будет сооружено подобие амфитеатра, и движение пойдёт сразу на трёх уровнях. Скорость осмотра устанавливается в зависимости от цены билета: самая медленная – нижний ярус, самая быстрая – верхний. Непосредственно перед картиной поставят несколько стульев (сидячих мест), откуда по специальным приглашениям произведение Леонардо да Винчи можно созерцать довольно долго»34. Скорость осмотра для проходящих мимо остается небольшой, что-то около 35 секунд, причем со всеми теми же «внимательными» милиционерами и охранниками. Чем можно объяснить эти массовые паломничества, если оставить в стороне моду, снобизм, реальный интерес к искусству, который мало зависит от того, видел ли ты живьём «Мону Лизу» или нет. В одном случае религиозный культ, подпитываемый традициями православной церкви, в другом – светская религиозность, и она оказывается столь же «массовой» и также лишённой времени для созерцания.
15. Прозрачность и призрачность
В акте зрения П. Флоренский различает две чувственные функции (отчасти противостоящие, и тем не менее неотделимые друг от друга): осязательную