Воспоминания: из бумаг последнего государственного секретаря Российской империи бесплатное чтение
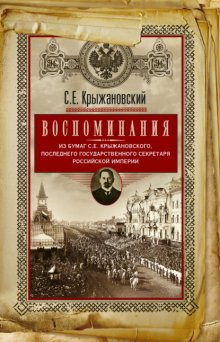
© «Центрполиграф», 2022
От издательства
Сергея Ефимовича Крыжановского можно назвать «серым кардиналом» последних двух десятилетий Российской империи. Он происходил из небогатой и не знатной дворянской семьи – лишь его отец сумел дослужиться до чина, дающего право на потомственное дворянство. На карьеру, делать которую придется своим трудом, был настроен и сам Сергей Крыжановский. Поступив на математическое отделение Московского университета, он понял, что для карьеры лучше учиться на юриста, и не в Москве, а в Петербурге. Как многие молодые люди в середине 1880-х годов, Крыжановский вступил в один из студенческих кружков Петербургского университета. Кружок считался либеральным, но не революционным. Тем не менее Крыжановский, единственный из его участников, был арестован и провел несколько дней в полиции… Это событие заставило его переоценить свои планы. Соратник по кружку В. И. Вернадский говорил о Крыжановском: «Умный, энергичный, честолюбивый, он был от природы добрый. Хороший товарищ…», но вспоминал и «элементы цинизма и правильного скептицизма»…
Отход Крыжановского от кружка удивил его друзей. Но ведь он, пусть в шутку, называл себя будущим министром юстиции. А значит, его уделом должна была стать государственная служба и лозунгом – порядок в делах.
Начинать карьеру Крыжановскому пришлось в судебных органах – помощником секретаря в Петербургском окружном суде, судебным следователем в провинции; через десять лет он занял пост товарища (заместителя) прокурора Петербургского окружного суда. Усталость от безрадостной службы заставила Крыжановского изменить род занятий – он перешел в Хозяйственный департамент Министерства внутренних дел. В ведении департамента был широкий круг вопросов – транспорт и пути сообщения, работа земств, тарифная политика и т. д. На этом посту проявился особый талант С. Е. Крыжановского – составлять тексты законопроектов и реформаторских программ так толково, что их без переделок можно было представить и на обсуждение Государственного совета, и на доклад к государю. И начальство высоко это ценило.
Трудно представить весь объем документов, которые были подготовлены лично Крыжановским, остававшимся в тени всесильных министров. Именно он разработал законы о выборах в Государственную думу – новый парламентский орган, аналогов которому не было в российской истории, и был ближайшим помощником Столыпина, воплощая его реформы.
Министром С. Е. Крыжановскому стать не удалось. Венцом его карьеры был пост товарища министра внутренних дел. В 1911 году он был назначен государственным секретарем и занимал эту должность вплоть до дня падения самодержавия… После Февральской революции С. Е. Крыжановский сжег свой архив, все деловые бумаги и записи, чтобы они не попали в руки Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства и не дали повода обвинять в чем-то его самого и его сослуживцев. В начале 1918 года Крыжановский эмигрировал, скитался по нелегким дорогам русских беженцев, в 1920 году обосновался в Париже…
В эмиграции Крыжановский написал мемуары, восстанавливая документы и события по памяти, зарубежным архивам и попавшим в Европу советским изданиям и открывая интереснейшие страницы истории России.
Биография
Сергей Ефимович Крыжановский, сын небезызвестного западнорусского деятеля и писателя Е. М. Крыжановского, родился в Киеве 29 августа 1862 года и провел детство и молодость частью в Подольской губернии, частью в Седлице и Варшаве, где служил его отец, частью в Холмщине[1], где семья его владела небольшим имением. По окончании курса юридических наук в Петербургском университете поступил на службу по судебному ведомству, где занимал должности судебного следователя в округе Новгородского суда и товарища[2] прокурора при судах Великолуцком, Рижском и Петербургском. В 1896 году перешел на службу в Министерство внутренних дел на должность начальника отделения Хозяйственного департамента, ведавшего земскими и городскими делами, затем был чиновником особых поручений и вице-директором, а в 1904 году, при преобразовании департамента в Главное управление по делам местного хозяйства, занял в нем должность помощника начальника. В 1905 году состоял короткое время директором Первого департамента Министерства юстиции, а в 1906 году, в бытность министром внутренних дел П. Н. Дурново, был назначен товарищем министра внутренних дел, каковую должность занимал и при П. А. Столыпине. После смерти последнего был назначен государственным секретарем, а в 1917 году, с оставлением в занимаемой должности, – членом Государственного совета.
С 1907 года состоял в звании сенатора, а 1 января 1916 года был пожалован званием статс-секретаря его императорского величества.
За время службы в Министерстве внутренних дел занимался, главным образом, делами местного хозяйственного управления – земского и городского, а впоследствии – вопросами народного представительства и связанными с ними[3]; в качестве товарища министра ведал, помимо сего, делами общего управления, медицинской, ветеринарной, статистической и техническо-строительной частями, равно как и духовными делами иностранных исповеданий. Специальностью его являлись дела законодательного свойства. Его перу принадлежат: 1) проекты положений о введении земских учреждений в западных и восточных губерниях империи (1897), не получившие осуществления вследствие принципиальной оппозиции С. Ю. Витте, в то время министра финансов; 2) известная записка И. Л. Горемыкина по вопросу о совместимости городского и сельского самоуправления с самодержавным строем империи, являвшаяся ответом на записку С. Ю. Витте, в которой доказывалась невозможность этих двух начал; 3) положение об общественном управлении гор. Санкт-Петербурга, утвержденное в законодательном порядке в 1903 году; 4) положение о Главном управлении и о Совете по делам местного хозяйства и положение об управлении Главного врачебного инспектора и Медицинском совете, утвержденные в 1904 году; 5) всеподданнейший доклад министра внутренних дел князя Святополк-Мирского о намечавшихся им изменениям в государственном строе империи (1904), отвергнутый по настояниям С. Ю. Витте и К. П. Победоносцева; 6) положение о Государственной думе и о выборах в Думу, высочайше утвержденные 26 августа 1905 года; 7) проекты изменения правил о выборах в Думу, высочайше утвержденные в декабре 1905 года; 8) положение о преобразовании Государственного совета; 9) положение о старообрядческих и сектантских общинах, изданное в порядке статьи 87 Основных законов и впоследствии утвержденное в законодательном порядке; 10) закон от 7 июня 1907 года о выборах в Государственную думу; 11) проект о введении в империи областного управления (1908), не получивший движения; 12) положение о выделении Холмского края из административных пределов Польши, утвержденное в законодательном порядке в 1912 году, и разные другие меньшего значения.
В бытность государственным секретарем состоял председателем высочайше утвержденной комиссии по вопросу о выделении некоторых местностей из состава Финляндии, разрешенном комиссией в отрицательном смысле (1912–1913), председательствовал, заменяя И. Л. Горемыкина, в высочайше образованном в 1915 году совещании русских и польских членов законодательных палат об устройстве управления царством Польским по окончании войны, выработавшем проект, не получивший осуществления за изменением политических обстоятельств, и, наконец, был председателем высочайше образованной комиссии по пересмотру перечня дел, восходящих на высочайшее благовоззрение, заключения которой были высочайше утверждены и обращены к исполнению в 1916 году. Состоял также председателем отдела Верховного совета по призрению пострадавших в войне с Германией и членом Совещаний по обороне.
После революции проживал в Финляндии, а затем в июле 1918 года поехал в Киев, откуда, перед занятием его большевиками, в Одессу, затем – в порядке эвакуации – в Константинополь и, наконец, в 1920 году переехал в Париж. Оставшись без всяких средств к существованию, зарабатывал свой хлеб разной канцелярской работой, редактировал в Париже исторический сборник «Русская летопись» (1921–1925), посвященный литературной защите старой, дореволюционной России и ее деятелей; составил в Париже довольно обширные записки о событиях, которым был свидетелем за время своей службы, и был одним из учредителей и председателем правления «Союза ревнителей памяти императора Николая II».
Стойкий националист, и по убеждениям, и по семейным традициям, верный слуга престола, в котором он видел единственно возможную в современной ему России форму правления, Сергей Ефимович был всегда сторонником умеренных течений политической мысли и врагом всяких привилегий, не оправдываемых пользой государства. Он был либерал и демократ в том смысле, что никогда в своих отношениях не делал разницы между людьми по их происхождению и положению; консерватор и аристократ – в том, что не признавал возможным ставить судьбу государства в зависимость от голосования толпы, а полагал, что для участия в управлении необходима наличность умственного и делового ценза и приверженность исторической традиции. Его не любили крайне правые и терпеть не могли левые.
Сергей Ефимович не имел никаких связей, ни наследственных, ни благоприобретенных, и всем служебным движением был обязан самому себе. Всю жизнь он чуждался того, что называется «светом» и «обществом», сторонился кругов и лиц, которые имели или которым приписывали закулисное влияние на судьбы людей и их служебную карьеру. Он не посещал ни одного из петербургских политических салонов, не бывал ни у графини Игнатьевой, ни у графини Клейнмихель, ни у генерала Богдановича, ни у других, им подобных. Никогда не видел ни князя Мещерского[4], ни Григория Распутина, ни даже А. А. Вырубовой. Никогда не водил знакомства и не поддерживал отношений с представителями печати. Никогда не переступил порога ни одного клуба.
Пользуясь нерасположением придворных кругов, которые почему-то считали его революционером, яркой враждебностью евреев, либеральной печати, князя Мещерского, доктора Дубровина[5] и кадетской партии, Сергей Ефимович имел много врагов и очень мало друзей. Но ни то ни другое его не смущало. По врожденной веселости характера, а отчасти и по свойственному ему легкомыслию, он не видел в том беды. Любил он только свою жену и Россию, и немногих близких, но всегда был верным другом и добрым товарищем. Из благ жизни он ценил только книги и охоту, а шуму городов всегда предпочитал деревенский простор, лесную глушь и общество простых людей.
Вступление
Автор настоящих заметок служил императорской России, верным сыном которой был и ныне остается, благоговейную память о ней он унесет с собой в могилу.
В порядке государственной службы он не поднимался выше положений второстепенных, но по роду занятий близко знал всех заметных деятелей последнего царствования, во многих событиях принимал участие и многое видел. И если впечатления его, человека, перегруженного служебной работой, могли быть во многом односторонни и случайны, то старый строй не имел от него тайн, и в этом ценность его воспоминаний.
В 1912 году, под свежим впечатлением недавнего прошлого, он описал то, чему был свидетелем в годы перелома русской государственной жизни в 1904–1907 годах. Позднее он обработал эти записи на основе обширного, недоступного другим документального материала и изменил во многом некоторые из первоначально высказанных суждений. К прискорбию, и труд этот, и документы, на коих он был основан, погибли, когда в ночь на 2 марта 1917 года ему пришлось сжечь свой архив из опасения, чтобы он не попал в руки революционеров. Случайно, по недосмотру исполнителей, остался не уничтоженным в числе немногих других бумаг отдельно хранившийся первоначальный набросок заметок, который и был захвачен агентами Временного правительства. Набросок этот попал в Чрезвычайную следственную комиссию[6], откуда автору удалось извлечь его после захвата власти большевиками, он остался в России и был впоследствии уничтожен.
Находясь в беженстве во Франции, автор попытался воспроизвести свои записи по памяти, придав им более широкие рамки повести о прожитом; в чем мог, автор пополнил их общими соображениями и выводами, которые вытекали из опыта жизни. За отсутствием погибших, в большинстве не восстановимых документов, заметки эти в фактической части приближаются к редакции первоначального наброска с некоторыми последующими изменениями в характеристике лиц и событий.
Особые условия беженского существования в непрерывных заботах о куске хлеба, почти не оставляющих досуга, отразились невольно бессвязностью повествования и отсутствием надлежащей отделки записанного. Сознавая эти недостатки, автор не может ставить их себе в упрек.
За что автор любит императорскую Россию?
За что мы любим близких своих? За то, что они совершенны? Конечно нет. Если разобрать, то в каждом найдутся и недостатки, и смешные стороны, и даже пороки. Тем не менее мы их любим, потому что они наши, они свои, они дороги нам, и жить с другими мы не хотим. Но и в привязанности автора к старому есть и другое, есть убеждение, что этот строй, по существу своему, независимо от лиц был единственный обеспечивавший России силу и благоденствие и в настоящем, и в ближайшем будущем. Он был Россия, а с его падением и ее не стало.
Государственная дума
В 1904 году я состоял в должности помощника начальника Главного управления по делам местного хозяйства и ездил в Крым разбирать распри, возникшие между городским управлением и комиссией, восстанавливавшей линию обороны Севастополя в войну 1854–1855 годов. Вернувшись в Петербург в конце сентября, я застал большие перемены. Министром внутренних дел был назначен князь П. Д. Святополк-Мирский, уже объявивший к этому времени «эру доверия», а два товарища министра – Н. А. Зиновьев и А. С. Стишинский – были назначены, к их крайнему огорчению, в Государственный совет. Нового министра внутренних дел я совершенно не знал.
Кажется, 4 ноября я был неожиданно вызван к князю [Святополк-]Мирскому, который сообщил, что ему указали на меня как на лицо, могущее оказать содействие к составлению всеподданнейшего доклада, в котором он предполагает изложить, в развитие преподанных ему высочайших предначертаний, программу преобразования внутреннего строя империи. Кто именно указал, он не пояснил, но по некоторым словам я догадался, что это был князь Оболенский, бывший товарищем министра внутренних дел при И. Л. Горемыкине и некоторое время при Д. С. Сипягине.
Князь [Святополк-]Мирский долго и много говорил о трудном положении, в котором очутилась государственная власть, исчерпавшая все доступные ей способы борьбы с нарастающим революционным движением, и о необходимости пойти навстречу пожеланиям умеренной части оппозиции и сделать уступки, которые совместимы с сохранением существующего государственного строя и способны были бы оторвать либеральные элементы общества от революционных. На первом плане он ставил меры к укреплению законности, как отвечавшие с внешней стороны требованиям об установлении правового строя, и соответственное с сим изменение в учреждении Правительствующего сената. Он настойчиво указывал на неизвестную мне в то время брошюру Глинки-Янчевского о Сенате[7] как на выражение тех пожеланий, которые могли бы быть приняты правительством. Затем он говорил о необходимости облегчить тяжесть особых положений об охране и дать голосу населения выражение в законодательной деятельности. Как на путь к тому он указывал на дальнейшее развитие начал, положенных в основание незадолго до того проведенного при Плеве в законодательном порядке положения о Совете и Главном управлении по делам местного хозяйства (Полное собрание законов, 22 марта 1904 г.) Проект этого закона был составлен мною, что, вероятно, и послужило ближайшим поводом дл привлечения к новой работе.
Наконец, князь [Святополк-]Мирский упомянул об облегчении религиозных ограничений и о пересмотре крестьянского законодательства и положений о земских и городских учреждениях, в смысле привлечения к участию в их деятельности более широких слоев населения.
Общий смысл его указаний сводился к желанию выразить во всеподданнейшем докладе приемлемый для правительства максимум пожеланий, высказывавшихся в обществе, в смысле освобождения личности от государственной опеки и расширения участия населения в делах управления. Вместе с тем он хотел, чтобы в докладе было проявлено самое осторожное отношение к существующему порядку вещей и была заранее отражена возможность нападок, основанных на несоответствии намечаемых мер началам нашего государственного строя. Он неоднократно упоминал о необходимости избегать всего, что могло бы подать повод к неправильному истолкованию его намерений, и избегать слов, которых не любит государь. К числу последних он относил и ходячий термин «интеллигенция», который, по его словам, государь не любил еще по преемству от императора Александра III и который поэтому следовало заменять каким-либо другим выражением. Приказано было также не касаться без крайности сословного строя и, в особенности, земских начальников. Князь [Святополк-]Мирский решительно отмежевался от всякой мысли о мерах к усилению аппарата власти, которые, казалось, должны были идти параллельно с расширением общественных свобод и снятием стеснений с самодеятельности общества. Он усиленно это подчеркивал и полагал в основание программы «доверие».
В таком именно виде смысл сказанного им сохранился в моей памяти. Вообще же слова князя были довольно сбивчивы, а мысли несколько туманны. Я не вынес даже убеждения в том, что он действительно имел какие-либо определенные указания от его величества.
В конце концов было решено, что я попытаюсь облечь в форму всеподданнейшего доклада все эти предположения, и тогда князь [Святополк-]Мирский примет на основе его свое окончательное решение.
Срок для составления доклада был двухнедельный, причем в части, касающейся особых положений об охране и административной ссылке, приказано было переговорить и согласиться с директором Департамента полиции А. А. Лопухиным, а в части, касающейся печати, с Главным управлением по делам оной.
Поручение было трудное, но интересное. Я был молод и наивен, а потому принялся за дело с особым увлечением. Весь вечер пробродил я по набережной Невы, размышляя, с какого конца приступить к делу, чувствуя себя едва ли не новым Сперанским.
К назначенному сроку доклад был изготовлен. В нем не было, конечно, ничего оригинального, а были лишь сведены в систему те указанные князем [Святополк-]Мирским предположения, которые последнее время, так сказать, висели в воздухе. Единственной отличительной особенностью было, впервые в актах подобного рода, с решительностью высказанное убеждение в опасности дальнейшего сохранения общинного владения как источника смуты умов и в необходимости скорейшей замены его началом полной частной собственности на землю. Припомнить точно подробности после стольких лет и такой массы составленных и до, и после всевозможных законопроектов и записок, в значительной мере близких по предмету, я не могу, но сущность более или менее точно сохранилась в памяти.
Всеподданнейший доклад – очень обширный – начинался очерком изменений в общественном и экономическом строе России, последовавших в результате преобразований императора Александра II и нарождения новых классов с их психологической потребностью принять участие в управлении, неизбежно на этой ступени развития возникающей; далее следовало изложение причин, по которым государственная власть принуждена была относиться с особой осторожностью к нараставшим запросам, препятствий, которые в этом деле создавало революционное движение с его террористическими проявлениями и, наконец, соображения о своевременности пересмотра всех возникавших в связи с этим вопросов ради обеспечения внутреннего мира в стране. Засим следовала мотивировка предлагаемых мер. К числу их были отнесены:
а) укрепление начал законности в управлении, в каковых целях предполагалось дать бо́льшую самостоятельность Правительствующему сенату и его контрольному наблюдению, вернув это установление к заветам, положенным в его основание Петром Великим, дав Сенату особого председателя, право рекомендации кандидатов на должность сенаторов, право самостоятельных ревизий и подчинив его ведению кодификационную часть;
б) укрепление в сознании сельского населения начала частной собственности на землю путем постепенного упразднения общинного владения и утверждения за крестьянами общинных земель на частном праве, а также сближение правового положения крестьян с таковым же положением прочих обывателей;
в) расширение пределом веротерпимости и свободы совести, прежде всего в отношении старообрядцев, и снятие всякого рода религиозных и национальных ограничений, поскольку это не противно будет интересам русской державности;
г) облегчение положения печати путем пересмотра законов о ней в смысле подчинения нарушений, совершаемых путем печати, ведению общих судов, с отменой административных карт;
д) ограничение объема применяемых исключительных положений и административной высылки; и, наконец,
е) пересмотр положений о земских и городских учреждениях – в видах привлечения к делам местного устройства более широких кругов населения и предоставления этим учреждениям большей хозяйственной самостоятельности.
В заключение намечены были предположения о порядке привлечения представителей населения к участию в законодательной деятельности. В этих видах предположено было ввести в состав Государственного совета, на равных основаниях с членами, по высочайшему назначению, выборных представителей от губернских земских собраний и городских дум более крупных городов. Имелось в виду, что предполагавшееся распространение земских общественных учреждений на всю империю и расширение слоев населения, в них представленных, будут иметь следствием и постепенное расширение участия населения в законодательной деятельности как в географическом отношении, так и в смысле углубления социального базиса.
К всеподданнейшему докладу был приложен и проект высочайшего манифеста, возвещавшего намечаемые меры и устанавливающего порядок разработки соответствующих законоположений особой комиссией, с постановкой этой комиссии, как и Государственному совету, усиленному членам по выборам, самых коротких сроков для рассмотрения проектов и предоставления их на высочайшее благовоззрение.
За все две недели, данные на выполнение работы, я князя [Святополк-]Мирского не видел. А. А. Лопухин принес составленные им соображения, касавшиеся положений об охране, и передавал подробности своего по этому поводу разговора со [Святополк-] Мирским. Лопухин был настроен очень воинственно против «произвола» и, вспоминая о прошлом, поносил Плеве[8], при котором сделал свою полицейскую карьеру. «Всякий раз, как мне приходилось говорить с Плеве, – сказал он, – мне хотелось схватить со стола письменный прибор и размозжить ему голову». Чувство, выраженное в этой фразе, было мне понятно, так как я считаю Плеве одной из самых отталкивающих личностей, с которыми мне приходилось соприкасаться, но слова Лопухина меня удивили, так как они резко противоречили тем близким отношениям, которые существовали между ним и Плеве.
По изготовлении проект всеподданнейшего доклада был прочитан мной князю [Святополк-]Мирскому в присутствии приглашенного для сего Лопухина, который успел уже, видимо, установить добрые отношения с новым министром. Заключительная часть доклада замечаний со стороны князя не вызывала, в исторической же части он признал нужным сделать некоторые изменения. В проекте было сказано, между прочим, что начиная с 60-х годов в известной части общества стали замечаться явно выраженные конституционные течения, которые, колеблясь и видоизменяясь, получали все большее развитие и заслоняли собою течения славянофильские. Сказано это было очень осторожно, но князь признал нужным совсем затушевать и сказать лишь глухо о стремлении общества принять участие в делах государственного управления или что-то в этом роде, теперь уже точно не припомню. Одним словом, он старался отгородиться от возможного впечатления, что он связывает свои предположения в каком-либо отношении с указанным течением.
Так как все дело приказано было сохранять в строжайшей тайне и мог полагаться только на вполне надежного переписчика, то переделка доклада и его переписка заняли еще дня три, после чего, следовательно, около 20–22 ноября доклад был мною вторично прочитан князю [Святополк-]Мирскому, причем на этот раз кроме Лопухина присутствовал еще и Э. А. Ватаци, директор Департамента общих дел, человек близкий [Святополк-]Мирскому по прежней службе в западном крае. Замечаний доклад не вызвал, и я тут же передал его [Святополк-]Мирскому вместе с проектом манифеста, также им одобренным, в двух редакциях, отличавшихся только заключительной, не имевшей значения фразой. На следующий день князь [Святополк-]Мирский повез их государю.
Государь, видимо, не торопился с рассмотрением доклада, так как, по словам князя, пять дней спустя сказал ему, что еще не все прочитал. Еще через два-три дня я узнал от [Святополк-]Мирского, что государю угодно было для обсуждения его предположений созвать совещание в составе некоторых министров и графа Витте, как председателя Комитета министров. В совещание это приглашены были, помнится, еще двое великих князей – Владимир и Сергей Александровичи[9], а также Э. В. Фриш[10], граф Сольский[11] и А. С. Танеев[12]. Князь [Святополк-]Мирский сказал мне при этом, что, по словам государя, он не собирается приглашать в совещание К. П. Победоносцева, чему [Святополк-]Мирский очень радовался, так как со стороны Победоносцева ожидал принципиального несогласия на осуществление намеченных в докладе предположений. На вопрос, не следует ли отпечатать всеподданнейший доклад и разослать участникам совещания для предварительного ознакомления, без чего им трудно будет в нем разобраться ввиду обилия затрагиваемых вопросов, князь [Святополк-]Мирский сказал, что это невозможно, так как совещание состоится, вероятно, на следующий же день, и что он доложит все на словах, а если будет нужно, то прочтет и самый доклад, и во всяком случае – проект манифеста.
Спустя еще дня два или три меня вечером вызвал князь [Святополк-]Мирский. Он только что вернулся из совещания (было, кажется, два заседания) и находился в очень подавленном состоянии. Он сообщил, что дело провалилось и не остается ничего более, как приступить к «постройке новых тюрем» и вообще усилить репрессии. По словам [Святополк-] Мирского, государь, изменив свои первоначальные предположения, вызвал в совещание К. П. Победоносцева, послав ему утром записку такого содержания: «Мы запутались, приезжайте, помогите разобраться». Главным, однако, оппонентом явился в совещании не Победоносцев, как того ожидал князь [Святополк-]Мирский, а к изумлению его, С. Ю. Витте, причем все острие своих возражений и нападок он сосредоточил на предположениях о включении выборных членов в состав Государственного совета, доказывая, что эта мера очень опасная, чреватая неизбежными последствиями, и, являясь вступлением на путь к конституционному строю, грозила бы гибелью России. Витте говорил резко и с большой настойчивостью, и, по впечатлениям [Святополк-]Мирского, желал во что бы то ни было вырвать дело у него из рук и оставить себе, чего, как известно, и достиг, получив в этом же заседании высочайшее поручение рассмотреть в Комитете министров вопрос о намечаемых преобразованиях и взяв у [Святополк-]Мирского его всеподданнейший доклад и проект манифеста. Вообще из рассказа [Святополк-]Мирского было ясно, что Витте его просто затоптал и отшиб от дела. [Святополк-]Мирский понимал, что его роль как министра внутренних дел кончена, что вскоре и оправдалось. Он передавал много подробностей о ходе заседания и о роли и отношении к нему отдельных участников, но, не имея под рукой своих заметок того времени, затрудняюсь их воспроизводить, чтобы не впасть в неточности. Впечатление от слышанного у меня осталось такое, что члены совещания, не будучи предварительно ознакомлены с предметом предстоящих обсуждений, были захвачены врасплох, суждения шли вразброд, вне ясных рамок, чем и воспользовался Витте для своих целей.