Фуга бесплатное чтение
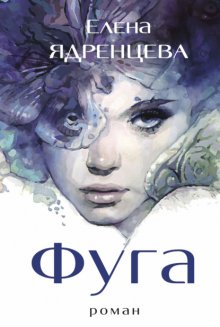
© Ядренцева Е. В., 2021
© «Время», 2021
Моему отцу,
Ядренцеву Владимиру Федоровичу,
посвящается
Пролог
– Эй, ты это куда понес? Не-не, погодь, в смысле не надо нам сюда еще кровать! Да не тащи ты ее, э, кому сказал!
У входа в только что созданный Приют чуть ли не лбами столкнулись двое парней: один действительно взволок на крыльцо старую кровать и пытался теперь прорваться к двери; другой, Рысь, оную дверь заслонил и изображал командирский окрик.
Карл Мюнтие, мастер города Асн, как раз пришедший посмотреть, как там дела, остановился и одобрительно хмыкнул: последняя фраза ничего у мальца вышла. А что вчера его трясло, так это ладно, никогда раньше он домов не создавал, вот и трясло. Ну потрясет и перестанет.
Солнце слепило, Карл приставил ладонь ко лбу. Приют пах деревом, Карл аж отсюда чувствовал, а поле – пижмой, клевером, нагретой зеленью. Рысь, рыжий, тощий, только-только очнувшийся, все уламывал второго бросить кровать. «Слышишь, ну не, так не пойдет. Каркас оставь, а. Возьми подушки и матрас, отнеси в дом. Как ты ее допер-то вообще?»
Рысь спрашивал с недоумением и сочувствием, и это было хорошо. Он не орал. То есть хуже было б, если бы орал, и совсем плохо – если бы нес что-то в духе «а я тут главный, меня мастер попросил». Мастер, который стоял себе глядел, как замысел потихоньку обретает плоть, подошел ближе, сделался заметен и хмыкнул обоим:
– Денечка доброго.
– А, здрасте, доброго, – ответил Рысь и вытер пот со лба, и по тому, как он сощурился, Карл понял – ни черта-то он не помнит. – У нас тут типа спор.
– Да я вижу, что спор.
Чудак с кроватью так и замер, мотал головой, и Карл кивнул ему – мол, сгинь давай. Тот от кровати отцепился, но сгреб одеяло, обе подушки и простыню и с этим грузом просочился в дверь.
Рысь остался, и кровать теперь стояла между ним и Карлом.
– А вы кто будете, прощения прошу?
– Я-то? – Карл не спеша вполоборота уселся на голый матрас, вытянул ноги, поддернул штанины. – А мастер здешний. Слышал о таком?
– Так это вы сказали, что я здесь все создал?
– Ну, все не все, а дом вполне себе.
Рысь обходил кровать так медленно, что стало ясно, почему появилось прозвище. Карл ждал. «Ну кинься, кинься, если хочется». Рысь застыл рядом, голос его чуть дрожал – то ли страх, то ли злость, то ли всё вместе:
– Я вообще-то не собирался создавать ничего. Вы бы, мастер, начистоту сказали, не?
– А ты присаживайся – может, и скажу.
Сесть-то он сел, только на самый край – и все смотрел, смотрел, не сводя глаз. Куртку ему уже почистили, штаны не успели, и были те пижонские штаны в налипшей грязи чуть ли не до самых колен. Сама отвалится? И ведь дурак дураком, ни хрена не видел, а уже чуть не сдох. И сколько таких еще?
Карл вытащил из пачки сигарету, протянул Рыси, взял себе вторую. Рысь затянулся жадно, благодарно, покосился на Карла и таки ввернул:
– А говорят, мол, мастера не курят.
– Это смотря какие мастера.
– А вы какой?
Да он не парень даже, а мальчишка. Такого бы в приличный дом или учиться – и глядишь, выйдет в люди. А ты вздумал…
– Ты, Рысь, читать-то любишь?
– Вы откуда знаете? В смысле, не про книжки, а про прозвище?
– Да я много чего знаю, ты не дергайся.
А лицо у него подвижное – хоть отворачивайся. Вокруг трещали всякие кузнечики, в Приюте что-то с грохотом упало и вслед за этим кто-то бодро выругался, и Карл сжалился и выдал полуправду:
– Да ладно, ладно, девушка твоя сказала.
– А когда это вы с ней…
– А вот пока ты спал.
Рысь курил, его девушка где-то внутри расчесывала волосы, и ни один из них еще не знал, что сотворенный Рысью дом покинуть они смогут ой нескоро.
Преддверье
В первый день осени Рысь, глава известного в узких кругах Приюта, встал с постели и наступил на что-то липкое.
– Ну ё-мое, – выругался Рысь удивленно и всмотрелся внимательней: да нет, не кровь. Это вчера тут кто-то что-то очень основательно разлил.
Рысь зевнул во весь рот и стал натягивать штаны. За спиной заворочалась Роуз, его женщина, но не проснулась; вот и ладно, пускай выспится. А он пока может собрать с пола чужие шмотки: носок, еще носок, синий лифчик – у Роуз-то сейчас точняк другой, футболка… В углу стояли две пустых бутылки и пепельница с мятыми окурками – Приют как он есть. На окне кто-то нарисовал помадой рожицу.
– Цыплят по осени считают, – сказала Роуз ровным голосом, и Рысь поежился. Роуз, не шевелясь, смотрела в потолок.
– Каких цыплят, радость моя?
– Таких пушистеньких. Цыплят по осени едят, если найдут.
– Ой да ладно тебе, едят не едят…
Он снова сел, зарылся лицом ей в волосы и наладился было заснуть снова, но вместо этого проснулся окончательно и сразу понял отчего – от тишины. Как будто разом отсекли вообще все звуки.
– Слишком темно, – сказала Роуз ровным голосом.
– Ниче-ниче, радость моя, скоро рассвет…
Но пока там, снаружи, была тягучая, густая темнота – ни просвета, ни щелочки. Рысь чувствовал это.
– Скоро случится что-то отвратительное, вот я о чем.
Рысь шумно вздохнул – хорошо началось утро. А через часик потянутся страждущие – того утешь, этому объясни, этим вломи, эту разубеди… Кто-нибудь новенький возжаждет утешения, кто-нибудь старший позабудет, кто он есть, а он, Рысь, будет делать вид, что очень умный и точно знает, как им всем помочь. Самое странное, что день за днем это прокатывало. Сам Рысь типу с такой физиономией ни в жизнь не стал бы доверять, а эти вон как…
Роуз тем временем села прямо и уже деловито подсказала:
– Вон там еще стакан, на подоконнике.
Стаканы толпились везде: и на полу, и на печальном, в пятнах, подоконнике, и даже на стуле. Тетрадь, в которой Рысь вел важные счета, открытая, лежала на столе. В ней поперек листа было его собственным почерком написано: «Напомнить А., где он забыл свою жену!»
– А где Артур забыл свою жену?
– У него нет жены, милый.
– Так я и думал…
– Почему мы уснули-то в мансарде Яблока?
– Потому что вчера нам показалось, что праздновать тут – хорошая идея.
Рысь вздохнул. Он собирался отнести стаканы в кухню и заодно сообразить поесть. Третьего дня он припрятал в буфет банку маслин и теперь предвкушал. Нужны же радости… Уже на выходе вспомнил и обернулся:
– Слушай, а твое это, отвратительное – оно совсем вот-вот или есть время?
– Не знаю, – Роуз как раз натягивала платье через голову, но Рысь понял, что она жмет плечами, – вот сейчас кажется, что вообще уже случилось.
Снаружи все никак не рассветало.
Выпусти нас, выпусти нас, выпусти, выпусти нас, мы ведь все равно выйдем, не мешай нам…
Выпусти…
Выпусти…
Тебе нет смысла нас удерживать…
Ты же помнишь, кто мы такие, правда же?
Ах, поглядите на него, какая жалость, он нас не помнит!
Да он сам себя не помнит!
Ты лучше выпусти нас, а то сам знаешь, что будет…
Выпусти…
Отвори…
Все равно сдашься…
Яблоко не спеша открыл глаза, осознал, где находится, и ухмыльнулся в потолок:
– Какая прелесть. – И чихнул, потому что в Приюте было холодно. По осени в Приюте всегда холодно. – Однако же забавная традиция, – бормотал Яблоко, задумчиво рассматривая то ремень, то помаду, то стакан, позабытые кем-то беспечным в его мансарде. – Вот так отлучишься на жалкие семь месяцев – и твоя комната уже притон разврата. И кровать, видимо, ложе чьей-то любви. И осы в спячке.
Словно отвечая на его слова, в гнезде под потолком зажужжали.
– Ах вы ж мои хорошие, – проговорил Яблоко с нежностью, – проснулись, да?
Выпусти нас, зараза.
Пожалеешь!
Время уходит, и оно твое, не наше…
Яблоко замер с распростертыми руками. Осы слетали к нему на ладони, плечи, ползли по лицу, забирались в рукава. Яблоко запрокинул голову и жмурился, как кот, которому почесывают шею.
– Да, да, да, вы ж мои солнышки, и я вас тоже люблю, да, мои милые, да, кто соскучился!.. Ах вы ж мои роскошные!
Даже не смерть…
Есть вещи хуже смерти…
От тебя не останется ни шанса…
– Вы ж мои славные! Ну, кто ваш папа, кто? А кто это у нас тут такой красивый?
Яблоко поднес к губам усеянную осами ладонь и принялся целовать – осторожно, будто дышал на запотевшее стекло. Осы в ответ жалили его в губы, но ни следа укусов видно не было. Одна оса заползла в приоткрытый рот, и Яблоко сплющил ее о нёбо, крепче зажмурился от наслаждения – и проглотил.
Выпусти, выпусти…
Осы все жалили его – и засыпали.
I
Джо пришла в себя оттого, что рядом разгорелся спор. Она еще не разбирала слов, но интонации узнавала безошибочно. С такими мама сдерживалась, чтоб не отрезать: «Разговор окончен».
Только вот спорили двое мужчин. Негромко, и один звучал как школьная дама, а другой – как сама Джо, когда все-таки огрызалась.
– Я так понял, что это ваша юрисдикция.
– С чего это моя?
– А вот смотрите.
Джо открыла глаза и первым делом разглядела рыбий хвост. Скользкая, жирная рыбина, облитая маслом, лежала рядом с ее ухом. Джо медленно выпрямилась и сказала:
– Здравствуйте.
– Здравствуйте, здравствуйте, – откликнулся тот из мужчин, который как в школе. Черные волосы, костюм, лицо зануды.
Второй был рыжий, встрепанный, в джинсах и рубашке, он посмотрел на Джо и вздохнул:
– Господи ты боже.
Джо оглядела себя: да, кофта вся в масле. И кожанка. И вообще на всю одежду налипли луковые кольца и кое-где рыбьи чешуйки. Все блестит. Оказывается, Джо свалилась на лоток с рыбой, а вокруг стояли прилавки на любой вкус – с яблоками, морковью, рябиной, белыми ягодами, что появляются по осени.
– Но я не собиралась падать в рыб, – сказала Джо и не узнала свой голос. Рынок шумел, и люди торговались, и всем, казалось, было все равно, что Джо не помнит, как тут очутилась, кроме хозяина рыбного лотка.
– Собиралась не собиралась, а рыбу мне испортила, вот что!
Он был какой-то слишком загорелый для такого холода, и на смуглом лице особенно ярко выделялись белые усы. Джо смотрела на все будто из-под воды: на торговца в его жилете, и на двух спорщиков, которые вздохнули почти одинаково, и на примерзшую траву под ногами, и на цветастые юбки женщин вокруг. Никому нет дела.
– Помилуйте, – вступил черноволосый, – но как именно испортилась рыба? От падения? Это влияет на качество рыбы? Я не осведомлен.
Рыжеволосый закатил глаза:
– О господи ты боже мой, «качество рыбы»! Если вы, господин торговец, так уж пострадали, то я пришлю людей, и они будут у вас в подручных целый день, идет?
– Вот ваших молодцов мне тут только и не хватало.
– Тогда чего вы хотите?
– Мне бы денежек…
Рыжеволосый процедил сквозь зубы:
– Сколько вам?
– Я могу заплатить, – сказала Джо, – я только вспомню, где… откуда я…
Рыжеволосый и Костюм переглянулись.
– Уведи девочку, будь так любезен, – сказал Костюм подчеркнуто ровным голосом, – я оплачу.
Рыжий скривился и кивнул:
– Спасибо, братец.
Джо шла за рыжим и пыталась вспоминать.
Некоторые истории обретают вес и смысл, только будучи пересказаны впоследствии. Рысь и Роуз относили свою как раз к таким.
– Когда-нибудь выйдет шикарная байка, – говорил Рысь, падая на кровать глубоким вечером.
– Это уже пьяная байка, – возражала Роуз, – и с самого начала было ею.
– Не, – Рысь закидывал руки за голову, что значило, что он всерьез увлекся, – для байки нужна смысловая завершенность. Ну типа: и потом, спустя два года, они вдруг поняли, что у них ничегошеньки не вышло. А мы ж не знаем, чем оно тут кончится, так что пока это всего только история.
– Про то, как ничего не выходило.
– Про то, как мы эпически лажали, я бы сказал.
Начать с того, что никакой Приют Рысь ни основывать, ни возглавлять не собирался. Он до сих пор помнил, как разлепил глаза и обнаружил, что над ним склонилась Роуз. Одновременно очень захотелось пить и чтоб она его поцеловала.
Вокруг творился бардак. Люди входили, выходили, мельтешили, пол был густо присыпан цементной крошкой; Роуз гладила его по волосам, в ушах шумело. Огромный красный зал был залит солнцем, и яркий свет нещадно слепил глаза.
– Что это за дом? – проговорил Рысь непослушным языком, пытаясь приподняться на локте. – Что это за место вообще?
– Вот уж не знаю. Это ведь ты сделал, а не я.
Рыси казалось, что ее прохладный голос медленно льется на его горячий лоб, и он зажмурился, подставив лицо, а потом разобрал смысл.
– Я сделал? Радость моя, ты о чем?
– Я говорю – не было дома, а потом появился. Знающие люди говорят, что это результат твоего намерения. Это ты сделал. Ты вложил в него себя.
– Что я вложил?.. Какие люди на хрен?
Ему почудилось, что Роуз издевается. Он кое-как сел, все еще щурясь от света, огляделся из-под ладони козырьком. Было чувство точь-в-точь как после пьянки, когда не помнишь, что вчера произошло, но уже чувствуешь стыд и досаду вперемешку.
От дверей подбежал встрепанный парень:
– Это же вы здесь главные? Вы главный, да? А там внизу две девушки дерутся!
Потом этот день назовут первым днем Приюта и вспоминать будут обмолвками и неохотно.
Говорят, что со временем дом перенимает характер своего хозяина. Рысь не знал, как там у других домов, но что Приют пошел в него – вот это точно. Рысь обожал красно-коричневый цвет – и весь Приют был выкрашен в такой же. Рысь любил музыку – в Приюте много пели. Еще в Приюте были большие окна, тесная кухня и почти не было мебели, но почему так, Рысь понятия не имел.
– Может, это типа символ того, что я в душе суров и аскетичен? – недоумевал он, когда обнаружилось, что кроватей в Приюте всего две, да и те в мансардах. – Какой, однако, скудный у меня внутренний мир, с ума сойти…
Это потом выяснилось, что каждый предмет мебели утяжелял дом, а значит, увеличивал нагрузку на Рысь в целом, а тогда Роуз пожала плечами:
– Зато на кухне есть цветы на подоконнике. Много, много цветов, такие заросли.
У Роуз имелись: превосходные манеры, рыжие волосы, темные глаза, тонкие губы, точеный нос и подобающее воспитание. Носила она чаще всего джинсы с майками, но плечами при этом пожимала с таким видом, что все прочие, в платьях ли, в кружевах ли, как-то вдруг меркли и отходили на задний план.
У Рыси было воспитание, а манер не было, и ходил он в любое время года в облезлой куртке; зато он умел смеяться над собой, превращать буйную толпу в тихую и крайне редко унывал. Волосы у него тоже были рыжие, а глаза ярко-ярко голубые, как небо, если взглянешь с недосыпа. Если бы у Приюта с Рысью был девиз, он бы звучал так: «А зато поржали». Или еще: «Другого все равно нет». И «Пропадать – так с музыкой» тоже сошло бы. В Приюте, в общем, только тем и занимались, что пропадали – каждый на свой лад, иные по многу лет и уж с такой музыкой, что город внизу трясся.
Еду в Приют исправно поставлял городской мастер. Сам Приют стоял на холме на окраине города и подчинялся мастеру же. Вроде бы. Из города приходили тюки с овсянкой, гречкой, яблоками, буханками черного хлеба, тощими рыбами – из этих можно варить суп; мастер Приют не очень-то любил, но еду присылал всегда в срок, как по списку. Мастеру тоже было проще притворяться, что все так и должно быть и никто никого не ненавидит. Да тьфу на него… Рысь мысленно сплюнул и в сотый раз пообещал себе не думать.
– Пойду задам свой любимый вопрос, – сказал неизвестно кому и честно двинулся в сторону зала. – Какой сегодня день недели? – заорал на подходе, еще только отодвигая эти шали, кто-то завесил ими дверной проем, – бордовую с кисточками и черную с помпонами. – Какой сегодня день недели, а, ребят?
Все медленно повернулись к нему – заспанные, довольные, печальные, с брызгами грязи на штанах, в царапинах, с расклеенными по спинам дразнилками, в татуировках, в старых рваных майках, с растянутыми выцветшими рюкзаками. Смотрели кто угрюмо, кто насмешливо, а кто с надеждой, снизу вверх – это из новеньких. И если хоть один из них хоть на минуту нарисует сейчас себе в голове линейность времени – после сегодня будет завтра, утро-вечер, за понедельником всегда следует вторник, – это уже будет его, Рыси, победа.
– Так какой день?
– А я откуда знаю!
– Мы вообще спим еще, чего ты хочешь?
– Я не уверена, но думаю, что вторник.
– Кто за вторник, подняли руки! Кто за среду!.. За четверг есть кто? Пятница? Суббота?..
Все больше людей копошились в рюкзаках, что-то считали на пальцах и советовались. Кто-то достал тетрадные листки с самодельным календарем и сверялся теперь с ним, шевеля губами.
– Последнее слово, народ?.. Только чур не драться!
Голосовали почти поровну за пятницу и за четверг – Рысь даже сам засомневался, да ну их. Прошел по залу, посмотрел, все ли в порядке: люди потягивались, просыпались до конца, сворачивали свитера и куртки, на которых спали, и кое-как запихивали в рюкзаки. День обещал быть длинным и холодным.
Какая-то новенькая с темными глазами, черными волосами и в не по росту большой кожаной куртке так и сидела на полу, не двигаясь, глядя куда-то в их любимое ничто. Рысь поморгал – он же ее недавно видел. Совсем недавно. А, точняк, на рынке. Надо бы с ней поговорить, да в тот раз отвлекли.
Он сел на корточки и тихо положил руку ей на плечо:
– Тебя как зовут, а? Очнись давай. Давай-давай-давай, нечего, утречко, все шустро собираются, ты сейчас тоже шустро соберешься, пойдешь в столовую, обретешь там хлеба с яблоками… Давай, сдалась вам эта глубина. Давай наверх. О, ты моргаешь, это то есть «какие яблоки»? Да я и сам еще не пробовал, но вроде кислые…
Вот так трепаться за двоих Рысь мог часами, но на сей раз не понадобилось: девочка кивнула, чуть отодвинулась и ответила:
– Меня зовут Джо.
– А где ты?
– В зале вроде…
– А меня как зовут?
– Рысью зовут вас, – она не понимала, шутит он или нет, и на всякий случай нахмурилась, – вас же все знают. И вы представлялись.
– Ты представлялся, – поправил ее Рысь и мысленно поставил галочку. Ну вот, ура, кого-то вытащил с утра пораньше, про день спросил, теперь идти смотреть, чтобы в столовой было мирно, всучивать людям книги и так далее.
Он уже встал, когда Джо вдруг робко сказала:
– А я хотела спросить…
Все они хотят. Сейчас начнутся всхлипывания про родной дом, или про память, или мальчик понравился впервые в жизни, или кровь проступила, где не надо, – да мало ли вопросов может возникнуть у девочки пятнадцати лет! А та определилась и повторила уже требовательно:
– Так можно вас спросить?
Вот это наезд! Рысь фыркнул, потянулся было растрепать ей волосы, но девочка выскользнула из-под руки, как кошка. Покосилась тоже по-кошачьи, испуганно и зло одновременно, и все-таки соизволила поделиться:
– У вас бывает, что проснулся и темно? То есть всегда было темно и всегда будет, только ты не понимал. И ничего не станет хорошо.
«О как отлично! Главное, не кровь».
– Это по осени такая ерунда, – сказал любимым своим отстраненным тоном, вроде сочувствовал, а вроде и не квохтал. – Надо, короче, просто брать кого-то за руку и засыпать, а утром будет лучше.
– Но это же бездонное, как пропасть.
– Оно бездонное, пока ты туда смотришь. А ты отвернись. На фига оно тебе?
Джо вздохнула и не ответила. Ну конечно.
– Зайди в мансарду ко мне через час-другой, – попросил Рысь и встал, – поговорим, а то в тот раз не успели.
– А, ладно, – сказала она тоном человека, который плохо помнит, на каком он свете, – да, хорошо. Зайду.
Да чтоб его.
Роуз стояла у выхода из мансарды в коричневом плаще с рюкзаком наготове и ждала. Уже собрала волосы в хвост и надела серьги, уже закрылась наглухо, будто не с ним спала в обнимку еще два часа назад.
– Там дождь, – сказал Рысь без выражения.
– Я знаю, милый.
Они поцеловались на прощанье. Где-то на лестнице и в других комнатах, Рысь знал это, другие парни сейчас так же отпускали своих девушек, делая вид, что от них что-нибудь зависит.
– До вечера, – сказал он Роуз в спину, и она обернулась на ходу.
– Я зайду днем. И я забыла термос. И знаешь, милый, тут же Яблоко пришел.
Рысь замер. Кивнул. Яблоко так Яблоко. Пойти в мансарду и покончить с этим быстро.
– Привет, – сказал Яблоко и пожал плечами, и Рысь откликнулся дурацким полуэхом:
– И тебе привет.
Яблоко рассмеялся меленьким старческим смехом – Рысь ненавидел его с самого начала.
– А я ос разбудил, – поделился. – А у тебя как дела?
Он сидел на их с Роуз кровати, болтал ногами – серенький, невзрачный, вроде какой-то даже сгорбленный от незначительности, а ухмылка такая по-кошачьему довольная, что врезать хочется. Уксусная ухмылка, а волосы белей бумаги, белей простыни. Блеклыми серыми глазами он все смотрел на Рысь и не моргал. Рысь не глядел на него дольше нескольких секунд.
– Как дети твои? Всё растут, я вижу?
– Растут, – откликнулся Рысь. В горле пересохло, и он плюхнулся на пол у стены, начал отпускать лямки рюкзака – длинней, длинней, длинней, самые длинные. Пальцы не слушались, Рысь чертыхался про себя, а Яблоко наблюдал за ним прохладным взглядом – как будто на поверхности воды шла легкая рябь. Ветер – не ветер…
– То есть насчет нашего условия ты не раздумал? – уточнил он, и Рысь, как всегда, захотел заорать: «Раздумал, выкуси! Что ты мне сделаешь сейчас, а, что? Что ты нам сделаешь? Думаешь, если весь такой красивый, то морду тебе уже не набьют?»
– Нет, не раздумал.
Рысь нарочито медленно зафиксировал лямки, оправил футболку и взглянул Яблоку в глаза.
И все закончилось.
II
В Асне шел дождь. Он накрыл город тихим, мерным шелестом, который приглушил все прочие звуки. Вода пропитывала почерневшие ветви деревьев, дома, красные ягоды на кустах, листья, плащи прохожих и рыхлую землю. Началась осень. Асн был окружен лесом, как все города в здешнем краю, и в такую погоду Томасу, городскому мастеру, всегда казалось, что ничего, кроме леса, не существует.
Этим утром Томас сел на постели и в темноте услышал глухой шум.
Ну вот и все.
Город обрушивался на него десятком запахов: запахом прорезиненных плащей, опавших листьев, запахом пыли и старого дерева, запахом пирога у кого-то в духовке, первого льда на лужах, влажного пара, который выдыхаешь, когда холодно.
Томас кивнул:
– Доброе утро.
В этом и состоит работа мастера – общаться с городом. Мастер – каркас, мастер – опора, мастер – сердце. Не будет мастера – и города не станет.
Вообще городов с мастерами было семь, но мысль о таких же несчастливцах не грела душу, а только расстраивала. Вот в центре края стоял настоящий город, прекрасно обходящийся без мастера. И как же Томас ждал возможности туда вернуться! Говорят, кстати, что бездетным мастерам надлежит выбирать себе преемника, но об этом Томас пока не думал. Он еще даже не женат, какие дети? Потом, потом. Всё потом, если на то пошло.
На зеркале в его ванной были густо наклеены бумажки с личными заповедями: «не злись», «улыбайся понатуральнее, не халтурь», «люди ни в чем не виноваты, не пугай их», «думай, как выглядишь», «да перестань ты уже думать». Томас писал их десятками, быстро забывал, отдирал старые и приклеивал новые. Часто ему казалось, что стоит только начать твердо соблюдать именно это свежесформулированное правило – и все станет если не хорошо, то сносно, он перестанет быть таким ужасным мастером и сможет вспомнить о собственной жизни хоть чуть-чуть. Хотя бы купит новую рубашку.
«Терпение украшает мужчину».
«Вежливее».
«Не хочешь легче относиться к ситуации – не относись».
«Сходи в Приют во что бы то ни стало».
В последнюю запись он вгляделся еще раз, пристальней. Неужели снова пора? Уже? Так рано? С тех пор, как погиб отец, Приют для Томаса стал самым нелюбимым делом.
Самым.
Самым.
Когда он приходил, младшие дети толпились вокруг, а этот приютский главный, Рысь, стоял в сторонке и делал вид, что Томаса не существует. И Томас отвечал ему тем же. Он старался всегда отвечать взаимностью. Даже когда им приходилось разговаривать, Рысь смотрел в сторону, и Томас остро чувствовал, что над ним издеваются. Еще Рысь фыркал, периодически называл Томаса на «ты» и вел себя так, будто панибратский тон был ему привычен и раз навсегда позволен.
– Вот новые книги, – пояснял обычно Томас, кивая на стопку, – если у вас, конечно, ими кто-то интересуется.
– Вот предыдущие, – отзывался Рысь, кивая на другую стопку, – эти Томас приносил в прошлый раз. – Я могу попросить пересказать прочитанное. В лицах и с вариациями. Не хочешь? Не хотите?
– Нет, – отвечал Томас, – благодарю, спасибо, – и отпивал еще чаю из грубой кружки.
– Сахар? – спрашивал Рысь. – Селедка? Сало?
– Ваше сало выше всяких похвал, – отвечал Томас и подцеплял кусочек вилкой.
– Мое сало?.. Не знаю, не пробовал.
Как отец вообще их выносил? «Сын, сохрани Приют во что бы то ни стало и помогай им всеми способами, что изыщешь». Ну да, кинулся помогать. Отец, отец…
Хорошим шагом до Приюта минут сорок. Хороший шаг – это когда людей немного, никто не бежит за тобой с криком «Мастер, мастер!», милые дети не зовут поиграть и не задают на спор всяких: «А вы курите?», милые барышни не провожают томным взглядом и священник, в теории тоже милый, не переходит на другую сторону улицы. Хороший шаг – это идти сначала местными дорогами, потом тропинкой, перепрыгивать через лужи и грязь, смотреть в небо и не открыть рта ни разу за все время пути. Хороший шаг почти недостижим.
Когда-то давно, в детстве, Томас думал, что нет ничего лучше, чем быть мастером. Ходить по улицам, касаться стен домов и чувствовать себя с Асном одним целым. И чтобы каждый житель знал в лицо. Теперь Томасу очень хотелось купить шляпу и куртку с высоким воротом, чтоб видны остались разве что глаза.
– Мастер, а мастер, а что там с погодой?
– Я выясню и сразу вам сообщу.
– Мастер, а солнышка бы?
Если бы он мог!
Они, кажется, путали его то со священником, который Томасу едва кивал, то с неким духом – исполнителем желаний, то с врачом. Люди стекались к нему в дом облегчить душу, со смешком посоветовать найти жену (в тяжелых случаях – попроситься на ее место) и убедиться, что все будет хорошо – в последнее Томас сам давно не верил. Люди здоровались на улице, он отвечал и знал почти наверняка, что на его месте все по-прежнему видят отца. Он бы и сам не прочь, чтоб на его месте был отец, да только тот ушел и не спросил.
Отец был мощным, крепким, ступал тяжело – вот уж опора так опора, крепкая рука… Томас уродился длинным, тонкокостным, с узким лицом типичного зануды и все гадал, чем провинился город, что ему вдруг достался такой мастер. «Хилый ты», – говорил отец, и ладно бы с презрением, так нет, с жалостью.
Отец любил копаться в земле, собирать грибы, слушать о людских горестях – и выпить тоже любил. Не то чтобы он делал это часто, но после его смерти Томас обнаружил на полке в кладовой ряд пузырьков: «черносм», «малин», «шиповник-пнш», «оч сильн». К «оч сильн» Томас однажды даже приложился, промаялся головной болью целый вечер и больше с горячительным наследством не экспериментировал – пусть стоит уж… Отцовский сад медленно зарастал крапивой, и Томас видел в этом что-то правильное.
Томас любил просыпаться загодя. Загодя – это чтобы в прихожей никто не ждал и можно было пить свой крепкий чай на полутемной кухне, ежиться от прохлады и приходить в себя. А не любил он просыпаться от того, что кто-нибудь стучал в дверь его спальни. Причем не этим робким, виноватым стуком, который все-таки хотя бы сознает, что он не вовремя, а наглым, укоряющим, уверенным.
– Доброе утро, – сказал Томас в пустоту, приподнявшись на локтях и пытаясь не рухнуть обратно лицом в подушку, – сейчас я выйду, минутку терпения.
Главное – сбросить одеяло, дальше – проще. Дальше вам попросту вмиг станет очень холодно, и вы будете вынуждены запрыгнуть в тапки и надеть халат, и потом двинуться, соответственно, к двери, по пути расправляя плечи и придавая мягкому лицу более-менее дневное выражение. Чуть отстраненное, слегка сочувственное и чтоб читалась по нему готовность выслушать, а отвращение ко всему на свете не читалось бы. И кто там в нем нуждается с утра пораньше? Только не плачущая женщина. Пожалуйста. Еще ведь осень только-только началась.
Он затянул пояс халата, распахнул дверь и самым предупредительным тоном, какой только смог выдать, спросил:
– Да-да?
И, конечно, все его трогательные приготовления остались втуне, потому что на пороге стоял не кто иной, как мэр города.
Она усмехалась и мерила его взглядом.
– Доброе утро, – повторил Томас и запахнул халат плотнее. – Чем обязан?
– Ой, да чего сразу обязаны-то! – Госпожа мэр, для него давно просто Анна, махнула рукой, и Томас понял, что свои плащ и шляпу она уже повесила в прихожей, потому что сейчас стояла в белом платье и синем жакете поверх. Еще она опиралась на черный зонт, и Томас живо вообразил, как кончик этого чудесного зонта упирается ему в грудь или живот.
Анна тем временем продолжала говорить в той чересчур бойкой манере зрелых женщин, которой Томас иногда втайне завидовал:
– Какая разница? Обязан, не обязан, то, это, пятое-десятое… Просто шла мимо и дай, думаю, зайду поинтересуюсь, как у мастера дела, раз уж лицо я вроде как уполномоченное…
– Интересоваться, как дела, в шестом часу утра? – уточнил Томас и жестом предложил взять ее под руку.
Они молча дошли до кухни – она в парадном платье и даже с серьгами в ушах, а он в халате, – и Томас молча заварил цветочный чай, не дожидаясь, пока прозвучит обеспокоенное:
– Мне можно мой любимый, да? Ну вот тот, с розами который… Вот спасибо.
– Только для вас его и держу.
– О, это вы правильно…
Анна приканчивала маленькими глотками вторую чашку и выглядела подозрительно довольной. Томас зачем-то вспомнил их первую встречу после похорон отца – когда она в толпе простых рабочих мрачно глядела на прорванную трубу, подоткнув платье и надев мужские сапоги. Труба выстреливала то фонтаном кипятка, то грязью, хотя по идее грязи там не должно было быть. Рабочие, узнав Томаса, зашептались, Анна сдула со лба мешающую челку и спросила устало:
– Мастер, а мастер, ну вот что это за история?..
– Это труба, – ответил, – рукотворная.
– А что, есть разница?
Он уже собирался объяснять, что с рукотворной трубой сложнее договориться, и что город, наверное, не спросили, когда столько-то лет назад ее прокладывали, и что в любом случае лучше бы его позвали сразу, потому что теперь город волнуется и вот и дождь идет особенно противный, – но Анна фыркнула, и он вдруг ясно понял, что эти тонкости ее не интересовали. Ей нужно, чтобы вода из трубы перестала хлестать и чтобы больше таких штук не повторялось, а как там Томас этого добьется, что за природа у их с Асном связи – вообще не важно. Только очень практичный человек может стать мэром воображаемого города, и Анна Риданайхэ подходила на эту роль замечательно. И поставки продуктов, и городской бюджет, и праздники, и сбор налогов, и еще что-нибудь для Томаса неведомое – всем этим заправляла Анна, и успешно. Она всегда казалась моложе своих лет – крепкая, невысокая, ладная женщина с карими глазами и сединой в каштановых волосах.
Спорить с ней было бесполезно, только смириться, и потому Томас не спеша вытащил из буфета коробку с пастилой:
– Угощайтесь.
– Я угощусь, но я не подобрею. О, апельсиновая! Это вы правильно поняли.
Томас пожал плечами, тоже отпил чаю. За окном переговаривались птицы – не орали, как весной, а так, тихонечко. Ноги на полу мерзли даже в тапках. Анна жмурилась, наслаждалась пастилой. Томас ждал.
– Вы извините, что я так вот утром вламываюсь, – начала Анна в середине третьей чашки, – другое время чёрта с два найдешь с этим банкетом, а так хоть чаю с вами выпили.
– С каким банкетом?
Лучше бы он не задавал этого вопроса. Анна смотрела на него секунду, две, три, потом все-таки хмыкнула:
– То есть вы не помните. А вы вообще-то тоже в нем участвуете… так, на минуточку.
– Да? А когда же?
– Когда-когда, сегодня! Вы, что ли, почту свою не читаете? А мы вам приглашение прислали еще недели три назад, красивое такое. С вензелечками.
Томас честно пытался вспомнить вензелечки – может быть, где-то в кабинете на столе они и ждали своего часа, он не знал. Пожал плечами снова, ему даже досадно толком не было:
– У меня почта не теряется только осенняя.
– Которая та самая? Ну еще бы она у вас терялась. Вы чего, наш банкет – такое зрелище, тут и оркестр, и бутербродики, и то и се…
– А в честь чего он?
– А просто так. Денег в конце побольше чтоб отдали.
– То есть он благотворительный у вас?
– У вас… У нас! Как налоги попробуешь повысить – так не дай бог, а как аукцион да чтобы мастер тоже поучаствовал – так все такие сразу деятельные, невозможно…
Томас вздохнул. Вот так вот в шесть утра ехидные женщины на твоей же кухне побуждают тебя творить безумства.
Анна поставила чашку на стол и впервые взглянула без усмешки. Томас тоже смотрел внимательно-внимательно: вот сейчас она выскажет то самое, для чего делала крюк через полгорода.
– Как там воля последняя отца-то вашего? Насчет Приюта вот которая? Не жмет нигде?
– А почему она должна мне где-то жать?
– А потому, что одной только рыбы мы им отправили уже черт знает сколько. – Анна теперь смотрела так сердито, будто бы Томас битый час ей возражал. – И всякой там картошки и гороха… А на другой стороне что? Завещание отца? А сколько времени нам их вот так вот обеспечивать – этого он не написал, нет? А чего так?
Томас молчал, ждал новых аргументов, и тогда Анна резко посерьезнела и сказала отрывисто:
– Если ты их не позовешь, меня Инесса с костями сожрет. И тебя туда же.
Ох, Инесса! В Асне считалось, что в Приюте живут колдуны и ведьмы, и раз в несколько месяцев матери города неизменно собирались тревожной стаей и шли к Томасу с требованием Приют закрыть. Была еще другая стая, злобная, – желчные вдовушки, встопорщенное кружево, и уж их-то не проведешь, они-то знали! Какие в наш век колдуны и ведьмы, когда в Приюте явно свил гнездо разврат. Вдовушки были старыми, не очень старыми…
– Нет, – отвечал Томас и им, и матерям, – я сожалею, но Приют закрыть нельзя. Последняя воля отца. Увы, никак.
– Вы хотите сказать, что ваш отец мог искренне любить вот эту гадость?
– Увы, увы, всем сердцем и душой.
Томас и сам был бы очень-очень рад, если б отец пожелал что-нибудь получше. Но нет, предсмертная записка, всё честь по чести, к тому же подпись мастера нельзя подделать.
III
– Какой банкет, они там обалдели? – переспросил Рысь в пустоту не то чтобы возмущенно, а озадаченно. – Ему без этого мало веселья?
– Кому ему?
– Да мастеру нашему обожаемому, кому еще…
Рысь хмуро смотрел на письмо у себя руках, надеясь, что не так что-то понял. Пять человек. Где он возьмет пять человек, чтобы и милые, и адекватные, и способные находиться подолгу вне Приюта, и понимающие, когда говорить, когда молчать? «Создать у горожан и г-жи мэра верное представление о физическом и моральном облике». Может, не надо верного-то? «Людей, наиболее полно выражающих концепцию…» Рысь представил там среднестатистических приютских девушек, которые говорят «милый» вообще всем, или девочек – как они жмутся у стены и не слышат даже прямых вопросов, или мальчиков, которые на всех смотрят сверху вниз, или парней – эти хохочут и толкаются…
«P. S. Это вопросы вашего снабжения.
P. P. S. Это не моя инициатива».
– Ох ты ж господи, – умилился Рысь сквозь зубы, – как же отлично-то! Чья же она тогда?
В комнате, кроме Рыси, была новенькая, которая подралась (она валялась теперь на постели в гнезде из пледов), и трое парней, которые, собственно, сподвигли ее подраться и теперь чувствовали некоторую неловкость (по крайней мере, Рысь надеялся, что чувствовали).
Утро выдалось отвратное: зарядил дождь, в столовой не хватило хлеба, и после встречи с Яблоком Рысь постоянно мерз. «В нудное утро – нудные дела», – решил он и честно сгорбился за письменным столом над тетрадкой со всякими расчетами. Нужно было прикинуть, сколько картошки понадобится Приюту в эту зиму, а потом все эти несчастные прикидки отдать мастеру, чтоб он их сдал еще кому-то и в итоге в Приюте были б ужины. Картошка, мясо…
В мансарде пахло деревом и сыростью. Рысь привычно пережидал озноб и тошноту и все пытался понять, что имел в виду, когда мучился над тетрадью в прошлый раз. Какая «капуста провал июль»? «Редиска статус»? «Мелкие плюс один минус 0,5»? Иногда появлялся почерк Роуз, и тогда становилось яснее. А вот тут она рисовала на полях – какая-то сумка с бахромой, лифчик, бутылка и его, Рыси, неожиданно суровое лицо.
В дверь постучали, причем, судя по звуку, – каблуком.
– Войдите, – разрешил Рысь, не отрывая взгляда от тетради. Должен же в этом быть какой-то смысл?
В дверь медленно, задом, вошла девушка в коротком черном платье и да, на каблуках. Она держала за руки чье-то тело, но Рысь пока не смог распознать чье. Девушка пятилась, пока не появилась ее товарка, тоже в черном, и губы у нее были накрашены черной помадой. Она держала тело за ноги.
– Здравствуй, Ксения, – сказал Рысь той, второй, с помадой. – И ты привет, не помню, как зовут.
– Эм, оно там лежало, на полу, – пояснила Ксения, сгружая тело на кровать.
Тут-то Рысь понял, кто это, – новенькая в куртке.
– Не, женский род, – сказал и глубоко вздохнул. – Лежала, женский род. А так спасибо.
Девушки фыркнули и ушли по своим прерванным делам – обе такой походкой, которая призвана сражать. Рысь посмотрел на бесчувственную новенькую, на цепочки цифр, от которых снова отвлекся, и решил, что его не сразит уже ничто. Новенькая дышала очень тихо, и, пока Рысь решал, как ей помочь, вразвалочку вошел Артур и выдал коронный аргумент Приюта:
– А чё она?
За Артуром явились Клянусь и Феликс, и Рысь медленно повернулся к ним.
Вообще-то они с Артуром были похожи, но Артур – крепче, такой лось в футболке. Он вечно говорил сквозь зубы, штаны болтались на нем чуть ли не на щиколотках, и на этот его дешевый шик часть девушек неизменно покупалась. Если Артурчик шел выгулять силу, то возвращался с бутылкой шампанского и только что не открывал ее зубами. Мог отжаться на одной руке и лихо свистел, сунув в рот два пальца. Клянусь много суетился и еще больше говорил, а Феликс был из той породы людей, которые обожают выводить всех из себя.
– Да ну? – уточнил Рысь, глядя на Артура в упор. – То есть это все она? А ты ничё то есть?
Был в Приюте такой отдельный сорт людей, которым надо всю дорогу проверять его, Рысь, на прочность. А что это он вдруг главный? Мы тоже хотим! Причем они же даже не со зла, никто не со зла, они просто не могут не борзеть – а вдруг на этот раз прокатит и он поддастся?
Артур, конечно, был из их числа, и говорить с ним надо было на его языке. Кого-то сила делает не в меру болтливым, кому-то оставляет горстку слов на все случаи жизни. Артур – из вторых.
– Как это вышло? – спросил Рысь тоном пониже и кивнул на кровать. Новенькая так и не очнулась. А щеки бледные, в разводах сажи, вот же горюшко. То есть не то чтобы в Приюте не швырялись силой, но сознание все-таки теряли редко.
Артур потоптался на месте в своих измятых летних туфлях. На одну ногу он надел носок, на вторую – нет. Ему бы мяч сейчас гонять, или к девчонкам, или выгуливаться, а не это всё.
– Чё, я ничё, – начал он снова, – я чего, совсем? Я, блин, иду по лестнице, а тут вдруг эта ни с того ни с сего…
– Так уж ни с того?
Как же Рысь не любил, когда собственный голос делался вдруг таким вот мерзко вкрадчивым, когда переставало быть смешно. Если в Приюте ты утратил чувство юмора – все, можешь сразу лечь лицом в ковер, толку будет примерно столько же, радости тоже, а времени сэкономишь… Он любил быть одним из них. Он был одним из них – ржал не по делу, читал по нескольку раз одну и ту же строчку, в шутку пихался, пил воду из леек, и иногда Роуз швыряла в него шмотки, просто чтоб он уже ушел и не мешал. Обычный парень с переизбытком рыжей силы, который иногда ужасно злится – и больше всех вообще-то на себя, но этого никто не замечает.
То есть не то чтобы все случилось в первый раз. Когда в доме живет толпа людей, почти каждого из которых распирает от силы, и половина из этих людей еще подростки, а половина позабыла все на свете, – волей-неволей ходишь в ожидании взрыва. Ты можешь всячески их занимать, придумать хор, читать им вслух разные книжки, вводить дежурства по столовой и по кухне, сам подавать пример и мыть посуду – но сила все равно будет ждать выхода. Плескаться в их телах и мозгах и оставлять на полу новые подпалины. Сила похожа по цвету на ржавчину и точно так же разъедает личность. Еще есть синяя, но в этой Рысь не разбирался – она у Роуз, и у некоторых мелких, и еще у его знакомых старших девушек, которые скажут одну фразу за неделю. Синяя сила – глубина, рыжая – хохот. Новенькая молчала, будто обладала синей, но дралась – рыжей, и это озадачивало.
Видимо, взгляд у Рыси сделался совсем задумчивым, потому что Артур поежился:
– Ну ладно, ладно! Ну сказал, что ей куртка велика, так это ж для знакомства, а не это!
– Которое?
– Ну мы с ребятами были… вон Клянусь и Феликс, и вот они спросили, чего она хочет, ну в смысле выпить, может, а она как ответит: «Молока», а Клянусь и скажи, что нет такого алкоголя, и потом еще…
Красноречие – это хорошо. Для Артура речь про молоко была, наверное, рекордом устного рассказа, он распинался, входил в раж, махал руками, а Рысь тошнило все больше и больше. Воды бы сейчас. И ведь до кучи парни еще ждали, пока Рысь поймет письмо мастера и перескажет.
– Что? – обозлился, тряхнул головой, будто их взгляды так легко стряхнуть. – То есть как сцепиться ни о чем – это мы с радостью, а как фигня какая, так мы все переживаем?
– А это, между прочим, одностороннее нападение было-то! – возмутился Клянусь, которого хлебом не корми – дай потрепаться неважно о чем. Полное прозвище его было Я Вам Клянусь, поскольку в первый день он правда клялся всем раз этак двадцать. А сейчас продолжал оправдываться – с воодушевлением. Они всё делали с воодушевлением. – В смысле, это она в нас кинула своим огнем. Нам-то зачем?
– Ага. Еще бы вы в нее ответно кинули. Какого хрена вы вообще ребенка дразните?
– Да ну а что этот ребенок бешеный такой!
– Она ведется, вот и дразним, весело же.
– Ну блин! Мы не хотели.
– А чё, а ей помочь-то можно как-нибудь?
И как раз когда Рысь хотел сказать: «Уйдите с глаз моих», с кровати раздалось:
– Я вообще-то вас слышу сейчас тоже.
Рысь поглядел на новенькую. Снова на ребят. Серьезно никто ничего не понимает? Откуда-то вдруг потянуло дымом, и Рысь не сразу понял, что это тлеет письмо мастера, которое он смял в руке и не заметил. Ну чего, пускай. Зато вон парни косятся с опаской.
– Еще раз, – проговорил спокойно, пока бумага медленно скукоживалась, – еще раз я увижу краем глаза, что вы к ней лезете или еще к кому-то, кто ведется, будете вместо них лежать в два раза дольше. Это понятно?
– Да кто знал, что она ведется!
– Теперь знаете.
Он подождал еще возражений – не дождался и полез под кровать. Там хранились книги – все потрепанные, старые, не те, что приносил нынешний мастер раз в неделю, а те, что отдал в только что созданный Приют его отец – что-то забрал из городской библиотеки, что-то из личной, и Рысь за эти годы перечитал их все. Он погладил обложки, вспоминая «Сказание о городе утраченном и мастере его, все потерявшем», «Искусство кружева» (эта вообще про постель), «Белые башни, хрустальные окна» (это про город в центре леса, где нет мастера, самый большой во всем краю и самый главный), «Правдивые приключения разносчика писем».
Новенькая молчала, не сводила с Рыси глаз. Он тоже молча сунул ей «Сказание…» и обернулся к приумолкшей троице:
– А вы что?..
Артур заржал и первым сцапал «Искусство кружева» – то ли кто-то ему уже рассказывал, то ли название рассмешило – фиг поймешь. Феликс, маленький, юркий и вечно всех раздражающий, схватил «Башни» и к себе прижал. Я Вам Клянусь, с которым, так сложилось, Рысь общался чаще и больше остальных, сказал одними губами: «Предатель» – и скорбно взял «Правдивые приключения…»
– Я тебе этого не прощу, – пообещал, – дня три.
– Да хоть неделю, – сказал Рысь. – Валите уже. Через неделю спрошу, я-то все читал.
– Серьезно все?
– И перечитывал даже.
Приют, наверное, единственное в мире место, где чтение книг было чем-то вроде доблести. Сила мешает сосредотачиваться, рыжая уж точно. Рысь еще помнил, как тащил себя сквозь тексты, кусал кулак и хотел взвыть. Парни ушли, оглядываясь на него с опасливым уважением. Вот и славненько.
Он в рассеянности отхлебнул из пустой чашки – а что там было-то?.. – и пригорюнился: банкет этот несчастный… Еще же в мэрии – это пилить через весь город, и приглашение теперь паленым пахнет по кое-чьей милости, ой кто же это был. Рысь оглянулся, не смотрит ли новенькая, и символически ударил себя в скулу. С новенькой, кстати, так и так поговорить… Он поднялся и передвинул стул к кровати.
– Эй, пссст, – позвал первый, пробный раз. – Ты что, на книжку вот сейчас обиделась?
– Нет, не обиделась.
Ага, а глаза то есть просто так красные, ну ладно. Сама худая, мелкая, а злости как у взрослой. Обычно новенькие либо много плакали, либо требовали вернуть их домой, будто Рысь знал, где это, либо присоединялись к остальным – и оглянуться не успеешь, как они дружненько идут со всеми в душ и в столовой кидаются хлебом. Душа в душу! А эта вон дерется в первый день.
Это не считая того, что, если б все пошло, как должно было, никаких новеньких в Приюте не появлялось бы.
– Хочешь воды? – спросил Рысь, возвращаясь в здесь и сейчас, и новенькая, конечно, сказала:
– Не хочу.
Мелкая, острая и грустная. Как щепка.
– Щепка, – сказал Рысь, пробуя прозвище на вкус, – ты вот чего ведь?.. Ты, если будешь так швыряться силой, в один прекрасный день не встанешь просто.
– Ну и не встану. Почему это я – щепка?
– А потому что как после пожара.
До кучи она отвернулась к стенке, свернулась клубком – не трогай, мол; пришлось нависнуть над ней как придурку и потрясти. Чем глубже человек в себя уходит после потери или передачи части силы, тем муторней и дольше оправляется.
– Щепка, не спи, – он говорил и тряс ее, – спать вообще вредно.
– А вы можете отстать?
Ну и ну. Рысь не помнил даже, когда кто-то вот так совмещал наезд и робкую просьбу в одной фразе.
– Ты очень вежлива, но нет, не могу. Послушай, что скажу. Они придурки.
Тут она всем корпусом повернулась к нему и спросила:
– Но ведь «придурки» – это, эм, плохое слово?
– В разных домах по-разному. Ты вот что пойми: они орут ерунду. Что тебе за дело? Иди куда шла. Они сами не слышат, что вопят, но тебе-то себя надо беречь?
– А что это вообще было?..
Рысь представил, как Щепка злится, огрызается и как ее же сила вырывается и отшвыривает ее на пол. Особо везучие умудрялись подпалить ковры – Рысь шипел от боли, подпалины затягивались, а с Рыси сходили синяки.
– Сила вышвыривает людей из родных мест, – пояснил Рысь неохотно, – когда им исполняется пятнадцать лет, к примеру, или шестнадцать, или двадцать даже. Меня вот тоже вышвырнула. А потом мы всё забываем. И нас забывают. Раньше, до Приюта, мы сходили с ума, и всё на этом. Тебя же кто-то разозлил, когда ты перенеслась?
«Горячие сердца, горячие головы. Мы бы столько могли, если бы не были опасны для мира и для себя, о, сколько б мы могли. Сила редко овладевает человеком, которому не больно от несправедливости и который не хочет жить».
Глаза у Щепки снова повлажнели. «Черт, чем ее отвлечь?» Рысь вспомнил о насущном и спросил:
– Ты на банкет случайно не хочешь сходить?
– Да как будто меня туда пустят.
– А чего нет-то? – Он поглядел на нее с новым интересом. Ну а действительно: возраст подходящий, смеется редко, милым никого не называет… И силой, главное, сейчас швырнуться просто физически не сможет. Мало в ней силы сейчас. Вот и замечательно. – А ты сама-то хочешь?
– А не знаю… А что там будет? Я вообще-то все испорчу.
– Да хоть пляши там, они сами нас позвали, – отмахнулся еще раз. Стало весело. Чего-чего они там ждут? Детей в костюмчиках? А вот придет такая Щепка в своей кожанке и выдаст им всю полноту концепции. – Первая не дерись, много не ешь, – напутствовал и сам же первый ухмыльнулся: – Хотя нет, ешь. Пускай думают, что мы трындец какие голодные.
IV
Вот что Томасу никогда не нравилось, так это мэрия – облицованное темно-зеленым камнем здание, на диво неуклюжее снаружи и ослепляющее белым цветом внутри. Впрочем, там подавали вкусный кофе. Еще во внутреннем дворе росли вечнозеленые кусты и меж камнями брусчатки пробивалась трава, и в этом-то условном саду Томас сейчас и расхаживал туда-сюда, кивая одинаковым местным служительницам в пышных белых юбках.
Дождя не было, и часть столиков с едой вынесли на улицу. Музыканты устроились здесь же, держали инструменты наготове, но играть торжественно и на публику еще не начали. По правде говоря, и публика-то только-только собиралась. Томас прохаживался по аллеям взад-вперед и обдирал листочки у кустов, растирал в пальцах. Ну где они?..
– Мастер, а вы чего внутрь не заходите?
– Жду одной встречи.
– Важная встреча-то?
– Довольно-таки да.
Он знал, конечно, знал, что вокруг думают и о чем прыскают в кулак – свидание, у мастера свидание! Ну да, свидание, с пятью одновременно. На всякий случай проверил петлицу – вдруг там гвоздика «я тоскую по тебе» или ромашка «жду любви», но нет, там торчала себе еловая ветка – «я мастер города и выше этих дел», – как и положено. Как хорошо, что она есть.
По правде сказать, Томас сам не понимал – надеялся он, что приютские не придут, или не надеялся. Не придут – неудобно перед Анной, а придут – перед всеми остальными. Например, с Рыси станется прислать две сладких парочки, и они примутся целоваться еще на входе. Или явятся пьяными. Или попросят разрешения исполнить песню. Или достанут из карманов орешки, финики, сушеную вишню и начнут угощаться на глазах у всех, а то и угощать. Или будут ходить за ним весь вечер, потому что он их любимый мастер и они его глубочайше почитают.
Когда он приходил в Приют, Рысь встречал его на пороге, а позади толпились так называемые младшие – дети тринадцати-пятнадцати лет с грустными глазами, и смотрели они с такой надеждой, что он отводил взгляд. Некоторые подходили обниматься, и Томас честно старался не морщиться и улыбаться не очень фальшиво.
– Мастер, а вы нас любите?
– Эм, я…
– Да любит, любит, – кивал Рысь, подходя ближе, и к нему тоже льнула парочка-другая. – Мастер нас обожает просто, что неясного?
Томас смотрел ему в лицо поверх детских голов – что вы им вот сейчас плетете? Зачем это? В толпе детей они поднимались на второй этаж, где ждали старшие, и это был еще один раунд. Раз-два-три – и:
– Что, мастер, у вас все еще нет девушки?
– Мастер, а вы не думали найти жену?
– Мастер, воблы хотите?
– Мастер!
– Мастер?..
– Вы таким выглядите… ммм… усталым, знаете…
Яркие платья, накрашенные глаза, мятые майки, пестрые рубашки. Иногда люди прыскали от смеха, как будто знали что-то, чего Томас не знал; некоторые при его появлении затихали и молча провожали взглядом.
Другие с ним просто не здоровались – обычно тоже дети, чаще мальчики, нарочно проходили мимо, даже толкали и оборачивались: как он? что он? Томас смотрел на них в ответ, пока они не отводили глаза первыми. «Что вы от меня ждете? Что я сделаю?» Один такой однажды спросил, есть ли у него, Томаса, мечта, и Томас выдал что-то в духе «честно исполнять долг».
– А у нас какой долг?
Его тогда спас Рысь – вынырнул из толпы, вклинился между ним и мальчиком, отрезал:
– Долг – не замучить мастера вопросами и не ходить, куда не надо. И с ума не сойти. А этот парень, кстати, хочет стать историком… Вы как настроены насчет книг принести?
– Располагаю только нынешней эпохой.
– Ну хоть нынешнюю. – Рысь усмехался и глядел на него ясными глазами, и Томасу снова чудилось несказанное.
На десятом оборванном листочке подошла Анна в праздничном полосатом колпаке с вуалью, откинула вуаль, выругалась неподобающе для мэра и спросила:
– Ну и чего? И где? Вы им хотите дать последние инструкции?
– Предварительные, – уточнил Томас, – и бесполезные. Вуаль вот там вот сверху можно закрепить, если вдруг вы интересуетесь.
– Да? Сделайте, а?
И как раз когда Томас, склонившись над ней, закреплял вуаль, очень стараясь, чтобы вышло ровно, дети Приюта пришли и встали рядом. Надо отдать им должное – они молчали. Ждали, пока он разберется с неработающими застежками и пока Анна не вытащит откуда-то из складок платья пару булавок, ждали, пока он этими булавками кое-как прикрепит вуаль к колпаку, и даже не фыркнули, обозрев результат. Просто стояли.
А потом Анна подняла глаза и разглядела их тоже – тощего встрепанного парня в оранжевой бабочке и с зеленой серьгой в ухе, видимо старшего, и девочку в блестящем черном платье, длинных перчатках и со сложной прической, и еще одну девочку – в кожаной куртке, с взглядом исподлобья, и мальчика – единственного в нормальном костюме и с тетрадью под мышкой.
И конечно, Анна была б не Анна, если б тут же не восхитилась всеми сразу.
– Вот это я понимаю, гости так гости! – сказала она, переводя азартный взгляд с одного приютского ребенка на другого. – Мастер, а мастер, а вы что нас не знакомите?
– Господа, – констатировал Томас с каменным лицом, – эта женщина – Анна Риданайхэ, мэр. Анна, это те самые жители Приюта, которых вам так захотелось нынче видеть.
Кто-то из упомянутых жителей громко фыркнул.
– Я Вам Клянусь, – объявил вдруг старший, с серьгой, и ухмыльнулся: – В смысле, это меня так зовут, такое прозвище, еще с первого дня. Я тогда, видимо, немножечко превысил привычный людям лимит восхищения, или что там, и вот с тех пор жалкий глагол – моя судьба. Ну то есть еще два местоимения тоже присутствуют, но они-то при быстрой речи сокращаются, и таким образом, госпожа мэр, очень приятно, меня зовут Клянусь, и мы благодарим за приглашение от имени всего Приюта в целом, и вы позволите…
Он опустился было на одно колено и попытался поцеловать Анне руку, но Анна ожидаемо отмахнулась. Не вставая, Я Вам Клянусь пожал плечами, скорчил рожу и повернулся к остальным: «Вы чего ждете?» Теперь они подходили к Анне по очереди, представлялись и пожимали протянутую ладонь. Я Вам Клянусь так и стоял горестным памятником и мешался, а Томас думал, почему их четверо, когда в письме он ясно говорил о пятерых.
Между тем вперед вышла девочка в перчатках:
– Леди. – Она слегка присела в реверансе, у нее было шелковое платье, которое действительно ей шло, а из прически тут и там торчали кончики деревянных шпилек, явно нарочно. – Мы сначала имели глупость думать, что это шутка, что вы нас позвали.
– Александр, – представился темноволосый мальчик с тетрадью, очень серьезный. Взгляд у него был ясный и прямой, и он как будто спрашивал тебя, имеешь ли ты право смотреть так же. – Я думаю, что эта ваша инициатива войдет в историю как очень показательная.
– Щепка. – Девочка в кожаной куртке сжала Анне ладонь скупым мужским движением. – У вас нижнюю юбку видно, если что.
На одну секунду Томас испугался, что вот сейчас повиснет эта тишина, этот мягкий идиотский ступор, в какой так ненавидел впадать он сам, – когда и вежливым нужно остаться, и ответить достойно, и ладони в карманах потеют, но Анна была не того десятка. Только фыркнула:
– Ой, правда, что ли? Слушай, серьезно, видно, вот спасибо… – и заплясала на месте, расправляя складки неким диковинным соответствующим образом, и махнула рукой – мол, шли бы вы пока.
– Что? – спросила девочка, которую звали Щепкой. Она взяла бутерброд, но есть не ела, да и вообще чаще смотрела себе под ноги. – Ну что опять? У нее правда там торчали кружева.
– Воспитанный человек не заметил бы, – отмахнулся Я Вам Клянусь. Они как раз добрались до столов с едой, и теперь он жевал все время, фоном.
– Я хотела ей подсказать.
– М-да? А я думал, ты хотела, чтобы тебя отсюда просто сразу выгнали.
– Ну и выгоняйте.
Она отвернулась, разглядывала то ли разноцветные флажки, то ли женские шляпки в толпе – на любой вкус, то ли ветки деревьев. Как-то так вышло, что Я Вам Клянусь, Александр и Леди теперь стояли втроем, а Щепка – отдельно, будто ее вдруг обвели невидимой чертой; Томасу почему-то сделалось противно. Чтобы отвлечься, он спросил вполголоса:
– Скажите, а почему же все-таки вас четверо? Я звал пятерых.
– А пятая потом придет, – ответил Я Вам Клянусь и от души откусил от пирожного с лимонным кремом. – Она работает пока, в хорошем месте. Что вы так смотрите? Нет, ее там не обижают, и она тоже никого не обижает, она милая. В смысле, вчера она взяла вдруг и бросила меня, но я надеюсь, что она еще раздумает, потому что нельзя в здравом уме считать про меня то, что она тогда говорила, что считает. Это какая-то парабола парабол…
– Гипербола гипербол?
– Да, наверное…
Томас краем глаза смотрел, как ели остальные: Леди маленькими кошачьими укусами, то и дело облизывая губы, Александр так неспешно-основательно, будто от того, насколько тщательно он прожует бутерброд, зависела чья-то судьба. Щепка так пока ни к чему и не притронулась.
– У нас есть белое желе, – сказал Томас, не глядя на нее, сам не зная, для чего вмешивается, – вы еще не имели удовольствия?
– Я только зеленое знаю.
– А вы попробуйте.
Она взглянула на него сердито – он сделал вид, что не заметил, – и действительно положила на тарелку несколько белоснежных упругих кубиков.
– Лучше один, – посоветовал Томас все так же, не глядя, и, конечно, она засунула в рот сразу штуки три – и так и застыла с круглыми глазами. Конечно, белое желе – это не шутки. – Лучше пытаться жевать, – посоветовал Томас снова, – и дышать забывать тоже не стоит, тогда вы справитесь.
Она и правда справилась – не сразу, через несколько минут, с паузами и вдохами сквозь зубы – и тут же кинулась повторить. И еще раз. Это и впрямь затягивает, если понимать: сперва оглушительно кислое, а потом вдруг похожее на пудинг. Будто прыгаешь в ледяную воду и одновременно ешь заварной крем. Когда Томас был маленьким, желе казалось ему развлечением взрослых, чуть ли не инициацией: особым шиком среди молодых людей считалось съесть несколько кубиков подряд, не меняясь в лице. Белое желе жевали на спор, дарили приятелям с намеком – одолеешь или нет, дотянешь ли до сладости? – и в качестве дружеской шутки. Оно вошло даже в пословицы: кислый, будто желе наелся. И если Томас что-то понимал, то для такой, как Щепка, желе было и развлечением, и вызовом. Он сам не знал, зачем именно взялся ее опекать, и сейчас надеялся, что Щепка что-нибудь поймет. Хоть и жила в Приюте, кто там знает о желе.
Между тем сад наполнился людьми.
Пришли дамы с улицы Мелких Кувшинок (в Асне называть улицу именем собственным считалось не только плохой приметой, но и лишним риском: обладая таким именем, улица может обрести и отдельную душу, а этого ни один порядочный мастер допустить не может. Одно дело – общаться со всем городом сразу, и другое – с каждой улицей. Для города это сродни расстройству личности, и для мастера тоже) – жилье там стоило дороже всего в городе; и адвокат, которая по случаю праздника даже сменила обычный костюм на темно-синий; и тучный судья, который каждый поворот головы совершал с таким видом, будто делал одолжение; и единственный друг отца, от которого не хотелось прятаться, редкостный умница, чудак и книгочей, каштановые волосы собрал в извечный хвост.
И как раз когда все они заметили рядом с Томасом новые лица и нацелились подойти с расспросами, на летней сцене в другом конце сада Анна начала речь.
– Добрый вечер, друзья, – сказала она помолодевшим, ясным, весенним голосом, которым всегда говорила на публику. – Я очень рада вас приветствовать на нашем очередном мероприятии. Мы надеемся, что каждый найдет здесь что-то приятное для взора и желудка, заведет интересные разговоры… И что в какой-то момент каждый из вас поймет, для чего именно сюда пришел.
Томас вздохнул. Он уже примерно представлял, что будет дальше.
– Банкет, – вещала Анна, постепенно расходясь и возвращаясь в привычную колею слов-паразитов, и ее вуаль развевалась на ветру, как флаг, – так-то мероприятие стандартное. Но вот на этот к нам пришел мастер – где вы, мастер? – и еще гости, которых не все из нас ожидали увидеть, но которым, я вот просто уверена, все рады. Это дети Приюта, что на холме, и мы рассчитываем, что некоторые слухи будут сегодня развеяны, так сказать, из первых рук. Я прошу детей Приюта вместе с мастером подняться на сцену.
И оркестр наконец грянул в полную силу.
– Мастер, это плохая мысль на самом деле, – озабоченно говорил Я Вам Клянусь, пока они пятеро пробирались сквозь толпу. – Это ужасная мысль. Ничего не выйдет. Может, вы одного из нас типа забудете?
– Да я бы и себя с удовольствием забыл, – вздохнул Томас, – увы. Таково наше с вами на сегодня испытание.
– Да ну его…
На сцене Я Вам Клянусь не спеша взял у Анны микрофон, вышел вперед, откашлялся и замер. Томас замер тоже, потому что в толпе перед сценой заметил Инессу Ванхва.
– А я-то думала, когда она придет, – вздохнула Анна шепотом за его спиной, и Томас кивнул.
Инесса щурилась, переводила взгляд с Я Вам Клянусь на Томаса, как будто выбирала первую жертву, и походила на старую черепаху. Но черепахи не бывают председателями, не выставляют собственных кандидатур на должность мэра и не лелеют многолетние обиды.
– Спасибо! – возвестил Я Вам Клянусь. – Мы очень рады, что вам нравится, что мы пришли!
И тут Инесса поправила сумочку, расправила на шее ожерелье и сказала, вроде бы ни к кому не обращаясь, но так отчетливо, что на сцене было слышно:
– А мы вот что-то и не очень рады, знаете.
Я Вам Клянусь закашлялся и попытался снова:
– До меня тут доносятся какие-то грустные слова, но тем не менее я хочу сказать, что праздник получился замечательный! Флажки и шарики – кому такое не понравится? Мы очень рады, что нас пригласили, и надеемся, что вы не пожалеете!
– Уже жалеем, – сказала Инесса. Кумушки из ее комитета стояли вокруг, прямые как палки, поджимали губы, но нет-нет да и пихали друг друга локтями.
– Я считаю, что дружба лучше вражды! – не смутился Я Вам Клянусь.
Анна покачала головой.
– Надо было Артура позвать, – сказала Леди, – он бы не услышал. Я имею в виду, что есть такие люди, которые не слышат то, что им не нравится.
Я Вам Клянусь вещал:
– Бывают ситуации, в которых люди не хотели бы оказаться, но вынуждены! Я считаю, это не повод их презирать, этих людей, а повод посочувствовать, потому что у всех у нас свои печали!
– Кто-то с печалями, – сказала Инесса в полный голос, – а кто-то с отклонениями.
Томас смотрел на ее лицо, а не на сцену и потому вздрогнул, когда над садом раздалось:
– Мы вообще-то нормальные. То есть я хочу сказать, что мы не это… мы не дефективные.
У микрофона стояла Щепка и смотрела Инессе прямо в лицо.
– Я знал, я чувствовал, что нельзя ее пускать, – бормотал рядышком Я Вам Клянусь, закрыв лицо руками, – я вам клянусь, я это знал, как свои пять…
– Ну живем мы в Приюте, что теперь-то? Мало ли кто еще представляет опасность. Что мы, хуже всех?
– Вот это я называю «молодая кровь», – сказала Анна, шагнула вперед, обняла Щепку за плечи и с безмятежным видом отобрала микрофон. – У вас будет возможность познакомиться поближе, наших гостей можно найти около мастера. А сейчас ешьте, пейте, опустошайте наш базар и помните, что в конце вас ждут танцы и аукцион. Добро пожаловать всем до единого, кто сейчас здесь находится, и мы начинаем.
Опустила микрофон, сдвинула вниз до упора регулятор мощности и только после этого привычно фыркнула, будто все предыдущее было в порядке вещей:
– А что, сойдет, недефективные мои.
– Я дефективный, – отрезал Я Вам Клянусь так резко, будто нормальным считаться было зазорно. – Щепка и Александр, деньги возьмите, тут Рысь выдал на всех, а я забыл.
«Откуда у них деньги? Как они вообще… – Томас потер переносицу, опомнился и мысленно сказал себе то же, что говорил всегда. Когда дело касалось отношения к Рыси, он всегда с собой спорил – и всегда проигрывал. Итак: – Это все не моя печаль, не мое дело. Вообще все, что касается Рыси, не моя печаль, а то, что все-таки приходится с ним сталкиваться, – прискорбная данность и не более того».
На обратном пути к облюбованному столику на них уже не смотрели украдкой, а пялились в открытую.
– Не обращайте внимания, – предупредил Томас всех разом, но в особенности Щепку. – Людское любопытство безгранично. Я здесь два года и то до сих пор достопримечательность. Просто потерпите.
В этот раз опыт пребывания достопримечательностью пригодился ему в полной мере.
– Добрый вечер! – кричали женщины в модных полупрозрачных платьях, перекрывая музыку. – Представьте нас!
– Я Вам Клянусь! – перечислял Томас, кивком указывая на обладателя прозвища. – Леди! Щепка! Александр! Нет, я не знаю, отчего зависит выбор прозвищ!
Дети, слава богу, пока не вмешивались.
– Это инициатива Анны! – втолковывал Томас уже судье, гадая, слышит ли тот вообще что-нибудь: по лицу не понять. Судья только прихлебывал из фляжки и снисходительно ждал объяснений, иногда хмыкал. Но Томас старался: – Анна решила! Познакомиться! Расходы! В память об отце! Дети отличные! Дети, знакомьтесь, это городской судья! Приветствую!
– А Рысь еще ругался, что мы рвано говорим, – фыркнула рядом Щепка, и у Томаса недостало сил толком возмутиться. Тем более что к ним подходила адвокат, а значит, надо было заново поведать всю эту историю в нескольких словах, придав ей видимость необязательной беседы.
– Разного возраста! Имеют основания! Завет отца! Позвать – выдумка Анны! Щепка и Леди, Я Клянусь и Александр! В гости не нужно, специфичные условия! Можно руки пожать! Они живые!
Адвокат пережала руки всем по очереди. Ее, конечно, распирало от вопросов, но вместо них она расплылась в улыбке и пригубила шампанского. Вот все бы так делали. Гости всё не кончались, всё смотрели.
– Очень воспитанные! – объяснял Томас Инессе; его не покидало ощущение, что он на рынке и старательно что-то продает и что Щепка вот-вот снова что-нибудь скажет. – Да, могут выходить! Да-да, разумные! Стесняются! Боятся! Нет-нет, не нужно трогать, можно спрашивать!
Инесса хмыкала, смотрела сверху вниз. Дети сбились в кучку и делали вид, что все это их не касается. Первым, кто обратился напрямую к ним, был друг отца, которого Томас уважал. Йэри его звали. Он подошел в своем расшитом золотом жилете, утащил с блюда, стоявшего рядом, пару виноградин и сказал:
– Совершенно невозможно здесь находиться.
И музыка стала тише ровно настолько, чтоб можно было говорить, не повышая голос. Йэри оглядел приютских и спросил будто даже с раздражением:
– Сколько можно терпеть чужие приставания? Есть же у вас желания, имена, собственная воля, в конце концов, так где они?
Приютские явно подумали, что им мерещится. Томас при первом знакомстве тоже так решил. Йэри был высок, носил конский хвост и костюмы по моде прошлой эпохи и либо не замечал людей, либо вел себя с ними как старый приятель. Старый и очень-очень раздражительный. Никто не ведал, откуда он взялся, может, только отец.
– Анна вообще подумала об этической стороне дела или как обычно? Нет, ну это черт знает что такое!
Йэри поморщился, проглотил виноградные косточки, поскольку сплюнуть их ему не позволяло воспитание, и продолжил, уже не ерничая, глядя на каждого приютского в отдельности, будто именно он был ему важней всего на свете, – сам Томас так тепло смотреть не умел:
– Я очень рад видеть вас наконец в приличной обстановке, а не когда кто-то из вас бежит за табаком или за булками на улицу Второго Шанса. Они там правда настолько вкусны?
В этом весь Йэри: знал какие-то их тайны, о которых Томас и понятия не имел. Булки с улицы Второго Шанса были, видимо, каким-то общим местом, потому что даже Леди оттаяла и сказала с человеческим выражением лица:
– Ой да, настолько.
– Я вот никак не доберусь попробовать, а зря. Ну как вам, кстати, наша дорогая мэр?
– Она смешная.
– Она любит быть смешной.
Пару минут Йэри смаковал виноград, чуть покачиваясь в такт музыке. На них смотрели, но подойти не решались, и Томас смог наконец перевести дух. Задумчиво потягивал что-то темно-зеленое и мятное, пока Йэри вполголоса болтал с детьми. Он умел нравиться, когда того хотел, – вот даже эта Щепка его слушала, не подходила и сама не заговаривала, но слушала, и это было главное. Разговор с Йэри – как прийти домой холодным вечером, и сесть куда-нибудь под лампу с абажуром, и знать, что все правильно сделал, молодец. Будто все наконец стало хорошо, даже если ты толком и не знал, что это «хорошо» вообще такое. Томас как-то пытался расспросить отца, но получил совет не маяться ерундой – универсальную формулу на все случаи жизни, и Йэри так и остался старым знакомым, который жил себе в Асне в доме на окраине, то держал книжную лавку, то закрывал ее, и старел медленно, если вообще старел. Отцово наследие богато было на всяческих приятелей один другого странней, которые как-то сами по себе решили, что дружба с отцом распространяется и на сына. Томас не возражал, был вежлив, впускал их в дом, предлагал чай, кофе и выпивку и старательно делал вид, будто помнит, как их зовут. Выслушивал их сетования насчет сада, который правда очень запустил, пропускал мимо ушей подернутые ностальгической дымкой воспоминания и пожимал плечами на расспросы.
Томас не сразу понял, что, пока он думал об отцовских друзьях и знакомых, один из этих друзей на него смотрел, и это был даже не Йэри – тот увлекся детьми.
За спиной Йэри и гостей из Приюта стоял Яблоко и в своей якобы скромной манере тихо ждал, пока его заметят. Яблоко был как раз из тех отцовских приятелей, которых не любить, в общем-то, не за что, но и любить никак не получается. Томас всегда его избегал и никогда не мог даже себе самому объяснить, почему именно. Может, потому, что Яблоко говорил редко и с ленцой и походил на ящерицу, которая греется на солнце.
– Добрый день, мастер, – сказал Яблоко спокойно, и все приютские как по команде обернулись.
Йэри тоже обернулся, но с расстановкой, медленно, как оборачиваются неоспоримые хозяева. Сам Томас себя таковым сейчас не чувствовал.
– И вам добрый, – согласился в той же спокойной манере. Какой смысл выказывать неприязнь, если она ни на чем толком не основывается? Какой смысл спорить на глазах приютских? Тем более что Яблоко в Приют был вхож и вроде даже там за что-то отвечал. Томас не вмешивался в их взаимоотношения, а Яблоко не попадался на глаза – как выяснилось, до поры до времени.
– Какие славные у вас сегодня гости, – заметил он, сграбастал с блюда яблоко и с хрустом, с наслаждением надкусил.
Томас вдруг понял, что понятия не имеет, откуда взялось это его прозвище и как его зовут на самом деле.
– Так вы друг друга знаете?
– Можно сказать.
– О, мы так знаем, что вообще-вообще отпад, – подтвердил вдруг Я Вам Клянусь и усмехнулся: – А с Рысью-то у них что за идиллия. Я даже спать от умиления перестал, вы знаете.
– Вам тоже нравится? Это же восхитительно. Наша с ним длительная и взаимовыгодная сделка не может, знаете, не вызвать отклика в сердцах. – Яблоко тоже ухмылялся. Ему нравилось. Эту игру «Кто хлеще оскорбит, не оскорбляя» он явно выиграл еще в самом начале. С чего они вообще ее затеяли? – А подрастающее поколение такое тихое у нас, я посмотрю, – протянул Яблоко и откусил еще кусок, – даже забитое, я бы сказал. Слишком воспитанное.
Приютские дети замерли и сжались, будто стоило им дернуться – и все пропало. Замерла в воздухе ручка Александра. Уставилась в землю Леди. Щепка смотрела прямо Яблоку в глаза, будто бросала вызов. Снова вызов?
Я Вам Клянусь, вздыхая, протолкался вперед и заслонил детей собой, но Яблоко как будто этого не заметил. Он медленно огладил взглядом Леди, кивнул при виде Александра и задержался на Щепке.
– Ну и как нас зовут?
– А тебе какая разница?
– Какая интересная реакция. – Яблоко подошел на пару шагов ближе. Взгляд у него был серый и лично Томасу напоминал стаявший снег.
Я Вам Клянусь теперь казался старше лет на пять, дети столпились за его спиной. Лица накрыла общая тень, и вновь Томас почувствовал себя здесь пятым лишним – даже Йэри уместнее смотрелся. Йэри же, кстати, вдруг нахмурился и велел Яблоку, словно давнему знакомому или слуге:
– Это напрасные усилия, не тратьте время.
– А кто мне указ?
– Здравый смысл, хочется думать.
– Да ладно, у меня – и здравый смысл?
– Когда-то он у вас был.
– Ну-у когда-то… – Яблоко сделал скучное лицо, махнул рукой и вдруг фыркнул и зашелся беззвучным смехом, словно старик, хихикающий в кулак. – Ой, не могу, – сказал, переводя взгляд с Йэри на Щепку и обратно. – Ой, не могу, какие все забавные. Пойду-ка я. Мастер, надеюсь вас еще увидеть.
Как именно он растворился в толпе, Томас разглядеть так и не смог, хотя смотрел в костлявую спину, не отводя глаз. Уже упустив, вспомнил кое-что:
– Какая у него там сделка с Рысью?
– Ой, мастер, да ну их совсем, сами спросите, – вздохнул Я Вам Клянусь и покачал головой, словно стряхивал с себя лишнюю взрослость. Получалось так себе.
Как же все-таки Томас не любил, когда вокруг все понимали больше него.
Вечер меж тем шел своим чередом. Александр обреченно согласился сопровождать Леди на прогулке по базару, Я Вам Клянусь переместился в район танцплощадки, и вот так незаметно около Томаса и Йэри осталась только та, которую звали Щепкой. Она смотрела в сторону, делала вид, что ни при чем, и явно хотела, чтоб о ней вообще забыли. Когда стало понятно, что она никуда так и не денется, Томас спросил:
– А вы почему не идете развлекаться?
– Можно я лучше с вами постою?
– А вам не скучно?
Она пожала плечами.
– Холодает, – заметил Йэри, – хотите чаю?
Он не только налил ей чаю с медом, но и каким-то образом выпросил у одной из местных модниц белую шаль, чтобы можно было накинуть поверх куртки, и удалился. К Томасу подходили по городским делам, спрашивали, утвердил ли он планы строительства новых домов – не утвердил, – сетовали, что осень выдалась необычайно ранняя, а эта Щепка все стояла подле него в белой шали на кожаной куртке, грела руки о чашку и молчала. Потом начала потихоньку шмыгать носом, и Томас не выдержал:
– Вы что-то от меня хотите?
– Нет, я просто стою.
– И мерзнете.
– Простите.
– Да за что?
Хотел сказать ей, что внутри, в здании, сейчас теплей, но передумал, сунул носовой платок.
– Я же вам его не смогу сразу вернуть.
– Оставьте себе.
– Ну вы странный, мастер.
Вечер медленно подходил к концу. Томас мрачно приобрел на аукционе женскую позолоченную маску и напольные часы, когда явилась наконец пятая из приютских.
V
И раз-два-три-четыре-десять-двадцать. Ровно двадцать выщербленных крутых ступенек нужно преодолеть, чтоб выбраться из марева подвала в городские сумерки. Бар назывался неизвестно почему «Унылый угол», и кто знал о его существовании, тот знал. Знал старый мастер, от него узнала Роуз, ну а от Роуз – все, кто что-то мог, читай – все, кто мог быть полезен мастеру. Ксения фыркнула. Пой-пой-пой, девушка, днями напролет, и тогда, может, у тебя что-то получится. С головой погружайся в грезы города, пропускай их через себя, выпускай песнями. Синяя сила как река. Идешь по грудь, покуда вода не сомкнется над макушкой.
Лежишь на дне.
Не помнишь, кто ты есть. Ай, ну и что, а зато мы полезны городу!
«У них нет будущего», – говорил когда-то Рысь, глядя на первых попавших в Приют детей. «Есть, если мы его создадим», – возражала Роуз, а Ксения думала: «Вы что, не понимаете? Мы и есть будущее для этих, для младших. Мы – те, в кого они в итоге превратятся, с кем они и сейчас себя сверяют, все остальные – только сон, воспоминание, а мы – есть, мы смеемся, и поем, и мимоходом гладим их по головам. Мы не знаем, кем станем, что с нами будет, но для этих, для мелких, мы – образец, в нас они ищут ответ, и они найдут, есть он на самом деле или нет».
Ксения пела лучше всех в Приюте. Пела, готовила, танцевала, носила длинные черные платья и никогда не выходила ненакрашенной. По вечерам целовалась с Я Вам Клянусь (он, кажется, так никогда и не узнал, что, ненакрашенная, она выглядит иначе). Летом все три дурацких уличных художника наперебой рвались ее нарисовать, бесплатно, «к радости», но она шла вперед – в бары, подвалы, на запах лимона и мяты, к следам помады на бокалах и городским снам. О, она ничего так хорошо не умела, как пропускать через себя чужие сны. Можно сказать, любимое ремесло. Семейный промысел. И помада под цвет чужой печали.
Если ты будущее, должна быть потрясающей. Кто-то, конечно, утверждал, что можно просто быть – усталой, радостной, в туфлях на босу ногу, с мятым со сна лицом, в чужой футболке. Всякие утверждали. Вроде Роуз.
Ксения снова вспомнила их давний разговор и от злости чуть не споткнулась на ровном месте.
– Мы работаем не для этого, – сказала Роуз как-то майской ночью, и они обе знали – для чего. Чтобы дать городу существовать, чтобы он не захлебывался в собственной тьме. – Мы – фильтры, и мы же – котлы, в которых все преобразуется, только и всего.
Ксении было мало этого. Всегда мало. Старый мастер пообещал за сны и песни всемерную поддержку, еду, ткани и возможность чуть медленней терять себя, но разве же это сравнится с поцелуями?
– Ой-ой-ой, – привычно сказала Ксения – потянуть время. Что выяснила Роуз? Как сумела?
Она стояла перед Ксенией – в старых джинсах, которые были у нее с начала Приюта, с распущенными волосами, без помады, и Ксения в который раз подумала: «Как она смеет? Как вообще можно не презирать себя, когда ты не накрасилась с утра? Что в ней такого, что у меня закончилось?»
Вообще-то помнить прошлое в Приюте – нонсенс. Здесь живут только те, чья память вывихнута. В ней остаются сны, картинки, строчки, но ничего конкретного. Обрывки. Но Ксения свое прошлое видела, пусть и не так ясно, как ей хотелось бы. И в этом прошлом вечно была Роуз.
Они родились в Кесмалле – городе, ровно посредине здешних лесов, – она, и Роуз, и еще девицы из тех семей, что жили в самом центре, все равно – из богатых или бедных, главное – старых, правильных фамилий. Кесмалла, единственная, была городом настолько сильным, что ему не был нужен мастер, потому что он лежал на платформе силы, а весь мир был пронизан силой, как сосудами, и только ею и жил. И древние фамилии, и семья Ксении, и семья Роуз – все черпали эту силу, черпали молодость и красоту прямо из города и старались не думать о плате. Таким, как Ксения, боялись возражать, а за глаза что ее, что Роуз, что остальных из их вынужденной компании называли ведьмами.
А еще Кесмалла никогда не засыпала, слепила витринами, и Ксения могла с лету сказать, на ком нормальное платье, а кто нищеброд. Роуз переодевалась в туалетах в контрабандный домашний свитер с высоким горлом. Шмотки с блестящих витрин были ей не по карману, и ее одевали в долг, чтобы не чувствовала себя хуже других, только, какой сюрприз, она и так не чувствовала. Сидела в углу с книжкой, будто это она терпела всех, а не все – ее.
В Кесмалле были техника, кинотеатры, асфальт, машины, неживые здания. В Кесмалле нужно или родиться, или работать очень, очень, очень много, да и родиться следует в нужной семье, а не на окраине.
Их всех готовили кому-то в жены едва ли не с детства – Ксения помнила жениха, но очень смутно. Считалось шиком пить дешевое вино, дрянное, кислое, в картонных упаковках, какого в их районе было не достать, и этот мальчик как-то проскользнул мимо охраны, принес под пальто упаковки две, и они пили всей компанией, по очереди.
Роуз тоже должна была стать женой; у нее не было отца, только мать с тетей, она была их ставкой, капиталом, – но ей, казалось, было все равно. Смотрела сквозь женихов на страницы книг.
– Ты что, не собираешься выходить замуж?
– У меня есть жених.
– И кто же он?
– Я познакомлю, – говорила Роуз и отворачивалась, – он лучше нас всех.
Когда им представили Томаса Мюнтие, старшего сына мастера из Асна, Ксения сперва подумала, что его Роуз и имела в виду. Оказалось – нет.
Еще от прошлой жизни у Ксении остался кулон. Она с ним спала, ела, работала – старый, тусклого серебра, в виде витой ракушки. Просыпаясь утром, Ксения первым делом нащупывала его. Носила на шнурке, все думала добыть нормальную цепочку и никак не могла собраться. Фу, позорище.
– Мы работаем не для этого, – сказала Роуз и посмотрела разлюбимым своим взглядом, от которого хотелось попятиться. Она не должна помнить. А вдруг все-таки? Иначе как у нее вышло догадаться, что этот чад, и эту черноту, этот привычный их рабочий полусон можно использовать, чтоб все на тебя вешались? Ксения ведь и в Кесмалле так могла – все девушки старых семей умели это. Ведьмы, ведьмы, дурочки. Их матери наносили силу города на свои лбы, как крем от морщин.
Она слишком долго пыталась понять, помнит ли Роуз что-нибудь, и если да, то что, и из-за этого промедлила, ответила:
– А что, для города? Ой, не смеши меня, – но вышло слишком поздно, невпопад.
Они сидели в зале среди старших, и все заметили заминку, кто бы сомневался, – все эти цацы с плавными движениями, в кофтах под горло, с усталыми лицами. Тот мизерный процент людей Приюта, который слышал что-то, кроме собственного хохота. На громких – рыжих – Ксения вовсе не смотрела. У синих принято было общаться пожатием плеч, нервными взглядами, кивками и вот изредка – словами, когда кого-то нужно было припугнуть, усовестить, припереть к стенке. Что думала Роуз? В майскую ночь тени на ее лице играли как-то по-особому, нездешне, и Ксения вдруг подумала, что черт с ней, Роуз все-таки красива. В конце концов пришлось отбиться наугад:
– Это суеверие. Прекрасно все работает. Городу, значит, можно у нас брать, а нам у него вообще никогда нельзя?
– А город нам едой платит и тканями, – уперлась Роуз, и стало ясно, что ее не сдвинуть, – вот через мастера. И еще сотней видов помощи по мелочам. На вещный мир тебе кто разрешал влиять? Тем более принуждать людей к телесной близости. Своими средствами обходись, если так хочется.
Сказала – будто дверью хлопнула. «Своими средствами». Как будто она что-то понимает.
Когда Ксении вдруг в разгар работы передали, что ее ждут сегодня в мэрии (вот адрес, вот на всякий случай карта, а на входе сказать, что ты от мастера), она мысленно зажмурилась от счастья. Наконец встретить мастера не в Приюте, где вокруг него все вьются, а в городе. Немыслимая удача. Как хорошо, что Рысь не знал ее способностей – да Рысь вообще не видел дальше собственного носа. Мастеру можно будет посмотреть в глаза, а у самой после работы взгляд еще с поволокой, дым, туман, духи. И он ведь купится. Они все покупаются. И можно будет попросить его – о чем? Она не знала, ее увлекал процесс. В Кесмалле мастер был провинциал со старомодными учтивыми манерами и чистой кожей и скользил по всем взглядом, примерно как Роуз, а еще, Ксения чувствовала, он был растерян. А теперь какой он? Если проведешь языком от подбородка ко лбу – будет сладко? А может, солоно? Или вообще покажется, что лижешь камень?
Ксения сжала в ладони кулон, чтобы он тоже разделил не победу, так предвкушение. Тогда, в Кесмалле, отец нынешнего мастера потребовал отдать за сына Роуз, но она спешно убежала с Рысью, и мастер не успел узнать, чего лишился.
Когда она нашла наконец это их место празднования и миновала ограду с пожухлыми разноцветными флажками, уже стемнело. Самый сок для охоты. По вечерам в Приюте Ксения красилась красной помадой, на работу – черной, и теперь эта черная как нельзя более подходила к случаю: грезы города черные, ее чары черные. Мучила, правда, свежая мозоль – а потому что не надо, не смей одалживать туфли у кого попало, – но в темноте мозоли ведь не видно. И даже крови не будет видно, в худшем случае.
Мысленно припадая на одну ногу, она искала в толпе своих и мастера. Так-то приютских узнаёшь по хохоту, но в этот раз то ли они себя блюли, то ли Рысь им вообще запретил рот открывать, но слышно было только здешних, да и то… Ксения пробиралась меж холеных женщин, чей смех напоминал скорей оскал, и между девушек в кисейных легких платьях, с нитками жемчуга на шее, со смехом легким, как лепестки. Так вот как живут эти, из лучших домов, вот как они сжимают ручки сумок, и запрокидывают головы, и кружатся в танце. Мужчины тут работали скорее фоном – стояли чуть позади с полными бокалами и говорили вполголоса. Кто-то танцевал. Фонари вдоль дорожек здесь горели белым, а не желтым и, слава любым богам, не рыжим. Так вот как они ходят по вечерней влажной земле, теребят цветастые платки, бусы с крупными бусинами, медные серьги в виде полумесяца – все, что еще осталось на прилавках; а потом они возьмут под руку мужей, любовников, на крайний случай старших братьев – и разойдутся по домам, каждая в свой, наденут шелковые ночные рубашки и уснут. И не будет в их сон вторгаться ни чей-то кашель, ни скрип половых досок, ни шаги на лестнице, ни сказочки, которые Роуз шепчет девочкам. Вот какой жизнью и она могла бы жить, если б не темная сила, не река внутри.
Ксения шла сквозь толпу с каменной спиной и ловила обрывки разговоров:
– …ранняя осень…
– …а если на секунду допустить, что…
– …значительно пригодней для жилья…
– …мы не хотим, но подразумевается…
– …согласно предварительным прогнозам…
И вот на этих предварительных прогнозах она едва не пролетела мимо мастера. Он сам ее окликнул – вот удача.
– Простите, вы не меня ищете?
– А по мне заметно?
Она отступила на шаг и откровенно рассмотрела его сверху донизу. У него теперь было странное лицо – лицо человека уставшего, но цельного. Может, сказывалась порода – все же мастер. Может, попросту повезло, кто их там знает, но кожа у него так и осталась шикарная, гладкая, ровная, только что не фарфоровая. Его вылепил скульптор-перфекционист. Она почти представила себе этого скульптора – как он работал по ночам в гулком подвале и пил перезаваренный чай, – и почти даже ощутила, как там пахло – сыростью и копченой рыбой почему-то. О да, подвалы – ее страсть теперь, в каких она только не побывала, где только не пела. Мастер разглядывал ее очень внимательно, под этим обстоятельным взглядом она и стояла пару секунд, слегка улыбаясь. Наконец он, видимо, удовлетворился и протянул ей руку:
– Томас Мюнтие, здешний мастер, если угодно.
«Вы серьезно, фамилия? Сейчас?»
– Ксения. – Она ответила прямым, открытым взглядом, таким, каким ответила бы Роуз, лишь бы он тоже посмотрел. «Давай же, ну. Тут ночь, и у нас все впереди. Ночь, и нам шестнадцать. Я могу тебе дать все что угодно. Смотри, смотри, не отводи взгляд, сирень пахнет. Да, сейчас осень, но у нас сирень. Смотри. Такой красивый, и такой дурак. У вас в петлице еловая ветка. У вас очень давно не было женщины. Мягкие руки, прохладные руки заскользят по твоим плечам, щекам, губам. Вода течет, и мы тоже течем».
– Вы не хотели бы пойти потанцевать?
Ну еще бы. Он уже положил руки ей на талию и не видел, она могла поклясться, ни других женщин, ни неба, ни фонарей. Еще немного – и он ничего не вспомнит после. Они зашуршали по гравию в каком-то медленном, неловком недовальсе – так перетаптываются престарелые супруги, но вот если дойти до танцплощадки… В мыслях она уже тащила мастера в кусты и расстегивала на нем рубашку, а он не то чтобы сопротивлялся, скорее, плохо соображал – в глаза смотрел…
– А тебя Я Клянусь разве не ждет?
Морок рассеялся. Мастер смотрел на нее с вежливым недоумением, словно заново собирал картинку.
– А вы, простите?..
«Вот оно, конечно. Секунду назад он бы все отдал, и вот теперь… Кто этот самоубийца? Кто посмел влезть?» Ксения завертелась на месте. Так делают, когда жвачка приклеится к каблуку – где, где? И тут же уперлась взглядом в Щепку – угрюмую, наглую девочку из младших, с которой Рысь носился всю дорогу. Что она-то здесь делает в уродской своей куртке, на два размера больше? Кто ее впустил? И ведь нашла момент, когда вмешаться, зараза маленькая, а теперь стоит как ни в чем не бывало!
Но будущее должно держать лицо, и Ксения выдавила сквозь зубы:
– Что, прости?
– Я говорю: привет. Тебя Я Вам Клянусь уже заждался.
– Да мне какая разница, мы с ним расстались!
Она осеклась. Мастер смотрел с каждой минутой все холоднее.
– А нам он говорил, что это временно, – ввернула Щепка с самым безмятежным видом:
Ногти впились в ладони. Пора уходить.
– Умная девочка, – сказала Ксения и растянула губы не в улыбке даже, а так, в эскизе. – Пойду-ка я и впрямь его поищу. До свидания, мастер, очень рада знакомству. Просто отчаянно рада. Невыразимо рада. Вы с этой девочкой поосторожней, а то знаете…
И удалилась, не примяв травы. То есть, конечно, что-то позади шуршало, но для человека с натертой пяткой и только-только пережившего крушение походка все равно была легкой. Вот и отлично.
Я Вам Клянусь молча обнял ее и чмокнул в щеку, будто ничего не случилось, хотя наверняка он видел всю эту сцену, не мог не видеть. Но он не будет укорять, он будет танцевать и щуриться с отсутствующим видом, прикидывать что-то свое, а потом спросит:
– За кем осталось последнее слово? – И ухмыльнется: – Я имею в виду, вас было трое: ты, Щепка и мастер. Вы не могли разойтись мирно, учитывая, в каком ты настроении. Ты спросишь – в каком, я скажу – в воинственном. Еще чуть-чуть – и ты залепишь мне пощечину и испортишь зачатки дипломатии, которые я тут с таким трудом…
– Хочу вина.
– Здесь не дают вина. Что-то мятное тебя не устроит?
Ее не устраивало.
– А Рысь-то звал тебя вести беседы, – продолжил Я Клянусь с оттенком сочувствия, и за этот оттенок Ксения наступила ему на ногу, – светские, элегантные, всё, как ты любишь.
– Я не способна после дня в подвале и расставания с тобой вести беседы.
– Да ты просто не хочешь помочь Рыси, это бывает с людьми.
На них косились. Ксения в ответ кидала снисходительные взгляды, благо рост позволял. Я Вам Клянусь делал вид, что ему все равно и что он вообще не помнит, где находится, и задавал дурацкие вопросы, как ему и положено:
– А за работой что, тебя никто из них не видел?
– А зачем им помнить лица?
– Они вообще что-нибудь помнят?
– Очень смутно.
VI
Не каждый день в конце длинного вечера ты обнаруживаешь себя в объятиях незнакомой женщины, и тем более нечасто рядом с тобой стоит хмурая девочка. Чего ждет – вопрос более чем спорный. Томас протяжно выдохнул осенний воздух. Вот так и пожалеешь, что не куришь. Девочка Щепка все шмыгала носом, как будто ничего не произошло.
– Не будете ли вы так любезны рассказать мне, что происходило пять минут назад?
Девочка пожала плечами, будто он задал самый дурацкий вопрос на свете:
– У вас растение в петлице изменилось.
– Растение?.. – Томас скосил глаза.
Действительно, там, где раньше красовалась еловая ветка, означавшая «мне не до чего» и бывшая одной из немногих по-настоящему полезных привилегий мастера, теперь торчала мятая ромашка. «Я жду любви». Кошмар, кошмар какой! Томас заозирался – нет, не видят, никто пока не заметил и не кинулся. Пара минут у него есть. На всякий случай поспешно шагнул так, чтоб оказаться у девочки за спиной.
– Вы чего, мастер?
– Опасаюсь предложений.
– Это каких то есть?
– Говори, прошу, потише. – Томас на всякий случай сдвинулся еще на шаг, так, чтоб голова девочки прикрывала ромашку. Скороговоркой объяснил вполголоса: – Законы нашей страны и конкретно города позволяют любой женщине, сведущей в обычаях, выбрать меня в мужья на одну ночь, если в петлице именно ромашка. Ромашка – «жду любви» – такой вот знак. Стоит лишь сказать нужные слова. С пустой петлицей я являться не могу и пиджак снять во время праздника не могу тоже. Как это вышло?
– Это Ксения сумела. Найти для вас еловую ветку?
– И часто она это практикует?
– Не знаю. – Щепка дернула плечом. – У нас это вообще запрещено.
– Ты поэтому тут стояла? Охраняла?
– Не, не поэтому.
– А почему?
– Какая разница?
Как бы уйти отсюда, чтоб никто не видел. Он перетаптывался с ноги на ногу и не решался. Тем более эти, из Приюта, еще здесь. Тем более с Анной нужно попрощаться, и вот пока он будет с ней прощаться, все заметят…
– А вам не хочется жену даже на одну ночь?
Томас протяжно вдохнул и протяжно выдохнул:
– Сколько тебе лет?
– Да пятнадцать вроде.
– То есть точно ты не знаешь?
– А откуда?
И ведь она не издевалась. Просто стояла рядом в чьей-то шали, сдувала прядь с лица, смотрела в сторону.
– Мастер, она небось вам надоела?
Он обернулся. Перед ним стояла Роуз, которой не должно было здесь быть, и улыбалась извинительной улыбкой.
– Я просто… Ничего же не случилось? А то мне показалось, она может.
– Как вас впустили?
– Я сказала, что я к вам.
Она обшаривала его беспокойным взглядом, словно и правда что-то знала, и в этом чувствовалось нечто материнское: мол, точно все в порядке? Все нормально? Казалось, она вот-вот одернет на нем пиджак или поправит носовой платок в кармане – поправила бы, если бы он был.
И тут Щепка нагнулась завязать шнурки. Томас дернулся заслонить ромашку, но было поздно.
– Мастер, я выбираю вас в мужья до конца вечера, и да будет тому порукой жизнь моя, смерть моя и путь моего дыхания, а вам переставать дышать совсем не нужно. Муж ведь не должен обязательно исполнять долг, я верно помню? Я не потребую от вас ничего личного.
Щепка фыркнула.
– И вовсе не смешно, – сказала Роуз.
– Спасибо вам большое, – отозвался Томас. – А скажите, пожалуйста, многие ли из вас владеют искусством приворота?
– Некоторые, но применять его не принято.
– Не принято или запрещено?
– Запрещено. Но в нашем малом обществе запреты обладают меньшей силой, чем принятые нормы поведения.
– Кто насаждает эти нормы?
– Муж и я, – она помедлила, что-то про себя взвесила, – я имею в виду, всегдашний муж.
– Вы не рискуете репутацией?
– Среди кого? В Приюте вы считаетесь главным призом, а в городе меня не замечают.
– Теперь заметят. Ценю ваше благородство, но, может быть…
– Слова-то уже сказаны.
Да, слова сказаны, и никуда не деться. Он снова посмотрел на Роуз – светлый плащ, плоские туфли, платье до колен. Как может девушка настолько просто одеваться и выглядеть при этом так естественно?
– Но откуда вы знаете обычай?
– Ваш отец иногда был разговорчив.
– Мой отец объяснял язык цветов?..
– Он многое объяснял, были бы слушатели.
Томас представил, как в темном пустом, пахнущем свежим деревом Приюте отец под вечер вел беседу о цветах и обязанностях мастера. Фиалки – после женитьбы и на праздник. Ромашка вот – ну, это если хочется, если неважно с кем, надел и вышел. Мастером быть – не из горла хлестать.
Раньше как было?
Насколько помнил Томас, это «раньше» включало в себя безотказность мастера. Остатки старых культов плодородия, и мастер как символ вообще всего. Такая связь, на одну ночь, не грех, и дети от нее даже почетны. Томас и сам, вообще-то, был таким ребенком, и кто была его мать – понятия не имел. Заставить отца что-то рассказать все равно что заставить петь валун.
– Мастер, – сказала Роуз, – идемте танцевать.
И они пошли – не спеша, рука об руку, будто так и надо. Нужно было что-то сказать, но что – неясно. Он все рассматривал ее ресницы – настоящие? Что она вообще делает в Приюте? Это будто среди стаканов с горячительным найти кувшин простой, вкусной воды.
– Мастер, – сказала Роуз. Это «мастер» из ее уст звучало как цитата, отсылка к чему-то старинному, забытому, ужасно важному. Но он не знал к чему. – Мастер, а вы давно не танцевали?
Томас задумался. Вообще-то он очень часто выводил девушек на их первый танец, так что техника у него была отточена. И кстати, танец – это форма вежливости, нельзя отказать, когда дама приглашает. Некоторые реплики только и подавать, когда кружишься, отступаешь, снова кружишься…
– У нас в Приюте иногда устраивают танцы, но там не столько места. И нет музыки, кроме нескольких гитар.
«Как вы вообще туда попали? Что вы там забыли? Чем вы там занимаетесь вечер за вечером?» – ничего этого Томас, конечно, не спросил. Пожал плечами, сказал безразлично:
– Я в некотором роде кавалер общего пользования. Если кому-то не хватает или не с кем…
– То есть все-таки никто не удивится, что я с вами?
Они уже удивились. Провожали взглядами, будто бы оставляя в воздухе росчерки туши. Прикидывали. Сравнивали Роуз и себя – тут и стоимость платья, и ткань, и цвет ее зубов, и еще многие и многие параметры, которых Томас и представить не мог – вероятно, к счастью.
Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Как нарочно, оркестр заиграл вальс. Раз-два-три, раз-два-три. Потом же ведь придется объясняться.
Раз-два-три.
Он же это не планировал.
Раз-два-три.
Что вообще происходит, боже! Он не сразу понял, что не так, – Роуз вела. Мягко перехватила руль, переложила руки на мужской манер, и теперь он следовал за ней, а не она за ним.
– Вы что-то хотите этим сказать?
Она смотрела на него, не сводя глаз. Странное, давно не испытываемое чувство – будто он просто часть чего-то большего. Что она знает и что ей сказал отец?
– У вас дипломатическая миссия? – осведомился, чтобы скрыть неловкость, и, еще не договорив, понял – не вышло. Она все всматривалась и всматривалась в его лицо, будто срисовывала мысленно неторопливыми, тщательными, спокойными штрихами.
– Вы не похожи на отца, – сказала наконец.
– Прошу простить, но вы неоригинальны.
О своем несходстве с отцом Томас слышал регулярно, еще с юности. Отец был попросту другой породы – очень медленный. Тяжеловесный. Основательный. Суровый. Так и напрашивались к нему всякие старые, нелепые, просторечные выражения – к примеру, вот отец мог пригорюниться, а Томас нет. Замешкаться, потрудиться… Иногда Томасу казалось, что посторонние, те, к кому отец обращался исключительно своей сочувствующей, так сказать, сердобольной стороной, знали его как добродушного… не увальня, конечно, но что-то в этом роде. Может, медведя. Сам Томас был другой – столичный, нервный, и между ним и черноземом Асна всегда исправно отпечатывались подошвы щегольских ботинок или туфель. Отец ходил босиком до самых холодов.
– Мастер, вы верите в пророчества?
– В какие?
Наступало то самое предвечернее время, когда все вокруг словно расплывается. Краски темнеют, контуры растушевываются. Не поймешь толком, с кем танцуешь – с человеком или с тенью.
– В разнообразные. В пророчества как факт.
– Я ни разу пока не наблюдал их в действии.
Цвет этой осени пока темно-зеленый. Темно-зелеными были деревья в саду, темно-зеленой иногда казалась Роуз. Как вода в лесной чаще. Тихий омут.
– Вы верите, что можно изменить русло? Что-то испортить, не последовав начертанному? И жить потом в надломленной истории?
– Но идеального русла ведь не существует.
– Правда? А ваш отец считал иначе.
Ну почему опять он? Ну хотя бы с женщиной может Томас потанцевать наедине. «Папа, – подумал, – я тебя не звал». А вслух ответил:
– Наши с отцом суждения часто разнятся.
– А есть ли что-то, в чем вы точно-точно сходитесь?
Она стремилась его подловить, вот только он не понимал на чем. Что ж, еще круг. И он, и она говорили о Карле Мюнтие в настоящем времени, и оба не обращали на это внимания.
– Город, – сказал Томас, – его мы оба чувствуем.
Он хотел сказать «любим», но не смог. Чувствуем, знаем, ненавидим – эти фонари, реку с иссиня-черной водой, мэра с ее шутками, Вечный парк, колоколенку, череду лавок – лавку белья, и лавку модных тканей, и табака, и булок, и тетрадей; туман на улицах, когда выходишь в пять утра; львиные пасти на дверях, а в пастях – кольца. Город и есть мы, ничего тут не поделаешь.
– Мастер, а вам отец оставил… что-нибудь?
– Кроме записки с пользой сохранить Приют? Должность и дом, но это очевидно.
Роуз ведь тоже танцевала с некой целью, что-то ей было нужно, как и другим, только что именно – он и близко не догадывался. Обычно нужно разрешение построить дом или утехи определенного толка. Тут ни то, ни это…
Он тоже задал неудобный вопрос:
– Как вы попали в Приют?
– Это очень личное.
– Вы из хорошей семьи.
– Это не спасение. А вы что, мастер, помните мою семью?
Разговор принимал какое-то странное, неуютное, пасмурное такое направление. Стало зябко. Томас покачал головой:
– Ваши манеры вас выдают, только и всего.
– А, это… – Роуз усмехнулась, будто была старше, и он на миг почувствовал, как у нее болит голова. До дрожи в пальцах.
VII
Рысь катал ручку по столу. Туда-сюда, туда-сюда, ой, треснула. Ручка не тесто, мог бы и запомнить. «О, вы не пользуетесь перьями?» – спрашивал Томас. Нет, братик, мы не пользуемся перьями, у нас теперь есть шариковые ручки, а еще у нас есть банановые жвачки, и апельсиновые, и клубничные, и мятные, и джинсы у нас есть, и бургеры, блин. Ворох потрепанных вещей и жратва. Поскольку сила в нас не только разрушает все вокруг, но и перемещает нас в пространстве, значит – мы все иногда можем выбраться в Кесмаллу, значит, все, что мы можем купить, – у наших ног. Кесмалла, Кесмалла – единственное место, в котором можно было б жить. Но и там нельзя. Зато достаточно как следует психануть, позволить силе себя увлечь – и вуаля, все джинсы твои, если хватит денег. Кесмалла на передовой прогресса, и ты вместе с ней. Потом ты возвращаешься в Приют, в Асн, где время отстало лет на тридцать, и на твою прекрасную одежду все пялятся в ужасе, включая собственного брата. Томас, сколько Рысь помнил, всегда был занудой и всегда чего-то не одобрял – прогресс ли, споры ли с отцом, повышение голоса.
Вечер подходил к концу, от окна тянуло холодом, а те, кто ушел на банкет, всё не возвращались. За день Рысь успел разобраться со счетами, уговорил кого-то из мелких поесть, пресек очередную битву века и тысячу и один раз разрушил надежды. «Рысь, а возьми меня! А можно мне? А можно я пойду, я платье выгладила?» Куда бы он ни шел, его сопровождала толпа, а он мотал головой – нет, нет, нет, ребята. Я знаю, что вы у меня самые лучшие, мы свой банкет закатим круче городского, но сейчас только эти пятеро. Да, я их выбрал. Вот зачем присылать такие штуки – чтоб пятеро не знали, куда деться, а остальные им вовсю завидовали? Хотя память-то у приютских короче некуда, это их губит, но оно же и спасает. Сначала они станут расспрашивать, как все прошло, а через пару дней – забудут напрочь.
Он бы тоже сейчас узнал, как все прошло, но вот беда – спросить-то не у кого. Сиди жди, жуй себе неизвестность, можешь даже мычать от нетерпения. Что еще-то тебе остается, на что ты годен? И главное, Роуз тоже все не идет, а вечер тянется, и сумерки сгущаются, и хочется не то напиться, не то взвыть, а не то двинуть кулаком по стенке со всей силы.
Рысь глубоко вдохнул и начал отжиматься. Раз. Два. О, так и до десяти недалеко. Тощий не значит хилый, вот в чем штука. Весь день страдал черт знает чем, так хоть сейчас… Десять. Четырнадцать. Хочешь орать – ори. Думаешь, одному тебе хреново? Двадцать четыре. Черт, еще и пол грязный. Ну, успокоился? Всё, тридцать. Тридцать пять.
На сороковом разе Роуз все-таки пришла и принесла с собой запах дождя. Рысь уселся за стол, будто и не ждал, а она обняла его сзади за плечи, поцеловала еще и еще. Рысь отвечал на эти перевернутые поцелуи, подставлял лицо и шею, как под ливень, и все же что-то было не так, что-то тут было…
– Милый, – сказала Роуз, – я танцевала с твоим братом.
И Рысь вздохнул протяжно – снова-заново. Раз за разом ты думаешь, что все закончилось, и раз за разом оно только начинается. Нет, конечно, все девушки Приюта падки на новых мужчин, а тем более на мастера. У всех случаются вот эти… завихрения, и абсолютно ничего они не значат: это не сами девушки, это сила в них требует новых впечатлений и объятий. Но Роуз-то могла быть выше этого? Да-да, он понимает, что ей трудно, ну так всем трудно, ему в том числе. И что теперь? И что ему сказать?
– И как тебе? – спросил.
– А ты как думаешь?
Он поглядел на нее. Ну, положим, сумрак. Но все равно, когда твоя родная женщина вдруг увлекается твоим собственным братом, это должно же как-то выражаться. Ладно, румянец… и глаза блестят, так они у нее всегда блестят. И вот чего она теперь стоит и ждет? Да еще смотрит с жалостью, скажи, пожалуйста…
Что ты ей можешь дать? За мастером город, нормальный дом, никаких всплесков силы по сто раз на дню.
– Ну что? – спросил, злясь, сам не зная на что, и от этого только больше раздражаясь. – Что тебе… Голова, что ли, болит?
Если б не эта ее реплика про мастера, понял бы раньше. И правда болит, вон как подергивается уголок рта… Или расплакаться собралась? Поди пойми… На всякий случай сгреб ее в охапку и так в обнимку и уселся на кровать. Она обмякла, стала словно бы тяжелой куклой, и это значило – устала. Очень-очень.
– Мы разговаривали, – сказала стылым голосом. – Разговаривали, и больше ничего. Ты что, подумал, я в него влюбилась?
Обнималась она как-то неловко, будто хотела спрятать лицо на его, Рыси, груди, но в последний момент передумала. Он баюкал ее, покачивался, гладил по волосам.
– Слушай, ну я не знал, что думать.
– Ты подумал, что я как все.
– Ну извини меня.
Когда он с ней танцевал в последний раз? Когда они были отдельно от Приюта? А вот взять бы и уйти на полдня, пройтись по улицам, вина попить, как люди. Роуз закажет эту свою рыбу, поковыряет, начнет воровать у него мясо. Возьмет мороженое с клубничным сиропом, и, когда облизнет ложку и губы, Рыси покажется, что им снова по двадцать.
– Хочешь мороженое?
– У тебя все равно нет.
О, издевается, значит, уже получше. Еще немного – и поведает, в чем дело, а то пока это драма на одного, точней – на одну, а Рысь дурак дураком. А интересно, мастер хоть обрадовался…
Роуз выпрямилась и вытерла глаза. Сказала:
– Ты же помнишь историю про то, как мне велели выйти замуж?
– Это когда ты удрала со мной?
– Меня за мастера и прочили. Но он не знает. Его отец… ну то есть ваш отец считал, что это как-то всех спасет. Гармоничный союз, и все такое, противоположности сольются, очень важно. То есть он нашел какое-то пророчество и думал, что это про меня и твоего брата. Но это же про нас с тобой, понимаешь?
– А почему ты раньше не сказала?
– Я не помнила.
Она врала, конечно. Всегда ведь знала больше, чем рассказывала, и Рысь это устраивало – шло бы оно все… Они же познакомились случайно, а потом она попросила ей помочь, а потом он чуть не сошел с ума, а потом его вдруг спас старый мастер. Ну а потом – Приют, Приют, еще Приют…
– Ты не жалеешь, что с ним не осталась?
– Не было никакого «с ним». «Его» как максимум.
– Ты не жалеешь?
– А как ты считаешь?
– Но тебе хочется узнать, как бы все было?
Она ответила не сразу.
– Да, – сказала. – Да, да, мне хочется. Но не из-за себя.
Допытываться, что она имела в виду, Рысь не стал. Выглянул за дверь – в лицо дул ночной коридорный ветер. Бывают ночи, когда любой шорох разносится на сотню миль окрест.
– Ты куда? – окликнула его Роуз.
– Схожу к ребятам.
Не знаешь, что сказать и делать, – делай, что можешь. Он не спеша пошел по коридору, вдыхая сырой прохладный воздух, временно оставляя позади Роуз с ее глубинами и тайнами, свою беспомощность, раздавленную ручку, весь этот вечер унизительного ожидания. Нет, надо, надо вылезти проветриться – одному или с Роуз – как пойдет.
Приют приветствовал его – когда все спали, было легче почувствовать сам дом. Рысь чуял, как по красно-бурым стенам течет его же, Рыси, злость и сила, и спокойствие старого мастера, и едкость Яблока. Казалось, ковырни стену ножом – из нее потечет прозрачно-желтое, прозрачно-рыжее, а то и вовсе кровь. На стенах никто не писал, никто их не царапал – ни признаний в любви, ни инициалов, ни рисунков поинтереснее, ничего. Об этом даже не говорили, просто знали.
Кто-то в углу привычно играл в карты, и Рысь кивнул, проходя мимо, толком не узнавая лиц в свете фонарика. Кто-то просто сидел в темноте, видел сны наяву, им Рысь тоже кивнул, хоть они не отзывались. Кто-то по-тихому распивал жидкую силу, и в другое время Рысь отобрал бы, даже наорал, но сегодня только головой покачал, прошел мимо. Пускай уж развлекаются. Вообще-то, силу разжижать себе дороже, такой дурман выходит – мама не горюй.
Он сам не мог сказать, чего искал, – просто иногда тянет прочь из комнаты, по коридору, по лестнице вниз, дальше в темноту. Заглянул в зал – здесь действительно все спали, кроме нескольких упертых – эти целовались. В темноте, чуть не ощупью, прокрался на кухню – то ли свет зажечь, то ли воды глотнуть – и увидел, что свет уже горит. Кто там сидит на кухне без гитары? Рысь тихонько открыл дверь – разбудишь еще…
В кухне сидели Александр и Я Вам Клянусь. Леди уснула на двух стульях, подложив под голову сковородку с толстым дном. Клянусь всем видом показывал, что он не с ними и вообще шел не сюда.
– Ну что? – спросил Рысь громким шепотом. – Как банкет?
Александр потряс Леди за плечо, та медленно села, моргая, приходя в себя.
– Доброе утро, – сказал Рысь. – Чего хотели-то?
Дети смотрели настороженно, молчали. Все-таки очень плохо он знал младших – отсиживаются по углам, цедят слова, учатся рисовать, читают книги. У той же Леди в прошлой жизни было все, о чем Рысь и понятия не имел, и эта разница как-то да сказывалась – в походке, в манере жевать, да в чем угодно.
Роуз тоже происходила из хорошей семьи, но в ней не было этого лоска и презрения, переходящего в брезгливость. Мелкие будто бы на все смотрели свысока: и на еду в столовой, и на утренний душ, и на игры, которые Рысь затевал по вечерам. Ладно, положим, игры и впрямь через одну дурацкие, но ведь они же ничего не предлагали взамен. Они ни о чем даже не просили. Рысь испытывал перед ними иррациональное, как он считал, чувство вины и с раздражением от него отмахивался.
Старшие рады были, что Рысь дал им хоть что-то. Младшие думали – Рысь должен был дать больше. Обеспечить, как выразилась Леди, более подходящие условия. Что Рысь мог вовсе ничего не обеспечивать – это как-то выскальзывало из их рассуждений.
– Они считают, ты причина бедствий, – сказала однажды Роуз, – а не спасение.
Рысь пожимал плечами – не вышвыривать же их. Он не за благодарность нанимался. Но вот сейчас, в ночи, очень хотелось, чтоб они просто рассказали, что хотели, и удалились спать, а не отмалчивались.
– Где Щепка? – спросил у Я Вам Клянусь. – Она не это… ничего там не сожгла?
Леди фыркнула на «не это». Рысь вздохнул.
– Ну? – спросил он. – Что нужно? Что не так?
Поставил чайник на плиту, потащил из буфета чашки. Ладно, он устарел, его понятия – как это? – архаичны, и что из этого? Что делать-то теперь? Язык, язык, все дело в языке. Он так привык казаться своим для тех, кто говорил предельно просто, из кого рыжая сила вымыла всю сложность, что теперь не знал, как быть с остальными. Мелкие засыпали на ходу и обожали строить из слов сложные конструкции.
– Благодарю, – сказала Леди и сделала символический, кошачий глоток. Чай на ее вкус, конечно, был перезаварен. – Но мы совершенно не за этим пришли.
– А зачем?
Какая она еще маленькая, хрупкая. Рыси ее и приобнять было бы боязно, не сломаешь, так платье изомнешь – а ведь сидит и презирает изо всех сил. Александр пил чай молча, ждал своей очереди вступить. Тоже осуждал.
– Мы хотим равных прав, – сказала Леди, – а мастер с твоей Роуз танцевал.
Как одно сочетается с другим-то? И почему она вдруг с ним на «ты»?
– Про Роуз не суть, – покривил душой, – а что с правами?
– Мы хотим мочь… Хотим выходить в город без разрешения и сопровождения. Наш имидж не настолько негативен, как ты это пытался нам втолковать.
– Что? Я пытался?..
– Ты говорил, что все от нас шарахаются.
Рысь постарался вспомнить. Нет, когда-то, может быть, спьяну, или с недосыпа, или чтобы отстали, мог и ляпнуть. Или, скорее, когда кто-нибудь достал его – подрались жестко, или любовь несчастная, все эти слезы-сопли, или и то и другое, – тогда да, мог заорать: мол, стыдно мне за вас, в городе с вами показаться невозможно, о чем вы думаете вообще? – ну так это старшим. А мелким – как бы это им сказать-то. Раз за разом приходят эти группки и просят-то примерно одно. И каждый уверен, что у него прокатит.
Рысь, не торопясь, вытащил из-за хлебницы флягу с узорчиками, отвинтил крышку, ухмыльнулся, отхлебнул. То есть там, конечно, просто сок гранатовый, кислый, как кое-чья физиономия, но Леди этого не знала и бесилась. Еще сильней она, конечно, разозлилась, когда Рысь развалился на стуле и вальяжно закинул ноги на другой. Хорошо бы пару царапин и разбитый нос, но в общем ладно, и такой сойдет. Кого вы там на моем месте видите? Главаря-раздолбая? Идиота?
Протянул фляжку Леди, потом Александру, но оба воротили нос. Я Вам Клянусь тенью бледной и укоризненной зевал себе в кулак на заднем плане – мол, быстрей давай.
– Так что, – сказал и погасил ухмылочку, – вы то есть думаете, что в городе нас ждут?
– Сегодня вполне в этом убедились.
– Это банкет. Там все друг другу кланяются. Вы понимаете, что есть простые жители и им-то мы ни разу не сдались? Да и не очень простым – посмотреть, как на диковину, еще сгодимся, косточки перемыть потом за ужином. Но вы же с кем-то собрались всерьез общаться? Дружить, да? А они боятся нас.
Рысь уже проходил все эти дружбы – то приютские звали в гости городских, а те потом едва не получали силой, то городские оставляли приютских ночевать и потом не могли их добудиться. Приют дает иллюзию нормальной жизни, но не больше. У старого мастера был, конечно, план, вот только что это был за план, никто уже не узнает.
– Хотим работать. Мы достойны большего. Можем вывески рисовать, в конце концов.
– Да, рисуете вы круто – не вопрос… – Рысь задумчиво сделал еще глоток. Вот налить бы виски и не париться уже, никто не осудил бы, кроме мастера, а мастер умер давно. В смысле тот, нормальный. Рысь взболтал сок на дне фляжки, опрокинул на выдохе.
Леди поморщилась.
– Как бы тебе попроще объяснить…
Он снова потряс фляжку, поглядел внутрь одним глазом. И вроде говоришь им, говоришь, чуть ли не схемы чертишь, как там обстоят дела, а все равно приходят, злятся, просят. Да чтоб вас, мастер, с вашими банкетами!
Вздохнул, спросил напрямик:
– Ты в стенку часто смотришь?
– Это к делу не относится.
– А в городе будешь в три раза чаще. Приют, он кого тормозит, а кого тормошит. Вас, например. Я вас поэтому и отпускаю только с кем-то – чтоб хоть до дома было кому довести, когда заклинит.
– Но на банкете…
– При мастере можно.
– Но старшие ведь ходят!
– И вы будете. Только старшие, как бы вам сказать, они не выздоровели, а усугубили.
Она уставилась недоверчиво:
– То есть вы хотите…
– …сказать, что эта шняга навсегда. Вы, что ль, думали, я вас притесняю? Потому, что вы младше? Или что?
– Мы думали, что вырастем и справимся.
– А с этим не справляешься, а живешь.
Надо отдать ей должное – она не плакала, хотя глаза слезами и наполнились. Да объяснял же это все не один раз, ну почему они так быстро забывают? Хотя теперь, наверное, не забудут. Леди пыталась еще что-то сказать тонким голоском, у нее даже что-то выходило, пусть с запинками:
– Нам кажется, твоя кандидатура… не способствует нашему развитию.
– Ты имеешь в виду, что я все порчу?
Она поджала дрожащие губы и кивнула.
– Нету… условий, – она все еще держалась, – надлежащих…
И все-таки расплакалась – отчаянно, с прямой спиной, прижав ладони к щекам, смотрела жалко, жалобно. Устала, что ли, с непривычки? Или осень?.. Шумно вздыхали Александр с Я Вам Клянусь, Леди все рассыпалась в мелком плаче.
Рысь принялся гладить ее по голове:
– Ну ладно, ладно. Да капец кандидатура, я б сам такого не назначил никогда. Все образуется, серьезно. Все получится. И книжки, и условия, и все это…
Она плакала, кажется впервые в жизни столкнувшись с чем-то, что нельзя исправить. До сих пор списывала все на тупость Рыси – мол, до них просто не дошло, как надо сделать, взрослые вечно тормозят, им объяснить бы… Рысь встретился взглядом с Я Вам Клянусь и показал глазами на угловой шкафчик. Я Вам Клянусь зазвенел ложечкой в стакане, Александр извлек свою тетрадку и хмуро принялся что-то черкать.
– На самом деле все прошло довольно гладко, – поделился, не отрываясь от занятия, – просто все эти ложные надежды создали почву для разочарований. Мы понравились мэру. И судье.
Рысь проглотил нервный смешок на слове «судья» и поддержал беседу:
– Что они сказали?
– Госпожа мэр отметила, что мы забавные, а господин судья – что заметен потенциал к развитию. Там, правда, был еще священник, и вот он… – Александр покачал головой.
– Ну я понял, что он.
Когда-то этот дядя делал отметку в церковной книге об их с Роуз браке, так полагалось для приезжих, и Рысь тогда едва с ним не подрался. Потому что он говорил примерно следующее: «А дети ваши будут противоестественны. Зачатые не то что во грехе, но в сердце, так сказать, природной странности». Бледная Роуз молча кивала. Она уже успела осознать, что дети, пока Рысь – глава Приюта, им не светят. Рысь примерился, вспомнил мастера, разжал кулак. Священник с аккуратностью захлопнул свою книгу, сдул пылинки с обложки и ушел.
Я Вам Клянусь тем временем наконец подсунул Леди мятную успокоительную дрянь, которую Рысь держал специально на такой случай, но Леди так тряслась, что не могла пить.
– Ну тихо-тихо, – завел Рысь шарманку снова, – ты же смелая. Ты же герой у нас, да? Ты у младших главная?
– «Пример для тех, кто разделял сей образ мыслей…» – Она процитировала сквозь всхлипывания строчку из стихотворения «На смерть одного из скандальных баснописцев», некоторое время чрезвычайно популярного в хороших домах в качестве назидательного чтения, а также для заучивания наизусть.
– У нас тут речь пока что не про смерть. Ты донесешь до остальных, что тут и как?
– До остальных?
– Ну, для кого ты там пример.
Она отхлебнула успокоительного:
– Я постараюсь, только к вам тоже придут.
Рысь мысленно застонал: только не все сразу. Сколько их плакало уже на его веку, а каждый раз как в первый. Курить хочется. Я Вам Клянусь залпом допил успокоительное, сказал вполголоса, пока Леди затихла:
– Это же мастер им внушил, понимаешь? Разрешил им приходить в любое время.
– В город или к нему?
– Кто ж его разберет… Мне кажется, он ляпнул… это как жест вежливости, небось от радости, что на сей раз легко отделался, прощальные слова, пока, друзья, рад был знакомству, до свиданья, до свиданья…
– Я понял, можешь дальше не расцвечивать.
– Да я как лучше…
– Да я понял, понял.
«Братец-братец, ну что же ты такой урод».
VIII
Ночью Джо проснулась оттого, что на нее кто-то смотрел. Она села, зевнула и поежилась. В зале все еще спали – кто раздетый и под плащом, кто в одежде, кто подложив под голову рюкзак, кто просто так. Уснули парочки, не разжимая рук.
Пахло сыростью и паленым. В этом их Приюте довольно часто кто-то что-то поджигал.
– Здравствуй, радость моя.
Нельзя отвечать. Нужно сидеть, дышать как можно тише, делать вид, что ее вообще здесь нет. Может, он пройдет мимо. Может, раздумает.