Верность месту бесплатное чтение
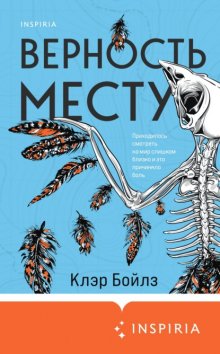
Claire Boyles
Site Fidelity
Copyright © 2021 by Claire Boyles
В коллаже на обложке использованы иллюстрации:
© TSHIRT-FACTORYdotCOM, Juli Hansen, Inna Sinano /Shutterstock.com;
© Тарасов М., перевод на русский язык, 2022
© Издание на русском языке. ООО «Издательство „Эксмо“», 2022
Гроссбухи
После того как у папы случился удар, мы подождали пару месяцев, пока все успокоится, а потом продали семейное ранчо целиком одному скотоводу из Монтроуза по фамилии Хенсон, чье имя папа не расслышал. Я жила на Фараллонах[1], изучая верность местам обитания пепельных качурок, птиц, о которых большинство людей, вероятно, не слышали и, возможно, никогда не услышат. Внезапный разлив нефти или любая другая катастрофа на Центральном побережье Калифорнии могут стереть с лица земли весь вид. Это была настоящая исследовательская работа, мечта каждого орнитолога. Но я люблю своего папу, а потому все бросила и вернулась домой. Тогда я единственный раз порадовалась, что папа потерял дар речи, потому что мне совсем не улыбалось выслушивать, как сильно ему хотелось, чтобы я интересовалась чертовыми коровами, а не чертовыми птицами.
Папа не хотел, чтобы наша земля была разделена на участки для продажи и посеянное на нем стало последним урожаем, а потому предложил Хенсону хорошую скидку. Мы заключили сделку в конце сентября. Хенсон подписал бумаги кожистыми и обветренными руками ранчера, такие же были у папы. Хенсон — мой ровесник, старше, может быть, на несколько лет, разведен, маленькая дочь, и я отношусь к нему с явным недоверием. Как может кто-то в свои тридцать остаться после рецессии с деньгами, на которые можно купить четверть участка на реке у самых границ Ганнисона[2], еще и с правами на воду?
Удар лишил папу многих вещей, по которым я тоже скучаю, нечто более ценное, чем его способность пасти скот, — например, он утратил глаголы, а вместе с ними и все, что напоминает предложения. Из-за инсульта исчезли также подвижность всей его правой стороны и все наши сбережения, ушедшие на счета за лечение, хотя последняя проблема прекрасно разрешилась с продажей ранчо. Хуже всего то, что он не может произнести мое имя, Нора. Вместо этого папа зовет меня Верой. Я перестала утруждать себя тем, чтобы его поправлять. Моя мать Вера умерла в луже собственной крови в день, когда я родилась, ожидая «Скорой помощи», которая свернула на дорогу 68 вместо дороги 68 1/2.
Папа не путает, как вы могли бы подумать. Он знает разницу между покойной женой и живой дочерью. В течение первого месяца или около того он вздрагивал каждый раз, когда произносил свое «Вера», грустно качал головой и смотрел вниз на свою обувь — кроссовки «Нью Бэланс» с терапевтическими эластичными шнурками, а не ботинки, которые он носил всю свою жизнь. Бейсболка заменила привычную ковбойскую шляпу стетсон[3]. Он стал почти неузнаваем. Моя подруга Джули — его логопед, и она говорит мне, что он все еще думает «Нора», когда смотрит на меня, просто нужный сигнал теряется в афазическом тумане, который поселился где-то между мозгом папы и его языком. Когда он «думает-Нора-но-говорит-Вера», это звучит как «В-в-в-в-в-е-ера». Он застревает на первом звуке «в», который, согласно схеме артикуляции, которую Джули повесила на наш холодильник, является губно-зубным фрикативом.
— Звучит как-то грязно, — говорю я папе. — Губно-зубной.
Я перемещаю магниты так, чтобы видеть всю диаграмму согласных — назальных и альвеолярных, звонких и глухих.
Папа смеется, и мое сердце слегка трепещет; я воспринимаю это как доказательство того, что оно не разбито полностью. Когда папа смеется, мне кажется, что мы ведем беседу, совсем непохожую на монологи Норы, гораздо менее изящные, чем истории, которые рассказывал папа. Для папы нет никакого реального прогноза, нет четкого количества месяцев его жизни, нет процента самостоятельности, которую ему удастся восстановить. Папа кажется одновременно хрупким и прочным, как яйцо. Каждое утро, когда я завязываю ему шнурки, я думаю: «Возможно, это последний раз, когда я завязываю ему шнурки. — А также задаюсь вопросом: — Сколько еще раз мне доведется завязывать ему шнурки?»
Я видела Хенсона ровно пять раз с тех пор, как он купил папино ранчо. Я это знаю, потому что специально для него завела страничку в своем гроссбухе. Я много чего записываю в своем гроссбухе: как часто я переворачивала компост, различные наблюдения за пушистыми дятлами, тот факт, что прошлой весной во всем мире осталось лишь около пяти тысяч гуннисонских шалфейных тетеревов. Эту привычку я переняла у папы, точно так же, как научилась у него разбираться в цифрах и любить печенье «Орео».
Тридцатого октября мы с Хенсоном поздоровались в супермаркете «Сейфуэй». Вместо большой тележки он толкал перед собой маленькую, двухэтажную, и покупал кукурузные хлопья, ванильное мороженое и другие простые, понятные продукты. В канун Рождества он появился в церкви в первый и последний раз. Я могла бы поклясться, что видела, как огоньки свечей отражались от слез на его щеках, когда мы все пели «Тихую ночь», но это неточно. К тому времени как дьяконы снова включили свет в алтаре, Хенсон уже исчез. В канун Нового года он участвовал в общей процессии — гарцевал верхом на лошади, его седло было украшено крошечными белыми мерцающими огоньками, и он приподнял шляпу и улыбнулся мне, когда проезжал мимо.
Два других раза, когда я видела Хенсона, он меня не заметил. Я наблюдала за птицами, хорошо скрытая ивами и кустарником, молчаливая, терпеливая, на примыкающей к западной стороне нашего старого ранчо общественной земле, находящейся в ведении Федерального бюро по управлению землями. Двадцать четвертого марта я видела, как Хенсон режет проволоку на заборе, отделяющем наше ранчо от земли БУЗ. Первого апреля, в День дурака, он сделал это снова примерно в ста ярдах от линии забора. У меня есть фотографии. Я съездила в город и проверила, не взяты ли тамошние пастбища в аренду, но имени Хенсона нигде не было. Земля БУЗ принадлежит всем одновременно и никому конкретно, и выпасать там скот без уплаты пошлин то же самое, что воровать корма. Хуже того, он будет прогонять скот через папин и мой тайный лек[4], где обитает ганнисонский шалфейный тетерев, прямо посреди сезона размножения, что так же плохо для этих птиц, как строительство домов.
Ганнисонские тетерева так же сильно повлияли на мое становление, как и мой папа. В 2000 году они стали первым новым видом птиц, официально признанным в Соединенных Штатах за более чем сто лет. Мне тогда было двенадцать. О них говорил весь город. Они были частью нашей местности. Частью нашего характера. Что-то в этом роде.
К этому времени я уже выполняла наравне с папой все хозяйственные работы на ранчо, каждый день закаляла свою храбрость, загоняя скот, испытывала свою силу, натягивая проволоку на заборы, проверяла свою выносливость, работая каждый световой час в сутках. По улыбке в глазах папы я понимала, что он мной гордится, и именно так я научилась гордиться собой. В моей памяти постоянно звучит голос папы, он неизменно говорит со мной, потому что всегда это делал:
Хорошая работа, Нора.
Давай продолжай, Нора.
Вот так, девочка, молодец.
Пока мы работали, папа рассказывал истории о своей жизни на ранчо. Про то, как бабушка высасывала яд из змеиного укуса, а дед принимал ванны на Ваунитских горячих источниках. Вспоминал сливочную сладость домашнего мороженого моей матери. Меня утешало, что когда-то у нас с папой были другие родственники. Эти истории позволяли мне винить только время и невезение в исчезновении членов семьи — перестать беспокоиться, что мы одни, потому что с нами что-то не так.
Шалфейные тетерева все это время жили на ранчо, папа просто не знал, да и никто из нас не знал, что эти птицы находятся под угрозой исчезновения. В первый раз я увидела их перед рассветом, когда мы чинили тот забор, рядом с которым я видела Хенсона. Утро было пасмурным, моросил дождь. Солнце взошло, но его не было видно из-за облачного покрова, свет постепенно угасал, а не лился оранжевыми и розовыми потоками из-за горного гребня на востоке. Я слышала их крики, похожие на лопающиеся пузыри — стаккато ударов по воздушным мешкам птиц, видела самцов, напыщенных, мужественных. Они были так горды собой, так полны жизни. Я знала, что стала свидетелем чего-то важного и редкого. Тогда я впервые ощутила смесь эмоций, которые с тех пор всегда вызывали во мне ранимые существа. Благоговейный трепет. Упреждающая печаль утраты. Гнев и негодование по поводу глубокой апатии человечества. Всплески того, что было, наверное, чем-то вроде материнской заботы.
— Мы вернемся завтра, — пообещал папа, — и разобьем здесь лагерь, пока не обнесем этот луг забором. Если мы сможем предотвратить на нем выпас скота, по крайней мере весной, то мы сможем самостоятельно спасти этих птиц. Нам не нужно никому говорить, что они здесь. Мы не нуждаемся в правительственных подачках, чтобы поступить правильно. Нам просто нужно позаботиться о том, что принадлежат всем нам.
И мы действительно о них заботились. Каждый год мы останавливались там на неделю, подсчитывая самцов и самок, записывая количество видимых совокуплений (их было не так много), свидетельствуя вмешательство хищников (койот, сова, ястреб, беркут). Папа все это записывал в свой гроссбух.
— Это не дневник, — ворчливо говорил он, взъерошивая мне волосы, когда я его поддразнивала. — Это гроссбух. Дневники предназначены для чувств, а я не слежу за своими чувствами. Я слежу за фактами.
Папа вел аккуратные и упорядоченные записи о ежедневных событиях в черно-белых тетрадях для сочинений за 99 центов, которые он покупал каждый год вместе с моими школьными принадлежностями. Он был почти знаменит, умея сказать, что в 1993 году продал только 152 головы крупного рогатого скота или что ГЭС Блу-Меса вырабатывает 60 тысяч киловатт электроэнергии каждый год, в то время как ГЭС Кристал производит только 28 тысяч. Теперь слова для обозначения количественных отношений слишком трудны для папы, и он легко их пропускает. Он вообще не может разобраться в своих цифрах. Не то чтобы изменилось его мышление, стала другой только его речь, но от нее зависит то, каким люди его видят — даже то, каким его вижу я, что заставляет меня стыдиться самой себя.
Папины гроссбухи помогли мне узнать разницу между практическим мышлением и эмоциональным, помогли понять, как многие люди, любящие один способ видения вещей, презирают другой или, возможно, боятся его. Раз в полгода папа отмечал мой рост на косяке кухонной двери и переписывал его в свой гроссбух. Если бы я поступила сейчас так же с ним, то, боюсь, обнаружила бы, что он съеживается, что метки, подчиняясь силе гравитации, следуют в обратном направлении. Папа пишет списки продуктов левой рукой, потому что все, что раньше было в нем доминирующим, теперь не действует.
Он будто в детском саду: хромающая орфография, дрожащий, неровный почерк. Папа хочет бананов, зерновых хлопьев и апельсинового сока. Он пишет: Бабабы. Хупя. Сук.
В отдельно стоящем гараже старого викторианского дома, который мы купили в центре Ганнисона, стоит множество коробок с папиными гроссбухами. Его касающиеся лека записи за последние три сезона свидетельствуют о 55-процентном падении мужского населения на нашей земле. Он никогда не упоминал об этом до инсульта, а теперь вообще не хочет ни о чем говорить.
— Папа, — обратилась я, бросая открытые бухгалтерские книги на сосновый стол, который он соорудил в первую зиму моего отсутствия, когда я уехала в колледж. — Что случилось?
Папа посмотрел на бухгалтерские книги, потом на меня удивленным взглядом, его лицо напряглось, покрылось морщинами. Он был моим любимым рассказчиком, а теперь его едва интересует простой разговор.
— Не знаю, — пробормотал он, пожимая левым плечом.
Я попробовала еще раз. Не знаю, насколько я должна приспособиться к этому новому, более ограниченному папе, насколько я должна позволить ему сникнуть.
— Почему так мало птиц? Что-то не так с леком?
Папа поглядел на пузырек с таблетками, пересчитал пурпурные морфиновые жемчужины и попытался снять крышку большим пальцем единственной рабочей руки. Он не слушал или пытался сделать вид, что не слушает.
— Пап, — позвала я.
Он снова пожал плечом и раздраженно поднял левую руку:
— Не знаю.
Разговоры тяжелы для папы, но и для меня это нелегкая работа, требующая так много беспрестанных усилий: чтобы устанавливать связь, дожидаться реакции, любить и чувствовать, что он тоже любит. Мне хотелось закричать, схватить его за плечи, вытрясти из него информацию или по крайней мере вытрясти из него интерес ко мне, к шалфейному тетереву, к чему угодно.
Увы, я не могу этого сделать. Он мой папа, и я его люблю, да что толку от этого?
— Ладно, — говорю я. — Все равно разговор выходит скучный.
Папа сердито посмотрел на меня, промурлыкал несколько тактов темы из «Звездных войн» и, катясь к туалету, переехал мне ногу своей электрической коляской.
Я решила съездить к Хенсону и попросить разрешения провести весенний подсчет, чтобы самой побывать на леке и посмотреть, как там дела. Хенсон сидел в одиночестве на устроенных на террасе качелях и потягивал «Бад» из банки в зеленом пенопластовом стакане, сохраняющем пиво холодным. К ступенькам крыльца прислонился крохотный розовый детский велосипед, маленькие боковые колесики которого были такими кривыми, что не касались земли, но ребенка нигде видно не было. Хенсон высокий, широкоплечий мужчина, но то, как он стоял спиной к невероятно красивой ленте заката, позади темной громадой высился дом, а перед ним расстилалась пустая терраса, — от этого он показался мне невероятно маленьким. Он сделал еще глоток пива, и я увидела бледную полоску кожи, нежную и мягкую, как раз там, где должно быть обручальное кольцо. На какой-то мимолетный миг мне стало жаль Хенсона больше, чем себя.
При моем приближении Хенсон встал. Он улыбнулся, но сдержанно.
— Нора, — произнес он, кивнув в знак приветствия.
— Простите, что явилась без предупреждения, — извинилась я. — Я не знаю номера вашего телефона.
— Ладно, — буркнул он, указывая на пластмассовое адирондакское кресло[5]. — Бросайте кости.
Он потянулся к маленькому холодильнику, вынул банку пива и предложил мне. Я взяла ее, хотя не очень люблю пиво. Просто я услышала голос папы, дающего мне совет: «Когда ты пытаешься кого-то умаслить, Нора, бери то, что тебе предлагают».
Он спросил о папе. Я пожала плечами.
— Не знаю, — ответила я.
В течение одной неловкой минуты мы сидели молча и пили пиво.
— У меня такое чувство, будто вы явились попросить меня о чем-то, что я вряд ли дам. — Он посмотрел мне прямо в глаза. Его глаза напоминали яйца малиновки, голубые с коричневыми крапинками. Они смягчали грубость его тела. — Я видел в поле шалфейного тетерева. Думаю, вы хотите получить сервитут[6].
Мое сердце слегка екнуло. Не все владельцы ранчо такие, как папа. Некоторые находят этих птиц несносными. Некоторые отказываются платить за выпас скота из ложного представления о своем историческом наследии жителей Фронтира[7], о том, что нация им должна. Некоторые организовались, называют себя «полынными бунтовщиками»[8]. Они угрожали агентам БУЗ, наставляя на них дуло пистолета. Они вторглись в Национальные заповедники дикой природы. Они избрали шерифов по всему Западу, считающих, что конституция дает им полное право игнорировать федеральные законы и законы штатов. Даже папа, не друживший с федералами, считал полынных бунтовщиков опасными экстремистами. Если Хенсон водил с ними знакомство, его ответ уже был мне известен.
Я сделала медленный, расслабляющий вдох, прежде чем ему ответить.
— Да, мне нужен сервитут, — начала я, — но я соглашусь и на обычный доступ к земле. Мне хотелось бы просто произвести подсчет.
Хенсон нахмурился и ответил не сразу. Я услышала крик орлана и полезла в сумку за биноклем. Я никогда никуда не хожу без сумки, бинокля и гроссбуха. Конечно же, я заметила белоголового орлана, сидящего на одном из хорошо мне знакомых тополей, старых и сучковатых, растущих вдоль берега реки.
— Белоголовый орлан, — пояснила я. — Хотите взглянуть?
Хенсон отрицательно покачал головой с каким-то озадаченным выражением, как будто потакая ребенку. То же самое было и с папой, который поддерживал возню с птицами как хобби, но не мог понять ее как чертовски серьезную научную карьеру.
— Они больше не редкость, — сказал он. — Я наблюдаю за этим орланом уже несколько дней.
— Конечно, — подхватила я. — Старая новость, эти белоголовые орлы.
— Ага, вы победили, — отозвался он.
— Кто?
— Ваши ребята, экологи, — пояснил он.
Я опустила бинокль и откинулась на спинку кресла:
— Мои родные владели этим ранчо шестьдесят лет. И мы не так уж сильно отличаемся от вас.
Хенсон фыркнул и отвернулся. Насчет орланов он был прав. Они выжили. Было время, когда я находила это обнадеживающим, своего рода доказательством того, что мы, люди, все еще можем нажать на экологический аварийный тормоз, что мы наконец смогли это сделать, прочувствовав потерю странствующего голубя, каролинского попугая, лабрадорской гаги, все тридцать страниц Википедии под рубрикой «Вымершие птицы Северной Америки», которые можно нагуглить, не являясь экспертом. Но теперь я другая. Я стала старше, возможно, мудрее, и теперь я лучше знаю, что к чему. Мы спасли белоголовых орланов только потому, что хотим видеть в них себя — в конце концов, они наш национальный символ, что делает их исключительными точно так же, как мы считаем исключительными самих нас, видя в себе своего рода объектив, через который можно рассматривать наш мир. Обыкновенным птицам, вроде ганнисонского тетерева, мы позволяем исчезнуть, пожав плечами. Что является еще одним доказательством, если только мне оно нужно, что в этом мы никогда не были вместе, и не вместе сейчас.
— Земля перешла мне без сервитута. — Закат угасал, и Хенсон включил свет на крыльце. — А это значит, ваш отец был не настолько глуп, чтобы замешивать сюда правительство и отказываться от хороших пастбищ ради каких-то нелепых птиц.
— Папа оставил эту землю в покое, потому что это было правильно, — возразила я. — Он любит этих птиц.
Хенсон фыркнул:
— Он предпочитал не иметь дела с правительством, и если это не так, я готов съесть свою шляпу. Ни сервитута, ни мандата. Все старые владельцы ранчо одинаковы. И ты это знаешь. Должна знать.
Вставая, чтобы уйти, я опрокинула пустую банку из-под пива.
— Мне жаль. На самом деле я не хочу отказывать тебе, Нора, — сказал Хенсон. Извинения казались искренними. — Я вложил в это место все, что у меня есть. Я не хочу рисковать, ограниченное пользование не по мне.
Слезы щипали мои глаза, когда я ехала обратно к Ганнисону, потому что Хенсон был прав, я хорошо знала папу. Он спасал птиц лишь для того, чтобы сделать мне одолжение. Как только я уехала, он махнул на них рукой.
Верность месту — прекрасная, романтичная идея, но она также опасна. Водохранилище Блу-Меса заполнилось в 1965 году, и следующей весной, в марте, несколько сотен ганнисонских тетеревов прилетели на лед, прямо на то место, где прежде находился их лек. Они скользили, падали и не могли спариваться. Через год птиц вернулось вдвое меньше. На следующий год их прилетело еще меньше, и так до тех пор, пока они не исчезли совсем. Они не полетели к другим лекам, не нашли твердой почвы на берегу. Вся популяция просто вымерла, тоскуя по своей земле.
Это одна из самых печальных историй, которые я когда-либо слышала, и, услышав ее впервые, попросила папу о том же, чего хотела от Хенсона, — получить охранный сервитут на ранчо, чтобы дать птицам какую-то постоянную, официальную государственную защиту.
— Мы убили почти всех этих птиц еще до того, как узнали об их существовании, — начала я. — Строим плотины. Мы должны что-то сделать.
— Мы и так что-то делаем, Нора, — ответил папа.
Он потер лоб, что всегда было у него жестом разочарования, затем дернул меня за косу и грустно улыбнулся.
— Им нужно, чтобы мы сделали больше, — возразила я. — Мы можем сделать для них больше.
— Правительство не может защитить их лучше, чем я, — парировал папа. — Выпас скота, без сомнения, повредил этим птицам, но то же самое сделали и те плотины, которые построило правительство. Наших птиц, Нора, мы держим для себя, держим в секрете. Вот так и охраняем их в этом мире.
Мой папа всегда был путеводной звездой моей жизни. Я настраиваю свой моральный компас по его мировоззрению, всегда обдумываю, как мой выбор повлияет на его мнение обо мне. Я вижу любовь папы к скотоводству, его любовь к окружающей среде и благодарна за чистую этику земли, которой я научилась, сидя у него на коленях. Папа читал мне Эда Эбби[9] и Альдо Леопольда[10], учил пользоваться ивой как аспирином и каждый день по пятнадцать часов не давал мне слезать с лошади. Но папа присыпал своим недоверием к правительству все, чему учил меня в детстве, как солью каждое блюдо, которое ел. Большую часть моей жизни мне это казалось похожим на критическое мышление, но теперь я понимаю, что это было просто своеобразное видение мира.
Я предпочитаю ночевать в палатке под открытым небом, когда полная луна освещает полуночный мир и делает его более теплым, более гостеприимным. Звездный свет кажется ярче в полнолуние, хотя я знаю, что со светом все обстоит совсем не так. Сияние луны приглушено, отдаленное пронзительное тявканье койота усиливается, каждый треск полыни представляет собой невидимую угрозу. Даже температура воздуха, которую можно измерить объективно, кажется более низкой, чем на самом деле. Я была менее чем в четверти мили от места стоянки, которой мы с папой пользовались каждый год, но сейчас я находилась на соседней земле, принадлежащей правительству. Это был тот же самый ручей, рядом с которым мы разбивали наш лагерь, те же виды ив росли вдоль его берега, но узоры ветвей выглядели корявыми, и музыка, которую они издавали на ветру, звучала как-то нестройно. Этот пейзаж должен был казаться знакомым, безопасным, но в полнолуние это было не совсем так.
Я поняла, что спала, лишь потому, что проснулась дезориентированной и сбитой с толку около четырех утра. Внутренняя поверхность моей палатки была покрыта слоем инея, который немного искрился, когда мой фонарь светил на него под определенным углом. Прошла минута, прежде чем я вспомнила: я больше не та девочка, что совершенно бесплатно пришла с отцом на их землю пересчитать спаривающихся ганнисоновских тетеревов, а взрослая ученая леди, пробирающаяся в одиночку на участок, который пришлось продать в оплату медицинских счетов.
Если папа умрет, я не вернусь на Фараллоны. Я стану единственной, кому небезразличен этот лек, и лишь ганнисоновские шалфейные тетерева будут знать меня по-настоящему. Я изучаю вымирающие виды, которые настолько любят свою землю, что без нее погибнут, и испытываю все те же эмоции двенадцатилетнего ребенка, но почему-то чувствую себя более одинокой. Я вижу, как уходит что-то прекрасное, тяжесть неизбежного конца давит на мои плечи, и я понимаю, что всех моих усилий спасти их никогда не будет достаточно. Но зато теперь я знаю, что останусь и попытаюсь, сейчас и навсегда.
Я как раз натягивала комбинезон, теплый, но сковывающий движения, когда услышала шум грузовика на спецдороге[11]. Я выключила фонарь и схватила старый полевой бинокль папы. Было еще темно. Я почти ничего не увидела, но узнала старый «Форд» Хенсона. Этот грузовик знавал лучшие времена. Он скулит, как будто ему нужна жидкость для гидроусилителя руля, и в моторе слышится тихое ритмичное постукивание. В кабине есть стойка для дробовика. Этот грузовик издает совершенно неправильный шум, шум, который может донестись до лека, помешав птицам исполнить свой брачный танец.
Я следовала под прикрытием ив вдоль берега ручья, неуклонно приближаясь к грузовику. Природа может казаться мирной и спокойной, но это впечатление обманчиво, и я была благодарна ей за то, что она издает такие громкие звуки. Шум ручья заглушал шум моего дыхания, моих шагов. Я собиралась сделать снимки, но не хотела рисковать обнаружить себя свечением телефона. Хенсон стоял, прислонившись к кузову грузовика, и смотрел на звезды. Когда он налил кофе в крышку термоса, я была достаточно близко, чтобы учуять его запах. В кузове стояли канистры с горючим, лопаты и грабли. Чтобы устраивать пал на общественной земле, нужно иметь стальные яйца, но многие владельцы ранчо так поступали, утверждая позже, что пожары на их собственной земле просто вышли из-под контроля и перекинулись на несколько акров ничейной. Единственное, что нужно птицам, — это обильные заросли полыни, а для избавления от полыни как раз и устраивают пал в полынной степи. Огонь освобождает место для выпаса скота, уничтожая все остальное.
— Эй, девочка, — позвал Хенсон, и я запаниковала, кровь побежала в жилах быстрее. Я хотела убежать, но он разговаривал не со мной. С ним была маленькая девочка, наверное, детсадовского возраста, с тонкими косичками, вьющимися вокруг ушей. Ее комбинезон был залатан и изношен, стеганая ткань сковывала движения. Она схватила Хенсона за руку, и я подумала, что у нее такие же нежные, похожие на яйца малиновки, глаза, как у ее отца.
— Можешь взять лопату? — полушепотом спросил ее Хенсон.
— Я вижу твое дыхание, папа, — сказала девочка. — Оно парит, как твой кофе.
Хенсон улыбнулся, и я тоже. Девочка обвила руками его шею. Я почувствовала, как мое сердце снова затрепетало, а пульс потеплел. Небо с приближением восхода светлело.
— В следующий приезд мы возьмем лошадей, — предложила она.
— Все, что захочешь, милая.
Они вдвоем обогнули грузовик и отошли на некоторое расстояние. Хенсон начал ходить взад и вперед, измеряя шагами площадку. Девочка кувыркалась, делая «колесо», изо всех сил стараясь противостоять сковывающему воздействию комбинезона.
Когда Хенсон повернулся к грузовику спиной, я подбежала к канистрам с горючим и начала сбрасывать их в грязь позади кузова. Отработанные газы из выхлопной трубы заставляли землю мерцать, дрожать и расплываться, наполняли мой нос таким сильным запахом, что, я думала, чистый воздух никогда больше не попадет в мои легкие. Я не могла забрать у Хенсона ранчо, но он не мог ничего зажечь без дизеля. Я услышала крик, который мог оказаться моим именем, и выронила канистры. Я сделала снимок для доказательства и бросилась наутек так быстро, как только смогла, держась вдоль русла ручья, утекающего в глубь государственных земель. Когда в голове прояснилось, я пришла в себя. Я попыталась сделать «колесо», но мой центр тяжести, похоже, сместился.
К тому времени как я вернулась домой, солнце уже вышло из-за хребта и растопило иней на перилах, сделанных из дюймовых досок 2×4. Большую часть прошлого месяца я потратила на строительство пандусов, один из которых вел к задней двери дома, а другой — к открытой террасе перед домом. Теперь, когда папа проводит в проклятой инвалидной коляске большую часть времени, для меня важно, чтобы он мог пользоваться любой дверью не только для безопасности, но и ради чувства собственного достоинства. Я не плотник, но, когда у тебя есть Ютьюб и гараж, полный инструментов, ты можешь научиться строить что угодно.
Я присела, чтобы установить бинокль обратно на шаткую треногу, которую держу на крыльце. Вся эта конструкция того и гляди сломается и обрушится, но наблюдение за птицами в их естественной среде обитания — единственное в этом доме, что удерживает меня в здравом уме. Я услышала, как папа перекатился через порог, и почувствовала, как пол террасы слегка вздрогнул под тяжестью его кресла.
— Вера, — произнес он и положил руку мне между лопаток.
Тепло разлилось по моему сердцу, животу, пяткам. Я представила себе, как он обвивает меня, словно лоза — с корнями, пробивающимися сквозь доски террасы, раскалывая твердую землю под ней.
Я застыла на месте, не желая, чтобы папа убрал руку с моей спины. С тех пор как я поговорила с Хенсоном, я с папой была очень резкой. Я знала это. Теперь я хотела спросить его, не следует ли мне отнести свои фотографии в офис Бюро по управлению землями и выдвинуть обвинения по поводу заборов и возможного поджога степи. Я хотела знать, на чьей стороне окажется папа, какая сторона сердца у него больше. Я хотела посмотреть, как он отреагирует, если я скажу вслух, что Хенсон режет ограду. Он собирается пасти скот на земле Бюро и на нашем леке. Я могла бы сдать его, если бы захотела. Но у него самая чудесная девчушка в мире.
Я повернулась к нему, опустившись на колени рядом с его креслом.
— У нас осталось всего пятнадцать птиц, — прошептала я и заплакала, хотя плачу не очень часто. — Ты сам записал это в своем гроссбухе. Почему ты мне не сказал?
— М-м-м, — промычал папа и нахмурился. Его рука потянулась ко лбу, но я поймала ее обеими руками и поднесла к своей мокрой щеке. Он печально покачал головой. — Проклятие.
Папа все еще может ругаться как ни в чем не бывало. Он также может пропеть каждое слово в песне «Along Came Jones»[12] группы «Коустерз»[13] и в ряде других, вышедших в его школьные годы. Его выговор напоминает речь шведского шеф-повара из Маппет-шоу[14], но все слова он хорошо знает. Джули говорит, это нормально, ведь ругань и музыка существуют за пределами предлогов и имен, что, похоже, должно быть важным фактом, касающимся всех людей, хоть я не могу точно сказать почему. Это очень мило, и с каждым кристально чистым папиным ругательством я удивляюсь, как много мы не знаем о мире наших собственных мозгов.
— Вера, — серьезно произносит папа. — «Орео».
Я не знаю, о чем беспокоиться больше всего, за что крепко цепляться и о чем позабыть. Может ли слишком большое количество съеденного печенья вызвать у папы сердечный приступ? Сожжет ли Хенсон мой лек? Найдет ли его дивная дочь с косичками способ полюбить и этих чертовых птиц, и этих чертовых коров? Там, на террасе, мне хотелось, чтобы папа помог. Я хотела, чтобы он научил меня, на этот раз лучше, чем раньше, отделять эмоции от тщательно записанных фактов, примирять то, что я чувствую, с тем, во что я верю, когда эти вещи не совсем совпадают.
Но вместо этого я спросила:
— Сколько?
Он поднял указательный палец и начертил цифры в воздухе перед своим лицом, но я не поняла какие. Наконец он сказал:
— Пятнадцать. — А потом: — Нет!
Но я уже смеялась, слезы текли по моему лицу.
— И мне тоже, — подхватила я. — Давай по пятнадцать.
Я вытерла нос рукавом и почувствовала себя жадной, ненасытной. Мне хотелось всего на свете.
— Нет, м-м-м. — Папа поднял четыре пальца и добавил: — Два. Нет! Сукин сын!
— Я сейчас принесу весь пакет, — закончила я.
Папа может съесть столько «Орео», сколько захочет.
В 2005 году, по мнению ученых, было подтверждено существование в лесах Арканзаса единственного самца белоклювого королевского дятла. Сообщения любителей птиц годами отвергались орнитологами; они настаивали на том, что белоклювые королевские дятлы вымерли, что любители птиц, не имея соответствующей подготовки, просто встречают более удачливую и все еще живущую в дикой природе хохлатую желну, похожую на белоклювого королевского, и проецируют (как это делают многие люди) свое желание увидеть что-то редкое и прекрасное. До сих пор есть и верящие, и сомневающиеся. Это, кстати, я склонна почитать знаком надежды, но опять-таки все видится мне иначе. Я точно знаю, как одинока эта бедная птица, такая маленькая в огромном мире, единственная в своем роде.
Стоящие неподвижно высококучевые чечевицеобразные облака[15]
Рут знала, что беременна, но они все равно проехали сотню миль от Габбса до Тонопы для того, кажется, чтобы в этом убедиться, или же для смены обстановки, — хотя везде, куда бы она ни посмотрела, были пустыня и горы, снова пустыня и снова горы. Во всяком случае, она наслаждалась скромной роскошью кабинета доктора — глянцевыми страницами журнала «Гуд хаускипинг»[16], лежащего в приемной, ментоловыми драже из вазы на стойке в приемной и стулом с виниловой подушкой, из которой выходил воздух, когда на нее садились.
— Поздравляю, — сказал доктор. — Похоже, конец февраля или начало марта.
— Четвертый, — произнес Дэл, ее муж, почесывая ухо и ухмыляясь. — Отличная новость.
Рут все не удавалось честно решить, как отнестись к этой новости. Ей исполнилось девятнадцать, когда она села в старый «Фэлкон» Дэла и уехала из Колорадо — ради гламурных вечеринок в Вегасе, стильных платьев, которые не нужно шить самой, и подходящих к ним драгоценностей. Но единственным, что она накопила с тех пор, были дети. Ничто так не заставляло Рут ценить нынешнюю простоту ее жизни, как предстоящее появление нового ребенка, милого, беспомощного, так нуждающегося в ней, превращающего все в хаос.
— Весенний ребенок, — продолжил Дэл, схватив ее за руку. — Совершенно новый, с иголочки, под стать окружающему миру.
Рут подумала о других своих детях. Чарли, восьмилетний, чувствительный, был склонен к вспышкам гнева и странным приступам концентрации внимания — облачные образования днем, созвездия ночью, а теперь, поскольку стоял октябрь, мигрирующие тарантулы. Девочки, Нэнси и Бренда, семи и шести лет, перешептывались и хихикали, их косички мягко и ритмично постукивали по хрупким плечам. Она любила своих детей, но прилагала усилия, чтобы остановиться на трех.
Выйдя из кабинета, Рут прищурилась от лучей яркого солнца пустыни. Она рассматривала тускло-зеленые и темно-синие горы за пределами Тонопы — Маунт-Батлер, Маунт-Одди — утонченную сложность того, что поначалу казалось монотонной пустыней. Несколько блуждающих кучевых облаков образовались над горами, и Рут, несмотря на сомнения, искала в небе знаки. Католическая школа научила ее воображать святых, сидящих на облаках вместе с благонамеренными духами умерших предков, наблюдающих за ее жизнью, предлагающих защиту, руководство, заступничество. Они одновременно успокаивали и приводили в замешательство. Ей хотелось верить в них больше, чем она на самом деле верила. Трудно было смириться с тем, что мир, который она покинула, — где сестры шепчут ей на ухо, мать вяжет ей свитера, — был лучше, чем тот, в который она убежала. Рут всю жизнь учили, что ее будущее наверняка будет светлее, чем прошлое. Но вчерашнее будущее превратилось в смутное и унылое настоящее, отчего прошлое казалось особенно светлым. В мечтах Рут Колорадо был таким, каким она его оставила. Янтарного цвета кубки, расставленные на шкафчиках в кухне ее матери. Аккуратная шеренга из трех девичьих курток висела на вешалке в прихожей. Кофе с ирландским ликером кружилось в кружках из молочного стекла. В своих мечтах Рут охлаждала босые ноги в реке Саут-Платт[17].
— Я должна позвонить домой, — сказала она.
Тереза, на год старше Рут, стала Христовой невестой в тот же год, когда Рут уехала из дома с Дэлом. Тереза перебралась в монастырь и, сменив имя, начала зваться сестрой Агнес-Мэри. Рут видела Терезу такой, какой она была, когда флиртовала с мальчиками на вечеринке «сладкие шестнадцать»[18]. Ее зеленое платье развевалось вокруг голеней, волосы были заколоты, губы испачканы «Кул-Эйдом»[19] и «Севен-ап». Рут с трудом вспомнила, что нужно называть Терезу сестрой, и не могла представить себе новую женщину, с которой никогда не встречалась лицом к лицу. Только вспомнив, как много лет назад Тереза оценивающе смотрела на Дэла, как склонилась ее голова под тяжестью разочарования, Рут смогла представить себе Терезу в сером одеянии и вуали монахинь, учительниц их детства.
— Этот не годится, — проговорила наконец Тереза. — Так что, конечно, ты выберешь именно его.
Тереза, как и все монахини, с которыми росла Рут, представляла собой сбивающую с толку смесь сострадательной любви и сурового суждения. «Она сказала это по-сестрински», — подумала Рут, смущенная собственной невысказанной шуткой.
— Я подожду здесь, — сказал Дэл. — Выпью банку-другую пива.
Рут полагала, что тошнота, которую она испытывала, была не просто утренней дурнотой беременной, а точно так же служила проявлением тоски по дому, являясь результатом разницы между тем, что у нее имелось, и тем, чего она хотела. Рут медлила. Она наклонилась, чтобы погладить незнакомую собаку, провела пальцами по стеклу витрины аптеки, подняла с земли обрывок бумаги, который при ближайшем рассмотрении оказался смятой листовкой, рассказывающей о программе обучения медсестер в местном колледже, разгладила ее, поразмыслила и положила в карман. Рут всегда хотела стать медсестрой. После рождения трех младенцев, лечения их от простуды, перевязок их мелких ран она чувствовала себя уже наполовину медсестрой. Она посмотрела, как одинокий тарантул ползет по асфальту, прокладывая тонкую дорожку, и, глубоко вздохнув, медленно двинулась вперед.
Женщинам из ордена потребовалось некоторое время, чтобы найти нужную монахиню, но в конце концов сестра подошла к телефону.
— Все в порядке, Рут? Как дети?
Рут закрыла глаза:
— Все в порядке. Дело во мне. Я беременна.
Сестра издала радостный звук, и Рут успокоилась. Она могла рассчитывать на то, что сестра будет любить ее детей так же сильно, как и она сама.
— Поздравляю! — воскликнула сестра. — Рути, еще один ребенок! Какое благословение!
На линии раздался треск, а потом что-то взорвалось. Рут прижала кончики пальцев к стенке телефонной будки, чувствуя на стекле тепло пустынного солнца.
— Я хочу, чтобы этот родился в Колорадо, — призналась Рут. — Но я не могу себе позволить поехать.
Рут откладывала деньги в пустую банку из-под кукурузного пюре, спрятанную в дальнем углу кладовой, и эти три доллара семьдесят два цента были ее единственным секретом на свете.
— В консервной банке совсем мало денег? — Смех сестры был ярким, резким, как будто она знала что-то, чего не знала Рут. — Жаль, что я не могу помочь тебе привезти детей домой, Рут. Но, знаешь ли, обет бедности. А мама с Мано и так едва сводят концы с концами.
Рут знала, чего сестра не произнесла вслух. Ты сама приняла решение, которое привело к этому.
— Я не просила о помощи.
— Разве?
Незнакомый Рут мужчина ждал у телефонной будки.
— Я хотела бы найти работу, иметь собственные деньги, но Дэл не в восторге от этой идеи.
За годы их брака Дэл переменил несколько рабочих мест, сдавая карты в дешевых казино Вегаса. Это были не те казино с громкими именами, где за вечер после шоу Пола Анки[20] или Тома Джонса[21] можно было заработать на жизнь, а дрянные заведения, открытые в дневные часы, с пенни-слотами[22], рассчитанными на местных жителей, где прилив посетителей наступал в день зарплаты, а в покер играли с маленькими ставками. На шахте все пойдет по-другому, сказал он ей перед тем, как перевезти семью из Вегаса в Габбс[23].
— Сейчас тысяча девятьсот семидесятый год, Рути, — сказал Дэл, протягивая ей пиво и чокаясь с ней, как будто она была так же взволнована, как и он. — Новая работа на новое десятилетие!
— В Колорадо полно шахт, — заметила она.
Если они собирались покинуть Вегас, Рут хотела бы увидеть в окне заднего вида всю Неваду.
Дэл закатил глаза, но они все еще сверкали. Он притянул ее к себе и попытался протанцевать через всю кухню.
— Ты упускаешь главное, Рути. Это же капитальная удача. Магний — минерал будущего!
Незнакомец у телефонной будки начал проявлять признаки нетерпения.
— Разве он должен знать? — спросила сестра. — О твоей работе?
Рут попыталась представить себе мир, в котором у нее могла быть тайная работа. Это просто смешно. Невозможно. Сестра ничего не знала о мужьях и детях. О том, как семья всегда вокруг тебя, сверху и внутри. О том, как можно быть окруженной людьми, любимой и одновременно сокрушительно одинокой.
— Что значит — разве он должен знать? Куда, по его мнению, я бы ушла?
— Ну, ладно. — Рут слышала, как сестра перешептывается с кем-то, но не могла разобрать слов. — Но если найдешь работу, можешь сказать мужу, что тебе платят немного меньше, чем на самом деле. Откладывай понемногу каждую неделю.
— Ты даешь слишком много советов, как лгать, — укорила сестру Рут, — для монахини.
— Может ли консервная банка, полная денег, изменить мнение Дэла?
Недавно Дэл начал жаловаться на некомпетентность своего непосредственного начальника и на то, что работа в шахте чересчур грязная. Это была знакомая картина — сетования на мелочи по работе, обвинения администрации в бездарности. Вскоре, придя домой, он принялся объяснять, что уволился по какой-то непонятной причине, а это, разумеется, означало, что его уволили.
— Может быть. — Рут провела по металлической поверхности телефонного шнура пальцами, чувствуя, как ребристая поверхность касается их кончиков. — А может, я просто вернусь домой без него.
— Не знаю, Рут. Ты должна подумать о детях.
Рут фыркнула. Как будто она когда-то переставала думать о своих детях, как будто они не были первым, о чем она всегда думала, ее самыми приоритетными, самыми важными мыслями. Это о Дэле она не знала что думать. Нет, виной тому являлось не безразличие, это было больше похоже на необходимость решить, хочет ли она увязнуть в Дэле еще глубже, или хочет, чтобы он исчез, или же хочет исчезнуть сама. Но эти темы обсуждать с сестрой было невозможно. Та не могла понять, что такое брак, но это не мешало ей иметь о нем слишком однозначное мнение.
Сестра продолжила:
— Я имею в виду, Рут, что, наверное, можно найти лучшее применение этим деньгам, если тебе удастся их сохранить. Зачем возвращаться к тому, с чего ты начинала?
Рут вытащила из кармана листовку школы медсестер. «Помогать другим — хорошая работа. Обучение в сельской местности обеспечит гибкость графика». Она никогда не завидовала сестре из-за принесенного ею обета целомудрия, но была удивлена тем, как едва не позеленела, когда церковь отправила Терезу в колледж.
— Я подумаю об этом, — сказала Рут и, поскольку ей хотелось все как следует обмозговать, прежде чем обсуждать эту идею с сестрой, спросила: — Как там Мано?
Мано была их младшей сестрой семнадцати лет, разница в возрасте между Рут и Мано была почти такая же, как разница между Мано и Чарли.
— Порхает. Получила стипендию в художественном училище в Денвере и теперь изо всех сил пытается окончить среднюю школу.
— Она справится, — отозвалась Рут, представляя, как Мано смешивает масляную пастель или делает росчерк каллиграфическим пером.
— Я ее заставлю.
Рут представила себе Мано, мечтательную, погруженную в свое искусство, и сестру, стоящую позади нее, проверяющую часы, назначающую строгие дедлайны, к которым работа должна быть выполнена. «Жизнь в монастыре, должно быть, совсем проста, — подумала Рут, — если позволены такие четкость и контроль».
— Мне нужно идти. Тут уже очередь к телефону.
— Я скучаю по тебе, Рути. Поцелуй за меня детей. Звони, не пропадай.
Дэл был уже в стельку пьян, когда она его нашла, а потому ей пришлось самой сесть за руль «Фэлкона». Ей хотелось собрать детей, усадить на заднее сиденье и ехать до самого Колорадо, а там пусть бы мать читала им книги, Мано учила девочек рисовать, сестра объясняла Чарли тайну Троицы. Она чувствовала нарастающее беспокойство, но не Дэла, а собственное. На этот раз Дэл не смог «смыться» достаточно быстро.
Когда она свернула на проселок, из-под шин полетел гравий.
— Господи, Рути, — очнулся Дэл. — Тебе не нужно так гнать по этой гребаной дороге.
Прошла неделя. Рут помешивала фасоль, которую готовила на обед, когда Чарли ввалился на кухню их трейлера в Габбсе и потянул ее к двери.
— Ма! Выходи! Посмотри-ка!
Дэл оторвал взгляд от пасьянса, разложенного на столе с золотистой облицовкой, и поднял бровь.
— Иду, — отозвалась она. — Успокойся.
За окном розовели горы Шошонского хребта, отражая пастельные тона неба. Запах шалфея был тяжелым, отдающим запекшейся пылью. Ее дочери кружились, напевая песню, которую она не знала.
— Ты видишь облака? Мама! Посмотри вверх! — кричал Чарли.
Его голос всегда звучал громче, чем требовалось. Это привлекло недоброе внимание. Несколько соседей посмотрели на него со своих веранд, некоторые опустили жалюзи на окнах. К своим делам вернулись не все.
Рут опустилась на колени, чтобы приблизиться к уху Чарли. Она чувствовала напряжение, пристальные взгляды.
— Не надо кричать, Чарли, — сказала она. — Я здесь.
Облака были похожи на гигантские лежащие на боку диски, сложенные в стопки по два и по три в угасающем свете пустыни — белые с сероватым оттенком, только края светились розовым и оранжевым.
Чарли все еще кричал:
— Это стоящие неподвижно высококучевые чечевицеобразные облака! Они состоят из гравитационных волн и ветра! — Он обнял ее за шею. — Мама! Ветер дует сквозь них со скоростью сотен миль в час, а они просто остаются там, паря на месте! Как космические корабли! Люди раньше думали, что это космические корабли!
По крайней мере, наполовину увлеченность Чарли небом была связана с возможной инопланетной жизнью, которая могла там процветать. Дэл поощрял увлечение сына, то была его единственная реальная точка соприкосновения с ним — Дэл был докой по части похищений людей инопланетянами, знатоком их заговоров. В остальном же Чарли, похоже, сбивал с толку вечно раздраженного отца.
Нэнси закатила глаза и что-то прошептала Бренде, которая хихикнула.
— Ведите себя хорошо, девочки, — приказала Рут, но ее дочери были всего лишь зеркалом того, как люди реагировали на Чарли. Слабым утешением было, что сам Чарли насмешек не замечал. Чарли излучал в окружающий мир неизменный энтузиазм, несмотря на ответный холодный прием.
Рут покраснела, почувствовала, как слюна заполнила ее рот, и едва успела отвернуться, как ее вырвало в полынь.
Нэнси потерла спину, отвела с шеи прядь волос.
— Эй, Чарли, — позвала Бренда. — Давай поиграем в бега тарантулов.
Рут принялась смотреть, как дети опускаются на четвереньки и неистово ползут к нижней ступеньке крыльца, служащей финишною чертой, а затем исчезают в доме. Взяв себя в руки, она последовала за ними. От песка исходил последний жар дня, согревая ее икры, колени. Она нашла в почтовом ящике письмо от сестры, обмахнулась им, как веером, остужая себя, и бросила последний взгляд на облака Чарли. Она всегда думала, что они похожи на сложенные блинчики, эти облака. Но сейчас, когда они плыли над вершинами Шошонов, ей казалось вполне вероятным, что ими кто-то рулит и у них есть четкая цель. Рут была измучена беспрестанными попытками рулить собственной жизнью, особенно теперь, когда на ее корабле завелось так много пассажиров.
Вернувшись на кухню, дети столпились вокруг Дэла, который пытался растолковать им правила пасьянса Солитер.
— Цель состоит в том, чтобы расположить карты в определенном порядке, — объяснял он. — Выстройте их в ряд.
Девочки засмеялись и забрались к нему на колени. Чарли кивнул и благоговейно уставился на карты. Сестра прислала Рут маленькую серебряную подвеску с выгравированным на ней бородатым мужчиной в мантии, с посохом в руке и хихикающим ребенком на плече. Рут держала ее на ладони. Прилагаемая записка гласила: «Святой Кристофер — покровитель путешественников и детей (а также садовников, эпилептиков и страдающих зубной болью). Церковные предания говорят, что его защита особенно эффективна против молний и морового поветрия. Носи его на себе, Рути».
— Твоя сестра, — прокомментировал Дэл, качая головой, — совсем сбрендила.
Он вернулся к своему пасьянсу, напевая «Человек на все вокруг»[24], и Рут вдруг мельком увидела того беззаботного тинейджера Дэла, которого когда-то по-настоящему любила. Ее родители сопровождали их на первом свидании, состоявшем из похода в кино. Дэл положил свое пальто ей на колени, чтобы она не замерзла. А под ним он провел большим пальцем по внутренней стороне ее бедра. Это была самая скандальная вещь, которая с ней когда-либо случалась. И она мечтала прожить так всю жизнь.
Рут бросила конверт и рассмеялась. «Страдающих зубной болью», — процедила она пренебрежительно, но потратила часть своих драгоценных кукурузных долларов на дешевую цепочку из ломбарда, надела «Святого Кристофера», чтобы чувствовать его серебро на голой коже над сердцем, и представила клетки у себя в животе, которые станут крепкими зубами ее будущего ребенка.
Рут отправилась искать работу, прежде чем ее беременность станет заметной и возможность ее найти выйдет за рамки вероятного. Дети были не в школе, и она усадила их в «Фэлкон», ибо что еще можно было с ними сделать?
Рейнджер Аллен был похож на медведя, с бочкообразной грудью, бородой и очками в темной оправе. Он был примерно ее возраста, но уж очень неряшлив. Его рубашка рейнджера национального парка была расстегнута, и на ней красовалось жирное пятно выше и правее пупа. От его нестриженых лохматых волос несло табаком, а от одежды разило кисловатым запахом немытого тела. В дневное время он служил рейнджером в Государственном парке Берлина и ихтиозавров, на территории которого находились Берлин, забытый богом город-призрак времен Комстокской Жилы, и окаменелые останки ихтиозавра, доисторической морской рептилии, жившей в океане, который когда-то покрывал нагорье Большой Бассейн. По вечерам Аллен вел на местном радио передачи о наблюдениях за инопланетянами и об их уловках, а также рассказывал истории о привидениях и правительственном заговоре. Дэл был самым преданным слушателем Аллена.
Они познакомились с ним в Берлине, где он работал, и Рут увидела, как расширились глаза ее детей, когда они туда приехали. В экспозицию входило несколько полуразрушенных шахтерских лачуг, сломанная повозка, которую раньше запрягали волами, и деревянная конторка с замысловатой резьбой. Кто-то также оптимистично поставил клетку с тощим молодым львом среди скопления давно заброшенных домов. Невадский песок, поднятый диким ветром пустыни, закручивался в смерчи, ударяющие в деревянные стены, с которых под их воздействием давно облезла вся краска. Рут заметила по меньшей мере пять тарантулов, путешествующих по городу-призраку. Тарантулы и жара досаждали особенно сильно. Последняя ощущалась, даже несмотря на то что стоял октябрь и день выдался относительно прохладным. Она чувствовала себя опустошенной и выжатой, скорее изюмом, чем виноградом. Ей не хотелось впускать это место к себе в душу. Там и без того было много тяжелого.
— Здравствуй, Рут, — поприветствовал ее Аллен и кивнул, но при этом не улыбнулся. Напротив, он выглядел озадаченным.
— Привет, Аллен, — поздоровалась Рут и вонзила ногти в обе ладони. Не отступай. Не позволяй ему сказать «нет». — Я хочу поговорить о табличке «Требуется помощь», которую я видела в городе.
— Вот как? — Аллен почесал бороду. — В основном это не работа, а сущая каторга. Чистка выгребных ям. Сбор мусора. Ничего особо интересного.
Нэнси и Бренда захихикали, и они с Алленом повернулись к детям.
— А мне и не нужно интересное, — заявила Рут.
Аллен кивнул:
— Дэл знает, что ты здесь?
Рут почувствовала, как у нее сжалось сердце. Это был переломный момент их встречи, поэтому она уклонилась от прямого ответа:
— А разве это имеет значение?
Аллен пожал плечами:
— Для меня, наверное, нет.
Чарли пристроился позади одного из тарантулов, чей ход казался медленнее, чем общее количество его движения, причем движения постоянного. Все восемь ног вытягивались и сгибались в разное время, создавая странный образ, напоминающий пушистый ершик для чистки курительной трубки. Чарли сделал шаг, остановился, подождал несколько ударов сердца и снова шагнул. Тарантулы были единственным, что могло оторвать взгляд Чарли от неба и привлечь его внимание к земле. Девочки последовали за ним, их юбки мягко зашуршали.
— Тебе нравятся эти пауки? — спросил Аллен у Чарли.
— Это тарантулы, — нахмурился Чарли, словно не желая говорить о том, о чем Аллен явно ничего не знал.
Будь вежлив.
Рут хотела произнести это вслух, но не стала этого делать. Она не знала, что, по мнению Аллена, будет хуже, слова сына или ее вмешательство, а ей требовалось произвести хорошее впечатление.
Аллен наклонился, и его глаза оказались на одном уровне с глазами мальчика.
— А что еще ты знаешь?
— Я знаю двадцать разных созвездий.
— Двадцать? — Аллен тихо присвистнул. — Это немало. А ты знаешь пояс Ориона?
— Конечно. — Чарли закатил глаза. — Я мог найти Орион, еще когда мне было три года. Орион скукота.
Аллен рассмеялся:
— Значит, космические корабли тебя наверняка не интересуют. Вот уж не думал, ведь ты сын Дэла и все такое.
— Космические корабли?
Аллен явно завладел вниманием Чарли. Рут затаила дыхание.
— Они прилетали сюда раньше, и когда это произошло, оказалось, что они с Ориона.
Аллен распрямился и поднял лицо к ярко-голубому небу, где, если бы стояла ночь, виднелся бы Орион. С минуту они вместе смотрели в небо, и когда Чарли снова повернулся к Рут, он улыбался — той самой улыбкой, свойственной Чарли, только еще более лучезарной.
Бренда позволила тарантулу ползти по ее руке. Сначала Рут рассердилась, но Чарли ее убедил: и насекомое, и его сестра вряд ли кусаются и если ядовиты, то не смертельно. Он прочел это в потрепанных книгах издательства «Уорлд-Бук»[25], найденных в школьной библиотеке.
— А здесь есть призраки? — спросила Нэнси у Аллена.
Рут наблюдала, как тарантул Бренды распрямил передние лапки, которые изящно вытянулись вперед и оперлись на руку девочки, подтянув тело вперед. «Эти твари выглядят не очень шустрыми, — подумала Рут, — но они точно покрывают всю местность».
— Здесь нечего бояться, — успокоил ее Аллен. — В большинство дней тарантулы являются единственными жителями Берлина.
— Томас Эдисон изобрел машину, которая могла вызывать духов умерших! — выкрикнул Чарли. Нэнси поморщилась и заткнула уши. — Или пытался это сделать. Она не работала.
— Томас Эдисон изобрел лампочку, а не телефон для связи с мертвыми, — возразила Бренда.
Рут вздохнула. Никто из ее детей не завел друзей в школе, но о девочках она не беспокоилась. Лично она делила с сестрой, когда они были маленькими, не только комнату, но и кровать, Мано присоединилась к ней, едва выйдя из колыбели. Рут знала, что сестринская любовь подобна газу — если понадобится, она может поднять давление всей земной атмосферы.
— Но если призраки и существуют, — продолжил Аллен, — то они обитают в бывшей больнице. Здешний доктор был сущим мясником с чикагской скотобойни. Возможно, здесь бродят призраки его пациентов, только они, наверное, боятся тарантулов, потому что в последнее время я их здесь не вижу.
Бренда хихикнула и сплела пальцы, чтобы тарантул мог переползти с одной руки на другую. Нэнси широко раскрыла глаза, подняла с земли другого тарантула и зажала его между своим телом и стеной старой больницы. Рут вцепилась в медальон святого Кристофера. Чарли снова увлекся тарантулами и принялся наносить маршрут их передвижений на линованный лист бумаги, вырванный из тетрадки. Иногда он останавливался и поднимал созданную им карту к небу, внимательно изучая и то и другое.
— Что ты высматриваешь? — спросил Аллен.
— Узоры, — ответил Чарли. — Траектория совпадает.
— Умно, — заметил Аллен. — Тебе стоит попробовать ночью, на фоне звезд.
Чарли и Аллен напоминали ее сестру, подумалось Рут. Все они были искателями веры, или магии, или любого другого смысла, который можно найти, объединив то и другое. Рут в своей жизни отмахивалась от чуждых ей разговоров мужчин точно так же, как в свое время отмахнулась от католицизма, от которого у нее остались только едва заметные ноющие сомнения, подсказывающие, что на самом деле религия может оказаться правдой. Рут представила себе святого Кристофера за штурвалом чечевицеобразного космического корабля, направляющегося к поясу Ориона. Каждую звезду в созвездии она представляла себе своим призрачным предком, сующим нос не в свои дела и имеющим суровое мнение о ее выборе.
— Что ты там видишь? — спросила Рут, опускаясь на колени рядом с Чарли.
— Я смотрел недостаточно долго, чтобы понять.
Она ничего не могла ни доказать, ни опровергнуть. Тогда она решила перестать сомневаться в Чарли, перестать беспокоиться о том, как он вписывается или не вписывается в окружающий мир. Что, если нарисованная от руки карта передвижения тарантулов, снующих по пустыне, действительно может раскрыть какую-то мистическую тайну космоса? Возможно, навигация теперь могла стать новым хобби мальчика, но Рут понимала, что та может найти и практическое применение.
— Смышленый парень, — проговорил Аллен. — Как насчет того, чтобы начать завтра?
Тогда Рут послала маленькую благодарственную молитву святому Кристоферу за доброту Аллена к ее сыну, за работу, в которой она нуждалась, и за то, что никто пока не страдал зубной болью или чумой. Глаза Рут следили за хрупкими фигурками детей, которые то вытягивались, то сжимались на фоне пустыни.
Рут была неперспективным сотрудником государственного парка. После нескольких месяцев работы ее большой живот выпирал так сильно, что прорвал небольшую дырку в шве свитера. Все в ней было плохо приспособлено к работе. Неутомимый февральский ветер был ей неприятен и прижимал к голеням расклешенные штанины парковой униформы. Песок пустыни пробивался сквозь вязаные шерстяные носки.
Она забралась в кабину грузовика в надежде найти там убежище, натянула на волосы вязаную шапочку. Аллен приоткрыл дверцу со стороны водителя:
— Рут? Все в порядке?
— Просто хотела отдохнуть от ветра, — объяснила она. — Со мной все хорошо.
— Может, стоит позвонить Дэлу?
— Его, наверное, нет дома.
Она последовала совету сестры и солгала Дэлу о своей зарплате. Каждые две недели она добавляла немного денег в банку из-под кукурузного пюре, молясь святому Кристоферу о возвращении домой. Аллен посмотрел на нее долгим взглядом, покачал головой и вернулся к работе.
Рут попыталась нагнуться, чтобы снять туфли, но ребенок в утробе протестующе зашевелился, надавив на мочевой пузырь — ровно настолько, чтобы выпустить небольшое количество мочи и оставить мокрое пятно на трусиках. Она почувствовала, как одна из конечностей ребенка протянулась вниз дальше, чем следовало, пройдя то, что, как она чувствовала, должно было быть барьером между животом и ногой. Боль была острой. Рут чувствовала себя так, словно ее ободрали изнутри, словно мембраны, обеспечивающие единство ее тела, теперь будут висеть, разорванные и бесполезные, на ее мышцах и костях. Рут сделала быстрый вдох и задержала дыхание, желая, чтобы боль распространилась от таза к коленям, заставив ее руки задрожать и ослабеть. Она хотела, чтобы боль была краткой, но всеохватывающей, чтобы тело хранило память о ней, практиковалось. Этот ребенок мог появиться в любой момент, и нужно было подготовиться к тому, что при родах, как она хорошо знала, ей придется несладко.
Каждый ее рабочий день заканчивался подметанием павильона, в котором хранились окаменелости ихтиозавров, этих древних рептилий, которые хорошо плавали, но должны были всплывать, чтобы дышать. Рут изо всех сил старалась разглядеть их очертания в окаменелостях — разнообразных камнях и валунах, выставленных на обозрение, — хотя она видела презентацию Аллена для посетителей парка миллион раз и наблюдала, как он составлял карту скелета, указывая на различные области на маленьком игрушечном дельфине. Она не могла определить позвоночник этого существа, не могла отличить его череп от ног, но испытывала глубокое сочувствие к этому бедному животному, навеки погруженному в песок. Все прохладное и знакомое ему испарилось, мир высох, стал неузнаваем, и тарантулы, ежегодно мигрируя, проползают по его костям.
— Это какой-то инстинкт, — сказала Рут.
Она не видела ни одного тарантула уже несколько месяцев, но все время думала о них, представляла их пушистые ноги, сгибающиеся и разгибающиеся в вечном движении. Что за химия управляет встроенными в них сексуальными часами? Жалели ли они, как Рут, о расстояниях, которых требовала любовь?
— В чем дело? — спросил Аллен, но она не ответила.
Рут положила руку на живот. Рука ребенка прижалась к ней изнутри — так сильно, будто он нуждался в ее внимании, будто он должен был сказать ей что-то важное.
Вернувшись домой, Рут увидела, что Дэл сидит на складном стуле возле трейлера. Его серый комбинезон с короткими рукавами был расстегнут выше пояса, так что Рут могла увидеть V-образный солнечный ожог на бледной полоске его груди. Он явно получил его не в шахте.
— Что-то случилось сегодня на работе? — спросила она, уже зная ответ.
— На этой поганой шахте ничего не получится, — проворчал Дэл.
— Тогда пойдем в дом.
Она почувствовала, как ребенок изогнулся в ней. Может быть, теперь он родится в Грили[26], в той же больнице, где родились они с Дэлом. Ее мать свяжет ему шапочку. Мано напишет его портрет. Сестра-монахиня станет говорить со сморщенным новорожденным воркующим голосом, наполняя его уши произнесенными шепотом благословениями.
Дэл пожал плечами и указал на горы, подняв руку ладонью вверх, словно предлагая ей какой-то дар.
— Этот дом так же хорош, как и любой другой.
Дэл был так близко, что Рут чувствовала его тепло на своем плече. Она сделала шаг в сторону, и они стали смотреть, как Чарли, оставшись один, направился к краю парковки трейлеров, в сторону заросших полынью предгорий Шошонского хребта. Рут почувствовала, как в ее душе снова поселилась печаль. Вокруг в нескольких минутах ходьбы не было ни дерева, на которое могли бы взобраться Чарли и девочки, ни старой катальпы[27], покрывающейся в июне цветами, ни бобовых стручков, которыми можно было бы бросаться друг в друга.
— Я нашел новую работу. Автотранспортная компания. Начинаю сегодня вечером.
— Будешь водить грузовики?
— Сперва поеду в Рино[28], а завтра в Сан-Франциско. Там, по их словам, мне дадут маршрутов по крайней мере на две недели. В общем, становлюсь дальнобойщиком.
Рут села в кресло и сбросила туфли с силой, которой не ожидала, — ее левая туфля грациозно взлетела, приземлившись в зарослях полыни в нескольких ярдах от того места, которое она расчистила, считая его своим передним двором. Рут показалось, что она увидела тарантула, быстро ползущего по этому клочку светло-коричневой земли, которая, освободившись от связывающей ее растительности, засыпала все вокруг них мелкой пылью, но в феврале это было маловероятным.
— Ты собираешься оставить нас здесь и уехать? — спросила Рут. Она почувствовала невыносимую тяжесть, посмотрела на свою туфлю среди полыни и решила ее не поднимать. — Ты хочешь стать дальнобойщиком?
— Взгляни на объявления о найме. Работа здесь есть только на шахте.
— Но как же дети? Да и роды приближаются…
Конечности Рут омертвели. «Сейчас мне потребуется много сил, — подумалось ей, — чтобы пошевелить руками». Все тело казалось побежденным, вся энергия иссякла. Но потом она ощутила что-то еще, что-то прохладное, как вечер в пустыне. Может быть, облегчение. И что-то еще большее — тоску по своей собственной одинокой поездке, похожей на путешествие дальнобойщика. Ревность, конечно.
— Послушай, я же не оставляю тебя, Рут. Это работа, только и всего. Я буду присылать тебе чеки.
Рут опустила подбородок, закрыла глаза, и облегчение от того, что она ничего не видит в этот момент, заставило ее захотеть, чтобы и все остальные чувства оказалась так же надежно заблокированы, и она могла заставить себя перестать слышать, перестать чувствовать с помощью ряда таких простых действий, как закрывание век.
— Или у тебя есть идеи получше? — добавил Дэл.
Чарли и девочки, вернувшиеся из своих странствий, собрались вокруг крыльца, стараясь расслышать каждое слово, но опасаясь, чтобы их не застали врасплох. Чарли вышел немного вперед, как будто хотел перехватить плохие вести, прежде чем они дойдут до сестер, и смягчить их.
— Думаю, нет, — отозвалась Рут. — Похоже, для тебя все складывается очень хорошо. Ездишь по всей Америке, а потом навещаешь семью раз в две недели.
Дэл покачал головой:
— Ты переживешь это, Рути. Вот увидишь. Все складывается как нельзя лучше.
— Лучше, но не для меня.
— Мне надо собираться, — буркнул Дэл и исчез в трейлере.
— Папа уезжает? — спросила Нэнси, и когда Рут кивнула, девочки сели у ее ног.
Бренда прислонилась головой к колену Рут. Нэнси держала спину прямо. Слишком хрупкая для тесного контакта, она нуждалась только в близости.
Чарли поднял материнскую руку, так что та указала куда-то поверх самой высокой вершины Шошонского хребта, где во все стороны распространялась тень, сменяя буйство заката.
— Смотри, ма, — сказал он, вытирая слезы с ее щеки. — Это перистые облака, и они все розовые и фиолетовые. Я думаю, это самые счастливые облака, не так ли? Сегодня день рождения серпантина облаков.
Он погладил Рут по щеке тыльной стороной ладони. Более нежного чувства никто не испытывал к ней многие годы.
— Спасибо, дружок, — сказала она наконец, притянув его к себе в неловком объятии, одновременно поглаживая пальцами волосы Нэнси и чувствуя тепло Бренды на своей голени.
Дети не единственное, что может перевернуть мир. Он менялся, быстро или медленно, по миллиону причин. Не всегда можно ждать девять месяцев, прежде чем узнаешь, что произойдет. Не всегда есть время подготовиться.
Через несколько дней Рут убрала пустой стул Дэла подальше от семейного стола и научила Чарли поворачивать ручки кастрюли так, чтобы не пролить ее содержимое и не обжечься. Она сказала детям, что после школы они могут смотреть телевизор только до тех пор, пока ведут себя прилично и могут постоять за себя. Во время школьных занятий, когда Рут была на работе, она представляла себе трейлер объятым огнем, представляла укусы тарантула, представляла, как тычет пальцами в глаза Дэлу, когда он в следующий раз приедет на выходные. Вечерами она перечитывала листовку о школе медсестер, как будто там были напечатаны новые инструкции — не только что следует делать, но и каким образом. Ей хотелось, чтобы какой-нибудь мертвый предок нагнулся с небес и сказал, обманывает она себя или нет.
Иногда, когда она ехала на работу, дети сопровождали ее и проводили дни напролет в однокомнатном трейлере Аллена на окраине Берлина. Каждый раз, когда они приходили, Чарли стучал по самодельной табличке на двери Аллена, которая гласила: «База рейнджеров». Трейлер был полон приборов и панелей, которые, как думала Рут, должно быть, предназначались для радиовещания, для всех одиноких, заговорщических полуночных передач его хозяина.
— Дэл звонил вчера вечером, — сообщил Аллен. — Делился кое-какими теориями насчет контроля сознания.
Рут закатила глаза.
— Если он перезвонит, — отозвалась она, — скажи, чтобы прислал деньги на арендную плату.
Дэл не звонил ей из дальних поездок. Очевидно, предпочитал общаться с пришельцами.
Аллен стал чаще стирать одежду. А на прошлой неделе подстриг бороду. Рут держалась на расстоянии, чтобы его не обнадеживать. В конце концов, она все еще замужем.
— У тебя все в порядке, Рут? — нахмурился Аллен.
Он выглядел встревоженным, и Рут почувствовала, как ее тронула его скрытая печаль.
Рут пожала плечами и кивнула. Аллен имел самые добрые намерения, но помимо верной дружбы, помимо этой работы, что он на самом деле мог ей предложить?
Прошла неделя. Рут подметала в конце дня павильон с окаменелостями, когда почувствовала, как ее живот сжался и затвердел. Она ощутила, как тепло вытекло из ее рук и ног, сконцентрировавшись в каменном валуне, в который превратилось ее чрево. Она попыталась опереться на метлу, удержаться на ногах, но не смогла. Рут присела на корточки и обхватила колени. Она закрыла глаза, тяжело выдохнула, выпустив из легких весь воздух, ожидая, когда пройдет волна боли. Метла, упав, стукнулась об пол, но резкий поначалу звук сменился мягким эхом, которое переплеталось с ритмом ее дыхания. Эффект был отчасти похож на радиостатические помехи. Ее левая рука сжала окаменевшую глазницу ихтиозавра.
— Аллен, — произнесла она. Это имя прозвучало как шепот. Она прочистила горло, пытаясь заставить свой голос опять звучать в полную силу, пытаясь заставить себя кричать. Она подумала о детях, сидящих в доме-трейлере в Габбсе, и почувствовала облегчение оттого, что они не с ней. Рут, пошатываясь, вышла из павильона в сгущающиеся сумерки. — Аллен!
А потом она осталась одна в муках очередной схватки. В ушах стоял шум приливов и отливов собственной крови, околоплодных вод, всех ее напоминающих соленое море внутренностей, заглушающих внешний мир. Теперь она сосредоточилась на своей голове. Боль переместилась из чрева в поясницу; она почувствовала, как ребенок перевернулся внутри ее. Этого она не чувствовала раньше, с другими детьми. Она попыталась превратить свои крики в мерный и ровный плач, вообразила, как дыхание ловит боль, представила, как дыхание и боль покидают ее, растворяясь в окружающем воздухе, как теперь ей предстоит вдохнуть то и другое обратно в себя.
Она почувствовала, как ребенок снова повернулся, и боль вернулась в живот. Ее тазовые мышцы чувствовали себя живыми, как будто каждое их волокно двигалось отдельно и поперечно другим, как извивающаяся куча спаривающихся змей. Ее захлестнуло желание уступить, вжаться в землю. Ребенок не станет ждать, когда окажется в безопасности. Рут больше всего на свете нуждалась в своих сестрах, но она нуждалась также, совсем немного, в Дэле.
На Рут упал луч молодой луны, окруженной тонкими длинными облаками. Рут попыталась назвать их. Перистые? Кучевые? Она не могла точно определить их тип, и если ангелы сплетничали с ее мертвыми предками о ее нынешнем затруднительном положении, она не хотела этого знать. Звезды ярко вспыхивали на фоне темнеющего горизонта, но казались движущимися, словно их рисовал в реальном времени неистовый спирограф[29]. Хватает и того, что остальные дети родились в Вегасе. Этот же ребенок будет ниоткуда, из города-призрака. Похоже, она его родит на окаменевшем ископаемом ихтиозавре. Рут не могла взять назад ни одно из решений, которые привели ее сюда. Вот где она оказалась, так что ее ребенок должен родиться именно здесь.
В этот момент вошел Аллен и замер от неожиданности. Потом его вытошнило, после чего он сел на скамью, наклонившись вперед и обхватив голову руками.
— Тебя нужно отвезти в больницу, — проговорил он, не поднимая глаз.
Замечание было адресовано его башмакам.
— Для этого нет времени.
Рут стянула чулки и присела на корточки, прижавшись лбом к колонне павильона окаменелостей. Ее холодная поверхность действовала как-то успокаивающе, и контакт с ней позволял сохранять равновесие, не используя руки.
Она втягивала воздух в натужившееся тело, напрягая утробу, пытаясь как-нибудь опустить грудную клетку ниже, нагибая шею, пока не почувствовала, что между ее грудью и подбородком вообще ничего нет. Она попыталась расслабиться. Она рожала уже три раза. Если бы она находилась в больнице, рядом стояла бы медсестра и подсказывала, что делать. Здесь, в пустыне, ей придется самой быть себе медсестрой. На пике схватки она протянула правую руку вверх и внутрь себя, крича в ночь о своем диком страдании, но желая, чтобы ее рука была нежной, невероятно нежной, когда она потянула, легко, очень легко, вниз, взявшись за плечо своего ребенка. Голова прояснилась, и остальная часть ребенка вышла наружу. Рут держала его обеими руками, прижимаясь лбом к колонне, чтобы не упасть, не потерять равновесия. Где-то позади она услышала сильный глухой удар, словно что-то упало.
Мальчик был синим, обмотанным собственной пуповиной. Рут быстро размотала ее, вычистила комковатую белую слизь из носа и рта ребенка. Она повернулась, чтобы попросить у Аллена рейнджерскую рубашку, что-нибудь, во что можно завернуть ребенка, но Аллен все еще лежал в глубоком обмороке. Она сняла свой свитер, выданный администрацией парка, и плотно укутала им малыша, чтобы тот не замерз. Услышав его негодующие, голодные крики, она прислонилась спиной к колонне и заплакала сама, сидя на прохладной земле. Вокруг простиралась пустыня. Ребенок прижимался к ее груди, пока она ждала, когда выйдет плацента. За его новорожденной головкой она могла видеть все великолепие пояса Ориона. Что-то в центре созвездия ярко вспыхивало и гасло, то ли это была далекая молния от надвигающейся грозы, то ли просто она видела все по-другому сквозь слезы.
Ей хотелось позвонить сестре. Я назову его в честь святого Кристофера, скажет она. Потому что я скучаю по тебе. И для того, чтобы защитить его от молнии.
Чарли возьмет на себя ответственность за все, что произойдет в трейлере, подумала она, усмирит панику сестер, вызванную пропажей матери, рассказывая о пришельцах из какого-нибудь созвездия, похищениях космических кораблей и линзовидных блинах. Ее милый, неуклюжий первенец вечно рассматривал небо в поисках признаков неземной жизни и всяческих предзнаменований, пытаясь показать всем окружающим потенциал, который в нем заложен, научить их видеть то, что видел он. Малыш Крис теперь вопил во всю силу своих здоровых легких, крохотные пальчики одной руки крепко обхватили ее указательный палец, а другую он протянул, указывая на ихтиозавра. Рут повернула его голову к окну, чтобы он тоже мог полюбоваться на звезды.
— Когда-нибудь ты поймешь, какие они яркие, — прошептала она.
Вполне возможно, подумала Рут, что рождение именно здесь, посреди пустыни, каким-то образом позволит этому ребенку принадлежать всему миру, называть своим домом любое место.
Аллен подполз к ней. Он потянулся к ребенку, но тут же отдернул руку.
— Придется повысить тебе зарплату.
Рут засмеялась, поежилась и крепче обхватила руками прижатый к груди сверток с младенцем.
— Я на это согласна.
На следующей неделе Рут укачивала спящего Криса на террасе, пока остальные трое спали внутри. Медальон с изображением святого Кристофера она держала большим и указательным пальцами. Одно шерстяное одеяло было накинуто на плечи, другое на колени. Ночной воздух обещал стать морозным. Он все еще хранил запах шалфея, но пыльные нотки его аромата сменились чем-то более глубоким, доисторическим. Дэл приехал домой всего на два дня — познакомиться с новорожденным сыном, потанцевать с девочками на кухне и подарить Чарли брелок в форме НЛО.
Когда Дэл уехал, оставив неизвестной дату его следующего возвращения, Рут поняла, что скучает не столько по Дэлу, сколько по его рукам — рукам, которые могли застегнуть детское пальто, приготовить ужин, согреть ее плечи своим теплом и тяжестью. У любого мужчины есть руки. У Аллена руки имелись, но к ним прилагались последствия, а их ей хотелось меньше, чем рук. Рут скопила достаточно денег, чтобы сесть в «Фэлкон» и уехать, послав к черту и работу, и Дэла, обратно в Колорадо, но она не покинула Габбс. Шины «Фэлкона» хотя и были голыми, но вполне годились для дороги, однако Рут все-таки решила ехать на них на первое занятие курсов медсестер, а не возвращаться домой. Деньги из консервной банки понадобились бы в обоих случаях.
В тот вечер, когда она пошла на кухню, чтобы их пересчитать, банки из-под пюре уже не было. Рут почувствовала, как все в ее теле сжимается — желудок, горло, сердце. Она перешла в рабочую зону — как раз вовремя, чтобы ее вырвало в выщербленную фаянсовую раковину. Она представила себе, как Дел в Вегасе превращает ее кукурузные деньги в игровые жетоны и пускает на ветер. Она представила его в винном магазине, превращающим ее кукурузные деньги в счастливую одинокую выпивку.
Что теперь, святой Кристофер?
Тишина приводила в бешенство. Она нуждалась в духовном руководстве, которое имело бы какой-то вес. Она посмотрела на детей — их спящие тела были освещены лунным светом. Затем она туго спеленала Криса и поехала к телефону-автомату.
Телефон звонил и звонил, пока наконец она не услышала сонное приветствие, затем перешептывания и звуки последовавшей суматохи, а потом наконец голос сестры.
— Рут? — произнесла она. — Здесь сейчас середина ночи.
— Здесь тоже.
— Ты всех разбудила.
— Мы не в четвертом классе. Ты не можешь отходить меня по рукам линейкой.
— Рути, — упрекнула сестра. — Ты говоришь как сумасшедшая.
Рут попыталась представить себе, во что монахини одеваются, когда ложатся спать, и как выглядит сестра в данный момент. Она вообразила себе многослойные одеяния, сложные застежки на крючках и петельках.
— Как я могу по-прежнему молиться святому Кристоферу, если я застряла здесь, в Габбсе?
— Молитвы, они как радио, Рути. Никогда не знаешь, кто именно их услышит, но кто-то всегда слушает. — Сестра выдержала паузу. — Не могла бы ты объяснить мне, что произошло?
— Дэл украл мои кукурузные деньги.
— Дэл, — повторила за ней сестра, с хрипом выдохнув его имя. Крис вздрогнул, моргнул сонными младенческими глазками и снова погрузился в дремоту. — Мне очень жаль, Рут.
Рут тяжело опустилась на тротуар рядом с телефоном-автоматом, прислонившись спиной к стене из шлакоблоков, перед ней раскинулось бескрайнее небо пустыни, и одной рукой она баюкала маленького сына. Необъятность неба доставляла ей чувство комфорта. Она надеялась, что Чарли прав насчет пришельцев, что Дэл и Аллен знают больше, чем ей кажется. Чем больше жизни вокруг, тем менее одиноким должен чувствовать себя каждый человек, тем больше надежды, что тебя услышат.
— Что ты будешь делать теперь?
Сестра произнесла это совсем тихо, или что-то было не так со связью. Ее было трудно расслышать.
— Мне просто придется начать все сначала.
Она еще не была готова рассказать о курсах медсестер. По крайней мере, такое средство вложения денег было более безопасным, чем банка из-под кукурузного пюре, даже если оно означало более длинную дорогу обратно в Колорадо. Это был способ снова поверить в свое блестящее будущее. Нечто такое, что она, помимо детей, могла бы иметь лично для себя.
Крис зашевелился у нее на руках. Рут подумала о секретах своих хихикающих девочек, о руке Чарли на ее щеке. Она смотрела, как луна проплывает через звездный узор, и гадала, какие яркие созвездия Чарли показал бы ей, не спи он сейчас, какие отдельные светящиеся точки, соединившись вместе, готовы рассказать целую историю.
Системы раннего предупреждения
В марте 1986 года Мано Райхерт забралась на крышу дома, в котором она росла, чтобы увидеть комету Галлея. Хотя сообщалось, что комета будет ярче в южном полушарии, у Мано были бинокль и позитивный прогноз. Она наблюдала за звездами с крыши своего дома с тех пор, как ей исполнилось десять лет. С того самого года, когда ее сестры, тогдашние тинейджеры Тереза и Рут, покинули дом с промежутком лишь в несколько месяцев. Для Мано, их младшей сестры, внезапно оставшейся одинокой, лишенной общества, едва ли не осиротевшей, крыша была своего рода бунтом. Родители, которым больше всего нравилось, когда она занимала себя сама, не слишком интересовались тем, куда она удалялась, а сестры, наверняка высказавшие бы ей, что лазать на крышу слишком опасно, уехали и больше не могли ни защищать свою подопечную, ни озвучивать свое мнение о ее проказах.
Вместо того чтобы наблюдать созвездия, следя за звездами, Мано любила сосредотачиваться на темном, как негатив, пространстве горизонта и находить в нем очерченные звездным сиянием силуэты, полные иссиня-черной красоты — профили сестер, дерево катальпы, густо усеянное волокнистыми стручками, дорожный указатель с картой системы автомагистралей. Она знала, что небосвод меняется вместе с вращением Земли, но это происходило медленно, почти незаметно. Мано любила все — самолеты, спутники, кометы, — что быстро и ярко вспыхивало на знакомом небе, помогало видеть его по-новому. В художественной школе Мано узнала, что видение является многослойным, чем-то выходящим за пределы физического зрения. Видение требует ясности; можно нарисовать мир точно таким, каким его наблюдаешь, но без связного чувства контекста, без намеренного придания смысла вы не достигнете того, что называют искусством. В течение многих лет Мано частично зарабатывала на жизнь живописью — портретами и пейзажами для туристов в окрестностях национального парка Роки-Маунтин[30] — и это было проявлением ее таланта, которому она не могла найти никакого смысла.
— Я слышала, нас ждут годы удачи, если мы ее увидим, — сказала старшая сестра Мано, Рут, которая в последнее время залезала вместе с Мано на крышу так часто, как только могла. Рут работала в ночную смену медсестрой родильного отделения, а когда возвращалась с дежурства, то спала, и ее храп был ритмичным и мерным, как работа стиральной машины. Энтузиазм сестры по части созерцания звезд намекал на то, что романтическая Рут, диковатая мечтательница-тинейджер, которую Мано боготворила в детстве, все еще жила под суровой практичностью нового образа Рут, работающей матери-одиночки средних лет. — Такое можно увидеть раз в жизни, и то если очень повезет.
— Может быть, один раз в твоей жизни, — возразила Мано. Ей было 33 года, на девять лет меньше, чем Рут, и она твердо намеревалась прожить те 75 лет, которые понадобятся, чтобы снова увидеть комету в 2061 году. Когда она увидела, что Рут готова спорить, Мано немедленно это пресекла: — Ты не больше меня знаешь, как изменится мир. Может быть, мы все проживем дольше, чем думаем.
Она сказала это скорее для того, чтобы подискутировать, нежели действительно веря в это. Мано следила за новостями, читала гороскопы. При честном рассмотрении всех фактов, будущее обещало стать мрачным. А еще была мертвая рыба. Вторую половину своего дохода Мано получала, проводя время за стойкой администратора на очистных сооружениях города Лавленда. Два дня назад в реке произошел массовый мор рыбы, и хотя официально его причина оставалось неразгаданной, Мано была почти уверена, что Кит, ее босс, и Ллойд, его босс, знают что-то, чего не знает она.
Рут поджала губы и снова посмотрела на небо. Отец умер много лет назад, потом ушла из жизни мать, а вскоре Рут и ее четверо детей вернулись в Колорадо и переехали к Мано. Тереза, ставшая сестрой Агнес-Мэри и жившая теперь в церковном флигеле в центре города, работала в детском саду при церкви Святого Павла. Она заглядывала, когда могла, выпить кофе и пару рюмочек рома. Трое из четырех детей Рут выросли и упорхнули, а последний, шестнадцатилетний Крис, появлялся из цокольного этажа лишь изредка, чтобы перекусить. Мано тоже переехала. Это произошло прошлым летом после ее свадьбы. Дом был хорошо построен, крепок, и члены семьи селились в нем и покидали его по мере необходимости. Он был надежным убежищем.
— Я видела Рика в очереди на исповедь, — сообщила Рут. — Но не видела тебя. Я думала, он пойдет с тобой сегодня.
Рут отвела взгляд от неба и посмотрела на Мано. Позади нее Мано увидела новый силуэт — форель, изгибающаяся в прыжке. Интересно, в чем именно каялся Рик?
Стоя на коленях рядом с Риком перед алтарем церкви Святого Павла, Мано дала ряд обещаний, которые в то время полностью планировала сдержать. Рик тоже казался искренним. Он был еще более одержим Стиви Никс, чем она, и в те ранние летние месяцы их брака любил смотреть, как Мано раздевается под ранний вариант «Колдуна» с демоверсии альбома «Букингем Никс»[31]1974 года. Мано двигалась, как белокрылый голубь, наращивая интенсивность вместе с музыкой, и всегда после этого Рик ложился на живот, поворачивался лицом к ней, обнимал рукой ее мягкую грудь, и они оба погружались в сон. Но брак, вспыхнувший жарко, быстро остыл. Мано знала, что она больше не единственная женщина, лежащая обнаженной с Риком, курящая сигареты и слушающая «Дикое сердце»[32].
Мано гадала, знает ли об этом и Рут, не потому ли она спросила. Сестра обладала способностью знать вещи, о которых ей никто не говорил напрямую.
Рик отказался от наблюдения за кометой в последнюю минуту.
— Твоя сестра заставляет меня нервничать, — объяснил он. — И, кроме того, в этой игре я к чему-то близок. Я в этом уверен.
Рик потратил месячную зарплату на компьютер Apple II, одержимый видеоигрой под названием «Крэнстон-Мэнор». Насколько поняла Мано, та представляла собой нечто постапокалиптическое. Игрок грабил особняк, который был поспешно и загадочно заброшен. Детали были скудны, поэтому она придумывала сценарии — кислотные дожди, насыщающие атмосферу ядовитыми аэрозолями, ядерная зима или, может быть, цианидный газ в хвосте кометы, достаточно сильнодействующий, чтобы, как люди привыкли думать, истребить все человечество. Игра состояла из бесконечных блужданий по пикселизированным приемным, гостиным и садовым лабиринтам в поисках предметов сомнительной ценности, которые игрок мог собрать. Программа сообщала Рику в тексте под картинкой такие вещи, как: «Вы находитесь в библиотеке. Здесь есть немного заплесневелого сыра», и Рик печатал: «Достать сыр». А потом программа сообщала: «Вы в курительной комнате», и он печатал: «Бросить сыр», просто желая посмотреть, что произойдет.
Однажды Рик попытался научить ее игре. Мано собрала предметы, которые советовала подсказка: «Взять кинжал. Взять кристалл. Взять бутылку, полную бриллиантов». Она подозревала, что в конце концов ей придется сражаться с таинственными латами, которые появлялись, как призраки, в разных комнатах, но она потеряла интерес, прежде чем обнаружила какое-либо возможное применение вещам, которые держала в руках. Ни кинжал, ни бутылка, полная бриллиантов, ни сама игра не заставили ее чувствовать себя ближе к Рику, знакомое одиночество возвратилось, насыщая окружающую атмосферу, такую же ядовитую, как и все остальное.
Вернувшись на крышу, Рут указала на точку в небе:
— Это она? Ты ее видишь?
— Ш-ш-ш.
Мано прильнула к окулярам бинокля. Ей показалось, что она видит комету, не яркую, как звезда, без видимого хвоста, просто туманное пятнышко в небе, ставшее немного светлее, чем окружающая темнота. Похоже на то. Придется поверить, что она видела комету, точно так же, как она верила, что Рик дома один, играет в компьютерную игру — просто решить, что это правда, и не думать об этом слишком настойчиво.
— Не шикай на меня, Мано. Мы наблюдаем не за птицами. Разговоры комету не вспугнут! — Рут взяла бинокль. — Особо не на что смотреть, правда?
Мано попыталась сосредоточиться на том месте, где была комета, хотя и не была уверена, что сможет увидеть ее невооруженным глазом. Мано была удивлена тем отчаянием, которое испытывала, тем, как сильно она надеялась увидеть комету ясно. Она знала азбуку Морзе. Ее учили видеть и тень и свет. Ей хотелось, чтобы комета послала какой-нибудь сигнал. «По крайней мере, удача не помешает», — рассудила она. «Взять комету», — подумала Мано.
На следующее утро, когда она пришла на работу, на ее столе стояли рулет с джемом и пластиковая чашка черного кофе, из отверстия в крышке которой поднимался пар. Подарок. Кит. Она слышала, как он разговаривает по телефону в соседнем кабинете. Работа Мано на водоочистной станции была легкой и безжалостно скучной — большую часть времени она удивлялась, зачем здесь вообще держат администратора. Очистные сооружения не вызывали гнева общества — в отличие, скажем, от департамента коммунальных услуг, куда горожане регулярно наведывались лично, чтобы поднять крик по поводу своих счетов. В отделение водоподготовки никто не приходил. Да и звонили редко. Она потягивала кофе, наблюдая, как форель скользит за стеклом аквариума, занимающего половину стены напротив ее стола. Город урезал бюджет для подрядчика по обслуживанию аквариума, и они с Китом оба делали вид, что не замечают, как тот зарастает грязью.
Для Мано один из способов провести время состоял в том, чтобы часами с помощью масляной пастели запечатлевать розовый цвет жабр форели или красные полоски, идущие вдоль зеленых, как баксы, боков, исчезающие и растворяющиеся, почти вплетаясь в темно-зеленую коричневую кожу, или тот неизменный румянец, которым радужные форели как будто практически светятся изнутри. Она называла всех радужных форелей в аквариуме Стиви Никсами, а головорезных — Линдси Букингемами. Резервуар, наполненный речной водой, должен был показать здоровье экосистемы, но также служил средством раннего оповещения об угрозе. Если что-то убивало рыбу в реке, оно убивало и рыбу в аквариуме.
Когда Мано допила свой кофе и вытерла остатки джема с уголков рта, она открыла дверь в кабинет Кита, уже расстегивая блузку. Пастели привели к еще одному способу проводить время на работе — Мано делала это, развлекаясь с Китом. Кит не одобрял термина «дикая форель», но настоял на том, чтобы развесить ее рисунки этих рыб по всему офису. Мано хотелось бы увлечься ими так же, как он. Она пыталась запечатлеть индивидуальность форелей, их сокровенную красоту, заключенную в лаконичном скольжении, но все, что ей удавалось, это изобразить форель — технически совершенную, реалистичную, безжизненную. На вид все как надо, но никакого зримого образа.
— Они прекрасны, — сказал Кит, покраснев, глядя на нее, а не на рисунки, и Мано была одновременно тронута его неловким суждением и смущена невинной искренностью.
— Доброе утро, — поздоровалась она.
Кит обычно улыбался с закрытым ртом, стесняясь, как она предполагала, щелей между зубами. Было особенно мило, когда он забывался и все-таки позволял себе улыбнуться — его зубы были восхитительны при всех их несовершенствах. Она улыбнулась в ответ, стряхивая с себя блузку.
Кит начал расстегивать ремень. В офисе они всегда были только вдвоем, но возможность того, что кто-то может появиться и застать их врасплох, делала проказы еще более восхитительными.
— Ты видела сегодняшнюю газету? — спросил он. — Кто-то написал, что именно комета убила всех наших рыб.
Сознание Мано сжалось, как в спазме, и затуманилось. Что это за теория? А потом Кит принялся ее целовать, и она позволила себе погрузиться в бездумную рассеянность, не задав ни одного из тысячи последующих вопросов, которые у нее возникли. Она пришла на работу в сентябре счастливой новобрачной, но уже к Новому году от нее пахло чужими духами и сексом, которым она занималась не с Риком. Мано хотелось верить, что Кит — это ее способ беззаботно и легко двигаться по роскошному пиршеству жизни, пробуя, как и Рик, ее прелести по желанию, но она знала, что отчасти ее отношения с Китом были шансом на мелкую месть. А почему бы и нет? Она была воспитана в убеждении: замужество означает, что ей никогда больше не придется чувствовать себя одинокой. Когда муж приходил домой — колючий, резкий, зараженный одиночеством, пожирающий ее заживо крошечными, мучительными укусами, — было легко принять приглашение Кита. Она стала жаждать его внимания, его ласки, так же, как жаждала солнечных ванн — они были так хороши, что она каждый раз умудрялась переборщить и в итоге обгорала со всеми сопутствующими сожалениями.
Их забавы продолжались минут десять-пятнадцать, и когда она вернулась к стойке администратора, все рыбы в аквариуме уже были мертвы. Снова.
— Почему это произошло?
Она почти прокричала эти слова, которые ускорили приход Кита, вошедшего в приемную с расстегнутыми брюками, на ходу заправляющего рубашку.
Кит заглянул в аквариум, как будто, подойдя ближе к заросшему водорослями стеклу, мог лучше сквозь него видеть.
— Мне нужно позвонить Ллойду.
Ллойд был большим боссом, директором по воде и энергетике. Когда Ллойд явился при первом рыбном заморе, он какое-то время бушевал, а потом они с Китом заговорили вполголоса. Было ясно: они не хотят, чтобы она или, возможно, кто-то еще знали подробности.
— Ты уверен? — спросила Мано.
Ллойд был по-настоящему вспыльчив, склонен к крику и необоснованным обвинениям. Вовлечение Ллойда в это дело должно было стать настоящим испытанием.
Кит застегнул молнию на брюках.
— Мы не можем допустить, чтобы люди это пили. Мы должны перекрыть подачу воды из реки и вместо этого задействовать водохранилище. А каждый раз, когда я переключаюсь на другой водозабор, я должен докладывать Ллойду.
Два Линдси Букингема плавали на поверхности, их бока не были покрыты водой, так что с верхней части аквариума было легко разглядеть, как пятна становятся редкими вокруг их морд, а более плотные их скопления находятся возле хвостовых плавников, словно невидимый магнит перетянул пятна с одного конца рыбины на другой. Пара Стиви опустилась на камни на дне аквариума, розовые полоски на их боках виднелись сквозь грязное стекло. Мано прижала обе руки к груди, чтобы успокоить замирающее сердце. Слезы увлажнили ее ресницы, и она их сморгнула. На работе она делала много чего, но знала, что ей лучше не плакать.
— Ллойд надерет мне задницу, — проворчал Кит, — хотя кто, как не я, наказал этим ребятам смотреть в оба.
Мано хотела было пошутить по поводу собственной задницы, но решила, что, пожалуй, сейчас не время.
— Каким ребятам? Кто мог это сделать?
Она читала, что в последний раз, когда мимо пролетала комета, а это было в 1901 году, люди запасались у врачей-шарлатанов «кометными пилюлями». Их принимали как средство от яда, исходящего от кометы, а в итоге травились сами. Она не ожидала подобной чепухи в 1986 году, но в газетах все-таки написали о преступных намерениях кометы.
Кит взял телефонную трубку и начал набирать номер. Мано нажала кнопку на держателе трубки телефона, чтобы прервать связь.
— Кит, скажи.
Кит посмотрел на потолок, будто инструкция к тому, как правильно жить, была жирным шрифтом напечатана на асбестовой плитке.
— Хорошо, но ты должна держать это в секрете, ладно? Виновато строительство дороги выше по течению. Эти парни славятся неряшливым обращением с химикатами, и их, похоже, не слишком заботят нескольких дохлых рыбешек.
Мано попыталась добавить этот новый ужас в уравнение. Она приложила все десять пальцев к стеклу аквариума и жала на них, пока не побледнели подушечки. Радужные форели были ее любимицами, Стиви превосходили Линдси всегда. Но головорезная форель в 1930-х годах была объявлена вымершей, а кто не любит аутсайдеров? С тех пор как в 50-х годах нашли несколько живых особей этой породы, Служба охраны рыболовства и диких животных стала разводить их в рыбных хозяйствах, выпуская в реки в надежде, что они снова населят родную среду обитания.
Когда она увидела их плавающими на поверхности воды гигантского аквариума, прямо под вывеской «река Биг-Т.»[33], она разозлилась больше чем когда-либо. Сколько рыб должно еще погибнуть, прежде чем кто-то все это остановит?
Паника Кита насыщала офисный воздух. Ллойд орал в трубку, как разъяренный учитель из мультфильма про Чарли Брауна[34].
— Ладно, — произнес Кит. — Хорошо.
Он прикрыл ладонью нижний конец трубки и беспорядочно помахал рукой. Она думала, что он отгоняет муху, пока не поняла, что он подзывает ее к себе. Мано притворилась, что не понимает, решив не ввязываться в эту историю. Она подняла палец, обещая вскоре вернуться, и выбежала на яркое весеннее солнце.
Снаружи крошечные поползни[35] скакали по стволам тополей боком, а то и вверх ногами, добывая из-под коры корм, хотя их неистовые крики были куда менее очаровательны, чем внешний вид. Берег реки был усеян мертвой рыбой, сотнями особей, вода колыхала тушки мелкими ритмичными волнами. Уже второй раз. И единственным ответом со стороны общества стало перекладывание вины на комету, что было странным способом в такой серьезной ситуации. Людям было легко увидеть массовую гибель форели, а потом отвернуться. Впрочем, это касалось не только рыб. Если лицо любимого и реального человека, дорогого и близкого, не смотрело из пустоты безжизненным взглядом, было легко сохранить анонимность окружающих мертвых тел, забыть, что каждое из них тоже человек, тоже любимый. А это означало, что у форели нет вообще никаких шансов вызвать сочувствие, по крайней мере у большинства людей.
Легкий ветерок шелестел в тополях, срывая серо-желтые листья, оставшиеся с осени, и гоняя их по велосипедной тропе, вившейся среди зеленых пучков недавно выросшей бизоновой травы, возвещавшей о наступлении весны. Мано достала блокнот и начала рисовать карандашом: мертвая форель на мертвой форели, и те тоже на мертвой форели. С берега ей казалось, что мертвая форель заполоняла каждый стоячий участок реки. Сердце Мано переполнялось жалостью и набухало, пока это чувство не стало невыносимым. Она отложила карандаш и закрыла глаза. Приходилось смотреть на мир слишком близко, чтобы его зарисовать, и это причиняло боль.
В среднем течении реки она видела вспышки отраженного солнца, почти невыносимо яркие. Мано попыталась интерпретировать их мигание как азбуку Морзе, но не смогла распознать ни одного связного слова. Она отыскала пустую бутылку из-под пепси, которую кто-то выбросил на берегу, опустилась коленями на влажный песок и палкой оттолкнула трупы рыб в воду. Мано наполнила бутылку речной водой, наблюдая, как тела рыб кружатся в ленивом водовороте вниз по течению. Взять доказательства.
Мано поднесла бутылку ближе к лицу, наблюдая, как в ней кружатся частицы взвеси, ленивые и прекрасные. В тот момент у нее не было четких намерений насчет воды или рисунка, но она решила извлечь урок из видеоигры Рика. Она еще не знала, что собирается строить, но никогда не пожалеет, что собрала стройматериалы.
Мано не видела мужа более двадцати четырех часов, но у них уже давно было условлено устраивать свидания в «счастливый час». В баре «Таун памп» был бильярдный стол и места для десяти посетителей. Темные деревянные панели хранили запах сигарет и несвежего пива. На витражном стекле над бильярдным столом красными, белыми и синими буквами было написано «Будвайзер», а остальная часть списка имеющегося в продаже пива была написана мелом на доске над стойкой. Была пятница, и казалось почти невозможным ударить по шару, не задев кого-нибудь кием, но они с Риком не сдавались.
Мано объявила, что кладет третий шар в угловую лузу, но в итоге отправила пятый в сторону. Рик рассмеялся и, как всегда, сказал:
— Играем на выпивку.
Она подняла бокал и встряхнула его так, что в нем задребезжал лед. Потом, наклонившись, она убедилась, что блузка на груди достаточно расстегнута, — Мано пыталась удержать внимание Рика, — но он уже отвернулся к стойке.
— Я принесу нам еще по одной.
Потертые джинсы сидели на нем идеально, под шерстяным свитером были широкие плечи. Несмотря ни на что, она еще наполовину любила его, и это заставляло ее ненавидеть его еще больше.
В их городе Рик был почти героем, потому что в 1982 году поднял тревогу по поводу большого наводнения в национальном парке Роки-Маунтин. Ранним утром он оказался в глубине парка, в нужном месте и в нужное время. Рик уклончиво объяснял, почему он там появился, и всегда утверждал, что его вела «рука Божья», а поскольку вопрос «почему» был в истории случившегося одновременно и центральным, и некоторым образом не имевшим особого значения, все на него «забили». В конце концов, именно Рик во время наводнения призвал эвакуировать палаточные лагеря и туристический район Эстес-Парка[36]. Если бы там не было Рика, могли погибнуть люди. Мано ни на минуту не поверила, что Бог имеет к этому какое-то отношение. Она была почти уверена, что Рик браконьерствовал: или воровал оленьи рога, или делал еще какую-нибудь сомнительную чепуху, но все же эта история подняла репутацию Рика. Так было легче в него влюбляться, легче его прощать.
Он был возле линии деревьев, когда начался такой ураган, который мог сорвать с елей половину иголок, скручивать и сгибать их, как будто они были флагами, полощущимися на ветру. Потом он услышал шум и подумал: атомная бомба, затем конец света и, наконец, Патрик Суэйзи в «Красном рассвете»![37] Он искал взглядом грибовидное облако, но вместо него увидел несущуюся грязь, поглощающую валуны, вырывающую деревья с корнем, в общем, другую катастрофу с аналогичным эффектом. Поток, направляемый гравитацией, расчищал все на своем пути, тащил валуны размером с человека, размером с автомобиль на многие мили, прежде чем сбросить их в аллювиальную равнину, расположенную внизу, — ее пейзаж с тех пор навсегда изменился. Рик перекрыл дорогу и побежал к телефону, предназначенному для случая экстренной ситуации.
— Я просто сделал то, что сделал бы любой, — скромничал, рассказывая историю, Рик, когда люди восхищались его решительным поступком.
— Ты сегодня опять пойдешь смотреть на комету? — спросил Рик, после чего наклонился и прикусил Мано за шею.
Та хотела отстраниться, но не сделала этого. От него пахло одеколоном «Олд Спайс», пыльной жарой летнего ветра и каким-то едва уловимым запахом гнили, но у Рика он казался землистым, приятным, как глубокая сердцевина компостной кучи. Вдыхая его аромат, она искала запах той, с кем он спал, и чувствовала, как кровь приливает к голове. Она представила, как другая женщина проводит пальцами по лопатке Рика, подумала о том, как глаза Рика становятся нежными в лунном свете, о словах любви, которые он когда-то говорил ей, а теперь шептал на ухо какой-то женщине.
— Пойдешь со мной? — затаила дыхание Мано, изо всех сил стараясь не показывать волнения.
Впрочем, это не имело значения. Рик все равно не обращал на нее внимания.
Он покачал головой:
— Увидимся дома.
Мано знала, какой смысл он вложил в эти слова. Возможно, то, чем она занималась с Китом, означало, что она не имеет права не подпускать к нему других женщин, но она знала. Боже, так и было. И вдруг больше всего на свете ей захотелось увидеть сестру. В ночь перед свадьбой, не более года назад, Рут затащила ее в сад камней на заднем дворе, островок мшистых плит и маленьких валунов, растения на которых цвели с июня до наступления морозов. Она открыла бутылку виски и предложила Мано сделать первый глоток.
— Твоя комната остается твоей. Я знаю, в доме Рика нет места для всего твоего художественного беспорядка.
С этими словами Рут указала на маленькое окошко рабочей комнаты Мано, маленького закутка рядом со спальней, которую они делили, когда были девочками, и которую Мано некоторое время делила с дочерьми Рут. Собственно, это была большая гардеробная, но, поскольку в доме обычно жило больше людей, чем имелось комнат, никому и в голову не приходило использовать это пространство для одежды.
Закуток Мано был единственным местом в мире, которое принадлежало только ей. Она ваяла скульптуры и делала мобили из оленьих рогов, обточенного водой плавника, полированных камней, персиковых ракушек, плоских морских ежей. Оболочки последних гремели, когда она их встряхивала, и все еще несли сладко-соленый запах смерти существ, которых они некогда содержали. Она сушила под прессом цветы, собранные в горных походах, и приклеивала их расплющенные головки к краю окна, выходящего в сад. У нее хранились сделанные углем рисунки узоров коры и надгробных камней. Она подвешивала на веревочке, протянутой над испачканным чернилами столом, птичьи перья и пристально разглядывала их, освещенные лампами без абажуров и свечами, чтобы можно было варьировать качество света. Еще она развесила по стенам силуэты сестер и наиболее удавшиеся работы в области каллиграфии. Настенные полки прогибались под тяжестью тюбиков с акварелью, масляных красок, пастели, цветных карандашей, углей, кистей, растворителей, стеклянных банок из-под детского питания, старых банок из-под кофе, набитых резинками и огрызками карандашей. Машинка для галтовки камней стояла ближе всего к окну, по обеим сторонам от нее виднелись стеклянные банки с завинчивающимися крышками, наполненные блестящим битым стеклом в золотых, зеленых, темно-синих тонах. За последние недели она заполнила все свободное пространство форелью. Страницы, вырванные из книг по искусству и путеводителей. Ее собственные наброски и полароидные фотографии.
Комната Мано была пристанищем, куда она могла убежать сейчас или в любое время, подарком, в котором она нуждалась, сама того не зная, но каким-то чудесным образом это понимала Рут. Бывший муж Рут, Дэл, появлялся без предупреждения один или два раза в год, пытаясь очаровать Рут и выманить у нее немного денег. Перед лицом очевидной самодостаточности Рут можно было легко забыть, как много она знает о разбитых сердцах. Рут парила надо всеми, как паук. Сплетя обширную, крепкую паутину для самой себя, Рут безжалостно плела ее для всех людей, которых любила.
— Ты кое-что упускаешь из внимания, дорогой. Очевидно, комета обладает некой магией. Или ядом. Какой-то идиот думает, что она убивает рыбу. — Мано почувствовала, как комната закружилась, увидела, как красный, белый и синий свет лампы с надписью «Будвайзер» смягчился, и та превратилась в мигающие огни аварийной сигнализации. В каком-то смысле это была ее последняя доблестная попытка спасти брак. — Правда, пойдем со мной.
Рик закатил глаза:
— Нет. Я не возражаю против твоих странных навязчивых идей, Мано, однако не хочу в них участвовать.
Мано нащупала табурет, в ней все напряглось, сердце замерло. Насчет себя Рик был прав. И в день наводнения, и в любой прочий он делал лишь то, что сделал бы любой другой, и в этом не было ничего героического. После наводнения выяснилось: Корпус военных инженеров[38] знал, что плотина слаба, и объявлял об этом публично год за годом. Смотрители парка умоляли о ремонте и необходимом финансировании, чтобы ее укрепить. Людям, которые не могли представить себе масштабы грядущей катастрофы, было легко игнорировать ранние предупреждения тех, кто был в курсе неминуемого. Рик выглядел намного скромнее, когда она сравнивала его с учеными и смотрителями парка, пытавшимися заставить общество осознать, что грядет, взять в толк, что может случиться.
Рик легко очистил свою половину стола и отвернулся от него еще до того, как восьмой шар упал. Теперь она явственно увидела, что ее брак закончился, и поняла, что должна была уразуметь это раньше. Она также видела, что никого не волнуют мор рыбы, вода в бутылке из-под пепси, все факты в мире. А вернее, все знали, понимали и видели, но просто не были уверены в том, как следует поступить с полученной информацией.
Мано ткнула кием ему в грудь.
— Думаю, я пойду посмотрю на комету, — заявила она, хотя это больше не входило в ее планы.
Она допила виски, смерила Рика взглядом и изо всех сил постаралась не пошатнуться, выходя из бара.
Оказавшись снаружи, Мано посмотрела на затянутое тучами небо. На нем не было видно ни звезд, ни комет. Она прошла полмили от центра города до берега реки в тишине и темноте. Люди любили свою реку, прохаживались вдоль берега, переходили ее вброд, ловили рыбу. Она удивлялась тому, что людей интересует, а что нет. Она подумала о Рике, мчащемся по горной тропе, молившемся, чтобы телефон экстренной помощи работал. Она вспомнила о мертвой рыбе, о тусклом пятнышке, возможно, свете кометы. Было несколько способов поднять тревогу.
Мано шла вверх по реке, вода журчала, ударяясь о камни на дне. Несколько дохлых рыб все еще плавали, задержанные переплетенными завитками торчащих корней. Недавно выросший ивовый кустарник с листочками персикового цвета казался ярко-желтым пятном на фоне серого лабиринта тополевой коры, почти светящейся в пробивающемся через туманные облака лунном свете. Мано принялась собирать упавшие ветки, некоторые толщиной с кулак, другие более тонкие. Потом она нашла мертвого зимородка рядом с недоеденной форелью, а также несколько черных перьев воронов или стервятников и поклялась узнать разницу. Она собрала множество речных обточенных камешков размером с крупный виноград. Мано порылась в сумочке и извлекла из нее перочинный нож и леску, которые стащила из автомобиля Рика.
Стройплощадка располагалась примерно в миле к западу от города, недалеко от нахоженного участка тропы, шедшей вдоль реки и соединяющей два городских парка. Ночью, в темноте, она была пустынна, и лунный свет, сияющий из-за облаков и подсвечивающий темные ветви деревьев, делал ее особенно красивой. Мано была единственным человеком, идущим сейчас через лес, но в нем она не оставалась одна — вокруг пряталось много настороженных животных, которые знали, как оставаться невидимыми и бдительными. Мано использовала рыболовную леску, чтобы подвесить более толстые ветви за оба конца, как трапеции, чуть выше уровня глаз. Ей пришлось взбираться на деревья и ложиться, неловко покачиваясь, животом на ветки, чтобы найти место. Она прикатила камень побольше, чтобы использовать его в качестве табурета, и начала развешивать тушки мертвой форели.
На одной ветке она повесила пять мертвых форелей, некоторых за хвосты, других за жабры. Лунный свет отражался от рыбьей чешуи, отчего широкие рыбьи бока сияли бриллиантовым блеском. На скорую руку она сплела несколько макраме, удерживающих полированные речные камни, и украсила ими стволы деревьев. На другую ветку Мано повесила еще одну форель, но прикрепила к ней вороньи перья — так, чтобы те расходились во все стороны, как черные ночные лучи, а рядом прицепила мертвого зимородка, подвешенного за крылья, так что в тени он выглядел как летучая мышь, почти вампирически.
Мертвые животные и камни висели на уровне глаз, поднятые так, чтобы люди больше не могли смотреть на них сверху вниз. Теперь казалось невозможным, что они не заметят ужаса содеянного. Мано легла на влажную землю у берега реки и принялась следить за движением луны по ночному небу, одновременно наблюдая, как меняется свет, падающий на полную ужаса красоту созданной ею инсталляции. Она прищурилась в темноте, надеясь ясно разглядеть комету, хвост и все остальное, но ничего не увидела. Она чувствовала себя мучительно одинокой.
Незадолго до рассвета Мано добрела до коттеджа Рут, забралась на потайной матрас, который держала под столом для рисования, и заснула. Она проспала до полудня и очнулась с пульсирующей головной болью. Внизу за кухонным столом сидела Рут, перед ней стояли сэндвич с ветчиной и швейцарским сыром, кофейная кружка, банка, полная домашних сладких маринованных огурцов, вечерняя газета и был разложен пасьянс.
Мано стало немного стыдно за себя.
— Уже четыре часа? Я удивлена, что ты не разбудила меня раньше.
Она достала с полки кофейную чашку, благодарная Рут за отсутствие в ее жизни фиксированного режима, свежий кофе и бездонный кофейник.
— Рик звонил, — сообщила Рут. Она подняла бровь, затем посмотрела на карты. — И Кит.
Мано села напротив нее. Рут добавила щедрую порцию айриш-крима в свой кофе, а затем в кофе Мано. Ее лицо выглядело озабоченным.
— Послушай, Мано, единственное, что хорошего я получила от брака, — это мои дети, но развод не был прогулкой в парке. Просто убедись, что знаешь, чего хочешь, ладно?
Неожиданная доброта Рут вызвала слезы, и Мано позволила им реками течь по щекам, позволила соплям капать с носа, как дождю с крыши, позволила плечам сотрясаться в глубоких рыданиях. В основном она жалела себя, но также и всех Стиви, и мертвого зимородка. Она снова задалась вопросом: знала ли Рут, что Рик тоже изменял ей, что он начал изменять первым?
Рут фыркнула и подтолкнула газету к Мано.
— Когда возьмешь себя в руки, то, может быть, захочешь объяснить это?
Мано вытерла рукавом глаза, а потом нос. На первой странице газеты была зернистая черно-белая фотография строительной площадки на реке. Ее рыбы, свисающие с ветвей, зимородок, наполовину съеденный каким-то любителем падали, теперь прикрепленный за одно крыло. Она почувствовала легкую дрожь возбуждения — другие люди тоже увидят то, что видит она, ей не придется делать это в одиночестве.
Статья, однако, была полна догадок и возмущения, ее инсталляция интерпретировалась как странный сатанинский ритуал, возможно, связанный со страхами перед кометой Галлея. Репортер процитировал ряд жителей, которые не думали, что в их городе может существовать разврат такого уровня. «Зачем кому-то убивать зимородка?» — спрашивал один возмущенный житель. «Головорезная форель в опасности, — добавлял другой. — Она уже и так пострадала в этом сезоне». В статье говорилось, что весной в реке наблюдалось большее, чем обычно, количество мертвой рыбы, что заставило многих предположить, будто комета Галлея каким-то образом нарушила баланс речной экосистемы, хотя репортер осторожно добавил, что причина гибели рыбы неизвестна и не доказана. «Того, кто это сделал, следует вымазать дегтем и вывалять в перьях», — сказала последняя интервьюируемая, которая добавила, что больше не чувствует себя в безопасности, прогуливаясь со своим корги по речной тропе. «Или по крайней мере следует узнать, чьих рук это дело. Люди и так достаточно напуганы».
Мано вспомнила своего любимого профессора искусств, белую женщину с дредами, носившую яркие кафтаны и биркенстоки[39], такую добрую, творческую и холодную, что у Мано не хватило духу отмахнуться от нее, как от клише. «Ты не можешь следовать за своим искусством в мир, чтобы защищать его, — сказала она как-то раз. — Твое искусство должно говорить само за себя». Мано пришла в ужас. Это было совсем не то, что, как она предполагала, могло сказать ее искусство.
Рут продолжила изучать фотографию в газете, и улыбка тронула уголки ее рта.
— Вороньи перья? На рыбе? Мне это нравится. В этом есть стиль.
Мано попыталась привести свои мысли в какое-то подобие порядка — ее брак, комета, то, как устроен мир, каким он должен быть… Нет, это походило на расчесывание спутавшихся волос, сложное, болезненное, отнимающее много времени.
— Я не убивала зимородка. Я вообще никого не убивала.
Все тело казалось расслабленным, и в то же время ее била дрожь, которую было невозможно сдержать. Она встала и прошлась по кухне.
Потом достала из сумочки бутылку из-под пепси и протянула ее Рут.
— Это с реки. Образец воды. Если его исследовать, можно доказать, что рыбу отравила стройка.
— То, что рыба в реке дохлая, видели все, — покачала головой Рут. — И никто, кроме тебя, не спрашивает почему.
Мано почувствовала, как всюду вокруг нее поселилась истина. Знание причины несло в себе тяжесть — ответственность за действие или стыд за бездействие. Так много вещей было легче не знать.
— Так что же мне делать теперь?
Она хотела, чтобы Рут все взвесила, дала ответ, сказала именно то, что нужно. Рут, возможно, запоздала с материнскими чувствами в отношении Мано, однако за последние десять лет она стала сильной и начала причислять Мано к той же категории, в которую входили ее дети.
Было легко поверить, что Рут всегда видела наилучший следующий шаг. Мано почувствовала, как надежда рассеивает давление, нараставшее внутри ее тела. Возможно, она была не такой одинокой, какой себя чувствовала.
— Я не могу сказать тебе, что с этим делать.
Рут выглядела виноватой, но по крайней мере она посмотрела в глаза, отвлекшись от карт.
— Ты все время говоришь мне, что делать. И чего не делать.
Смех Мано застрял в горле. Когда она плакала, в нем собралась мокрота, и она поперхнулась.
— Жаль, что ты не спросила у меня об этой инсталляции с мертвыми существами, — улыбнулась Рут. — Я бы дала очень четкое «нет» на ее счет.
— Думаю, я позвоню Киту.
Мано наслаждалась потрясенным выражением лица Рут. Эта открытость чувств казалась сладкой на вкус, словно своего рода свобода.
— Подумай дважды, прежде чем сделать глупость, — произнесла Рут. Она склонила голову набок и постучала указательным пальцем по газетной фотографии. Ее лицо было любящим. Понимающим. — Я имею в виду что-то еще.
Мано не знала, о каком из своих решений, прошлом или будущем, она в конечном итоге пожалеет больше всего. Но кофе Рут, маринованные огурцы, печенье Лорны Дун, суждения сестры и ее присутствие стали частью убежища родного дома. Мано почувствовала, как он утвердил что-то внутри ее.
Задний двор Кита был откровением. Он планировал начать бизнес по выращиванию местных растений для домашних участков. Свой участок он превратил в экспериментальный малообводненный ландшафт величиной в пол-акра, даже построил себе небольшую теплицу для получения местных семян.
— Все знают, что здесь слишком засушливый климат, и те, кто собирается сюда переехать, не могут этого не учитывать. Газоны тут — абсолютная катастрофа с точки зрения потребления воды. Во всяком случае, это называют садоводством с использованием засухоустойчивых растений и водосберегающих технологий, местным вариантом ландшафтного дизайна, призванным сэкономить воду. Уверен, у этого есть будущее.
Мано, зная, как сильно Рут любит пионы и тюльпаны, сколько времени и усилий она вложила в свой луговой мятлик, сомневалась в доходности его плана. «Если бы я хотела жить в пустыне, — часто говаривала Рут, — я бы осталась в Неваде». Поэтому Мано лишь вполуха внимала тому, что Кит бубнил о растениях — аквилегии и толокнянке, бутелоуа и восковом мирте. Все они выросли из семян, которые он собрал в дикой природе. Мано прикидывала, как лучше его прервать, и подозревала, что он был бы более открыт для ее идей, если бы она стояла перед ним голой. Тем не менее она решила двигаться вперед полностью одетой.
— Мы должны рассказать людям правду о заморе рыбы, — сказала наконец она, прерывая страстный монолог о разведении растений, устойчивых к засухе. — Например, позвонить в регулирующие органы штата. Сообщить в газету.
Кит покачал головой:
— Ллойд поймет, что это сделали мы.
— Ллойд может катиться в ад. Но мы последуем за ним, если позволим этому продолжаться.
Кит отвел глаза. Он знал, что встал не на правильную сторону. Мано поняла, что проиграла.
— Я не могу рисковать работой из-за какой-то рыбы, Мано. Тебе тоже не следует этого делать. Ллойд говорит, это не вредно для людей, ничего такого. Он утверждает, попавшего в воду вещества недостаточно, чтобы отравить человека.
Мано подставила лицо ветру. Пусть Кит подумает, что слезы на ее глазах вызваны его дуновениями, больше ничем. Она сделала глубокий, медленный вдох и попыталась подстроить ритм собственного дыхания под движение ветвей липы в порывах ветра. В детстве она делала вид, что звонит Рут и Терезе по игрушечному телефону с работающим поворотным диском. «Вернитесь, — говорила она им, — вернитесь домой». Через некоторое время она поняла, что живопись — это способ говорить с собой, только связанный с меньшим одиночеством. Вот и сейчас, глядя на Кита, она поняла: он никогда не будет ее слушать, и одиночества ей не миновать.
— Мне не повезло увидеть комету, — переменил тему Кит. — Все этот чертов облачный покров.
— Что ж, она там, наверху, — сказала Мано.
Если больше нет ни Рика, ни Кита и ее жизнь снова принадлежит ей, кому же еще, она знает, что делать дальше.
Мано, вернувшись к Рут, позвонила в газету и рассказала все, что знала, а также сообщила некоторые вещи, о которых подозревала. По ее мнению, Ллойд покрывал строительную компанию, а потому власти штата не были оповещены. Следующим, кому она позвонила, был сам Ллойд.
— Вы все равно скоро захотите меня уволить, — сказала она, — так что, желая избавить нас обоих от лишних хлопот, я просто уволюсь сама.
Рут заваривала кофе в одном бездонном кофейнике за другим и невыносимо злорадствовала, обыграв Мано в двойной солитер. Она дала ей номер хорошего адвоката по разводам. Бросить Рика. Мано не ответила на его звонки. Бросить Кита.
Несколько недель спустя в газете наконец появилась статья о море рыбы. Все в ней было правдой за исключением того, что в статье говорилось лишь об одном случае, как будто отравление рыбы произошло только один раз. Статья сочувствовала строительной компании — расследование показало, что все необходимые меры по смягчению последствий были приняты, и химический разлив, который снизил рН реки настолько, что убил рыбу, казался чем-то мелким и неизбежным, прискорбной, но в конечном счете безвредной ошибкой. В заголовок была вынесена обнадеживающая цитата Ллойда: «Рыба, которую мы запустили в аквариум на следующий день, выжила и все еще жива. Что бы ни произошло в реке, это было временно». Различные органы власти, как местные, так и штата, сотрудничали и ничего не нашли — никаких системных проблем со строительством вблизи реки, никаких затяжных негативных последствий для окружающей среды. Ллойда и Кита похвалили за быстрые действия по сохранению пригодности питьевой воды города.
Мано сняла со стен все рисунки, сделанные раньше, и начала снова, опять и опять рисовать форель на почтовых открытках — плавающую над скалистыми вершинами, окружающими долину Эстес, нерестящуюся в местной роще восковника в полном весеннем цветении, извивающуюся в геометрической красоте паутины, летящую, как комета, через лабиринт зарослей ивы с персиковыми листьями, с пятнами на чешуе, сияющими, как звезды в темную летнюю ночь. Она отправляла эти открытки своим конгрессменам, мэру, губернатору, и все они содержали мольбы о защите видов, о качестве воды, о надзоре и возмещении ущерба. Большинство чиновников отказались отвечать, но Мано продолжала писать, продолжала рисовать, продолжала давать людям шанс.
Лучшая реакция на страх
Каждый день перед уходом на работу Эми варила кофе на дровяной плите, которую Бобби соорудил из пятидесятигаллонной бочки из-под масла, и читала газету, как по волшебству все еще появлявшуюся на подъездной дорожке. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как у них кончились деньги на подписку. Бобби не мог этого объяснить.
— Нам повезло, малыш, — всякий раз говорила она, аккуратно складывая страницы, чтобы бумага не смялась и не порвалась: она порвет ее позже, когда пустит на растопку. — Рецессия закончилась!
Эми говорила это каждый день, такая между ними была шутка. Бобби коротко посмеивался, постукивал кончиками пальцев по пластику, приклеенному к разбитым окнам, изучал военные раскладушки, на которых они спали теперь у стены, как на встроенных кроватях.
— Я действительно чувствую себя счастливым, — проговорил он, сидя в складном кресле за их складным карточным столиком, и Эми засмеялась, поставила перед ним чашку кофе. Она встанет сейчас рядом с ним, прижмет его голову к своему животу, запустит пальцы в завитки волос, которые он теперь отпускал. В его новой жизни хорошо то, что он может ходить неряшливым, стать совершенно волосатым хиппи, если захочет, и ему не придется терпеть дерьмовые замечания от других парней на работе. «Эй, хиппи, — обращались они к нему, если он слишком долго не стригся, — пытаешься походить на ватную палочку, или как?»
С момента уведомления о лишении права выкупа[40] их прежней квартиры они жили в старом помещении офисного здания на восточной стороне сахарного завода, к которому оно относилось. Штукатурка потрескалась, декоративные жестяные пластины на потолке были окрашены в зеленый цвет, стены заставлены полками со старыми банками, некоторые из которых были синие, другие прозрачные, все наполнены странными порошками, паутиной и мертвыми пауками. Родители Бобби, Элмер и Марсия, предложили им комнату, в которой он жил мальчиком, но вместо нее Эми попросила разрешения переехать на обветшалую сахарную фабрику, которую Элмер купил на аукционе много лет назад. Было как-то более достойно жить в одиночестве: это позволяло притворяться, будто они все еще независимы, что жизнь, которую они строили для себя, не рухнула, не сгорела дотла. Каждое утро сквозь пожелтевшие занавески в их комнату пробивался яркий солнечный свет, но к полудню все вокруг уже погружалось в тень: свет загораживали шесть башен, самых высоких сооружений в городе. Бобби был уверен, что в один из дней, проснувшись, обнаружит Эми аккуратно складывающей свою одежду, пакующей ее в старый ящик из-под молока.
«Тебе повезло, что я продержалась так долго, — скажет она, обведя комнату рукой. — Посмотри на это дерьмо».
Но Эми все равно целовала его в лоб, выходя за дверь, сверкала ослепительной улыбкой и говорила что-то, заставлявшее его рассмеяться: «Нос выше, дурачок», или что-то на манер их свадебных клятв: «В богатстве и в бедности». За десять лет их брака Бобби изучил все морщинки ее улыбки, изучил и то, как они менялись под влиянием эмоций. Они выдавали ее, показывали истинные чувства, которые она скрывала, храбрясь напоказ. Бобби знал, что она, как иногда и он сам, вспоминала гранитные столешницы на их прежней кухне, джакузи, которое он установил для нее на их пятую годовщину, то, как уведомление о лишении права выкупа трепетало и колыхалось на ветру. Нельзя пережить столько потерь, словно какое-то грандиозное приключение. Это не человеческая реакция.
На заводе имелись две большие хозяйственные постройки, одна из которых представляла собой обнаженный каркас, окруженный грудами кирпичей там, где стены уже осыпались. В другой все еще были стены, двери, которые он мог запереть, клады, которые он мог откопать: ржавые экскаваторы, прицепы, старые транспортные средства, помятые металлические шкафчики, ящики из-под свеклы. Он увидел в этом возможность подняться и зарегистрировал фирму. Собственный гараж. Бобби даже повесил у дороги вывеску, нарисованную краской из баллончика. «Двигатели. Балансировка колес. Замена масла. Справедливые цены». Увы, это было все, что он мог себе позволить.
Проходили недели, никто за услугами не обращался, и Бобби знал почему. В трудные времена люди сами научились менять чертово масло. Он проводил дни, просматривая имена рабочих, убиравших свеклу и занятых на заводе, занесенные в старые рукописные платежные ведомости за 1901–1938 годы, а также записи об увольнениях после банкротства «Грейт Вестерн» в 1980-х годах, знакомясь по именам с неудачливыми синими воротничками, пострадавшими во времена прошлых рецессий. Он мог бы вызвать их, если бы захотел, как вызывают духов. Призраки с ботинками, требовавшими новых подметок. Призраки в комбинезонах, изношенных до дыр.
Эми все еще работала — домашней сиделкой на полставки. Она недавно получила новое направление, и работы хватало. Бобби знал, что должен быть благодарен, но его мысли шли в несколько ином направлении. Конечно, он понимал, что ревность дурное чувство, но это не означало, что он переставал ее испытывать. В обществе Эми ему всегда казалось, что на ее орбите вращается вся возможная удача, как будто гравитация его жены была сильнее, чем у всех остальных. Скретч-билеты[41] Эми всегда стоили не меньше пяти долларов. Эми всегда ловила больше его рыбы в прудах на карьере. Когда Эми находила монеты на тротуаре, они всегда лежали орлами вверх. В их прежней жизни он никогда не завидовал удаче жены, да и теперь ему иногда было приятно думать, что даже удача Эми не в силах бороться с мощью глобальной экономики. Эми потеряла дом так же, как и он.
Бобби иногда забирался в койку Эми, натягивал на голову ее одеяла, вдыхал ее запах — весенний снег на лесных яблонях, речная вода на нагретом солнцем граните. Комната казалась менее призрачной, пока он представлял в ней ее. Его сердцебиение замедлялось, хаос в голове немного успокаивался, он мог притвориться, что они не так уж много потеряли, и переставал беспокоиться о том, что его брак казался чересчур выгодной сделкой. Когда он вылезал из кокона, стеклянные банки ловили солнечный свет, отражали его, как сотни глаз, каждый из которых сиял ярким обвинением: «Ты лежишь в постели, пока твоя жена на работе».
Иногда Бобби мог заставить себя подняться с койки, сделать несколько телефонных звонков, попытаться найти какое-нибудь дело. Однако в большинстве случаев он снова натягивал одеяло на голову.
«Я был бы на работе, будь она у меня, — говорил он, а затем добавлял: — Убирайтесь из моей головы, призраки».
Может, в газетах и писали, что худшая часть рецессии уже позади, но в реальности Бобби не получалось этого увидеть. Витрины магазинов в центре города были темны, разве лишь кое-где устраивались ликвидационные распродажи. Выражения лиц людей, спящих в подержанных машинах на стоянках у магазинов «Уолмарт»[42], говорили о безнадежности, аукционы, на которых имущество продавалось за долги, были переполнены. Бобби не знал, уволили его с должности ведущего механика в дилерском центре «Сатурн» потому, что экономика рухнула, или потому, что фирма «Дженерал Моторс» захотела убить их бренд, или же потому, что он слишком часто звонил на работу с похмелья, сказавшись больным. До рецессии взятый время от времени больничный день не был проблемой. В конце концов он решил, что причина не так важна, как результат. Шли дни. Он пытался смотреть вперед. Каждое утро он звонил Брюсу, у которого была строительная компания, целый парк грузовиков, и каждое утро Брюс отвечал: «Нет, спасибо, мы все равно почти не работаем, дело по-прежнему стоит».
— Это правда так, дружище, — добавил Брюс, когда он обратился к нему в последний раз. — Я позвоню.
Эми, вернувшись с работы, села рядом с ним в тени гигантских колонн. Бобби провел большую часть дня, очищая кирпичи с обрушившихся стен. Он мог разломать старый раствор голыми пальцами, а потом смотрел, как тот осыпается, растворяется в почве. Это давало ему какую-то надежду, и аккуратные стопки чистых кирпичей стояли рядом с хаотичной кучей рухнувшей стены.
— Что ты делаешь, малыш? — спросила Эми.
Она взяла кирпич, поднесла его поближе к глазам, внимательно осмотрела.
— Решил немного прибраться, — ответил Бобби. — Просто чтобы найти себе какое-нибудь занятие.
Эми оторвала взгляд от кирпича и принялась изучать мужа столь же внимательно.
— По-прежнему ничего, да?
Независимо от того, что она имела в виду, Бобби понял сказанное двояко: «по-прежнему ничего» как подтверждение отсутствия работы, и «по-прежнему ничего» как констатацию того факта, что он не работает, не вносит свой вклад, он бесполезен. Эми положила руку ему на колено, погладила большим пальцем, и Бобби почувствовал, как кожа согрелась от ее прикосновения.
— Может, нам нужна бо́льшая вывеска перед входом? Может, мы сможем сделать транспарант, что-то более профессиональное?
Бобби нравилась надежда, звучащая в устах Эми, он готов был принять любое маленькое доказательство того, что она все еще верит в него. Это было единственным способом почувствовать веру в себя.
Они услышали шум дизельного двигателя, увидели, как Элмер возится с цепью ворот фабрики, а Марсия машет рукой с пассажирского сиденья.
— Мои родители сказали тебе, что собираются к нам заехать?
Бобби встал, и мелкий гравий захрустел под его ногами, сыпучий, не дающий твердой опоры. Он схватил руки Эми, удержался сам и помог подняться на ноги ей.
— Я всегда рад их видеть.
Эми отряхнула грязь сначала со своих брюк, потом с его. Марсия — ее распущенные и немного растрепанные на ветру волосы все еще были медово-каштановыми — протянула Эми пакет, завернутый в фольгу, и вручила Бобби четыре квартовые банки.
— Краутбургеры[43] и яблочное пюре, — пояснила она, и Бобби представил кухонный стол своей матери таким, каким тот всегда бывал осенью, то есть усеянным капустными кочерыжками, разбросанными посреди рассыпанной муки. В духовке благоухал яблочный пирог, и воздух кухни казался тяжелым от запахов коричного сахара и ароматов капусты. — Я заеду еще раз на следующей неделе.
— Город прислал уведомление о сорняках, — проворчал Элмер. — Это наводит меня на мысль, что они собираются довести до конца то, чем давно угрожают, а именно — объявить это место заброшенным.
На Элмере были джинсы, заляпанные машинным маслом и грязью, подтяжки поверх футболки, забавная кепка сварщика. Марсия каждый год на Рождество шила Элмеру причудливую шапочку с вышивкой, и Элмер носил ее каждый день вне зависимости от того, занимался он сваркой или нет. Загорелая старческая кожа Элмера съеживалась, сжималась, стягивалась на нем, заставляя отца Эми с каждым годом занимать все меньше места. Бобби чувствовал, что с ним происходит то же самое, хотя ему было всего тридцать шесть лет и никаких видимых проявлений данного явления не наблюдалось. Рецессия сковывала его как тиски, и кожа натянулась на костях слишком туго.
— Заброшенное место, какая ерунда, — отозвалась Эми. — Мне оно всегда нравилось. Даже раньше.
Бобби окинул взглядом окружающую территорию — груды кирпича возле осыпавшихся стен, облупившаяся краска и потрескавшаяся деревянная обшивка, стелющиеся якорцы[44] и пурпурный дербенник[45], проросший из трещин в бетонных пандусах. Место видело лучшие дни, дни, в которые его было бы легче полюбить.
— В нем чувствуется дух, — отметил Элмер и увлек Марсию в вальс прямо на мелком гравии. — Это место наш пенсионный фонд, дорогая. Это все, что у нас есть.
Элмер был известным чудаком, славящимся импровизированными джигами и эпизодическими вспышками пения.
— И ты не можешь пустить это имущество по ветру, старина, — заметила Марсия, но рассмеялась, позволив ему закружить ее по гравию.
Бобби завидовал легкости сердца Элмера, завидовал тому, как все, Марсия, Эми, принимали его причуды и странные привычки. «Элмер может объявить, что съест горящий костер вместо ужина, — подумал Бобби, — и Эми с Марсией будут в восторге от его новаторского стиля мышления». Бобби ощущал, что потерял способность радоваться, что он больше не может чувствовать счастье.
— Если я это разогрею, не могли бы вы остаться на ужин? — спросила Эми.
Марсия и Элмер знавали свои трудные времена, рецессия ударила по ним, как и по другим. Тем не менее Марсия наполняла свой и их холодильники аппетитными булочками, фаршированными говядиной, капустой, черным и банановым перцем[46]. Их полки были заставлены банками — начинка для яблочного пирога, маринованная свекла, зеленая фасоль и кукуруза. Эми, которая верила в хорошую компанию, в то, что проведенное вместе время является мощным выражением любви, настаивала на регулярных семейных трапезах.
— Позволь мне помочь, — проговорила Марсия, забрала у Бобби яблочное пюре, и Бобби остался стоять, наблюдая, как женщины идут рядом, ласково улыбаясь. Он завидовал их легкой привязанности, жалел, что не понимает волшебства этих женщин, Элмера и, если уж на то пошло, света, который они излучали. Его снова обеспокоили углубляющиеся морщины на лице жены. Он задавался вопросом, где заканчивается, казалось бы, безгранично хорошее настроение Эми. Или Марсии. Ему хотелось узнать, где предел, понять, где черта, за которой нельзя желать чересчур многого, и узнать, во имя Творца, как Элмеру удавалось все эти годы оставаться на правильной стороне. Он почти отчаялся выучить этот урок, пока не стало слишком поздно.
— Ты немного обследовал эти здания? — вернул его к действительности голос Элмера.
— Да, некоторые. Там есть на что посмотреть.
Элмер кивнул:
— Даже я не знаю, сколько здесь есть всякой всячины, но мне хочется тебе кое-что показать.
Позади одного из зданий завода была небольшая пристройка из шлакоблоков с двумя открываемыми вручную гаражными дверями, запертыми на висячий замок, стекла на небольших окнах треснули или разбились совсем. Бобби сюда еще не заходил, он по большей части был занят уборкой мусора в главном здании фабрики. Элмер отпер двери и протянул Бобби ключи. Там, куда проникал скудный солнечный свет, клубилась пыль, а под ящиками с ржавыми деталями двигателя и старыми канистрами из-под масла безошибочно угадывались очертания «Форда Фэлкона» светло-голубого цвета с белой полосой по бокам, спереди и сзади.
— В свое время эта машина была чем-то особенным, — сказал Элмер. Он снова переминался с ноги на ногу, стоя почти на цыпочках и радостно пошаркивая. — Я подумал, что мы с женой могли бы стать твоими первыми клиентами.
Бобби почувствовал, как его глаза загорелись. Подобное родительское милосердие потрясло его. В нем чувствовалось нечто опасное, хотя Бобби даже не мог сказать себе почему. Он провел рукой по «Фэлкону».
Элмер перестал шаркать ногами и нахмурился:
— Если, конечно, у тебя нет других планов.
Бобби знал, что Элмеру известно: у него их нет. Бобби хотел получить работу не от Элмера и не через него, но отказаться не мог, а потому попытался справиться с комком в горле.
— Конечно, папа. Отличная машина.
— Ты оценишь ее ремонт, хорошо? Мы платим.
Бобби прижал обе руки ко лбу, как будто пытаясь потуже натянуть на него кожу.
— Нет, папа, это уже слишком. Просто позволь сделать эту работу.
Стая гусей, выстроившаяся клином, пролетала над головами, направляясь на восток, не на юг, и их настойчивый гогот казался ужасным шумом.
— Вы думаете, гуси просто временно сбились с пути? — спросил Бобби.
— Что?
— Вы думаете, они всегда летят на восток, как сегодня? Или собираются по какой-то причине остановиться в Джонстауне, а затем уже устремиться дальше на юг? Или что-то нарушило их инстинкт, и они совершенно забыли, что должны направляться на юг?
Бобби задумался об инстинкте. Объяснялся тот магией или наукой? Как гуси узнают, что пришло время двигаться дальше, как они понимают, в каком направлении лететь?
— Гуси ни хрена не забывают, — произнес Элмер. — Они либо летят на юг, либо нет.
Бобби кивнул:
— Папа, я это ценю, правда. Я просто беспокоюсь, что никогда больше не смогу самостоятельно подтирать свою задницу, понимаешь?
Элмер положил руку ему на плечо:
— Смешно. У тебя просто трудный период, сынок. Но беды приходят и уходят… — Бобби ничего не ответил, поэтому Элмер еще несколько раз похлопал его по плечу. — Пойдем лучше поужинаем.
Они направились к офису, который Эми превратила в их дом. Горы, на фоне которых разгорался закат, приобрели даже еще более глубокий оттенок синего, чем само небо.
От беспокойства у Бобби началась бессонница. По ночам он подпевал Фредди Фендеру[47] и «Тексас торнадос», иногда слушал радиостанцию «Коуст-ту-коуст AM»[48], вещающую о наблюдениях инопланетян, рассказывающую правдивые истории о привидениях, излагающую теорию «количественного смягчения»[49] и повествующую о печатании денег, короче, обо всем том, что можно услышать и по «Эн-пи-ар»[50] в течение дня. Бобби не мог навести во всем этом порядок, но ему нравилось представлять себя полномочным представителем ФРС[51] — брать из воздуха недостающие платежи по ипотечным кредитам, складывать стопки счетов на столе какого-нибудь банкира. Вместо этого он работал над «Фэлконом»: латал шины, заменял топливопровод. Он достиг в этой работе своего рода состояния дзен, подавления собственного сознания. Он был хорош в диагностике, в ремонте, и его навыки точно соответствовали тем, которые обесценила рецессия.
Некоторые детали Бобби отыскал в кучах мусора, другие хорошенько очистил — вместо того, чтобы их выбросить, как он поступал обычно. Он думал о различных вещах, которые могло означать слово «рецессия», — о гладких пляжах во время отлива, об отключенных от сетей домах с солнечными батареями и компостными туалетами, о сердцах, похожих на корабли, съеживающихся на горизонте, неизбежно удаляющихся друг от друга. Иногда он откладывал инструменты на минуту или две, почувствовав, как его охватывает изнеможение и все, что он поднимает, становится тяжелее, чем на самом деле.
Эми вошла в гараж с двумя чашками кофе, протянула одну ему, и он снова поразился тому миллиону маленьких подарков, которые ей всегда удавалось сделать. Она прислонилась к «Фэлкону», пар от кофе поднимался к ее лицу.
— Ну, как тут у тебя идут дела?
— Ты когда-нибудь думала, что мы будем делать, если никто, кроме мамы и папы, не отдаст мне в починку машину?
— Нужно подождать, Бобби, — сказала она. — Непохоже на то, что все остальные механики процветают. Ни у кого ни на что нет денег. Все просто… ждут, я думаю.
— Я не могу ждать вечно.
«Вот если бы я мог придумать, где найти работу, так, как правительство придумывает, где брать деньги», — хотел было сказать Бобби, но решил промолчать.
— Да, я тебя понимаю. — Эми тряхнула волосами и поднесла кружку ко рту, обхватив обеими руками. — Думаю, я продолжаю надеяться на что-то большее. На то, что газеты пишут правду: рецессия закончилась, и работа скоро вернется.
Бобби выругался, ударил кулаком по борту «Фэлкона», увидел, как Эми вздрогнула и едва не подпрыгнула, увидел, как ее брови нахмурились, а в глазах отразился его гнев.
— Я не понимаю, как это может помочь, Бобби. — Она посмотрела в потолок, ее лицо покраснело, глаза наполнились слезами. — Я все время пытаюсь поддержать наше настроение, а ты просто… Я имею в виду, я люблю тебя, Бобби, но ты совсем не стараешься.
Бобби почувствовал, как внутри у него все горит, как слабеют ноги. Он знал, в чем дело. Он так долго этого боялся. И единственное, что он мог ей предложить, — это слабое оправдание. Он указал на «Фэлкона».
— Другой работы, кроме этой, Эми, попросту нет. Чего ты от меня хочешь?
От гнева ее волосы засияли, взор засверкал, и красота вспыхнула так ярко, что он потянулся вслед за женой, когда она отпрянула.
— Это не то, что я имела в виду. Даже близко.
Затем Бобби позволил ей уйти и слушал, как затихает звук шагов по гравию, пока не исчез совсем, оставив Бобби наедине с эхом. Он сел на шлакоблок, почувствовал, как глаза защипали слезы, и сквозь пошатнувшийся мир снова увидел призраков. Одни мужчины с морщинистыми лицами подметали полы. Другие укладывали в штабеля ящики с сахарной свеклой. Фермеры привозили свой урожай, моля Бога, чтобы на заводе с ними расплатились честно.
Бобби отступил, как делал это часто, к койке Эми, но он был слишком напуган, чтобы успокоиться. Ее одеяла были похожи на декоративные растения в полном цвету — прямо-таки весеннее время, — и все отражения восходящей луны в стеклянных банках напоминали профиль Эми: Эми, смеющаяся на вершине горной тропы, Эми, лежащая обнаженной в спальне их дома, теперь ушедшего за долги, Эми, улыбающаяся в день свадьбы, а ее лицо ярко освещает полуденное солнце.
Бобби не находил себе места и до рассвета бродил вдоль южной стены бункера для свеклы, бросая камни в кроликов. В комнате у него остался пистолет 22-го калибра, но ему не хотелось возвращаться за ним в старое офисное здание. Бессильная сетчатая изгородь, которую он соорудил вокруг огорода, никак не препятствовала кроликам, как и сверкающие металлические ленты, которые он привязал к маленьким кольям, чтобы они танцевали и трещали на ветру. Кролики съели посаженные им салат и шпинат дочиста. Он находился в четверти мили от дороги, но все равно слышал движение транспорта. Дорога вела к главному шоссе и обычно была оживленной, но не в это время суток. Мимо проехали только две полицейские машины.
Он позволил телу расслабиться после охватившей его напряженной дрожи, прицелился и попал в кролика, мгновенно его убив. Не то чтобы это было очень трудно сделать, учитывая реакцию кроликов на страх. Надо было быть совершенным мазилой, чтобы не попасть в кролика, застывшего на месте в зеленовато-желтом свете посреди открытой подъездной дорожки, а Бобби оттачивал свою меткость с тех пор, как жил на заводе. Бобби знал, что лучшая реакция на страх — это контролируемое действие, а не паралич. Кролики в этом смысле были невероятно глупы. Но он их понимал. Требовалось усилие, чтобы продолжать двигаться, когда нет видимой цели, когда кажется, будто тебя преследует нечто огромное, словно приближается злосчастный конец всего, облеченный в абсолютную неизбежность.
Они начали есть кроликов не потому, что им понравился их вкус. Просто дела стали совсем плохи, а кролики были повсюду. Эми зашла после работы в магазин, купила паприку, перец, фасоль, и они вместе поели тушеное мясо с рисом, слушая радио, которое все еще, каким-то чудом, было бесплатным. Бобби быстро привык к тушеному кролику, обладающему сильным вкусом и запахом дичи, начал ценить жесткие сухожилия, застревающие между зубами. Эми потребовалось три попытки, прежде чем она подыскала нужный рецепт и смогла съесть кролика, не подавившись.
— Острый соус спасает положение, — сказала она наконец, поморщившись.
— Послушай, мы не обязаны есть кроликов, — возразил он. — Мы могли бы просто купить окорок или что-нибудь такое.
— Может, и нет, — усомнилась Эми. — Ведь все это часть игры в бережливость, верно?
— Часть чего? — переспросил Бобби.
— Игры на выживание после рецессии, — пояснила Эми. — Это как если бы мы получали очки за любое безумие, которое приучаемся терпеть. Например, за то, что едим кроликов со двора только потому, что они бесплатны.
Бобби провел рукой по плечу Эми и дальше, по ее спине, по лопаткам. Его разум был в панике: он ожидал нащупать крылья, находящиеся в изящном, неистовом движении. Его руки искали их основания. Он подумал о страданиях, которые они пережили: пропущенные платежи по ипотеке, долгие месяцы, когда он задавался вопросом, сколько времени потребуется банку, чтобы нагрянуть к ним в гости… Заберут ли дом в феврале, в мае, в сентябре? Соседи, наблюдающие из окон… Эми восприняла все это спокойно. Только сейчас он заметил следы горечи в ее всегда легком сердце.
Теперь он увидел Эми, освещенную восходящим солнцем, идущую к нему. Он уловил запах кролика, прежде чем смог разглядеть, что именно она несла, и понял, что она нашла шкуры, которые он сушил на вешалке в одном из сараев.
Когда она подошла достаточно близко, чтобы он смог увидеть беспокойство в ее глазах, она протянула ему шкуру.
— Что ты собираешься делать с этим, Бобби? — спросила она, сморщив нос, и провела пальцами по одной из шкурок, коснувшись ее так, как они раньше касались друг друга.
— Решил сшить себе куртку, — ответил Бобби.
Эми долго смотрела на него, словно решая, насколько он серьезен, насколько она должна быть обеспокоена. Потом она глубоко вздохнула и взяла его за руку.
— Малыш, не теряй головы. Может быть, одеяло?
Бобби подумал тогда, что, кажется, действительно чересчур замахнулся. Шутка сказать, куртка ручной работы из кроличьих шкурок. Скорее всего, он будет носить ее, даже когда отпадет необходимость жить на заводе, и что тогда? Какое-то время он чувствовал, что его инстинкты, подсказывающие, как жить, дали осечку и он медленно уплывает из сообщества людей, захваченный волной постоянно прогрессирующей эксцентричности, остановленный в желании стать тем, кем собирался, а при том Великая рецессия и его собственный неудачный выбор реагируют, как пищевая сода и севен ап из его научного опыта в третьем классе. Вещи сами по себе неопасные и неинтересные, они в сочетании друг с другом давали бурную реакцию и оставили на всей его жизни липкий слой, над которым жужжали кусачие мухи. Он прилагал так много усилий, чтобы делать даже незамысловатые вещи, чтобы просто существовать. Ему хотелось прийти в себя, поверить в неизбежное выздоровление, но мир, похоже, совершенно не годился для этого.
И вдруг Эми удивила его, обняв обеими руками за плечи, прижавшись к нему, и он обнял ее за талию, закрыл глаза и почувствовал, как тепло ее дыхания распространилось по его шее. Он выронил кроличью шкурку, и та упала на землю.
Затем Эми отстранилась и посмотрела ему в глаза.
— Бобби, — сказала она. — Ты постоянно драматизируешь, как будто наступил конец всему, как будто мы никогда не оправимся, и я не могу… Мне нужно, чтобы ты немного взбодрился, хорошо?
— Я так и сделаю, Эми. Правда, я постараюсь.
Бобби крепко обнял жену и краем глаза увидал вспышку в районе металлической крыши технологического здания позади нее, короткую, прекрасную, легкую, как искра старого сварочного аппарата Элмера, свет, на который, как Бобби прекрасно знал, лучше не смотреть прямо, ибо его красота могла опалить сетчатку. Он чувствовал, как тепло Эми передается через одежду коже, от кожи мышцам, от мышц костям, от костей клеткам, и ощущал себя впитывающим, пористым, жадным до большего.
Бобби подошел к последним дням проекта «Фэлкон» сосредоточенно, успокоенный новым чувством контроля над ситуацией. Он видел перед собой всю работу, всю цепочку необходимых шагов, которые должны были последовать друг за другом. Ему просто нужно было отремонтировать эту машину, за ней последуют другие, и все замки его жизни начнут отпираться, и все, что было закрыто, откроется. Даже если бы существовал какой-то процесс «количественного смягчения» для привлечения удачи, он был бы похож на наличные деньги, которые ФРС напечатала во время рецессии. Он с этим смирился. На счастливчиков сыпались все новые удачи точно так же, как на богатых людей каким-то образом сыпались все новые деньги. Ему не нужно было использовать какую-то мерную палочку для своей собственной жизни, не нужно было измерять ее ценность, просто требовалось помнить о ней, время от времени прикасаться к ней, защищать ее в глубине себя.
Когда Элмер завел «Фэлкон», Марсия подмигнула Бобби.
— Шикарная машина, — проговорила она. — Давайте отправимся в путешествие.
Эми держала его за руку на заднем сиденье, прижимаясь к нему всем телом. Они проехали мимо корявых тополей, растущих между прудами карьера и рекой, листья были такими пожелтевшими, что малейший ветерок отрывал их от веток, заставлял дрожать, и те слетали вниз, закручиваясь спиралями, сначала от ствола, затем вниз к корням. Элмер нашел радиоволну, на которой пел Марти Роббинс, и тот исполнил «В городке Эль-Пасо в Западном Техасе», когда они направлялись на запад к подножию холмов. Все четыре окна были открыты, и сквозь них виднелось самое синее из всех синих небес, а кучевые облака обещали яркий солнечный октябрьский день.
Сестра Агнес-Мэри весной 2012 года
В вестибюле католической церкви Святого Павла, отделенном от главного помещения, внутри кроваво-красных стеклянных фонариков мерцают крошечные огоньки свечей. Они стоят на полках. Полок множество. Запах спичек, свечного воска и едва заметный аромат воскресного ладана делают воздух насыщенным, ощутимо святым. Сестре Агнес-Мэри семьдесят четыре года, вот уже более пятидесяти лет она встает рано утром, чтобы помолиться в этом святом месте. Она молится, пользуясь старыми четками своей матери, перебирая бусины — магнезит, аметист, — по которым скользит пальцами. В течение многих лет ее утренние молитвы были полны благодарности за рутину жизни, эти молитвы счастливые, полные уверенности и света, свежего воздуха в затхлом святилище. Эти молитвы блуждали и распространялись, поднимались, словно притянутые магнитом к небесам, вырывались сквозь витражи.
Вчера, когда сестра узнала, что церковь дала согласие на установку новой буровой вышки сразу за детской площадкой католической начальной школы Святого Павла, она пошла напрямую к новому священнику, отцу Морелю, чтобы выразить свой протест. Отец Морель, мрачный наставник сестер, недавно прибыл из Аргентины. Ему было двадцать восемь лет, но его молодость не привела, как она надеялась, к прогрессивным мыслям.
— Это слишком близко к детям, отец, — сказала она. — Они не смогут…
Отец Морель положил руку ей на плечо. У сестры появилось чувство, будто он приложил ладонь к ее рту.
— Тебе не о чем беспокоиться, сестра, — произнес он, улыбаясь той же улыбкой, которую сестра дарила воспитанникам детского сада, когда наставляла их, демонстрируя замаскированную под доброту снисходительность. — А если ты станешь упорствовать в своем беспокойстве, адресуй его Богу.
Сестра почувствовала, что он смотрит сквозь нее, как будто она уже ушла, чтобы присоединиться к святым. Сестре захотелось щелкнуть пальцами у него перед носом, выколоть ему один глаз, чтобы убедить собеседника в ее реальном присутствии в мире живых с помощью какого-нибудь сумасбродного насилия в стиле Лорела и Харди[52]. Но вместо этого она уставилась на витражи за его спиной. Один из них изображал Деву Марию, стоящую на коленях у основания креста в смиренной, скорбной молитве. На другом та была изображена безмятежной, баюкающей спеленутого младенца. Сестра Агнес-Мэри, перебирая четки-розарий, ушла мыслями в размышления о Славных Таинствах[53] Розария. Особенно глубоко она переживала коронацию Девы Марии. Сестра Агнес-Мэри любила представлять себе Марию из Апокалипсиса — живот беременной округлен, как луна под ее ногами, двенадцать звезд сияют в волосах, бросая вызов демону-дракону, который намеревается пожрать ее новорожденного младенца. Сестра Агнес-Мэри никогда не видела Марии из Апокалипсиса на витражах. Сестра Агнес-Мэри лучше отца Мореля знает о возможном вреде проекта бурения. Давно, когда сестра Агнес-Мэри была начинающей послушницей, церковь направила ее получать докторскую степень в области экологии, а затем попросила провести жизнь в качестве воспитательницы детского сада, завязывая шнурки и застегивая молнии на куртках, что новоиспеченная доктор наук выполняла не жалуясь, и эту работу она по-настоящему полюбила. Теперь ее ноющие суставы горят, несмотря на подушку, которую она кладет на деревянную подставку для коленей. Она принадлежит своему ордену, церкви, Богу и, однажды найдя утешение в этом чувстве принадлежности, всегда была им послушна. Теперь же сестра Агнес-Мэри борется с тем, чего требует ее вера, не зная, как вести себя, подозревая, что законы Бога и законы церкви не совсем совпадают.
Мано, кровная сестра Агнес-Мэри, младше ее на восемь лет, подходит и опускается на колени справа от нее. Волосы Мано взъерошены ветром и пахнут елями. Рут, другая кровная сестра, на год старше самой Агнес-Мэри, стоит на коленях слева от нее. От Рут пахнет подгоревшим тостом. Сестры часто встречаются с Агнес-Мэри на утренней молитве, и та рада их компании. При церкви Святого Павла больше не осталось монахинь — некоторые умерли, другие переехали в дом престарелых, одна сидит в тюрьме за то, что кровью написала стихи из Библии на ядерных боеголовках после взлома охраняемого объекта. Сестра Агнес-Мэри всегда рассматривала этот поступок как тщеславие, действие, направленное на то, чтобы привлечь внимание, а не на то, чтобы сделать добро, но теперь она чувствует себя скорее смущенной, чем уверенной в этом. Она не знает, достаточно ли целой жизни молитв за разрушенный мир, молитв, которые она так горячо произносила. В последнее время молиться стало тяжело из-за сомнений.
— Отец Морель, — говорит Рут, — собирается позволить Джону Марчу установить буровую установку на пустыре за школой.
Рут любит сообщать новости первой, и сестра Агнес-Мэри ей в этом потакает.
— Прямо за детской площадкой? — спрашивает Мано. — Так близко к детям?
— Ах, эти нелепые люди, — качает головой сестра Агнес-Мэри, — и их глупые идеи.
— Фрекинг, — произносит Рут.
В ее устах это слово похоже на плевок. Рут, которая уже давно с подозрением относится к возросшему в городе загрязнению воздуха из-за фрекинга, рассказывает сестре Агнес-Мэри и Мано истории, которые она слышала, о выкидышах, мертворожденных и недоношенных, умещающихся в ладони детях. Рут, вышедшая на пенсию медсестра по родоразрешению, помогла появиться на свет половине жителей Грили, что в штате Колорадо. Сестра Агнес-Мэри работала в католическом детском саду. Она любила своих подопечных, как и детей своих сестер, она любит вообще всех детей. Мано писала пейзажи и портреты на заказ, создавала инсталляции из найденных предметов. Теперь, выйдя на пенсию, сестры пьют кофе, играют в джин-рамми[54] и работают волонтерами несколько часов в неделю.
— Мы должны позвонить нашим сенаторам, — предлагает Мано. Мано у них активистка. Член «Сьерра-клуба»[55]. Заядлая читательница Рейчел Карсон[56] и Эдварда Эбби. — Написать транспаранты. Устроить пикеты на улицах.
Рут тычет сестру-монахиню в ребра, затем указывает на потолок.
— А что скажет твой жених?
Рут, конечно, имеет в виду Бога. Ей нравится дразнить сестру. Оно веселое, это поддразнивание. Язык любви Рут.
Сестра Агнес-Мэри пожимает плечами.
— Он немногословен, — отвечает она.
Мано и Рут хихикают.
— Молчаливое общение, — подводит итог Мано. — Похоже на все три моих брака.
— Может, он думает, что после стольких лет не должен говорить, что делать, — предполагает Рут. — Может, он думает, что ты должна знать сама.
— Ну а я не знаю. И это сводит с ума.
Сестра Агнес-Мэри освобождает пальцы от четок и свободно обматывает их вокруг запястья. Ее сестры веселятся. Она пытается расслабиться.
Мано кивает:
— Именно такое безумие стало причиной двух из трех моих разводов.
— Она не может развестись с Богом, — возражает Рут.
Сестры смотрят прямо на нее. Их платья шуршат. Они переминаются с одного колена на другое, отчего старые скамеечки для коленопреклонения прогибаются и потрескивают.
— Вы двое, — откликается сестра Агнес-Мэри, — прекратите цепляться.
Эти слова заставляют всех троих рассмеяться: они хорошо помнят, что данное выражение было излюбленным способом умершей матери призвать своих проказниц к порядку.
Сестра Агнес-Мэри снова опускается на колени и начинает перебирать четки. Своим мысленным взором она рисует картину из Апокалипсиса — Мать Мария расправляет орлиные крылья, чтобы спастись от зверя, оседлав воздушные потоки над пустыней. Мария стойкая, ее несут вперед одинокая сила и вера. Мария вознаграждена.
Сестра Агнес-Мэри обматывает уши шарфом, закутывается в черное шерстяное пальто, которое свисает до колен. Сейчас два часа ночи. Она видит свое дыхание в почти морозном воздухе, который успокаивает артритную боль в суставах, превращая ее огонь в тлеющие угольки. Над крышами одноэтажных пригородных домов сестра Агнес-Мэри видит горящие факелы новых газовых скважин. Если она повернется там, где стоит, то увидит пять горящих факелов, но она знает, что только в округе их сотни, а может быть, тысячи. Они ничем не пахнут, если не стоять прямо под ними. Вблизи сестра чувствует запах машинного масла, потрохов животных, влажной глины — недр земли и химических веществ, которые связывают их после ожога. Над самим горящим пламенем испарения и жар искривляют пейзаж, и окружающий мир, искаженный до неузнаваемости, превращается в текучие волны. За пределами этого пространства химические вещества поглощаются атмосферой, становятся невидимыми, и это позволяет легко забыть, что они все еще там.
В ее тяжелой холщовой сумке лежат два галлона отбеливателя, и боль в плечах и шее начинает распространяться на предплечья, пальцы и кисти рук, а затем болью начинают лучиться даже сердце и живот. Сегодня вечером сестра Агнес-Мэри выполнит план, который разрабатывала в течение нескольких дней. Она надеется, что он снова приблизит ее к Богу, хотя и тревожится, что тот может оттолкнуть его еще дальше. Сестра отмечает отсутствие прямого ответа на свои молитвы, размышляет об очевидном отсутствии поучительного чуда. Она благодарна за Интернет, за богатство информации, доступной даже стареющей монахине, за то, что возраст может защитить ее и не дать в обиду, за то, что это может оказаться опасным подарком. Прожекторы освещают детскую площадку — качели, спиральную горку, столбы с баскетбольными кольцами, обернутые вспененным материалом, чтобы уберечь детей от вреда, если они нечаянно с ним столкнутся.
Находящееся за детской площадкой предполагаемое место гидроразрыва прячется в темноте под светом звезд и позолоченного полумесяца. Вокруг него нет ни заборов, ни ворот. Одинокий бульдозер сиротливо стоит на пустыре. Она немного боится, но ее позвоночник, крепкий и широкий, как ствол дерева из грязи и веток, льда и гранита, уже оброс новыми кольцами. Боковая крышка бульдозера открывается в точности так, как было сказано на веб-сайте, и она выливает оба галлона отбеливателя в бачок с маслом.
Сестра Агнес-Мэри не знает, изменят ли ее усилия в конечном счете что-либо, но на данный момент ее суставы перестают болеть. Когда боль возвращается, внезапно, резко, она закрывает глаза и воображает, что ее сомнения и страх заключены в боли. Она мысленно держит на ладони задуманное, раскаленное добела, с острыми краями, представляет, как смиренно кладет его на алтарь.
«Пожалуйста, прими мое подношение», — молится Агнес-Мэри. Оказывается, после стольких лет она не может позволить Богу молчать. Она верит, что Он видит, что Он всегда видит ее, даже когда не отвечает.
Сестра возвращается в освещенный свечами вестибюль церкви. Она не знает, следует ли ей ожидать благословения или наказания. Тишина неподвижно стоит в воздухе часовни, распадается на частицы, прилипает, как дым ладана. На рассвете наступит момент мини-карнавала, когда солнечный свет проникнет сквозь витражи и осветит жесткие деревянные скамьи фиолетовыми, золотыми, зелеными крапинками. Эта красота не является ни чудом, ни голосом Бога. Сестра видит ее каждый день, как восход солнца, независимо от того, как она себя ведет.
Сестра идет к дому, в котором выросла и в котором Рут и Мано живут вместе. Он стоит в нескольких кварталах от церкви. Сейчас конец мая. Кизиловые деревья вдоль тротуара дрожат в прекрасном пастельном цветении. Ранние тюльпаны срезаны и выброшены, но поздние распускаются желтыми и пурпурными тюрбанами — пасхальных оттенков. Они появляются на несколько месяцев позже. Утреннее небо раскрывается, светлеет и становится голубым. Несколько тонких перистых облачков дрейфуют на большой высоте, медленно удаляясь от хребта Скалистых гор на западе.
Сестра Агнес-Мэри входит в дом и видит Рут и Мано спящими в гостиной, храпящими пьяным стаккато. Банка оливок, празднично окрашенных в зеленый и красный цвета, стоит на кухонном столе рядом с шеренгой открытых бутылок — водки и джина, — которые заставляют сестру Агнес-Мэри вспомнить деликатную манеру их отца говорить, что он достаточно пьян.
— Нет, спасибо, — скромничал он, отмахиваясь от пятого или шестого мартини. — Я уже и так съел полбанки оливок.
Сестра наполняет в раковине кофейник, и вес воды усиливает артритную боль в ее скрюченных, распухших костяшках пальцев. Она зажигает конфорку и снова садится за стол. Она улыбается своим пьяным сонным сестрам, обе моргают, просыпаясь. Она не беспокоится о том, что они пьют. Это больше похоже на веселье, чем на грех.
Сестра Агнес-Мэри отшпиливает свою серую вуаль, кладет ее на спинку пустого стула.
— Берегись, Мано, — говорит Рут, чуть дольше обычного произнося звук «н». — Сестра сняла вуаль. Вечеринка грозит закончиться неистовством.
— Прекрати, Рут, — останавливает ее Мано. — Сестра всегда следует правилам. Мы должны поощрять такие вещи.
Крошка Мано, младшенькая, всегда исполняет роль буфера.
— А что сказал бы отец Морель? — не унимается Рут.
Она подмигивает Мано.
— Нигде нет каменной таблички с заповедями, касающимися вызывающей зуд вуали.
Сестра Агнес-Мэри работает над ослаблением монашеского устава. Она больше не может различать через углубленную молитву и медитацию четкую разницу между Богом и законом. Она все время думает об этом.
— Трудно сказать, могу ли я доверять тебе, — говорит Рут сестре, — без твоей вуали.
В комнату входит Гретхен, правнучка Рут. На ней мягкая фланелевая пижама. Ее длинные каштановые волосы спутались, как птичье гнездо, и, когда она трет глаза двумя крошечными кулачками, сестра Агнес-Мэри видит сколы розового лака на ее ногтях. Сестра счастливо удивлена и чувствует, как любовь к этому ребенку согревает ее тело, прилив радости заставляет расправить ноющие плечи.
— Сестра Агнес-Мэри пришла, — радостно произносит Гретхен.
Сестра видит себя, видит Рут и Мано глазами Гретхен. Она и ее сестры становятся мягкими толстушками. Их можно обнять, как гигантских плюшевых мишек. Они носят песочное печенье в своих практичных сумочках.
— Мэрилин назначили постельный режим, — сообщает Рут.
Мэрилин, мать Гретхен, внучка Рут, сейчас на восьмом месяце беременности вторым ребенком.
— У мамы мальчик, — хвастается Гретхен.
— У тебя будет брат, — изрекает сестра Агнес-Мэри, и Гретхен улыбается.
— Мама собирается назвать его Финч[57], — добавляет Гретхен.
— Так называются маленькие счастливые птички, — поясняет Мано. — Они подпрыгивают в воздухе, когда летят.
— Прелестно, — вставляет сестра Агнес-Мэри. Она не встречала ни одного мальчика по имени Финч, но слышала и более странные имена. — Как у нее дела?
— Она сильная, — говорит Рут. — Правда, скучает.
Сестру успокаивает уверенность Рут.
В этом году Гретхен пойдет в детский сад при соборе Святого Павла. Она забирается к сестре Агнес-Мэри на колени. Девчушка совсем кроха, почти ничего не весит. Сестра воображает полые птичьи кости, пух, розовые трепещущие безупречные легкие. Она представляет себе Гретхен на школьной площадке, представляет себе тот весенний день, когда Гретхен научится, подобно зеленым листьям на дубах позади нее, которыми играет теплый ветерок, качаться без толчков на качелях, правильно работать ногами, взлетать. Сестра представляет себе газовую скважину за качелями, представляет, как Гретхен несется навстречу пара́м факельной трубы. Сестра не хочет, чтобы Гретхен летала в отравленном химией воздухе. Сестра хочет, чтобы у Гретхен был здоровый брат по имени Финч, чтобы Мэрилин снова стала энергичной и радостной. Сестре нужен чистый воздух, пение птиц, прохладная вода для питья.
«Если тебе не нужны все эти вещи, — обращается сестра к Богу, — я хотела бы знать, почему Ты вообще потрудился их сотворить».
Сестра держит свою проделку с отбеливателем в секрете даже от Рут и Мано. Они помогли бы ей, если бы она попросила, и она подумывала обратиться за помощью, но было нечто захватывающее в том, чтобы действовать в одиночку. Сестра задается вопросом, насколько в этом виновато ее собственное тщеславие. Она уже дважды ходила к буровой площадке с отбеливателем, но все равно участок выровнен и очищен, работа продвигается. Кто-то добавил несколько плакатов с надписями: «Не входить», но сестра ничего не слышала о ее попытках саботажа ни в новостях, ни от прихожан, которых она видит каждый день. Требуется так много энергии, чтобы нарушать закон, особенно теперь, когда ее проделки, похоже, не возымели должного эффекта.
Сестра достает копию недавнего письма из Ватикана, в котором говорится, как священники встревожены тем, что монахини по всей территории Соединенных Штатов способствуют греху. Монахини, беспокоятся священники, стали радикальными феминистками, а не католичками. Отец Морель тоже подписал это письмо. Есть монахини, некоторых сестра Агнес-Мэри хорошо знает, сидящие в тюрьме за протесты против проведения национального съезда Республиканской партии. Они попали в тюрьму по собственному выбору, чтобы там служить другим заключенным. Ни одна из этих монахинь не была исключена из ордена за протесты, но ни одна из них не протестовала во время расследования Ватикана. Сестра не хочет садиться в тюрьму, не хочет, чтобы ее прогнали из ордена, но отчего-то она сейчас чувствует себя замкнутой, отделенной от всех, призванной бороться. Сестра хочет верить, что это Бог побуждает ее к действию. Но в глубине души она в этом не уверена.
— Приходское собрание завтра, — говорит Мано. — Прибереги для нас хорошие места, ладно?
Готовясь к собранию, сестра Агнес-Мэри варит кофе, агрессивно ополаскивает кружки, которые пылились в кухонных шкафах. Она наблюдает, как собираются прихожане, через большое окно над сервировочной стойкой, отделяющей кухню от зала. Джон Марч, владелец нефтесервисной подрядной компании, которая будет руководить бурением, стоит рядом с мэром Томми Принсом, оба возятся с папками и ноутбуками. Джон Марч, кажется, наблюдает за ней, и несколько раз их взгляды встречаются. Сестра задается вопросом, что он знает или что подозревает, а затем улыбается, ибо ни один добрый католик не заподозрит старую монахиню в чем-либо, кроме честного законопослушного поведения.
Именно Рут размотала смертоносную пуповину, сдавившую детскую шею Томми. И Рут же удалила верникс[58], густой и запекшийся, из носа и рта Джонни Марча, чтобы он мог завопить, вызвав тем суету, через которую он продолжает выражать свое неослабевающее недовольство миром. Эти двое мужчин, лучшие друзья, были сущим господним наказанием в группе детского сада, которую опекала сестра Агнес-Мэри. Она и сейчас может вернуться на много лет назад и представить их обоих на занятиях по рисованию, погружающих всю пятерню в красную краску для пальцев и пачкающих свои рубашки, чтобы испугать других детей видом фальшивой крови. Она помнит смиренный вздох матери Джона Марча, чрезмерную реакцию Томми.
Сестра вытаскивает пробку из слива раковины. Она очень большая. Эта кухня построена для того, чтобы кормить прихожан. Вода бурлит и булькает, звук эхом отражается от деревянных шкафов, каждый из которых тщательно помечен пластиковыми полосками от производителя этикеток. Кухонные полотенца. Бокалы. Ложки.
Ее сестры прибывают с Гретхен, которая бежит к сестре Агнес-Мэри, глаза блестят, каштановые косы подпрыгивают. Они сидят рядом на складных стульях. Сестра чувствует, как Гретхен осторожно дергает ее за вуаль.
— Мэрилин в больнице, — говорит Мано шепотом, чтобы Гретхен ее не услышала.
Сестра Агнес-Мэри кладет руку на плечо Рут, и на короткое мгновение та кладет голову на плечо сестры.
— Я уже почти решила не приходить, — говорит Рут. — После собрания сразу пойду к ней.
— Хочу поблагодарить вас всех за то, что пришли, — обращается Томми Принс к залу, который к этому времени стал переполненным и беспокойным.
Мэр явно испытывает неудобство.
Томми Принс красавчик. Он с детства любимец города. Мано наклоняется к Рут и шепчет:
— Я бы не стала выгонять его из постели за то, что он ел в ней крекеры.
Сестра Агнес-Мэри хихикает. Рут закатывает глаза.
Томми Принс продолжает говорить:
— Я в восторге, оттого что так много хороших рабочих мест появляется здесь, в нашем маленьком городке. Я понимаю, что у некоторых из вас есть опасения, а потому собираюсь передать микрофон нашему дорогому Джону Марчу. Уверен, он сможет вас успокоить.
Рут наклоняется вперед и шепчет:
— Боже, избавь меня от глупостей, которые говорят люди, лгущие в микрофоны.
Сестра Агнес-Мэри громко фыркает. Люди поворачивают головы, чтобы посмотреть на нее.
— Как сказал Томми, — продолжает Джон Марч, — спасибо, что пришли. Конечно, мы понимаем ваши опасения по поводу проекта. Вокруг него много дезинформации. Наше видео покажет вам, что фрекинг безопасен на сто процентов. Доказательства говорят, что вредного воздействия на человека или окружающую среду нет.
Томми опускает плохо установленный экран. Джон возится с пультом дистанционного управления проектором. Техника не работает.
Мано встает:
— Пока мы ждем, почему бы вам не рассказать о некоторых из этих доказательств?
Сестра Агнес-Мэри поднимается с места вслед за Мано. Гретхен стоит рядом с сестрой, крошечные пальчики обхватывают ноющие костяшки ее рук. Агнес-Мэри видит, как отец Морель наблюдает за ней, видит разочарование в морщинах на его лбу. Сестра знает, что он видит ее так же, как видит Гретхен, когда та ерзает на жесткой деревянной скамье, скучая от проповеди, которая ничего ей не говорит. Он хочет, чтобы сестра Агнес-Мэри сидела спокойно и молча молилась, надеясь, что Бог в ответ изменит мир Своими невидимыми руками.
«Что, если я и есть рука Бога?» — думает сестра Агнес-Мэри.
Она удивляет саму себя своим воспитательским голосом, его шокирующей громкостью, властностью, которая все еще в нем звучит.
— Джонни, не могли бы вы поделиться с нами, например, результатами продольного исследования смешанным методом, в частности, воздействия выбросов гидроразрыва на детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет, когда буровая площадка находится всего в пятидесяти ярдах от открытого игрового пространства?
Сестра специально произносит детское имя Джона Марча вслух. Она видит, что оно воздействует именно так, как она хотела.
Толпа перешептывается, атмосфера внезапно становится наэлектризованной. Люди не ожидали, что монахиня может знать о таких вещах, как продольные исследования с использованием смешанных методов. Сестра Агнес-Мэри гордится своей образованностью. Ей много раз приходилось каяться в этом проявлении тщеславия.
«Что, если я не рука Бога?»
Даже думая об этом, сестра чувствует, как угасают ее сомнения. Они стихают до шепота даже в ее собственных молитвах.
— Эй, профессор, — шепчет Рут, — может, стоит немного попридержать?
Сестра качает головой, и Мано ободряюще улыбается.
Рут закатывает глаза.
— Смешанный метод продольной показухи, — бормочет она.
Молодой человек с ребенком на руках тоже встает. Его волосы собраны в непослушный пучок на макушке.
— Планируете ли вы проводить мониторинг качества воздуха рядом с детской площадкой? — спрашивает он.
Мужчина с пучком смотрит на сестру Агнес-Мэри. Сестра его не узнает. Он навряд ли католик. Но это ее не беспокоит. Она тепло ему улыбается, и он улыбается в ответ. Толпа, в которой, как замечает сестра, полно молодых семей, становится шумной.
Лицо Томми спокойно, но сестра видит мокрое пятно под левой подмышкой его рубашки. Сестра помнит, как маленький мальчик Томми восхищался капиллярностью у растений, помнит его восторг от того, что голубая краска окрашивала бахромчатый край белой гвоздики. Агнес-Мэри задается вопросом: как она могла потерпеть такую неудачу, не сумев привить уважение к Божьему творению в нем, во всех остальных.
— Обычно мы не следим за воздухом… — продолжает Томми.
— Что мы делаем, — встревает Джон, прерывая говорящего, — так это проверяем все оборудование раз в две недели и убеждаемся, что оно работает правильно. Мы можем решить любые проблемы немедленно. Пока мы знаем, что фильтры работают, вы можете быть уверены, что воздух находится в пределах допустимых значений.
— Значит, вы не будете проводить мониторинг, и у вас нет никаких исследований о том, как скважина повлияет на детей, — подытожила Мано. — Это я просто для ясности.
— Правильно, Мано, — вставила сестра Агнес-Мэри.
— Да, Мано, правильно, — эхом отзывается Гретхен.
Девочка поворачивается лицом к сестре Агнес-Мэри, поднимается на цыпочки, хватает ее за другую руку. Это как танец под известную детскую песенку «Кольцо вокруг розового».
— Что ж, сестра Мано, я ценю вашу заботу. Но я знаю, вы хотите, — тут Джон протягивает вперед руку с раскрытой ладонью, показывая, что он един с прихожанами, — как и мы все хотим, чтобы наши дети были хорошо накормлены и о них заботились. Именно так мы выходим из рецессии. Эти рабочие места помогут нашему городу двигаться в правильном направлении.
Сестра видит, что бо́льшая часть толпы согласна с Джоном, и человек с пучком исключение. Сестра видит, как молодые матери кивают, слышится шепот поддержки. Несколько человек аплодируют. Один мужчина поднимает кулак в воздух и кричит:
— Давай, Джон!
Человек с пучком начинает спорить с другими прихожанами, и в толпе постепенно увеличивается хаос, пока Томми не удается заставить видеопроектор работать. Он гасит свет и с облегчением садится. Джон Марч буравит глазами сестру Агнес-Мэри.
Рут убегает, когда видео заканчивается. Другие слоняются по крипте, пьют кофе, едят печенье, которое уже начало черстветь. Мано держит на коленях сонную Гретхен. Атмосфера разряжается, все испытывают нечто вроде смирения. Отец Морель подходит к сестре Агнес-Мэри.
— Мистер Марч щедрый прихожанин, — говорит он. — На детской площадке будут играть и его собственные дети. Вам следует быть более уважительной.
Жизнь сестры до недавнего времени была полна страха перед такого рода выговорами, но этого молодого священника, почти мальчика, она не может воспринимать всерьез как духовного лидера. Она чуть не рассмеялась вслух, но потом вспомнила себя в двадцать восемь, ханжески настроенную, уверенную во всех неправильных вещах. У нее бывают моменты сочувствия. Возможно, в двадцать восемь лет такое поведение действительно показалось бы ей лидерством.
— Я вытирала сопли с носа Джонни Марча, — негодует сестра Агнес-Мэри. — То, что он готов рисковать собственными детьми ради денег, не означает, что он должен рисковать чужими.
— Работа в нефтегазовой отрасли кормит многие семьи, — поднимает указательный палец к небу отец Морель ради большей выразительности.
Сестра вспоминает о Мэрилин, лежащей в холодной больничной палате, борющейся за жизнь своего маленького мальчика.
— Так они должны отравить их, чтобы накормить?
Сестра молится: Это не может быть Твоим планом.
Отец Морель опускает глаза и уходит, как будто он вообще с ней не разговаривал.
В ту ночь сестра возвращается в вестибюль, молча молится по четкам, за исключением конца каждой Славы, которую она наполовину поет, едва сдерживая рыдания. Она думает о том, как прыгают зяблики, когда летают, какие они счастливые птички. Ее молитвы эхом отдаются в пустом помещении.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь[59].
Начало июня приходит жарким не по сезону. Без всякого внимания к ирригации и поливу отсутствие дождей иссушает газоны. Финч остается в живых благодаря трубкам в палате интенсивной терапии, но прогноз неясен. Буровая установка высится рядом со школьной игровой площадкой. Рут и Мано устраивают званый ужин.
— Давайте просто попробуем немного повеселиться, — предложила Рут.
Они завивают волосы Гретхен в локоны, как у Ширли Темпл[60], позволяют ей пить гавайский пунш и севен ап до тех пор, пока ее рот не покраснеет, учат ее диковинным коленцам и вращениям в шоттише[61], как их учил когда-то отец. Они так изматывают девочку, что Мэрилин приходится нести ее, спящую, в машину.
Когда остаются одни сестры, сидящие за столом со своим джин-рамми, Рут обращается к Агнес-Мэри:
— Я не доверяю выражению твоего лица, сестра.
— Выпей еще, — отвечает та. — Тогда ты будешь доверять всем.
— Мы знаем, ты что-то замышляешь, — настаивает Мано.
— Ничего ты не знаешь, — отбивается Агнес-Мэри.
— Еще как знаем, — не сдается Рут.
Мано хихикает в бокал. Рут описывает своим бокалом круги. Сестра Агнес-Мэри добавляет немного водки в клюквенный сок и слышит, как позвякивает лед. Ее сестры закуривают толстые сигары и продолжают болтать. Сестра Агнес-Мэри не надела ни очков «кошачий глаз», ни корсажа, ни своего лучшего платья 1968 года (надставленного на несколько размеров) в качестве шутки, как две другие, но сегодня она расслабленна, благодарна, и ею владеет смутная эйфория. Она до сих пор ничего не слышала о том, чем кончилась история с отбеливателем.
Она выходит из дома через закрытую противомоскитной сеткой дверь, которая ведет на заднее крыльцо дома Рут, и останавливается там на мгновение, наслаждаясь вечером, радостью, которую она чувствует в своей свободе. Ветра нет. Ночь свежая, луна освещает розовые оборки пионов Рут в саду камней. Дерево катальпы на заднем дворе, на которое она и ее сестры забирались девочками, распустилось в эффектном июньском цветении, и Агнес-Мэри слышит, как совы перекликаются в своих укрытиях, хотя ей кажется, что время такого поведения должно подходить к концу. Она решает: не может быть ничего плохого в том, чтобы действовать ради этого мира, пока она все еще в нем.
Она кричит сестрам:
— Мне пора домой.
Она закидывает сумку на плечо и уходит в темную ночь. Она проходит через задний двор и минует два дома, выходящие в переулок, когда слышит Рут и Мано. Они шикают друг на друга и хихикают, громкими голосами приказывая друг другу успокоиться. Они ведут себя громче, чем всегда, наподобие пьяниц, которые, когда пытаются вести себя тихо, шумят больше обыкновенного.
Они идут быстрее сестры Агнес-Мэри, и вскоре Мано берет ее под правый локоть, а Рут — под левый. Она пытается быть строгой, хотя часть ее сердца загорается, когда они прикасаются к ней.
— Вы обе идите домой, — говорит она.
Голос подводит ее, и получается нечто среднее между шепотом и шипением.
Совы следуют за сестрами, их крики звучат как сигнал тревоги.
— Идите домой, — снова велит сестра. — У вас будут неприятности.
Это вызывает у Рут и Мано новый приступ веселья.
— Слышишь, Мано? — хихикает Рут. — Сестра думает, у нас будут неприятности.
— А как насчет тебя? — подхватывает Мано. — Насколько я знаю, это хабита[62], а не бронежилет.
— Чудо-женщина, — говорит Рут, покраснев и все еще смеясь.
— Супермонахиня, — добавляет Мано.
Сестра Агнес-Мэри фыркает.
— Вы обе… — начинает она, но ее сестры заканчивают вместе с ней, в унисон: — Вечно ко мне цепляетесь.
Это только заставляет Рут и Мано смеяться громче, сильнее сжимать ее между собой. Они идут в ногу с сестрой, и втроем двигаются строем, как духовой оркестр, марширующий по тротуару или по недавно озелененной лужайке. Теперь они приближаются к детской площадке, пламя факела тянется к полной луне, цепи на качелях стучат друг о друга на холодном ровном ветру.
Они выходят на площадку, и каждая садится в одни из качелей. Рут и Мано смеются как сумасшедшие.
— А ну, протрезвейте, — резко командует сестра Агнес-Мэри. Рут и Мано перестают смеяться. Сестра лезет в свою сумку, вытаскивает U-образные замки. Ее суставы болят так сильно, что она едва их не роняет. — Я собираюсь приковать себя к буровой вышке.
— Тогда мы тоже сделаем это, — предлагает Мано.
— Не хватит замков, — отвечает сестра Агнес-Мэри.
Рут закатывает глаза и, показывая пальцем, считает вслух:
— Раз, два, три. Три замка, три сестры.
Сестра Агнес-Мэри встает и расправляет плечи. Она пытается вытянуться, чтобы выглядеть высокой, улыбается, качает головой.
— Я сделаю это одна, — возражает она. — Это придумала я.
— Что скажет отец Морель? — спрашивает Рут.
Сестра Агнес-Мэри пожимает плечами. Рут кивает. Мано икает.
— Считается, что я не должна испытывать подобных желаний, — поясняет сестра, — но я хочу.
Рут снова кивает:
— Думаю, Бог знает, что ничто человеческое тебе не чуждо.
Влага из оросительной канавы залила сорняки между детской и буровой площадками. Сестры спотыкаются и поскальзываются, но им удается миновать плакаты «Не входить» и выйти на открытое место, где стоят гигантские прицепы для цистерн с водой и огромная цементосмесительная установка. Видны замысловатые датчики и приборы, напоминающие человеческие лица. Вот блестит в лунном свете инжектор. Требуется усилие, чтобы перекреститься, но сестра делает это дважды, один раз крестясь сама, а в другой раз осеняя замки.
Рут и Мано направляются к ней, когда она поднимает первый замок, но Агнес-Мэри держит одну руку между собой и своими сестрами. Мано и Рут отступают назад.
Боль мучительная, всеохватывающая. Суставы словно раскололись, и яд из них просачивается в остальную часть тела, но душа снова чувствует себя плодородной и покрытой листвой, как жимолость, склонившаяся над вечнозеленым самшитом. Сестра упорствует, но она так медленно преодолевает боль, что боится не закончить работу до прихода сторожей.
— Это глупо, — ворчит Рут, выхватывая замок из рук сестры Агнес-Мэри. Мано и Рут помогают закрепить U-образный замок вокруг каждой из ее лодыжек, соединяют правую руку с небольшим колесом на вышке.
— Спасибо, — благодарит сестра. — А теперь проваливайте.
Мано обнимает Агнес-Мэри. Рут просто кивает, но, дойдя до края площадки, они оборачиваются и машут сестре. Восход солнца похож на пастельные ленты для волос Гретхен. Сестра Агнес-Мэри горячо молится, как делала всю свою жизнь. Она напряженно прислушивается, ожидая ответа с небес, но слышит только крики перекликающихся сов вдалеке.
«Когда Ты призывал нас защитить Свои творения, — молится сестра, — Ты ведь имел в виду именно это, верно?» Последовавшее безмолвие представляет собой всеобъемлющее молчание, тяжелую сумму миллионов крошечных молчаний, которые в свое время укрепили веру сестры.
Она видит приближающийся к ней дизельный грузовик, мужчину за рулем, и представляет, что этот человек Джонни Марч, злой, похожий на дракона. Она видит Джонни детсадовцем с широко распахнутыми глазами, нуждающегося в защите. Она представляет себя такой же. Она чувствует, как лунный свет поддерживает ее ноги, как перья прорастают сквозь кожу на спине. Сестра собирается с мыслями. Она хочет, чтобы ее видели.
Лагерь
Этот лагерь был самым большим городком в Северной Дакоте на бог знает сколько миль вокруг, и построили его, чтобы снести, как чертовы городки Лего, когда скважины Баккена[63] иссякнут и все рухнет, что когда-нибудь должно произойти. Прекращение добычи было неминуемо, но о времени, когда это случится, можно было только предполагать, а строить предположения все обожали. Джо знал о нефтяном месторождении ровно столько, сколько ему требовалось для выполнения своей работы — что не так уж много, — но он тоже играл в эту игру, делая собственные громкие прогнозы, рассуждая, измеряется ли отпущенный месторождению срок месяцами, годами или десятилетиями. Он делал их и сейчас, этим утром, за крепким кофе и хрустящим беконом в кафетерии, пока Дастин не назвал все его слова чушью.
— Чувак, убери уже свой хрустальный шар, — прошамкал он ртом, полным кукурузных хлопьев марки «Фрут лупс» из отмеряющего порции дозатора. — Ты ничего не знаешь, и вся твоя брехня не имеет значения. Мы работаем до тех пор, пока работа не закончится. Тогда все стадо пойдет на убой.
Джо представил себе Уилла Феррелла[64] с коровьим колокольчиком и подумал, не была ли картина с его участием как раз тем, что объединяло его с Дастином. Дастину едва исполнилось двадцать один год, он только что покинул родительский дом, и самым большим разочарованием в его жизни до сих пор были безуспешные поиски постоянной девушки. Каждый простой, который у него случался, Дастин проводил дома у матери, которая потчевала его булочками с чили и корицей, после поедания которых он пил пиво со школьными приятелями.
— Ты имеешь в виду встречу с забойщиком? В конечном итоге все столкнутся с ним лицом к лицу.
Дастин сверкнул на весь кафетерий белоснежной улыбкой, наглядно демонстрирующей все преимущества подростковой ортодонтии.
— Я, Джо, имею в виду ЙОЛО[65].
— Йо-йо?
Теперь уже Джо издевался над ним. Он знал, что означает словечко ЙОЛО, и его гнетущая правда расползалась по коже, словно пауки. Волосы Дастина торчали во все стороны под странными углами, и Джо боролся с желанием погладить парня по голове, чтобы он выглядел более презентабельно. Звуки, которые издавал Дастин, проникали сквозь тонкую пластиковую стену, разделяющую их спальни, и создавалось впечатление, будто за ней живет шестидесятилетний мужчина. Кашель курильщика, усугубленный подхваченным где-то жестоким бронхитом, будил Джо несколько раз за ночь. Джо поймал себя на том, что крадет сигареты парня и бросает их в мусорные баки на заправках. Именно так он поступил бы со своим собственным сыном, если бы тот вырос курильщиком, но у Ди-Джея вообще не было возможности повзрослеть. Джо почувствовал, как его руки горят, и, прежде чем это чувство успело распространиться на грудь, на грубое месиво, оставшееся от сердца, он закрыл глаза, приказав себе перестать думать. Это было все равно как закрыть жалюзи в попытке скрыть полыхающий за окном лесной пожар. Временное облегчение, ложное, но все равно облегчение.
Джо провел в лагере около года и должен был признать, что он соответствовал обещаниям вербовщика, с которым разговаривал в Колорадо. Тот продал ему комфортную жизнь (Вы не поверите, какие там удобства! Лучше, чем дома! Жизнь без проблем!) и шанс сколотить состояние, сидя за рулем водовоза, обслуживающего буровые установки. Джо было свойственно сомневаться во всем, что втюхивают любые продавцы, но, несмотря на его низкие ожидания относительно компенсационного пакета[66], эта жизнь была куда лучше, чем его первая работа в Колорадо. Жилье и питание там тоже были бесплатны, но в предоставленном компанией гигантском передвижном доме из двух скрепленных вместе секций жили еще одиннадцать парней. Двухъярусные кровати, стоящие в ряд, как в армейской казарме, дух попавших на плиту чили с мясом из дешевых консервов и порошкообразных приправ «Дорито» на общей кухне, запахи подгоревшего кофе, травки и вечно переполненного мусорного бака. В таких условиях чувство приличия падает с той же скалы, что и уединение.
Джо не возвращался в Грили с тех пор, как уехал. Он решил избегать вещей, связанных с этим местом, способных вызвать воспоминания — например, о том, как смеялась его прекрасная беременная жена, когда густые усы из молочного коктейля стекали по ее подбородку в автокинотеатре «Джей-Биз». «Скажи это пять раз и быстро!» — настаивала Мэнди, и они оба пытались это сделать, хихикая как дураки, снова и снова. Усы от молочного коктейля с маршмэллоу, усы от молочного коктейля с маршмэллоу, усы от молочного коктейля с маршмэллоу. Или взять свалку металлолома у шоссе 34, ту самую, где была смотровая башня, за подъем на которую вместе с Ди-Джеем он заплатил доллар, чтобы мальчик мог полюбоваться видом Скалистых гор на западном горизонте. Мини-фургон Мэнди, автомобиль, над которым он трудился столько дней, был доставлен туда после аварии и все еще находился там, как он предполагал, смятый, ржавеющий под жестоким солнцем. Он упал с моста в реку Саут-Платт. Свидетели сообщили о внезапном резком повороте, о потере управления, об инерции, достаточной, чтобы наполовину проломить, наполовину перелететь разрушенный бетонный барьер, но не было никаких признаков, будто что-то блокировало дорогу спереди и мешало проезду. Потерявшую сознание Мэнди удалось вовремя вытащить, но Ди-Джей погиб.
Джо попросил дополнительные смены вместо полагающихся ему выходных дней, и начальник был более чем счастлив сократить его перерывы в работе. Редкий свободный день он убивал, играя в «Гран Туризмо»[67] на древней игровой приставке «Плейстейшен 2», делая перерывы лишь для того, чтобы покурить. Газовые вышки казались ему новым миром — безостановочным, неудержимым, — да и работа по восемьдесят, девяносто часов в неделю принесла небольшое состояние, необходимое для оплаты ухода за Мэнди в лечебном учреждении для хронических больных в Грили, где она сейчас находилась.
— Мы не уверены, что она когда-нибудь полностью выздоровеет, — сказали ему медсестры, и он молча кивнул. Конечно, она никогда не оправится, и он тоже. Он любил ее, все еще любил, представлял ее с собой на буровой, она бы сидела как ангел на его плече. То, что он не мог простить, он просто должен был вынести, но Мэнди была исключением — он не мог ни простить ее, ни вынести встречи с ней. Он разбил собственное сердце и уехал из города, оставив сердце Мэнди в надежных руках персонала медицинского учреждения.
Дастин набил карманы сэндвичами с колбасой и наполнил термос кофе.
— Ты выглядишь дерьмово, — сказал Джо. — Уверен, что тебе не нужен день отдыха?
Дастин пожал плечами:
— Кашель по ночам сводит меня с ума, но днем становится лучше.
Джо кивнул. То же самое было и с его снами. При ярком свете дня он не видел, словно наяву, как Ди-Джей борется с ремнем безопасности, как речная вода развевает его волосы, проникает в легкие. При ярком свете дня он не задумывался, действительно ли Мэнди попала в аварию или сознательно собиралась упасть в реку.
Песок, приносимый ветром, царапал лицо и стучал по стенам построек, которые слегка наклонялись при его наиболее сильных порывах. Джо радовался предстоящей долгой смене, радовался, что освободится от своих грез. Гравий хрустел под его ботинками, нарушая тишину. Было пять часов утра. По ночам людей на улице, казалось, было не так много, вероятно, из-за привычек, приобретенных в жизни до лагеря, но всегда находились те, кто приходил и уходил, создавая непрерывный двадцатичетырехчасовой поток идущих и уходящих с работы, спящих и бодрствующих, находящихся в помещении и на открытом воздухе. Вот и сейчас некоторые парни смотрели «Крестного отца» в комнате отдыха, другие поднимали тяжести в фитнес-зале, а третьи шли к своим койкам с капюшонами, надвинутыми на головы, чтобы защитить лицо от безжалостного ветра прерий. Покрытие линз на его солнцезащитных очках было поцарапано и почти полностью слезло от воздействия песка, который сыпался на него во время работы.
Они с Дастином должны были ехать вместе. Джо собирался заставить парня заговорить, тогда его собственные мысли смогут улетучиться в потоке «беседы» — он мог кивнуть, несколько раз что-нибудь буркнуть да время от времени дать совет по поводу не обещающей ничего хорошего жизни Дастина, и это в двадцать-то один год, а потом назвать все это хорошо прожитым днем. У грузовика Дастин остановился.
— Дай мне минутку, ладно? Я забыл, что мне нужны новые шнурки.
Джо пожал плечами. Парню повезло, что магазин в лагере открыт так рано. В магазине почти ничего не было — шнурки для ботинок, рабочие перчатки, сигареты, печенье. Джо сел на задний бампер и посмотрел на небо. Огни лагеря не могли сравниться с яркими всполохами звездного света — Джо никогда прежде не видел так ясно далекое сверкание космоса. Перед ним всегда было слишком много света, света, который привязывал его к текущему моменту. Его мысли улетали куда-то вверх, в пространство, так что, когда к нему приблизился незнакомый мужчина, Джо вздрогнул.
Мужчина улыбнулся и протянул руку:
— Бен Стоун. Рекрутер компании. Вы Джо Бейкер?
Стоун был седым стариком, возможно лет за шестьдесят, с экземпляром «Трибюн» под мышкой и набором карандашей, настоящих, графитовых, для которых требуется вращающаяся точилка, одна из тех, которые Джо в начальной школе носил в переднем кармане рубашки. Стоун прибыл неделю назад для посещения объекта, немного поздновато для здешних буровых установок. Дастин слышал, что он вышел на пенсию, покинув какую-то среднюю школу в Бисмарке. Учитель истории, он и выглядел соответственно.
Джо пожал Стоуну руку.
— Рад познакомиться, — проговорил Джо и откашлялся, прогоняя сонливость из голоса. — Вы из Бисмарка?
— Да. Приехал проветриться на природе на несколько дней. Должен признаться, я ожидал худшего. Еда действительно очень вкусная, хотя я бы никогда не сказал об этом своей жене. И здесь тише, чем я предполагал. Я представлял себе здешнюю жизнь чем-то из романа Стейнбека. Не совсем «Гроздья гнева»[68], потому что тут у меня нет семьи, понимаете? Но, может быть, «Консервный ряд»[69].
Джо рассмеялся. Стейнбек был единственным автором, который ему действительно нравился в средней школе, когда они его проходили на уроках английского языка.
— Для Стейнбека здесь недостаточно алкоголя. И слишком много правил.
— Что делать, такова жизнь. — Стоун пожал плечами. — Я видел ваше досье. Общинный колледж[70]. Ассоциат[71], но не бакалавр. Бывший землемер. Как вы здесь оказались?
Джо никогда не знал, до какой степени откровенным он может быть. Он подумал о Мэнди, о том, какой видел ее в последний раз в инвалидном кресле в комнате отдыха для хронических больных, с одеялом на коленях, с сальными и жесткими волосами, смотрящей в окно на красноватые силуэты зябликов на фоне ели, растущей снаружи. Ее глаза оставались безжизненными, пока она не увидела его, затем последовал безмолвный взгляд, который сверлил его с ненавистью, обвинением. Это ее молчаливое обвинение вызывало у него сомнения, которые он хранил в тайне, и наверняка знал одно — депрессия Мэнди годами разъедала сердце их семейной жизни, и все эти годы он не сочувствовал ей, а скорее был обижен.
— Оказывается, перевозка воды оплачивается лучше, чем работа землемера по крайней мере после того наступления рецессии. Мне были нужны деньги.
— У вас все еще есть семья в Колорадо?
Какую часть жизни Джо люди были готовы принять в ответ на подобные расспросы?
— Моя жена находится в доме для хроников. На самом деле она не… в общем, у нее была черепно-мозговая травма.
— Мне очень жаль это слышать.
У Стоуна были, как сказала бы Мэнди, добрые глаза, и Джо был поражен искренностью этого человека, а затем удивился собственному изумлению и тому, как давно ему не доводилось верить в чью-либо честность.
— Вот в чем дело, Джо. В о́круге Уэлд нам нужен подготовленный земельный агент. Кто-то, способный получать сервитуты от владельцев недвижимости, уговаривать их позволить нам провести сейсмическую разведку и убеждать не бояться, что водопроводные краны можно будет поджечь, как газовую горелку. Компания любит продвигать людей, которые уже на нее поработали, и нам нужен кто-то, кто знает эту область, так что вы на первом месте среди других кандидатов. Вас могло бы это заинтересовать?
Джо тихо присвистнул:
— И когда нужно дать ответ?
— Скоро. — Стоун улыбнулся. — Знаете, такая работа на дороге не валяется.
Он знал это, а потому кивнул, когда Стоун миновал Дастина, несшегося к грузовику в расшнурованных ботинках и натянутой на плечи утепленной рабочей куртке. Джо позволил ветру прерий впиваться в его кожу, пока не потекло из носа и слезы не собрались в уголках глаз.
— Эй! Ты разговаривал с каким-то парнем. Кто он такой? — спросил Дастин, задыхаясь после быстрого бега.
— Вербовщик.
Джо представил себе Стоуна в солидной библиотеке, окруженной вековыми дубами, читающего «К востоку от рая»[72]. Как такой парень оказался на нефтяном месторождении, даже не сняв учительскую куртку с кожаными заплатами на локтях? В этом не было никакого смысла.
— Он предложил что-нибудь стоящее? Что-то поближе к дому? — Дастин потер подбородок, словно получил сильный удар. — Возьми меня с собой, парень. Я должен вернуться. Моя девочка не в восторге от наших отношений на расстоянии.
Джо покачал головой:
— Я уже два года был женат, когда мне было столько, сколько тебе сейчас.
Мэнди едва достигла возраста, позволяющего вступить в законный брак, но после бурного месяца отношений она заполнила всю его жизнь. Он никогда не испытывал таких сильных чувств. Что, интересно, подумал о них судья: импульсивные влюбленные подростки, безрассудные, без гроша в кармане? Мэнди надела фиолетовое атласное платье с выпускного бала, вплела в волосы цветы, скинула туфли в коридоре здания суда.
— Женат? Где же твое кольцо?
Джо потер безымянный палец большим.
— При нашей работе оно может за что-нибудь зацепиться.
— Почему же тогда ты никогда не ездишь домой? Ты что-то хитришь, Джо. Мы слишком давно работаем вместе, чтобы ты не упомянул о жене.
— Жена и сын. Они попали в аварию. Она сейчас в Грили, ей нужна постоянная медицинская помощь, а мой мальчик не выжил.
Дастин ахнул. Глаза его наполнились слезами, и Джо был поражен этим проявлением эмоций. Они были так обнажены, словно не было ничего страшного в том, чтобы выпустить их на волю. Эмоции нелегко примирялись с жизнью в лагере, населенном мужчинами. Дастин был в точности таков, каким в его возрасте был и он сам, то есть полон дерзкой уверенности, что то, как он живет, питается и думает, является единственно правильным. Дастин прожил недостаточно долго, чтобы все испортить и потерпеть неудачу в важных вещах. Он не мог понять, как много в жизни зависит от удачи и невезения, которые вытекают из того дерьмового выбора, который ты делал еще до того, как ставки стали ясны, до того, как ты узнал, как правильно заботиться о вещах, которые тебе дороги.
В снах Джо воспоминания держались за руку с реальностью, словно переплетая пальцы, и иссохшая, призрачная Мэнди указывала на него, хмурясь, такая обвиняющая, такая внезапно ясная, а потом вдруг он, Джо, а не Мэнди, был тем, кто направлял автомобиль в реку, и он застывал, не в силах сбежать, и его кожа буквально лучилась виной. А иногда перед ним представал Ди-Джей. Такой кудрявый, невинный непоседа, он карабкался по камням на берегу реки, беспрестанно спрашивая, не хочет ли Джо полетать по-другому, и Джо было стыдно за раздражение, которое он испытывал, видя сына в этот момент, и сожаление захлестывало его нынешнее «я». А порою искореженная газодобывающая установка сливала яд в горящую реку, и тогда собственное тело Джо, обмякшее, безжизненное, а не тельце Ди-Джея, уплывало, пойманное в ловушку течением.
— Сколько ему было лет, вашему сыну? — спросил Дастин, вытирая глаза, и оба почувствовали, что между ними установилась какая-то связь.
Джо покачал головой. Они зашли слишком далеко. Он ни с кем не говорил о семье в лагере, да никто и не спрашивал. Отчасти это, как и его одиночество, объяснялось неписаным запретом на любопытство. У мужчин не в чести копание в старых ранах.
— Пора ехать, малыш.
— Вот как оно, да? — пожал плечами Дастин. — Хорошо, Джо. Я просто ждал тебя.
Смена закончилась. Буровая установка покинула площадку неделю назад, и инжектор после незначительного ремонта вернулся к работе. С факелом пришлось поломать голову, пока не стало ясно, что все работает как должно. Дастин был неряшливым работником — оставлял инструменты на рабочем месте, пренебрегал уборкой и большинством других вещей. Он халтурил. Сегодня это был кран резервуара с водой, из которого успели вытечь многие галлоны, прежде чем Джо его перекрыл, и сухая грязь прерий превратилась в жидкое месиво, остающееся на ботинках обитателей лагеря.
Джо поймал Дастина за рукав куртки:
— Ты должен хоть немного гордиться тем, что делаешь.
— Гордиться, — засмеялся Дастин и покачал головой, как будто это была какая-то шутка, но Джо заметил, что он наклонился, напрягся, и работа, которую он проделал до конца дня, была выполнена сосредоточенно, безукоризненно.
Джо размышлял о предложении Стоуна, и внезапно ему больше всего на свете захотелось ощутить неправдоподобную красоту смеха Мэнди, увидеть ее улыбку, вызванную веселым щебетанием зябликов, почувствовать через открытое окно запах сосны. Жизнь и брак были одним и тем же. Во времена подъема все делали ставки на то, когда произойдет спад, а во время спада было трудно поверить, что когда-нибудь наступит еще один подъем. Ему хотелось бы напугать прошлого себя, попавшего в нынешнее время, как Марли пугал Скруджа[73], сделать свое прошлое добрее перед лицом погрузившейся в печаль Мэнди. Джо ощущал себя призраком собственного пустого будущего и чувствовал, что проиграл.
Джо заставил себя сосредоточиться на работе. А то я стану таким же небрежным, как Дастин. Вся деятельность на промыслах была скрыта от глаз гигантскими резервуарами для воды. Согласно неписаному правилу буровые установки должны были быть спрятаны как можно тщательнее. Конечно, дело было не в том, что компании было что прятать. В данном же случае Джо задавался вопросом, чьего нескромного взгляда она могла избегать, поскольку этот конкретный участок был настолько удален, что они не видели никаких признаков присутствия человека с тех пор, как свернули на проселок с шоссе штата несколькими милями ранее. Колонны грузовиков, перевозящих воду, были одними из самых заметных признаков деятельности компании, против которых местные жители могли возражать. Такого количества машин никогда прежде не наблюдалось на еще недавно сонных сельских дорогах. Но он знал, что было бы хуже, если бы процесс бурения казался более осязаемым. То, что могли видеть местные жители — факел, сжигающий выбросы, гигантская буровая установка, круглосуточные прожекторы, — было достаточно тревожным, но невидимая глазу кутерьма, творящаяся под поверхностью прерии — подземные взрывчатые вещества, суп из химикатов, токсичные газы, — была гораздо более пугающей.
Лицо его матери было таким же фасадом — фальшивой маской безмятежности, под которой всегда кипел гнев из-за того, что ей пришлось растить Джо одной. Он слишком поздно, когда тоже ушел из дома, понял, насколько душераздирающе одиноким должно было быть для нее жуткое спокойствие дома. Он вспомнил себя, испуганного десятилетнего ребенка, спрашивающего ее об эрекциях, которые начали возникать у него регулярно. Во время урока математики. В школьном автобусе. Во время поездки на велосипеде. Его отец к тому времени уже давно умер, и больше спросить было не у кого.
— Что происходит? Со мной все в порядке?
Его мать мыла посуду губкой. Движение ее руки в желтой резиновой перчатке слегка замедлилось, и она сжала губку чуть-чуть сильней, правда, это было почти незаметно.
— Конечно, в порядке, — ответила она, отказываясь смотреть ему в глаза. — Просто не думай об этом, и все пройдет.
Джо снова и снова возвращался к этому совету — простой истине, вокруг которой он строил свою жизнь. Именно это побудило его променять равнины Колорадо на прерии Северной Дакоты, полностью проигнорировав настойчивые призывы социального работника в учреждении, где теперь жила Мэнди, «снова вступить в контакт с обществом». Он работал над тем, чтобы овладеть своими мыслями, освободиться от сложного морального конфликта. Эта работа была его единственной удачей за последние несколько лет. Он знал, что газовая компания спасла его задницу, спасла задницы многих других парней, которые после начала рецессии потеряли работу в строительстве, в ландшафтном дизайне, в ипотечном кредитовании. Он не хотел зацикливаться на последствиях для окружающей среды, на политических спорах и, конечно же, на Мэнди или Ди-Джее.
А потом смена закончилась, и они с Дастином вернулись в грузовик. Перед ними расстилалась пустынная дакотская дорога, окруженная прерией. Мохноногие ястребы сидели на столбах забора придорожного ранчо, резко выделяясь на фоне открытой местности. В свои тридцать восемь Джо часто чувствовал себя стариком. В лагере и на месторождении его окружали зеленые, потерявшие иллюзии парни, которые больше не верили, что наживут состояние, как звезды профессионального футбола или белые рэперы. В свое время они уделяли достаточно внимания учебе в средней школе, чтобы ее окончить. Они использовали эти дипломы, чтобы получить работу на буровых установках с обучением и хорошей оплатой — оплатой, которую эта молодежь по большей части считала чем-то само собой разумеющимся, во всяком случае, они чувствовали, что каким-то образом ее заслуживают. Дастин отличался от большинства этих рабочих тем, что мог видеть дальше сегодняшнего дня. Джо знал, что план Дастина состоял в том, чтобы получить степень в области альтернативной энергетики в общинном колледже, а потом стать предпринимателем, маскирующимся под грубияна с нефтяного участка.
— Может, я займусь чем-то вроде того, что мы сейчас даже не можем себе представить, понимаешь? — Дастин был болтуном. — Это как в фильме «Назад в будущее», когда Док засовывает мусор в свой «Делориан», чтобы сделать газ. Вот чем я собираюсь заняться в свои тридцать, чувак. Пачки банкнот. Больше никакого насилия над землей и прочего дерьма.
— У тебя есть дар видеть будущее, — отозвался Джо, удивленный собственной искренностью и тем, что он начал чувствовать себя причастным к успеху Дастина. — С этим ты далеко пойдешь. Еще с экономией. Ты здесь зарабатываешь кучу денег, которые можешь потратить на колледж.
— Ладно, папаша, — пошутил Дастин, а затем краска сошла с его лица. — Слушай, чувак, прости. Я не подумал о твоем… Я не подумал.
Джо пожал плечами. Он был достаточно взрослым, чтобы помогать своей матери, секретарше суда, в свое время притащившей домой пишущую машинку, собираясь работать по ночам. В средней школе он научился работать на допотопных настольных компьютерах, затем купил ноутбук, требовавшийся для его позже прогоревшего бизнеса, и теперь, когда он работал водовозом, все, что ему требовалось, — это мобильный телефон. Когда с бурением будет покончено и вся эта затея провалится ко всем чертям, может быть, ему придется умолять миллионера Дастина, чтобы тот дал ему хоть какую-то работенку. Чем дольше он жил в этом мире, тем трудней становилось его узнавать, и иногда ему казалось, что это напрямую связано с потерей Ди-Джея.
— Все, что я имел в виду, чувак, — продолжил Дастин, — это что я не обязательно хочу стать таким, как ты, когда буду в твоем возрасте. Что станет со мной через пятнадцать лет? У меня будет семья, собственный бизнес, чертов «БМВ». Я собираюсь найти чистую работу. Больше никакой грязи и никакого дерьма на одежде.
Джо почувствовал, как его ударили под дых, унизили. Тем не менее он надеялся, что увидит, как Дастин заживет лучше его, даже если это немного опозорит его собственную жизнь. Может быть, испытывать такие чувства к Дастину не его дело. А с другой стороны, пожалуй, к кому их еще испытывать, как не к нему? Ладно, папаша.
Измученные, они въехали в лагерь. Дастин перенял у Джо привычку наливать суп в кружку и прихлебывать его по дороге из кафетерия к койке. Затем следовало на как можно более долгое время провалиться в сон, прежде чем опять заняться баками для воды под завывания ветра среди кружащихся «пыльных дьяволов»[74]. Сегодня Джо никуда не спешил. Он посидел несколько минут и съел макароны с сыром настоящей вилкой. Потом он открыл страницу Си-эн-эн, чтобы просмотреть новости, но отвлекся на рекламные ссылки и в конце концов оказался на «Ютьюбе», наблюдая за чем-то под названием «ощипыватель цыплят „Уизбэнг“», который некий фермер смастерил из старой стиральной машины. Фермер завел мотор, направил струю из садового шланга в корзину и бросил туда обезглавленную, истекающую кровью птицу. Перья и вода на минуту взметнулись в воздух, и птица появилась совершенно голая, как резиновый цыпленок из старого комического номера. Фермер, обрадованный, возбужденно и бессвязно восхвалял скорость и качество ощипывания. Джо чуть не рассмеялся вслух.
Именно тогда он заметил Стоуна, сидевшего в нескольких столиках от него и корпевшего над кроссвордом, нахмурив брови. Когда Джо сел напротив, Стоун казался раздраженным.
— Есть какие-нибудь предположения о суффиксе, заканчивающем слово, означающее разновидность лапши?
Металлические корпуса для ластика на карандашах, торчащих из верхнего кармана рубашки Стоуна, были пустыми и погнутыми. На столе рядом с ним лежал старый стетсон. Джо удивился, почему Стоун, который, казалось, годами культивировал ковбойско-профессорский облик, забыл использовать карманный протектор. Нижний шов кармана его рубашки был испачкан стержнями карандашей.
— Что, если попробовать «ароны»?
Стоун сделал паузу, а затем принялся яростно тереть страницу резинкой.
— Верно, — сказал он, — но это означает, что предыдущие два слова неверны. В любом случае вы готовы дать мне ответ?
Джо почувствовал, как руки у него задрожали, и спрятал их в карманы куртки.
— Мне бы не помешало знать некоторые подробности о вашем предложении.
Стоун отложил газету. Его седые брови, похожие на две пушистые гусеницы, поползли к линии роста волос.
— Значительное повышение зарплаты, премии. Право купить акции по льготной цене. Хороший личный кабинет в нашей штаб-квартире в Грили. Я слышал, там есть вид на горы и все такое. Автомобиль компании. Переезд оплачен, хотя, учитывая, ну, простоту вашей ситуации, мы, вероятно, сможем обменять расходы на переезд на первоначальный взнос за дом. И вы сохраняете льготы.
— Когда начинать?
— Две недели на обустройство, а потом вы приступите к работе.
Воспоминания появлялись в самое неудачное время. В них он видел Ди-Джея, спотыкающегося о камни во время похода по предгорьям, красную пыль, въевшуюся в ботинки, которые вспыхивали неоновыми огнями, когда он наступал на подошвы. Ди-Джея на вершине скалы, на которую он с трудом взобрался и стоял, широко раскинув руки и медленно вращаясь. Радость от этого достижения струилась из его крошечного мальчишеского сердца, устремляясь в огромное небо, соединяясь в конце концов с безмятежными кучевыми облаками над ними. Вспоминал он и то, как радость Мэнди превратилась в мрачную темноту, и ее сводящее с ума безмолвие нарушалось лишь громкими звуками телевизора. Вспоминалась вспышка его собственного гнева, когда он схватил ее за плечи и закричал:
— Возьми себя в руки, Мэнди! Господи! Сделай что-нибудь. Сделай что угодно. Если ты недовольна жизнью, попробуй ее, черт побери, изменить!
Джо почти мог представить, как глаза Мэнди закатываются, а затем сверлят его, как своего рода буровые установки. Он почти слышал, как она громко смеется, словно находится с ним в кафетерии лагеря, говоря: «Правильно, придурок. Не так-то просто последовать собственному совету, верно?»
Джо попытался проглотить комок в горле. Он оценил терпение Стоуна. Тот просто сидел и ждал, пока Джо изо всех сил пытался взять себя в руки.
— Можно я пересплю с этой информацией?
Стоун кивнул и вернулся к кроссворду.
Вернувшись в свою комнатушку, Джо воспользовался ванной «Джек и Джилл»[75], которую он делил с Дастином. Погружаясь в сон, он задавался вопросом, сколько других парней знают этот термин, ванная комната «Джек и Джилл», из прежней жизни дома с женами или подругами. Он задавался вопросом, делает ли это знание их такими же одинокими, как и его. Он проснулся от пыли и слез на закрытых глазах, и когда он почистил уши после ванны, тампон оказался почерневшим и жирным. Комнатки были маленькими: односпальная кровать, шкаф с выдвижными ящиками, небольшая стойка/письменный стол с зеркалом над ним, что-то, что Мэнди назвала бы туалетным столиком. В середине было достаточно места, чтобы мог встать один человек. Посетители, естественно, были обескуражены теснотой помещения. Женщины, наркотики и алкоголь в комнаты вообще не допускались.
Джо вышел на улицу. В небе еще светились краски догоревшего заката. Вечер был спокойный, ветер утих. Дастин сидел в пластиковом шезлонге с бутылкой шоколадного молока и писал на мобильном телефоне текстовое сообщение. Он не поднял глаз, когда Джо сел, его пальцы на фоне сенсорного экрана телефона выглядели почти размытыми. Джо ненавидел, когда тот, кто был рядом с ним, на него не реагировал. При этом предполагалось, что человек, находящийся перед тобой лицом к лицу, должен ждать в пользу человека на другом конце цифрового мира.
— Кажется, кто-то заходил в мою комнату в наше отсутствие, — пожаловался Дастин. — Это выглядело… Ну, я не знаю, как будто кто-то в ней побывал.
— Возможно, осмотр комнат, — предположил Джо. — У тебя ведь не было ничего запрещенного, да?
После беспорядка, царившего в его трейлере в Грили, Джо был рад, что у него появилась своя комната, хорошо понимая, что он променял уединение на комфортную жизнь здесь, в лагере. Он принял ее как условие трудоустройства.
— Они не имеют права входить в мою комнату. Это как… нарушать гребаную конституцию или что-то в этом роде.
Джо пожал плечами:
— Это прописано в контракте. А кроме того, непохоже, чтобы твои родители никогда не обыскивали твою комнату, не рылись в твоем «Фейсбуке», не читали сообщения на твоем телефоне. Ты чересчур молодой для уединения.
У Дастина отвисла челюсть. Джо почти видел, как тот роется в воспоминаниях в поисках примеров подобной несправедливости.
— Это пипец, чувак. То есть я думал, будто однажды потерял пакетик с марихуаной, но, может, отец просто забрал его и сдрейфил сказать, понимаешь?
Дастин, похожий на преданного мальчугана, выглядел еще моложе, чем обычно.
Джо почувствовал себя ослом, сеющим семена раздора между ребенком и тем, кто, вероятно, являлся благонамеренным, любящим отцом. Именно эта упрямая потребность указывать другим на их недостатки сводили Мэнди с ума.
— Ты как твоя мать, — говорила она. — Совсем как она. Прекрати это, ладно?
Джо пытался прекратить, действительно пытался и пытается до сих пор, но он никогда не видел результата своего поведения до тех пор, пока острый как бритва хлыст накопившегося в нем дерьма не поразил тех, кто находился вокруг него. Пока рана уже не была нанесена и он понятия не имел, как остановить кровотечение.
— Стоун хочет сделать меня земельным агентом в Грили.
Джо нужно было с кем-то поговорить, и Дастин, как невероятно бы это ни выглядело, оказался единственным человеком в мире, готовым его слушать.
— Там ведь твоя жена, верно? И работа денежная? — Дастин пожал плечами. — Я даже не знаю, почему ты вообще сомневаешься.
— Может, я ей не нужен, — пробормотал Джо и вдруг почувствовал, как правда прижимает его плечи к земле прерии, почувствовал, что лагерь может с легкостью поглотить его, скрыть все, что его пугает, скрыть то, как ужасен он сам по себе. — Возможно, ей без меня будет лучше.
Дастин снова принялся стучать по экрану телефона, не глядя ему в глаза.
— Похоже, ты сам не знаешь наверняка, чего она хочет.
Джо носком ботинка провел в пыли линию перед своим стулом. Он закрыл глаза, прислонился спиной к стене трейлера и с удивлением обнаружил, что это не воспоминание, а возможное будущее. Мэнди, Дастин и Джо вместе сидят в машине в кинотеатре для автомобилистов, все трое смеются и пьют молочный коктейль. Джо говорит Дастину: «Тебе повезло, что ты ей нравишься», и Дастин вскидывает обе руки: «Конечно, я ей нравлюсь, ведь я чертовски обаятелен», и Мэнди смеется, в восторге беря Джо за руку. Никто не воскрес, все еще живы, разбиты горем, вместе.
— Если бы мне выпал шанс начать сначала, — сказал Джо. — Я бы поступил по-другому.
Дастин прочистил горло:
— Моя девушка говорит, что я трачу время зря. Что я должен вернуться домой и покончить со всем этим. Может быть, она права насчет нас обоих.
Джо посмотрел вдаль, ища линию, где земля встречается с небом.
— Может, я смогу убедить Стоуна позволить тебе поехать со мной. Скажу ему, что из нас получится хорошая команда. Бэтмен и Робин, что-то в этом роде.
Дастин покачал головой:
— Ты мне очень нравишься, Джо, но я не Робин. Тем не менее я был бы признателен за замолвленное доброе слово, если бы оно вернуло меня домой.
Джо достал собственный телефон и протянул Дастину.
— Ты когда-нибудь слышал об ощипывателе цыплят «Уизбэнг»? Может, именно так ты сможешь заработать свои миллионы. Впечатли свою девушку.
Дастин радостно рассмеялся, когда по экрану телефона полетели перья.
— Забавно, черт побери.
Джо смотрел, как меркнет свет, появляются и мерцают звезды. Утром он найдет Стоуна, начнет собираться. Он представил Мэнди, сидящую рядом с открытым окном, какофонию птиц в зарослях дубов и елей. Улыбку Мэнди в глубине ее карих глаз. Мэнди выглядела как ангел, закат пронизывал пространство вокруг нее лучиками света. Он ухватится за то, что предлагает удача, здесь и сейчас, уедет на ней как можно дальше в будущее, надеясь, что жизнь выдержит эту ношу.
Истории о наводнениях
В 1976 году, когда река Биг-Томпсон наполнилась муссонными дождями и затопила каньон, моя мать, Бет, отнесла меня в безопасное место, поднявшись сначала по крутому горному склону, а затем вскарабкавшись на гигантскую сосну, несмотря на то что ее тяжелые от грязи ботинки скользили по мокрой от дождя коре, несмотря на смолу на пальцах и в волосах. Мне был год, я была завернута в сшитое вручную детское одеяло, которое она обвязала вокруг себя, как перевязь. Я визжала всю ночь. Грозовые тучи закрыли луну, и ночь была черной, если не считать молний, которые, вспыхивая, освещали бурлящую реку, тащившую всякую всячину — покореженные автомобили, некоторые пустые, а иные полные мертвых тел, пропановые баллоны, проколотые, шипящие выпускаемым содержимым, деревья, такие же толстые, как то, на котором мы сидели. Каждая вспышка молнии освещала какую-то новую сцену, полную ужаса, которую мама могла видеть, а я нет, и все равно я плакала. Мама рассказывала эту историю снова и снова, мне или в моем присутствии, всю мою жизнь.
— Тебя всегда было нелегко успокоить, — говорила она. — Ничто из того, что я когда-либо делала, не могло тебя угомонить, даже спасение твоей жизни.
Вчера, когда я рассказала ей о работе, которую мне предложили в Управлении государственных парков и дикой природы в Денвере, о полном пособии, о моем собственном офисе, о зарплате, вдвое превышающей мою нынешнюю, она добавила:
— Вот и теперь тебя тоже ничто не может угомонить.
Затем она взяла свой бокал с коктейлем и сигарету, вышла на террасу и сидела там, пока садилось солнце, накинув поношенное одеяло на усыхающее тело, ее редеющие волосы походили на нимб и наводили на мысль о статическом электричестве. Маме всего шестьдесят пять, но она часто уходит в себя, слабеет, да и сердце пошаливает. Она стареет быстро и злится. Я все время думаю о вещах, которые знаю сама, но о которых не знает мама. Что у меня в животе растет ребенок, я почти уверена, что девочка, отца которой — любовника на одну ночь — я уже никак не смогу отыскать. Что, если я хочу получить эту работу, любую работу, которая будет лучше моей нынешней должности дежурной на въезде в национальный парк Роки-Маунтин, я должна ухватиться за нее, прежде чем моя беременность станет заметна. А еще я думаю о вещах, которые знаем мы обе, но не говорим вслух. Что в этом каньоне, в котором она меня вырастила, нет ничего нужного нам обеим: ни врачей, ни работы. Что ей следует отказаться от сигарет и джина, больше гулять, есть больше капусты. Мне тоже следовало бы все это делать, хотя я все равно не курю так, как она. Медицинские инструкции для конца жизни и для ее начала удивительно похожи.
Я наливаю в стакан клюквенного сока, без водки, и сажусь рядом с ней на террасе. Я много лет прожила в этом доме-лачуге на берегу реки Биг-Томпсон. Мой дед восстановил его после наводнения семьдесят шестого года, и я переехала туда после того, как окончила колледж. Когда мама в прошлом году вышла на пенсию, она перебралась ко мне, так что теперь моя жизнь похожа на детство, хотя ее стало труднее переносить после многих лет взрослой жизни.
— Да ладно тебе, мам, — произнесла я. — Мы могли бы прекрасно проводить время в Денвере. Искусство. Поэтические чтения. Уличные фестивали.
Больницы. Парамедики, оказывающие первую помощь.
— Ты не городская девочка, Лотти. Ты будешь слишком скучать по этим горам.
— Мне тридцать два, мама. Я не ребенок. Нам нужны город и деньги прямо сейчас.
Разумеется, я буду скучать по этой хижине, которая кажется мне моей, даже несмотря на то, что мы делим ее с матерью, и в документе о праве собственности указано ее имя. В этом она права. Река течет быстро и, как обычно бывает в июне, поднялась достаточно высоко, чтобы перекрывать шум шоссе, проходящего по другую ее сторону. Каменная стена каньона напротив дороги становится розово-золотистой в последние часы дня, а верхушки сосен, выстроившихся вдоль крутого горного склона на нашей стороне реки, ловят свет заката и горят, как факелы. Каждый вечер дом, стоящий на самом дне каньона, погружается в темноту, хотя в небе над нами еще сияет убывающий свет солнца. Дерево, которое спасло нам обеим жизнь, все еще растет на крутом склоне над нами. Папа ненавидел эту хижину по крайней мере так говорит мама, поэтому его и моего брата Энди не было здесь в ночь наводнения. Тот факт, что папа ненавидел хижину, заставляет маму любить ее еще больше, как мне кажется, назло ему.
Между нами лежит мамина стопка книг, несколько головокружительных названий общественно-политической литературы, Энни Пру[76], Ларри Макмертри[77]. Она проработала библиотекарем в Лавленде сорок лет. Мать назвала меня Шарлоттой, потому что любит Бронте, любит все темное и готическое. Она хотела назвать Энди Хитклиффом, но папа, похоже, настоял на своем. Она известна в местном масштабе благодаря страстной личной кампании за свекольный сахар и против химического подсластителя, которую она проводила из-за своего библиотечного стола в 80-е годы и позже. Мама ставила отметки о сроках сдачи на экземплярах «Хопа на попе»[78], «Топора»[79], «Фермерского мальчика»[80] и говорила детям, или их матерям, или всем, кто слушал: «Нельзя верить рекламе. То, что вы едите не сахар, а заменитель, не означает, что это для вас полезней. Врачи говорят, он вызывает рак, это ставит ваше здоровье под угрозу».
Мама гордится своей репутацией сурового стреляного воробья, честного гражданина. Я знаю, потому что она любит повторять это вслух. Она постоянно твердила нам с Энди: берегите свою репутацию, культивируйте доброжелательность к людям и восхищение вами со стороны других, используйте это как валюту, которой можно будет оплатить множество оказываемых вам услуг, богатый набор всевозможных вознаграждений. Мама по крайней мере так же гордится своей репутацией, как и мной, я в этом уверена.
— Ты сможешь отвезти меня в аптеку в эти выходные? — Мамины врачи советовали ей не садиться за руль. — Мои рецепты будут готовы в пятницу.
— Я могу завернуть туда по дороге с работы домой.
— Лучше я поеду с тобой.
— Да, но тогда мне придется приехать сюда, забрать тебя, а потом проделать ту же дорогу обратно.
У мамы теперь появилась страсть к посещению аптечных центров «Уолгрин»[81]. Так, она читает поздравительные открытки, которые не собирается покупать. Она рассматривает размеры и форму контейнеров для посуды, которые не поместятся в наши и без того набитые до отказа кухонные шкафы. Она пробует возмутительные цвета губной помады на своем запястье. Это похоже на вход в черную дыру, где само время остановилось.
Мама поджала губы и кивнула. Она больше ничего не сказала, но я знаю, что она этого так не оставит. Я представляю, как мама дополняет новыми красками образ разочаровавшей ее дочери, который, как камень, она носит в своем сердце. Мама следит за мной, и, если честно, я тоже. Мои обиды как магниты. Чем больше я их в себе ношу, тем больше всего к ним прилипает.
Ветер раскачивает верхушки деревьев, но внизу, где мы живем, он нежный, мягкий, пахнущий сосновой смолой и речной водой.
— В Денвере везде есть «Уолгрины». Может быть, от одного до другого даже можно дойти пешком, — заметила я.
— Почему ты думаешь, что я поеду с тобой? — спросила вдруг мать.
— Если я уеду, — ответила я, — ты не сможешь остаться здесь одна.
— С чего бы это?
Она ошибается, отрицая свою постоянно уменьшающуюся независимость, так же как ошибается в том, что ничто не удовлетворяет меня. Жить с мамой в каньоне было бы совершенно нормально, если бы не то, что я не могу казаться взрослой, когда она рядом. Каждый раз, когда я думаю, что веду себя ответственно, мама заставляет меня почувствовать, что я гоняюсь за речным туманом. Она ошибается насчет того, кто я такая, но высказывает претензии так уверенно, что я начинаю сомневаться в себе. Не представляю, что она скажет, когда узнает, что я залетела от незнакомца. Я чувствую себя так, словно проиграла старую ссору с ней. Я воображаю, как она кивает, не удивляясь, словно сообщая: «Я всегда говорила тебе, что ты такая».
— Я ложусь спать, — закончила она.
— Еще только едва темнеет.
— Врачи велят отдыхать. Вот я и отдыхаю.
В голосе мамы звучит раздражение. Она стала особенно раздражительна с тех пор, как ей поставили диагноз. Раздражительность не является симптомом застойной сердечной недостаточности. Я смотрела в справочнике. Наверное, хотела убедиться, что она могла бы с ней справиться, если бы захотела, при всем своем скверном характере.
— Ты достаточно хорошо себя чувствуешь, чтобы утром отправиться на прогулку?
— Врачи советуют физическую активность, — проворчала мама, потирая распухшие лодыжки. — Они велят отдыхать, и они велят ходить. Черт бы их побрал.
Я остаюсь на террасе после того, как мама ложится спать, наблюдая, как небо над каньоном становится черным, как начинают мерцать звезды. Когда я почти уверена, что мать спит, я достаю свой компьютер, который все еще подключаю к телефонному модему здесь, в каньоне. Мой брат Энди, бывший полицейский, находится в тюрьме штата. Он осужден за фальсификацию доказательств по ряду местных дел в Лавленде и ложь под присягой. Какое-то время, пока его не сцапали, Энди был большим человеком в полиции, палочкой-выручалочкой, лихим следователем, который всегда ловил какого-нибудь плохого парня. Мама так им гордилась, ведь ее репутация подкреплялась его репутацией. Энди по-прежнему отрицает все обвинения, утверждает, будто невиновен, но я почти уверена, что он виноват. Опасность инвестирования в репутацию заключается в том, что ее легко поставить выше этики. Энди так сильно хотел стать лучшим борцом с преступностью, что начал выдумывать преступников, которых требовалось остановить, и не видел, пока не стало слишком поздно, как это сделало преступником его самого. Я не одобряю выбора, который он сделал, но я его понимаю.
Мама встала на сторону Энди, последнего человека, о котором можно было подумать, что он действительно потерял совесть, даже когда улики говорили обратное. Бобби Джексон не производил метамфетамин на старом сахарном заводе. Салли Джеймс не присваивала никаких средств, принадлежащих «Юнайтед Уэй»[82]. Я стараюсь отдать должное маме за то, что она в конце концов поступила правильно, признав вину сына, но ее внезапное прозрение показалось мне трусливым шагом, сделанным исключительно для спасения собственной репутации после падения его репутации. Хуже всего то, что жена Энди, Лия, теперь должна одна воспитывать их маленького мальчика. Она позволяет нам с мамой время от времени водить Тайлера в «Макдоналдс», но не может нас простить — в точности так же, как не может простить Энди. Мама возмущается по этому поводу, но я нисколько не виню Лию.
Я оплачиваю счета, позволяющие нам с Энди обмениваться электронными письмами, или по крайней мере позволяющие мне отправлять электронные письма ему. Я пишу о посещениях врача и прогнозах болезни мамы, о ее сухом кашле и о том, сколько она потеряла в весе. Он почти никогда не отвечает. Несколько дней назад я написала о себе, о беременности, и вскоре, когда я открыла почту, я увидела, что он написал мне в ответ.
Жаль, что я не могу быть мухой на стене, когда ты расскажешь маме.
Я захлопнула ноутбук и закрыла лицо руками. Энди никогда особо не заботился о чужих чувствах. Тем более о моих. «Любовь — жестокая штука, — проговорил он с тяжелым, бесстрастным лицом. — Когда-нибудь ты поблагодаришь меня за эти слова». Но я в этом сомневаюсь. Жизнь достаточно трудна и без того, чтобы все, кого ты любишь, пытались еще больше тебя ожесточить. Когда родится мой ребенок, я буду воздушная и нежная, как зефир. Как птичий пух. Как овечья шерсть. Я стану самым нежным из всего, к чему прикоснется моя малышка, и самым нежным из всего, что прикоснется к ней.
У меня тоже есть связанная с мамой история о наводнении, другая, но я не рассказываю ее никому, кроме себя. Когда папа ушел от нас в январе 1990 года, это меня поразило, но иначе, чем маму, потому что я ощущала, что мне лучше без него, чем с ним. И это чувство я спроецировала на всех мужчин, с которыми встречалась с тех пор. Во всяком случае, ни один из них не задержался надолго. Мама оставляла еду в холодильнике, отвозила нас в школу, храбрилась, приходя на работу в библиотеку. Все восхищались той силой, что она проявляла при обрушившихся на нее невзгодах, но дома она смотрела в окно, словно отсутствуя в комнате. Ее тело было с нами, но ее разум был своего рода кучевым облаком. В тот год мне исполнилось пятнадцать. Это произошло в День святого Валентина, всего за несколько дней до того, как в Грейт-Вестерн-ярде лопнул гигантский резервуар с патокой. Ее поток, ледяной и вязкий, по колено взрослому человеку, выплеснулся на Мэдисон-авеню, которая была гораздо менее гламурной, чем можно судить по названию: на одной ее стороне были обанкротившийся сахарный завод, а на другой ухоженная маленькая трейлерная стоянка.
Должна признать, что мои воспоминания о детстве, даже о тех подростковых годах, всегда были в лучшем случае туманны, но я уверена, что главные моменты, которые засели в моем сознании, и есть те моменты, которые меня создали. Однажды в раннем подростковом возрасте я надела на Пасху платье, которое уже надевала год назад, потому что на новое не было денег. Когда я спустилась вниз, мой отец поперхнулся пивом, которое пил за завтраком, и сказал маме, а не мне: «Она не пойдет в церковь, выглядя, словно какая-то шлюха», а затем направился к шезлонгу, стоящему на террасе. Папу уволили с сахарного завода одновременно со всеми остальными. Он и раньше держался отстраненно, легко раздражался, но увольнение сделало его злым.
Я потянула за подол своей юбки, пытаясь растянуть ее так, чтобы она стала ниже середины бедра. Какая-то шлюха. Мама покачала головой: «Он прав, Лотти. Это платье — чертово приглашение. Иди переоденься». В тот момент я понятия не имела, кого именно и зачем могла бы пригласить.
Я помню, как папа однажды нашел на Эм-ти-ви[83] клип с песней группы «Уайтснейк»[84], где Тони Китэйн[85] танцует на капоте какой-то машины. Энди сделал звук погромче и практически пускал слюни, но папа указал на меня и сказал: «Это же просто дешевка», как будто именно я делала шпагат и стреляла манящими взглядами в сторону длинноволосых гламурных рокеров.
Позже, когда дошедшие до нас сплетни о знаменитостях сообщили, что брак Тони находится на грани краха, мама кивнула, как будто знала об этом с самого начала. «Ей будет трудно найти кого-то еще с такой репутацией, — проворчала она. — Не забывай, Лотти. Ты — это выбор, который сама делаешь». Я постоянно думаю об этом, о невозможно высокой планке, которую мама для меня установила, когда я была всего лишь сбитым с толку подростком и мои неизбежные плохие решения существовали лишь в будущем.
Во время паточного наводнения нас остановили заблокировавшие проход пожарные и полицейские машины. Прибыли даже кареты «Скорой помощи», хотя их проблесковые маячки не горели, а парамедики покинули их и стояли вокруг вместе со всеми остальными, дрожа от стужи. Мы присоединились к половине города, пришедшей сюда посмотреть. Все вышли из машин, выстроились вдоль края потока, загипнотизированные, безмолвные. Пары патоки и холодный воздух обжигали мне нос изнутри. Вдалеке залаяли собаки. Стоя на холодном асфальте дороги, я пошевелила пальцами ног, втиснутых в старые «лунные ботинки»[86] Энди. Поток патоки подхватил старый, потертый теннисный мяч, мягкий зеленый пушок которого почти светился на фоне янтарной жидкости. Мне захотелось схватить этот теннисный мяч, спасти его, но я не хотела погружаться по колено в патоку. Мама вздрогнула, и я тоже, представив себя в ловушке в леденцовом потоке, на глазах всего города, наблюдающего со стороны. Всех нас тошнило от испарений, исходящих от вездесущего липкого месива.
Наш город, Лавленд[87], придает большое значение Дню святого Валентина, словно данный населенный пункт каким-то образом принадлежит почитателям этого мученика. Получается, если вы назовете некий городок местом для любви, там ее будет больше, что объективно смешно. Так что празднование все еще происходит, традиция. Каждый февраль Ротари-клуб[88] продает в городе большие красные фанерные сердца, и вы можете заплатить за то, чтобы на них были написаны такие вещи, как «Лиз и Альберт 20 лет» или «Я <3 Тони», нарисованные белыми трафаретными буквами. Папа не подарил маме такое сердце ни в тот год, ни в один из предыдущих или последующих, и я не сказала ей, что мой парень, Джейсон Аллес, заплатил тридцать долларов, чтобы заполучить его для меня.
— Не жди ничего другого, — сказал он. — Это День святого Валентина и твой день рождения — одним выстрелом двух зайцев.
На сердце было написано: «Джейсон + Лотти навсегда», и слово «навсегда» вселяло беспокойство, будто оборачивало железную цепь вокруг моего сердца. Джейсон был моим первым парнем, с которым я поцеловалась. Это произошло в канун Нового года, и теперь он хотел секса. Он начал с милых признаний в любви типа: «Я позабочусь о тебе, детка», но чем дольше я держалась, тем злее он становился. «Мне звонит множество девушек, Лотти, которые понимают в любви гораздо больше, чем ты». Я знала, что скажет мама: что я сама напросилась, что я сама поставила себя в такое положение, что я уже сделала себя «девушкой такого сорта». И все-таки я хотела от нее чего-то, какой-то жемчужины мудрости, которой я могла бы воспользоваться. Мне не хотелось прощаться с Джейсоном. Мама была погружена в какую-то депрессию, а Энди был почти таким же злым, как и папа. Внимание Джейсона нахлынуло, как прилив, как раз в тот момент, когда моя семья отступила. Мама никогда не обучала меня языку, в котором я нуждалась в тот момент, а я была слишком мала, чтобы научиться говорить на нем самостоятельно.
— Эй, мам, — сказал Энди, указывая на мое сердце, — посмотри-ка, что сделал для Лотти ее парень-неудачник.
Мама смотрела достаточно долго, чтобы понять, в чем дело, но затем ее взгляд снова устремился на патоку. Дорога представляла собой месиво из сладкой жижи и всякой всячины из мусорных куч за фабрикой, старых столбов забора, сломанных кусков кирпича, искореженных тормозных роторов, матрасных пружин. Все это было мокрым, покрытым патокой, тяжелым и отвратительным — чертовски липким. Я хотела, чтобы моя мать посмотрела в мою сторону, спасла меня, показала мне, как спасти себя. И тут она крепко схватила меня за руку и оттащила от толпы медленными, плавными движениями, чтобы никто ничего не заметил. Это было как раз то, чего я хотела, — ее полное внимание.
— Ты достаточно умна, чтобы понимать, кто такой Джейсон Аллес, — прошипела мать. Вся его семья — это сплошные неприятности. — Никогда не забуду, какой холодной была мама в тот момент, не забуду зловещий скрежет ее шепота, абсолютную угрозу, которую он содержал. — И вот что я тебе еще скажу. Если ты забеременеешь, Лотти, я заставлю тебя оставить ребенка. И это разрушит твою жизнь.
Может быть, мама была страшна в тот момент, но я тоже.
— Ты просто завидуешь, — возразила я. — И если тебя определяет твой выбор, то как ты объяснишь, что выбрала папу?
Взять слова обратно никто не может, ни мама, ни я. Они сказаны навсегда.
Мама повернулась ко мне спиной и присоединилась к толпе. Патока замедлялась по мере охлаждения, оседая. Она запечатлевала рисунок солнечного света и сияла медовыми лучами. От нее было так же трудно отвести взгляд, как и продолжать смотреть. Дыхание вырвалось из моего тела наподобие какого-то воя, но, наверное, я была единственной, кто мог его услышать, потому что никто, кроме мамы, не обратил на меня никакого внимания.
Мама никогда не узнает себя в моей истории, хотя это не делает ее менее достоверной. Есть наводнения, которые угрожают увлечь вас и унести прочь, но есть наводнения, которые заманивают в ловушку мыслей. Мама не просто увязла обеими ногами в патоке. В ее мозгу навсегда застряла версия, в истинности которой она себя уверила, а именно, что она всегда делала все возможное, пытаясь меня защитить, всегда несла меня на какое-то дерево, но я всегда, всегда ей сопротивлялась.
Если вы хотите отправиться в поход в национальный парк Роки-Маунтин летом, лучше всего встать пораньше, чтобы обогнать толпу. Солнце только взошло, когда мы с мамой припарковались у станции рейнджеров Уайлд-Бейсин и натянули походные ботинки. Паршивый на вид койот перебежал через тропу и исчез в соснах. Невидимая горная синяя птица пела свою утреннюю песню, безошибочно узнаваемую в ее повторениях: одна чистая высокая нота, а затем трель вниз по всей гамме. План состоял в том, чтобы добраться до Каскадов Калипсо, не более двух миль в один конец. Теперь я выбираю только маршруты туда и обратно, никаких петель. С мамой нужны короткие пути, с ясной дорогой назад.
— Доброе утро, Лотти, Бет. — Эд Мэйн был лесничим в парке, ровесником мамы, но сердечным и прямым. На работе мы с Эдом не всегда присутствовали на одном и том же тренинге, но когда мы на нем были вместе, мне нравилось сидеть рядом с ним. Мне нравилось, как он скрещивал руки на груди, свирепо смотрел на любого бюрократа, ведущего мероприятие, начинал почти каждое свое выступление словами «С должным уважением», произнесенными таким тоном, который ясно давал понять, что ни о каком уважении в данном случае нет и речи. — Сегодня утром будьте начеку. Получил сообщение об агрессивном лосе возле водопада Коупленд.
— Самец? — спросила мама.
— Самка, — пояснил Эд. — И у нее телята-близнецы.
Мы с мамой кивнули и помахали Эду на прощание. Мы двинулись по тропинке молча, если не считать хрипа мамы, который она теперь издает при любом движении, например идя из гостиной в гараж или из спальни в кухню. До сих пор она достаточно хорошо скрывала свой надоедливый кашель, посасывая пастилки. Там, на тропе, я впервые увидела, как она согнулась пополам и засунула в рот леденцы, вишневый и ананасовый одновременно.
— У тебя сгниют зубы, — сказала я. — Неужели нет другого способа?
Мама рассмеялась.
— Мои зубы, — проворчала она, качая головой. — Их видишь только ты, Лотти.
— Я волнуюсь, — продолжила я, сознавая неуместность этого признания.
Мама воспринимала беспокойство как признак слабости. Беспокойству не было места в ее жесткой философии любви.
— Я не собираюсь жить достаточно долго, чтобы мои зубы имели значение.
— Ты могла бы, — возразила я и почувствовала, как мое собственное сердце внезапно стало тяжелым.
В кустах послышался шорох. Холодная струя воздуха, из тех, что попадают в ловушку хвойных игл, сместилась и прошла над нами обеими. Мама вздрогнула. Мы обе повернулись, ожидая увидеть разъяренного лося, но что бы это ни было, оно оставалось для нас невидимым.
— Есть много способов справиться с этим, Лотти, — сказала мама. — Главное, не отрицать очевидного.
Ее голос был резким, глаза закатились, и я почувствовала, как у меня засосало под ложечкой. Я всегда ненавидела то, как она говорит со мной и обо мне одновременно, то, как она заставляет меня чувствовать себя маленькой и пристыженной, даже когда я не настолько глупа, чтобы не понимать, что к чему. И я подумала, как думала много раз до того, что, если бы она не была моей матерью, я бы вообще не проводила с ней время.
Наконец мы пришли к водопаду Коупленд. Талая вода падала с невысоких валунов в бурлящий бассейн с белесой водой, однако течение реки успокаивалось по мере того, как русло расширялось и становилось более ровным. Это был совсем небольшой водопад по сравнению с другими, но пены было много, и его грохот был достаточно громким. Говорящему приходилось наполовину кричать, чтобы быть услышанным собеседником. Все звуки, кроме самых громких, сливались с шумом воды, фокусирующим любое рассеянное внимание на ударах яростных струй о скалу.
Мы прошли не более полумили от начала тропы. Мама вдруг побледнела, ее сухой кашель пересилил действие конфеты. Мы сели на поваленное дерево, и она прикрыла рот белой банданой. Когда она отняла ее от губ, слизь была окрашена в розовый цвет.
— Это от конфет, — объяснила она.
Мне захотелось засунуть ей обратно в рот ее собственные слова, спросить, кто сейчас отрицает очевидное, но вместо этого притянула маму к себе и почувствовала, как ее тело расслабилось в моих объятиях.
— Мама, — шепнула я. — Я беременна.
Ее дрожь передалась мне и пробежала по моему телу.
— От кого?
Мне, разумеется, было ясно: это станет первым, что она скажет.
— От Эда Мэйна.
Не то чтобы я не думала об Эде в таком смысле. Я честно старалась сойтись с другими доступными мужчинами в каньоне. Увы, их насчитывалось совсем немного. Было много случаев, когда Эд казался мне ничем не хуже остальных.
Мама оттолкнула меня, ее глаза вспыхнули.
— Ах, старый козел. Он знал тебя, когда ты была еще в пеленках.
— Я шучу, — произнесла я, махнув рукой в воздухе и хихикнув, чувствуя, как мое лицо горит и заливается краской. Мамины губы были плотно поджаты, на них не было и намека на улыбку. — Господи, мам. Это не Эд. Это ковбой, проезжавший через город по дороге с родео в прошлом месяце. Парень на одну ночь.
— Ковбой?
— Да. А что тут такого?
Я не собиралась рассказывать матери о его обручальном кольце. Он не потрудился снять его, а я была так благодарна его грубым рукам, гладившим мои живот и бедра, за передышку от моего совершенно непреднамеренного воздержания, что не задавала вопросов.
Тишина. Каменное лицо матери. Я чувствовала отчаяние, трепет. Я хотела иметь возможность описать тернистые истины моей жизни, чтобы мама приняла их без осуждения.
— Ты кажешься немного староватой для урока о контрацепции, — прервала молчание мать.
— И на старуху бывает проруха.
— Если ты не принимаешь мер, Лотти.
Затем я встала и пошла к воде. Сперва я уловила ошеломляющую песню оляпки[89], а потом увидела, как она радостно прыгает вдоль берега реки. Оляпки делают охоту похожей на танец. Удовлетворяя свою потребность в еде, они словно играют. В этом есть смысл. Я глубоко вздохнула и снова повернулась к маме.
— Ты не счастлива? Ну, хотя бы совсем немного? — спросила я.
— Дело не в этом, — ответила мать. — Ты вступила на трудный путь. Тебе нужно найти этого клоуна с родео. Хотя бы ради денег, если ничто другое тебя не волнует.
— Ковбой, мам. Не клоун.
— Ты думаешь, что сможешь сделать это в одиночку?
Я подумала о розовой слюне на маминой бандане, о том, как опухают ее ноги вокруг лодыжек, о ее изношенном сердце.
— Похоже на то, — сказала я. — Как я посмотрю, у меня нет особого выбора.
— Смотри усерднее, — отозвалась мама, согнувшись пополам в приступе кашля, полностью вышедшем из-под контроля, и я добавила эту ее реакцию к списку вещей, которые хочу простить, но не могу.
Впервые я занялась сексом с Джейсоном под трибунами, стоящими у футбольного поля. Цвели ранние крокусы, трава начинала зеленеть, оправившись после зимней спячки, но ночи все еще были морозными, и холодный воздух обжигал голую кожу. Я улизнула из дома. Помню, мне было больно, но не слишком, и Джейсон смеялся надо мной, ибо я не знала, как обращаться с презервативом. Сияющая яркой белизной луна выглядела одновременно зловеще далекой и пугающе близкой, а лунный свет казался таким ярким, что звезды были почти не видны. Вернувшись домой, я спряталась под одеялом, думая, что все, у меня больше никогда не будет такой ночи, что моя девственность навсегда ушла не к тому парню и не тем путем. Я чувствовала весь стыд, который меня учили чувствовать по поводу случившегося, и смирялась со связанной с ним потерей, как будто мое «да» означало «да» для каждой следующей встречи, как будто я каким-то образом потеряла право сказать «нет» когда-либо снова. Ты это твой выбор. Я приняла ванну, такую горячую, что моя кожа после нее оставалась красной еще в течение часа.
Мама сидела за кухонным столом с тарелкой тостов, намазанных маслом, кружкой черного кофе и наблюдала, как белка пожирает семечки, которые она положила в кормушку для птиц.
— Доброе утро, мам, — поздоровалась я.
Все мое тело казалось неуклюжим, новым, как будто меня разобрали на части и собрали заново, но суставы оказались немного не на том месте, где когда-то были.
— Хорошо спалось? — спросила мама.
Я вгляделась в ее лицо, пытаясь понять, что она знает или о чем догадывается, но она была непроницаема.
— Не совсем, — буркнула я.
Мама улыбнулась, пожала плечами и снова отвернулась к окну. Ничего не случилось. Я не знала, был ли прилив адреналина, который я испытала тогда, вызван ужасом или облегчением.
Джейсон стал приходить почти каждый вечер. Моя комната находилась в цокольном этаже. Я отпирала заднюю дверь, когда мама ложилась спать. Мы занимались тихим-претихим сексом, а потом он успевал прокрасться в свою комнату еще до того, как его отец возвращался домой с ночной смены. Я желала секса до тех пор, пока не перестала его хотеть. Это было похоже на что-то отдельное от меня, как будто я смотрела неузнаваемую киноверсию самой себя. Мне трудно объяснить все это самой себе даже сейчас, и я не знаю, в чем дело, пока не вспоминаю, что мне было всего пятнадцать. Обнаженную человеческую слабость пятнадцати лет объяснить невозможно.
Однажды я попыталась сказать «нет», но Джейсон закрыл мне рот рукой и все равно вошел в меня. Я знаю, что он меня слышал, но он никогда не признавал этого, и я не стала ему перечить. После мне было легче притворяться, что я хочу секса, чем говорить «нет», раз он бы взял то, что ему хотелось, в любом случае.
В школе Энди ударил меня по плечу.
— Слышал, ты писала любовные письма, — сообщил он, — слышал, что все они о том, как сильно тебе нравится, когда Джейсон Аллес внутри тебя.
Мне с трудом удалось устоять на ногах и справиться с желанием свернуться всем телом в клубок из-за напряжения, которое я почувствовала в животе.
— Я ничего не писала. Я бы никогда этого не сделала.
Джейсон. Письма написал Джейсон.
Я сразу поняла, что это значит для моей репутации.
Энди был прирожденным скептиком, но, я думаю, он распознал что-то честное в моей реакции.
— Клянешься?
— Конечно, клянусь. Ты за кого меня принимаешь?
— Во всяком случае, ты та, что я себе представлял еще вчера, — съязвил Энди. — Сегодня никто не думает о тебе так, как вчера.
Я кивнула, готовясь впитать в себя того нового человека, которым считал меня весь мир. Я не стала выяснять отношения с Джейсоном, так как это было именно тем, что, по мнению всех, непременно должно было произойти, и тем, что, по моему мнению, я заслужила. Я смотрела, как увядают крокусы, как цветут нарциссы и тюльпаны, как набухают и раскрываются бутоны на ветвях деревьев, как одуванчики, наполовину ярко-желтые красавцы, наполовину зеленые сорняки, устилают задний двор, где соседи не могли их видеть. Я начала оставлять дверь запертой, чтобы Джейсону приходилось стучать в мое окно, поднимая шум. Я жаждала того дня, когда мама войдет к нам, того дня, когда она подскажет, как покончить со всем этим. Я хотела начать заново мамину историю о наводнении, хотела, чтобы она затащила меня, кричащую и неблагодарную, в безопасность окрестных сосен.
А потом однажды утром я проснулась, а Джейсон все еще был в моей спальне, и была суббота, и я услышала, как мама проснулась и ходит наверху, шаркая ногами.
— Убирайся, — прошептала я. — Иди домой.
— Перестань сходить с ума, — огрызнулся он и торопливо стал одеваться.
Он вылез в окно и бросился бежать. Было уже совсем светло, и я представила себе маму у кухонного окна, наблюдающую, как Джейсон бежит по двору, переполошив птиц, прилетевших к кормушке. Я боялась подниматься наверх. Но я не могла ждать.
Это было хуже, чем я себе представляла. И Энди, и мама сидели за столом. Невозможно было поверить, что они не видели Джейсона.
— Мама, — начала я, но голос сорвался от душивших меня слез.
Последовала долгая пауза. «Скажи что-нибудь, — подумала я. — Пожалуйста». Я хотела, чтобы плотина ее молчания прорвалась. Мне нужны были наводнения, последствия, усилия по очистке.
Не глядя мне в глаза, она пронесла свою тарелку и чашку мимо меня на кухню, а потом долго наливала воду в раковину.
— Я сегодня неважно себя чувствую, — наконец сказала она и исчезла в своей спальне.
Энди окинул меня взглядом — выражение его лица заставило меня подумать, что его гнева хватило бы на нас двоих. Даже половина огня, горевшего в его глазах, могла бы сжечь весь мир.
— Вот дерьмо, Лотти, — выругался он.
Я бы хотела сказать, что отказ мамы действовать преподал мне ценный урок относительно необходимости самой улаживать собственные дела, что мне удалось научиться изящно заканчивать отношения, но именно Энди оказался тем, кто предпринял необходимые действия. Эту историю снова начали рассказывать, когда он предстал перед судом. Энди, болтающийся рядом с группой ребят на уроке труда, увидел, что Джейсон работает на станке. Начался случайный разговор, и следующее, что все увидели, это кончик указательного пальца Джейсона, лежащий на полу в опилках, поглощающих кровь, которая текла, затем капала, а затем сочилась по жирной капле на край станка. Энди клялся, что это был несчастный случай, и на почве этого утверждения возник консенсус. Мистер Ди, учитель, положил палец Джейсона на лед и отвез его в отделение неотложной помощи, но там не смогли пришить его обратно, так что у Джейсона осталась только половинка указательного пальца, удивительно похожая на консервированную копченую сосиску. Люди начали называть его Маленьким Дымком, и он перестал ко мне подходить.
После этого Джейсон исчез из моей жизни, а теперь то же самое произошло и с Энди, но с матерями так не бывает. Мы с мамой никогда не говорили о том дне — и вообще о тех днях. Я застряла в мире моей матери, которая привязывает меня к той версии моей личности, какой я являюсь, когда я с ней, и которая поглощает все другие, лучшие версии.
Я устроилась на работу в Денвере и перевезла маму в хоспис через дорогу от больницы, где у меня родился ребенок. Лия привела к ней Тайлера по крайней мере один раз, и я всегда буду благодарна за ее доброту. Мама рекомендовала медсестрам, какие книги прочесть, и делала им веселые выговоры за их привычку пить диетические газированные напитки.
Я быстро освоилась в городе, и его воздух показался мне особенно свеж, когда я родила свою Уиллу с помощью врача, удивительно эффективного специалиста, которого никогда раньше не встречала. Все медсестры говорили, что Уилла прекрасный ребенок, и я подумала: «Конечно, так и есть. Она самый лучший ребенок». Девочка вцепилась в мою грудь с первой попытки, не плакала, если только не нужно было ее перепеленать. Даже сейчас она не капризничает, моя Уилла. В ту ночь, что я провела в больнице, она спала четыре часа подряд, и хотя медсестры велели мне тоже спать, пока спит ребенок, я не могла. Рождение Уиллы было захватывающим, заставило меня чувствовать себя непобедимой. Потребовалось несколько дней, чтобы прийти в себя после прилива адреналина. В ту первую ночь в больнице, когда Уилла была завернута в хлопчатобумажное одеяло, а ее милая головка была покрыта мягкой вязаной шапочкой, я достала компьютер, чтобы отправить Энди фотографию.
Я была удивлена, увидев письмо, пришедшее от него. «Слышал от мамы. Придумал несколько имен для незаконнорожденных детей грустных клоунов с родео: Хихика. Крепышка. Техас. Смехачка. Шучу, сестренка. Как я понимаю, тебя можно поздравить».
Я не стала посылать ее фотографию. Я не могла вынести, что мою Уиллу станут связывать со мной. Мне хотелось навсегда оградить ее от любой жестокости, особенно от всего, что заставило бы ее соединить свое самоощущение с моей репутацией, с любой репутацией вообще. Люди будут верить в то, во что они хотят верить, касательно как себя, так и других. Я думаю, ключ в том, чтобы научить ее видеть это, не заставляя чувствовать своей ответственности, но для этого мне нужна совершенно другая версия самой себя.
На следующий день нас выписали, и я повезла Уиллу в коляске через улицу на встречу с мамой, слишком больной и слабой, чтобы покидать свою комнату. Ходить было больно. Я все еще была в сетчатом нижнем белье, с огромной послеродовой прокладкой, но солнце согревало мое лицо, и мир купался в ярком свете. Даже мама подняла жалюзи, и солнечный свет, проникающий в окна, затмил цифры на ее мониторах, осветив таинственные трубки, которые уже несколько недель работали над тем, чтобы сделать ее смерть максимально комфортной. Я верю даже сейчас, что мама прожила достаточно долго, чтобы встретиться с Уиллой, только благодаря силе своей воли. Маминой любви мне никогда не было достаточно, даже в конце, но она всегда присутствовала в моей жизни, а это уже кое-что.
Я приподняла мамину кровать, чтобы она села. У нее были кислородные трубки в носу и капельница в левой руке, но она обнимала Уиллу, прижимала ее к себе, ворковала и кудахтала как наседка.
— Она такая красивая, Лотти, — произнесла мама сквозь слезы, которые сверкали на солнце как серебро.
— Ее зовут Уилла, — сказала я. — Как Кэсер[90]. Такое случается, если бабушка работала библиотекарем.
Тут на лице мамы появилась искренняя улыбка, полная настоящего счастья. Свет ударил Уилле в лицо, и она чихнула своим нежным крошечным чихом. Мама прижала мою девочку к груди так, чтобы ее лицо было защищено от солнца.
— Боже, — сказала мама, улыбаясь. — Благослови тебя Господь, малышка.
Она почти пела, ее голос был таким мягким, таким любящим.
Там, в ее комнате в хосписе, я обернула Уиллу одеялом, которое мама когда-то использовала, чтобы затащить меня на дерево, и в которое потом заворачивалась долгие годы, дремля на солнце в кресле-качалке. Не было ни извинений на смертном одре, ни драматического выражения обид — точно так же, как мы не увидели в тот день на тропе маму-лосиху. Не было никакого спора, чтобы решить, должна была я попытаться защитить маму от опасности своим телом, или это должна была сделать для меня она. У мамы была своя история о наводнении, у меня своя, и когда я поняла, что мне не нужно их объединять, я снова почувствовала движение воздуха и позволила им обеим уйти, приблизившись к чему-то похожему на благодать. Когда я думаю о маме сейчас, когда тяжелая боль от тоски по ней переносится особенно тяжело, в моей памяти всплывают тщательно отобранные образы. Я представляю маму, спящую в своей кровати в хосписе, держащую Уиллу, как сокровище, как свет, который был в тот день повсюду вокруг нее.
Управление природными ресурсами
Лию повысили в должности из-за необходимости каждое утро ездить на стройплощадку Риверсайд-Оупен-Спейс — ее работа теперь больше касалась планирования, чем наблюдений за полевой командой. Но ее трехлетний сын Тайлер любил приезжать в Риверсайд, и ей нравилось бывать с ним в этом месте, представляющем нечто среднее между заброшенным индустриальным пейзажем и наполовину дикими, наполовину окультуренными многоцелевыми общественными землями. Это была идея Лии, возникшая еще много лет назад, — превратить старый карьер в открытое пространство, нарисовать карту системы троп и доступных рыболовных причалов, составить список местных водных растений, выращенных специально для данной среды обитания, заключить сделку с Отделом дикой природы Колорадо, чтобы снабдить пруды окунем, плотвой и синежабрым солнечником, построить площадки для надувных лодок. Через несколько дней Лия подпишет контракт на завершение проекта, и пространство бывшего карьера заполнится рыбаками, бегунами, собачниками, художниками-любителями, птицеловами и натуралистами, проверяющими наличие видов растений по своим спискам. До тех пор она могла приехать раньше рабочих бригад и показать эту городскую пустыню своему сыну, как будто она принадлежала им, как будто они одни владели этой красотой. Она могла пить кофе, пока облака меняли форму и перемещались над ней, пока луна исчезала, а ее собственная гордость за проделанную работу сияла, как восход солнца.
Этим утром она увидела, что необычно долгие дожди последних нескольких дней изменили ситуацию — тополя и ивы поникли, приобретя осенний цвет, и склонились к реке, уровень которой был слишком высок для сентября. Она была коричневой и бурлила, как в июне, все еще в пределах своих берегов, несмотря на предупреждения о внезапном наводнении, передаваемые по радио. Мир был странно тих, дождь приглушал обычный гогот гусей, шорохи кроликов, снующих в кустах.
Дворники на ее джипе работали с максимальной скоростью, а с заднего сиденья доносилось негромкое бормотание Тайлера. Лия всегда испытывала облегчение, когда он был в хорошем настроении. У нее были трудные роды, ребенок часто мучился коликами, а когда немного подрос и научился ходить, приобрел склонность убегать и прятаться в дальних углах магазинов, если она отводила взгляд хотя бы на секунду. В три он заставлял пожилых женщин приподнимать брови и поджимать губы, а в детском саду он вел себя так шумно, что воспитатели неизменно упоминали об этом, когда она забирала его по вечерам. Тайлер спрыгнул с подножки и принялся зигзагами перебегать от лужи к луже, топая ногами в грязных ботинках. Его широкая улыбка, казалось, лучилась солнечным светом. Все, что чувствовал Тайлер — восторг, разочарование, радость, гнев, — он чувствовал всю дорогу и вслух.
— Мамочка! Рыба! — закричал Тайлер, указывая куда-то вверх. Лия подняла глаза и увидела скопу, которая боролась со свежей добычей, набирая высоту, пока наконец не добралась до гнезда. Это была идея Лии — повесить фанерную доску на высокие ветви мертвого тополя, чтобы заманить скоп в Риверсайд. В конце весны она уже увидела белогрудого самца, совершающего грациозные затяжные прыжки, после которых тот взмывал с речной рыбой в когтях и летел к гнезду, построенному из палок и веток в предназначенном для того месте, а потом внимание Лии привлек его похожий на кипение чайника клекот. Им он зазывал самку, которая в конце концов выбрала его. Теперь они с Тайлером наблюдали за птенцами в гнезде.
Лия имела степень в области управления природными ресурсами и проводила свои дни, обдумывая способы улучшения качества жизни людей — жонглируя конкурирующими требованиями добычи ресурсов и отдыха, рассматривая справедливое распределение, обеспечивая доступ к природе, чтобы больше людей полюбили ее так же, как она, усерднее работали, чтобы защитить ее, предпринимали громкие страстные действия, чтобы спасти умирающий мир. Она выросла, ловя рыбу в этих прудах, когда те еще были заброшенной каменоломней. В старших классах она под этими старыми тополями училась запивать водку пивом и целоваться с мальчиками. Она залезала в спальный мешок и ночевала на берегу пруда, мечтая о будущем, таком же ярком, таком же великолепном, как созвездия ночного неба. Она хотела дать своему мальчику все лучшее, что сама получила от этого места, хотела, чтобы он знал, что у него есть корни в этой земле, хотела, чтобы он чувствовал, как эти корни могут питать и поддерживать его. По правде говоря, Лия сама нуждалась в постоянных напоминаниях о том, чего стоят эти корни. Корни связывали, глубоко вонзались, порождали нерешительность после затяжного периода прошлых катастроф, служили легкой мишенью для катастроф будущих.
— Я голоден, мамочка.
Тайлер потерял интерес к скопе и занимал себя тем, что выдергивал пучки бизоновой травы.
— Хочешь, я принесу тебе рыбку? — спросила она, наклонившись к нему с улыбкой и согнув пальцы, как когти.
Тайлер скопировал ее движение, но, схватив обе ее щеки своими когтистыми пальцами, сжал их чересчур сильно. Он всегда заходил в игре слишком далеко. Лия задавалась вопросом, как ей научить его не переходить границы, которые люди установили для себя, линии, которые он всегда пересекал, не нанося ущерба своему чувству самоощущения и уверенности в себе. Она подумала, каким маленьким должно быть его сердце. Каким хрупким.
— Не рыбку, нет. Лакомство!
— Ладно, дружок. Пусть будет лакомство.
Тайлер помог ей пристегнуть ремни на своем детском кресле и вернулся к спокойной игре с игрушечными автомобильчиками. Она повернула ключ в замке зажигания и в последний раз оглядела облагороженную ею местность. Потребовались время и терпение, чтобы откалибровать баланс нарушенной экосистемы, определить, какие инвестиции приведут к оптимальному результату. Она потратила годы, работая над проектом «Риверсайд», который, по общему мнению, был успешным, но ей еще предстояло найти способ применить эти принципы к остаткам своей неудачной семейной жизни. Прошло несколько месяцев с тех пор, как она в последний раз была в кафе, с тех пор, как она была где-нибудь, кроме детского сада Тайлера, работы и маленькой игровой площадки во дворе их жилого комплекса. Теперь люди смотрели на нее по-другому — подозрительно, осуждающе, иногда с жалостью. Покидая свою квартиру по той или иной причине, она каждый раз думала о камуфляже: «Я могла бы надеть маску. Натянуть на голову простыню. Найти убедительные фальшивые усы», — но анонимности, которой она жаждала больше всего на свете, ожидать было невозможно. Все в этом городе знали, кто она и чем занимается. Каждый был своего рода свидетелем. И все же ей хотелось сладкого ванильного сиропа, приятной густоты взбитых сливок на языке. Она хотела, чтобы крошечные вазы гвоздик ярко выделялись на фоне серого, затуманенного света, а какое-нибудь произведение местного искусства на стене было похоже на радужную магию. Как и Тайлер, она хотела угощения, небольшого удовольствия, маленького шага назад к нормальной жизни.
Кофейня была такой же, какой она ее помнила, — уютной, наполовину полной, запахи кофе и выпечки, маслянистые и сильные, держались слоями. Бариста, постоянно меняющиеся местные девушки-тинейджеры с большими городскими амбициями и едким остроумием, флиртовали с посетителями, надеясь на чаевые. Лия почувствовала, что ее сердцебиение замедлилось, дыхание нормализовалось. Видишь? Бояться нечего. Тайлер, ошеломленный открывшимся перед ним выбором, прижался лицом к стеклу витрины с выпечкой. Его глаза блестели.
— Маффин с черникой, — сказал он, и на его лице отразилась такая радость, когда он держал угощение в своих руках, что Лия чуть не рассмеялась вслух.
Она заказала латте и испытывала чувство выполненного долга, пока не увидела Бобби Джексона и его отца, Элмера, уставившихся на нее из-за углового столика. Ей тут же почудились долгие дни дождей, дождей, почти невозможных для Колорадо, дождей, похожих на три сезона муссонов подряд, промочивших кафе насквозь. Я могла бы схватить Тайлера и убежать. Я могла бы просто уйти и никогда больше не возвращаться. Но Бобби шел к ней с непроницаемым лицом, и ее тело, оцепенев, не реагировало на отчаянные сигналы мозга, побуждающие к бегству.
— Давно тебя не видел, Лия, — услышала она, и ей стало неприятно, что Бобби спокоен, как будто их отношения не омрачало что-то тяжелое.
— Похоже, ты сегодня утром не видела первую полосу, — произнес Элмер, протягивая ей экземпляр местной газеты. — Вряд ли ты появилась бы сегодня в городе, если бы знала, что там написано.
— Папа, — одернул отца Бобби, но не посмотрел в глаза ни Лии, ни Элмеру.
— Можно мне пончик?
Лицо Тайлера было липким, рубашка покрыта крошками.
Лия усадила его на ближайший стул:
— Ешь свой маффин, дружок.
Она посмотрела на газету и потерла глаза. Это было знакомое чувство, к которому она возвращалась снова и снова, даже когда была одна, наполовину стыд, наполовину гнев, боль в животе. Статья была посвящена разоблачению дела, которое год назад отправило в тюрьму ее теперь уже бывшего мужа, Энди, служившего в полиции. Энди почему-то решил, что Бобби, их старый школьный друг, друг всех в городе, производит метамфетамин на заброшенном сахарном заводе, который Элмер купил по дешевке на аукционе после банкротства. Через несколько месяцев наблюдения Энди наконец вызвал команду спецназа, которая не нашла ничего, кроме нескольких старых банок с подозрительным порошком и комнаты, полной заячьих шкурок, изъеденных блохами.
— Это сахар, — заявил Элмер. — Там полно сахара.
Но Энди сказал, что экспресс-тест, который он сделал на месте, показал метамфетамин, надел на Бобби наручники, оставив все окна в старом офисе завода, в котором жил Бобби, разбитыми, а двери — сорванными с петель. Бобби провел неделю в тюрьме, пока образец, который послали в лабораторию, не дал положительный результат на крылья насекомых, пылевых клещей и да, сахар, но ни единого следа метамфетамина обнаружено не было. Бобби отпустили, но он был потрясен и сильно нервничал. Младший офицер сообщил о нарушении закона на месте происшествия, и было установлено, что Энди сфальсифицировал экспресс-тест. Расследование обнаружило подложные, недостающие и незаконно полученные улики в других делах, в которых участвовал Энди, и он уже шесть месяцев сидел в тюрьме. Элмер арендовал кран, купил уйму краски и огромными буквами написал на крыше старого завода следующее послание: «Это был сахар, дурак!»
Бобби и Лия дружили еще с начальной школы, а ее родители дружили с его родителями. Даже сейчас он не заблокировал ее на «Фейсбуке», что она считала каким-то чудом. В детстве она ела торт на вечеринках по случаю дня рождения Бобби, била его и Элмера, играя в «подковы»[91] на выпускном вечере в старшей школе. Когда Лия только начинала работать в их городе, Элмера, казалось, совсем не беспокоил тот факт, что она была леди с собственным мнением и способностью принимать решения, и другие мужчины, которые могли бы ей сопротивляться, последовали его примеру. Собственные родители Лии переехали во Флориду — пили днем на пляже, загорали, пока кожа не стала похожей на ту, из которой делают сумки, — так что Элмер и Марсия, его жена, стали для нее кем-то вроде вторых родителей. Когда родился Тайлер, они пришли навестить его с поздравительной открыткой и детской вязаной шапочкой ручной работы.
После всего этого Лия подала на развод, получила полную опеку над сыном и быстро скрылась. Она не видела Бобби или Марсию, только Элмера на работе, где он стал гораздо менее сговорчивым, если не откровенно холодным. Невозможно было определить, насколько сильно они винили ее в случившемся. Лия, в отсутствие другой информации, предположила, что Энди все испортил, и Элмер, и Марсия, и Бобби тоже, вероятно, никогда ее не простят.
Тайлер бросил пустую бумажку от маффина на пол кафе и начал кричать.
— Я хочу пончик! — вопил он. — ПОНЧИК!
Потом он заполз под стол, все еще воя глубоким гармоническим полутоном под аккомпанемент дождевых капель, которые, бросаемые ветром, тяжело стучали в окна и в стеклянную дверь. Одна из барист широко раскрыла глаза и слегка покачала головой, а другая скрыла ухмылку. Элмер толкнул Бобби локтем. Бобби отвернулся, чтобы Лия не могла понять, какую реакцию он скрывает.
В правой стороне головы Лии нарастала боль. «Если я куплю ему пончик, чтобы он заткнулся, — подумала она, — они скажут, что я его испортила». Тайлер прибавил громкость.
— Я ненавижу тебя, — заявил он, сопли и слезы блестели на его щеках, как глазурь. — Я хочу папу. Я хочу пончик.
Лия старалась выглядеть компетентной, нет, готовой урегулировать ситуацию. Ей нужно было казаться способной сделать это. Почему он так себя ведет? «Ему всего три года, — сказала она себе, — он ничего не может с этим поделать». Она поставила кофе на стол и опустилась на четвереньки. Жар пробежал у нее по спине, стыд ревел в ушах, как морская раковина. «Думаю, я тоже».
— Нужна помощь? — спросил Бобби.
Элмер фыркнул и покачал головой. Другие посетители смотрели на них, бариста закатывали глаза и перешептывались.
— Нет, спасибо.
Чего бы она сейчас ни отдала, чтобы перемотать утро назад, придерживаться обычной рутины, довольствоваться домашним кофе, скопами, ловящими рыбу, и теми частями мира, по которым она все еще могла передвигаться с комфортом.
Сидящий под столом Тайлер залез еще дальше от нее, все еще крича. Когда она подобралась к нему достаточно близко, он схватил ее за руку и укусил. Он не повредил кожу, но Лия охнула и отдернула руку с такой силой, что Тайлер упал на спину, с громким звуком ударившись головой о пол. Лия была в ужасе, ее переполняло чувство вины, а тут еще Тайлер начал повторять удавшееся ему движение и биться головой об пол. «Ради бога».
— Господи, — произнес Элмер.
Тогда Лия схватила Тайлера грубее, чем собиралась. Усевшись на полу по-турецки, она притянула сына к себе на колени и попыталась успокоить гнев, страх и растущую беспомощную темноту, которую его приступы вызывали в ее сердце, — в надежде, что это утихомирит мальчика. Она сделала глубокий вдох, чтобы взять себя в руки, медленно сосчитала до трех, а затем попыталась прислушаться к успокаивающему стуку дождя по темным окнам. Когда ее голос смог придать видимость спокойствия ее гневу, она сказала:
— Не кусайся, дружок. Мы не кусаем людей. Это больно.
Тайлер размахивал руками, пытаясь достать своими маленькими кулачками до ее шеи, ее лица. Она притянула его к себе, пытаясь скрыть панику в голосе, повторяя снова и снова: «Я здесь с тобою, дружок. Я тебя люблю. Можешь успокоиться».
— И всегда он такой?
Это спросил Элмер. Никакой пощады.
— Папа, он просто малыш, — вступился Бобби.
Он выглядел обеспокоенным, напряженным, на грани того, чтобы потянуться к ней.
— Дайте нам минутку, — отозвалась Лия. — Ему просто нужно успокоиться.
Тайлер откинул голову назад, ударив ее затылком в челюсть, и Лия попыталась расслабить плечи, расслабить мышцы, дышать сквозь боль. Когда Тайлер вел себя так, она чувствовала, что должна сдерживать его, обнимать, быть и его щитом, и его смирительной рубашкой, но она не могла встать между его яростью и его сердцем, отчего не могла винить сына. Даже когда она пыталась успокоить мальчика, она знала, что гневается на него по крайней мере так же сильно, как любит. Она старалась не смотреть на бариста, на Элмера и Бобби. Отказываясь признавать их присутствие, она чувствовала себя немного более уединенно. Лия все время удивлялась тому, как она умеет обеспечить себе комфорт, даже когда в ее ситуации нет никаких ощутимых изменений.
Наконец Тайлер успокоился и устроился поудобнее у нее на коленях. Измученный, он повернулся, обнял ее за шею и прижался скользким от соплей носом к ее коже. Когда она его подняла, голова мальчика тяжело легла ей на плечо. Заказанный кофе она оставила стоять на столе, чувствуя тошноту от всей этой горькой сцены. На прощание она кивнула Бобби, а газету бросила Элмеру на колени.
— Я не Энди, — сказала она. — Вам следовало бы это знать.
Ее сердце колотилось от избытка адреналина, от желания самой броситься на пол, начать колотить руками и ногами по плиткам, выпустить крик, ужаснувший бы окружающих. Но вместо этого она завезет мальчика в детский сад и поедет на работу. Истерики, с которыми она сталкивалась там, устраиваемые взрослыми мужчинами, были менее частыми, и с ними было гораздо легче совладать.
Она оставила своего беспокойного сына в детском саду и уехала, пытаясь разобраться в тех диких эмоциях, что вспыхнули в глазах мальчика и исчезли. Было еще рано, когда она вернулась в Риверсайд, но Элмер уже был на месте, вероятно, поджидал ее, чтобы пожаловаться. Он частенько придумывал способы усложнить ей работу. Избежать этого было нельзя. Она опустила стекло, склонила голову набок и ждала, когда он что-нибудь скажет.
— Ты все еще собираешься посадить эти водные саженцы именно сегодня? — спросил Элмер.
На нем были грязные сапоги до колен и ярко-желтый дождевик. Он был похож на пожилого Медвежонка Паддингтона[92]. В кузове его грузовика валялись лопаты, грабли и вилы с расколотыми деревянными ручками. Недавно Элмер потребовал еженедельного обновления планов строительства в Риверсайде, и кто-то с зарплатой, более высокой, чем у Лии, согласился, что он прав. Элмер стал инспектором ирригационных систем еще до того, как она начала работать в офисе городского планированная, а возможно, и до ее рождения. Пруды в Риверсайде питались оросительными системами, которыми управлял Элмер. В них поступала талая вода с запада Континентального водораздела, перекачивающаяся насосами на безводный Передний хребет. Элмер мог поднимать или опускать уровень воды в прудах, открывая или закрывая шлюзы в серии бетонных плотин, разбросанных по участку, с которыми Лии по закону не разрешалось работать самостоятельно.
Ее команда, несмотря на крайний срок и дождь, собиралась сажать саженцы, но Лия не хотела, чтобы Элмер порадовался, что знает об этом. Поэтому она пожала плечами:
— Когда приедет начальник участка, вы можете спросить его.
Элмер считал своим долгом, как гражданин и как инспектор ирригационных систем со стажем, высказать свое мнение. Как правило, половина городского совета злилась на Элмера, а половина его любила. Отслеживание того, кто на чьей стороне, само по себе могло стать работой на полный рабочий день. С другой стороны, в эти дни многие злились на Лию — воспитательницы в детском саду Тайлера, продавцы в продуктовом магазине, несколько человек на работе, которые были недовольны ее успехом, но перемена в Элмере ранила глубоко. Лия знала, что не сделала ничего плохого, что его отношение к ней ужасно несправедливо, но, как всегда говорила ей мать, такова жизнь. В ней нельзя ожидать справедливости.
— На вашем месте я бы сегодня ничего не сажал, — проворчал Элмер.
— Как насчет того, чтобы вы пошли делать свою работу, — отрезала Лия, — и позволили мне делать мою.
Лицо Элмера покраснело, и Лия почувствовала удовлетворение. Она знала, что это выведет его из себя.
— Озеро Эстес почти заполнено. Скорее всего, они начнут сбрасывать воду вниз по реке и в систему каналов, чтобы снизить давление на плотину, — продолжил Элмер. — Будет лучше, если шлюзы будут открыты, когда вода в каналах начнет подниматься.
— Мы уже согласовали график, Элмер. Мне нужно, чтобы шлюзы были закрыты. Если вода поднимется слишком высоко, у нас возникнут проблемы с посадкой саженцев. Они слабо укоренены, и их смоет водой.
— Что вы сейчас сказали о том, чья это работа? Я управляюсь со шлюзами с тех пор, как вы были в пеленках. Я видел ущерб от наводнения семьдесят шестого года. Вы должны меня послушаться.
— Это не личное, Элмер. Дело просто в назначенных сроках.
— Что ж, это будет ваша ошибка.
Лия чувствовала себя измученной. Она не думала, будто это была ее вина, что Тайлер был таким чувствительным или что Энди сфальсифицировал доказательства в стольких делах против жителей города. Она представила своего мужа в оранжевом комбинезоне, какие носят заключенные, и удивилась, почему так много людей считает, будто она тоже должна его носить. «Было бы намного легче делать свою работу в одиночку, — подумала она, — без постоянного ощущения, что Энди находится где-то рядом».
Лия посмотрела на реку, на шлюз, бросила взгляд на молодых скоп, борющихся за место в гнезде — первенец, самый большой, всегда отталкивал остальных. За последние несколько недель Лия не так часто видела их родителей и предположила, что птицы готовятся к перелету, отучая своих птенцов от защиты и легко добытого корма. Она спрашивала себя, каково это — улететь самой и как тяжело ей придется работать, чтобы взять Тайлера с собой.
— Что ты говоришь сыну? О его отце?
Лия посмотрела на Элмера. Ее первоначальный шок сменился подозрением, но выражение лица у Элмера смягчилось, и в нем появились черточки доброты, напомнившие о том Элмере, которого она помнила с прежних времен.
— Немногое. Что папе пришлось уехать. — Лия почувствовала, как подступают слезы, но заставила себя сдержать их. Только не перед Элмером. Не сейчас. — Я думаю, надо подождать некоторое время, прежде чем рассказать ему все.
Почему она доверила Элмеру даже эту небольшую информацию, ей было непонятно. У нее накопилось так много вопросов, а спросить было не у кого.
— Он чем-то напоминает мне Бобби в таком же возрасте. Чувствительный.
Элмер сел в свой грузовик, завел двигатель. Скопы вздрогнули от его шума. Оставшуюся часть дня, наблюдая за тем, как команда сажает саженцы и ее люди настилают крышу в новых туалетах, Лия задавалась вопросом, были слова Элмера предложением мира, или она просто неправильно понимала его все это время, и он изменил свой взгляд на многие вещи. Может, просто произнеся вслух «Я не Энди», ей удалось что-то изменить. Если так, то это было невероятно хорошо. Она смотрела, как зловеще бурлит река, смотрела, как она набухает от безжалостных потоков дождя, а затем пришло время забирать Тайлера из детского сада. Лия чувствовала себя необычно. Ее жизнь внезапно стала слишком большой для одного взрослого человека и ребенка.
Вода из водосточного желоба на крыше бежала к ливневым стокам за пределами детского сада, поток растекался по асфальту парковки большими веерами, исчезая в стремительном ручье, струящемся вдоль бордюра. Лия потопала грязными ботинками по коврику, нажала кнопку звонка и помахала в камеру у охраняемого входа. Мысль о том, что Тайлер заперт от нее, что ей нужно чье-то одобрение, чтобы попасть внутрь, ближе к сыну, всегда казалась странной. Администратор сказала:
— Я думаю, нам нужен хороший дождь.
Хотя Лия ее не поправила, она знала, что это не совсем так. Земля достигла насыщения несколько дней назад.
Госпожа Эверс, директор детского сада, высунула голову из двери своего кабинета.
— Миссис Тинкер? Мы можем поговорить минутку?
Лия кивнула. Ее вызывали в кабинет директора? Она почувствовала странную волну стыда, хотя и знала, что это чепуха.
— Тайлер не спит, — сообщила госпожа Эверс.
Лия рассмеялась:
— И вы мне об этом рассказываете! Он и по ночам-то почти не спит.
Госпожа Эверс подняла бровь и не ответила на улыбку Лии.
— У нас здесь такое правило.
— Как можно установить правило, касающееся сна?
— Государственные правила гласят, что дети должны спокойно лежать на матрасе не менее двадцати минут в день, — заявила госпожа Эверс.
— Конечно, но это совсем не то, что спать. Он не спал днем с тех пор, как ему исполнилось десять месяцев.
— Все остальные трехлетки спят, некоторые из них больше двух часов. В комнате во время сна должно быть тихо.
Лия уловила движение капель дождя на оконном стекле, то, как они опускались на него, как дрожали, не зная, падать им дальше или нет, прежде чем начать свой медленный, извилистый спуск к карнизу.
— Разве нет другого места, куда бы он мог пойти, пока другие дети спят? Комната для бодрствующих?
В голове Лии возникла картина «комнаты паники»[93], и она подумала, что, возможно, в данном случае аналогия верна.
— Это невозможно.
— Не так невозможно, как заставить трехлетнего ребенка молчать в течение двух часов. — Лия знала, что есть вещи, с которыми попросту невозможно справиться. Мужья, которые принимают преступные профессиональные решения. Дети, которые не устают днем. — Я не могу заставить его спать. В этом отношении я имею на него не больше влияния, чем вы.
— Если ситуация не улучшится, нам, возможно, придется применить дисциплинарные меры. Возможно, временный запрет на посещение детского сада.
— Вы применяете такие меры к дошкольникам?
Лия изо всех сил пыталась привести в соответствие свое видение детского сада — любящих дошкольников воспитателей, поющих ласковые песенки, мягко напоминающие детям, что пластилин «плей-до»[94] не предназначен для еды, и распределяющие время между уборкой и сказками — с отсутствием сострадания, которое, как она чувствовала, эти женщины совсем не испытывали к ее сыну. Встанет ли все на свои места, если он уснет днем? Любят ли здесь больше уставших детей?
— Мы оставляем за собой право. Это наша политика.
Лия подняла Тайлера в воздух, когда его к ней привели, почувствовала, как его живот прижался к ее груди, а маленькие ножки сжали ее бока. Она держала его дольше, чем обычно. Если бы она любила Тайлера больше, любила его горячей, вероятно, она могла бы противодействовать тому, каким его видит мир, тому, каким, возможно, мир заставляет его видеть себя.
— Мамочка, — произнес он, и его горячее, слегка кислое дыхание коснулось ее шеи. — Дождь все еще плачет?
— Дождь все еще идет, дружок. Пойдем-ка домой.
Ее новый жилой комплекс выглядел шикарно, в нем был даже общественный клуб с бассейном и тренажерным залом, но стены были тонкими, щелистыми, пропускающими не только звуки передаваемой по телевизору у соседей игры «Бронкос»[95], но и запахи овощных супов из их кухонь, равно как и искусственные ароматы шампуня из душевых. Лия насыпала в миску две чашки муки, две чайные ложки разрыхлителя, щепотку соли. Она решила воспользоваться моментом, чтобы почувствовать свободу и приготовить блины на ужин вопреки требованиям Энди, настаивавшего, чтобы блюда, которые готовят на завтрак, подавались только до десяти утра. «Это как в „Макдоналдсе“, — говорил он еще до того, как „Макдоналдс“ начал подавать завтраки весь день. — Они знают, что к чему. Так что положи конец этому дерьму в десять». У Энди было много таких строгих правил. Энди встал бы на сторону госпожи Эверс. Он считал, что дети бросают вызов власти, только если им это позволено, и ему было всегда ясно, что любые недостатки их сына заложены в нем неподобающей вседозволенностью со стороны любящей Лии. «Но отчасти в них был виноват Энди», — подумала она. Энди работал в ночные смены и проводил с Тайлером весь день, пока Лия работала. Вопросы доверия и вины были тяжелыми темами в ранние годы их брака. Это был парадокс матери-одиночки — с одной стороны, свобода принимать все решения самостоятельно, с другой — беспокойство о том, что она может принять решения неправильные.
Тайлер лежал животом на линолеуме, катая игрушечную копию мультяшной машины «Молнии» Маккуина[96] длинными дугами вокруг своего тела, издавая при этом губами тихие звуки двигателя. Лия вышла из раздвижной двери, встала на самом краю крытой лоджии и почувствовала, как туман сгущается на ее предплечьях. Короткая передышка от дождя, обещание нового ливня в темных облаках на западе. После холодного влажного воздуха лоджии она была благодарна за тепло, встретившее ее, когда она вошла в комнату.
— Пойдем, дружок, — позвала она. — Пора ужинать.
— Нет, спасибо, — отказался идти Тайлер.
Лия собралась с духом:
— Вымой руки, сынок. Это ужин. Без выбора.
Тайлер вскочил, побежал в гостиную и спрятался за диваном.
— Нет, — объявил он. — Никакого ужина. Машинки.
— Ты можешь поиграть после ужина, — возразила Лия. — Положи игрушку и иди поешь.
Тайлер закричал:
— Не-е-ет!
Лия запустила руки в волосы, сжала виски ладонями. Снаружи раздавалось сердитое щебетание зябликов, ругавших агрессивную белку, которая вытеснила их из кормушки для птиц в общей зоне[97].
— Ладно, сынок, — согласилась Лия. — Ты выйдешь из-за дивана так, чтобы я тебя видела, и можешь продолжать играть.
Энди схватил бы мальчика, усадил на стул, повысил голос, чтобы напугать Тайлера и заставить повиноваться. А потом он проговорил бы с рычанием в голосе: «Научись устанавливать закон, Лия. Если сын будет вытирать о тебя ноги сейчас, у тебя возникнут настоящие проблемы, когда он станет подростком».
Лия не выдержала бы еще одной истерики, ей не хотелось снова наказывать своего малыша. Она представила себе Тайлера через десять лет, только что ставшего подростком. Все его мальчишеские эмоции будут неуклюже перетекать в тело, на котором растут волосы, мышцы. Она представила себе преувеличенные очертания его тела. Оно было размером с Энди, хрупкое, распадающееся на куски. Это было ужасно. Ей хотелось избавиться от ответственности за поведение сына, поддаться смущению, сказать всем: «Он унаследовал это от своего отца». Но еще больше, чем отпущения грехов, Лии хотелось полностью вытравить из Тайлера его отца, ей хотелось, чтобы та его половина, которая принадлежала ей, поглотила вторую половину. Чтобы Энди был стерт.
Тайлер сидел на коленях у Лии и ел блин, пока она читала ему вслух «Спокойной ночи, Луна»[98]. Когда она уложила его в постель, он положил обе руки ей на щеки, пристально посмотрел в глаза и улыбнулся. Лия задумалась о трудной для понимания неровной пульсации трудностей, которые, казалось, каким-то образом усиливали любовь, и о том, как эта любовь, усиливаясь, запутывала рациональное планирование.
— Как думаешь, сынок, ты можешь попытаться вздремнуть завтра в детском саду? — спросила она и прижалась лбом к его лбу.
— Нет, — возразил он, потершись носом о ее нос. — Никакого сна.
— Ладно, дружок.
Лии хотелось, чтобы этот момент длился долго, она хотела пропитаться сладостью своего сына, сохранить ее как защиту от всего, что было так трудно.
В вечерних новостях показали вздувшееся озеро Эстес на фоне плотины и сказали, что туннель Адамса под национальным парком Роки-Маунтин задействован на полную мощность, пока ирригационная система способна выдерживать удар непогоды, однако что будет в ближайшие дни, неизвестно. «Если дождь, как мы предполагаем, будет лить и дальше, — продолжил синоптик, — завтра может начаться серьезное наводнение в районе каньона реки Биг-Томпсон». Лия почувствовала, что страх обволок ее сердце, как облака, скрывающие вершины Скалистых гор. Элмер пытался ее предупредить. Риверсайд находился прямо на пути этого паводка вместе с ее уязвимыми водными саженцами, ее неоперившимися скопами в гнезде из веток.
На следующее утро Лия пораньше забросила Тайлера в детский сад и сразу же отправилась в Риверсайд. Она собиралась отрегулировать прохождение воды на верхнем шлюзе, проверить ее уровень и расход в канале Паршалла, справиться с ее безжалостным напором. К черту Элмера Джексона, пусть убирается со своей правотой. Полиция уже блокировала доступ к руслу реки Биг-Томпсон, следя за водой. Дождь струился ручьями по пропитанной влагой почве.
Полицейский пропустил Лию, дав ей проехать в направлении Риверсайда.
— Будьте внимательны. Шлюзы в Эстес-парке открыли час назад.
Лия почувствовала, как внутри у нее поднимается паника, как ее плечи приподнялись, а живот напрягся. Река выходила из берегов — бурлящий, безжалостный поток.
Она не смогла разглядеть скопу, подъезжая к ее гнезду, но на парковке уже стоял грузовик Элмера Джексона. Она снова посмотрела на реку и тяжело вздохнула, потеряв надежду. Прищурившись, она потратила минуту, чтобы сориентироваться, глядя сквозь пелену дождя. Ей хотелось взглянуть на Элмера, спросить, что он делает здесь в одиночестве, спросить, почему он думает, что его присутствие может хоть что-нибудь изменить. Могло ли существовать достаточное количество усилий, внимания, любви, способное защитить людей, ее проект, ее жизнь от чего-то подобного?
Затем она услышала крик, повернулась в его направлении и успела увидеть что-то похожее на взлетевшие вилы, вращающиеся в воздухе, прежде чем они опять скрылись за стеной высокой травы, росшей между ней и линией ирригационных каналов. Ступая по размякшей земле, она пробралась за сорняки и увидела, как Элмер неловко скрючился над верхней частью сороудерживающей решетки на водопропускной трубе, проходящей под грязной дорогой. Его ноги застряли в ее отверстиях и болтались прямо над высоко поднявшейся пенящейся водой.
— Господи, Элмер! — воскликнула она, бросаясь к нему. — Ты в порядке?
— Нет, черт возьми, я не в порядке, — пробормотал он, задыхаясь от усилий и боли, а потом медленно покачал головой. — Какая глупость.
Лия не могла понять, считает ли Элмер, что глупа она, задавшая дурацкий вопрос, или что глуп он, раз попался в ловушку.
Земля над водопропускной трубой была наклонной и неровной. По обе стороны решетки высились кучи разлагающихся водорослей, которые попали в канал после цветения в июле, сегодняшние водоросли лежали поверх кучи ярко-зеленой слизью.
— Осторожнее, — предупредил Элмер. — Водоросли мокрые, и там грязь. Ужасно скользко, поэтому я и оказался здесь.
Лия присела на корточки, ухватившись за верх решетки. Ей показалось, что ее ноги стоят твердо. В этой ситуации она чувствовала, что держит все под контролем.
— Вы в достаточно хорошей форме, чтобы выбраться, если я протяну руку? — спросила она. — Тут вокруг столько грязи.
«И вода, — подумалось ей, — вода поднимается так быстро».
— Думаю, да.
Элмер поморщился и тяжело выдохнул, протягивая руку. Она уперлась ногами и молилась, чтобы тина выдержала ее вес. Она ухватилась за его ладонь обеими руками и медленно, осторожно переставляя ноги, начала тянуть за нее, поднимаясь назад, вверх по склону.
— Погоди, погоди, — произнес Элмер, и она замерла, напрягшись, пока он вытаскивал из решетки сначала правую ногу, потом левую. — Кажется, левая у меня сломана. Или близко к тому.
— Скажи, когда будешь готов двинуться дальше, — сказала Лия и, когда Элмер подал сигнал, продолжила тянуть. Как только Элмер выбрался из водопропускной трубы, пришлось бороться с грязью. Она приподняла Элмера и повела к машинам, обняв за спину. На полпути они сели на поваленный тополь. Дождь стекал по желтому резиновому комбинезону Элмера. Она ожидала от него паники или по крайней мере какого-то внешнего проявления боли, но он сохранял стоическое выражение лица. Время от времени он делал неверный шаг, вздрагивал, чуть-чуть вскрикивал, но она делала вид, что не замечает этого. Она знала, что значит сохранять достоинство перед лицом унижения. Теперь она могла уважать это в Элмере.
— Зачем вы сюда пришли? — спросила Лия. — Решили умереть?
— Вы же сами хотели, чтобы эти шлюзы были открыты, чтобы вода вытекала отсюда как можно быстрее.
Небо было затянуто облаками, окружающие ориентиры были размыты постоянным, безжалостным дождем. Лия попыталась вспомнить, как это место выглядело при солнечном свете, при синеве неба, при лаконичном движении кучевых облаков. Она услышала шум, подняла глаза и увидела, как птенцы скопы, промокшие и несчастные, меняют положение в гнезде.
— Насколько все будет плохо? — спросила она.
— Думаю, очень плохо, — отозвался Элмер.
Лия была рада холодному дождю на лице, который, как она надеялась, скрыл ее слезы при мысли о том, что Риверсайду настал конец — долгие годы планирования, управления и работы, все, чем, как она представляла, это место может стать, — все это будет смыто, смыто навсегда.
Она встала:
— Вы открыли все шлюзы?
— Да, за исключением того, где я провалился.
— Наверное, я должна увезти вас отсюда, — сказала она, хотя уезжать ей совсем не хотелось. Она желала превратиться в твердый кирпич и известковый раствор, вырасти до гнезда скоп, прочно укорениться во влажной глине, поставить наводнению заслон, увести его подальше от Риверсайда. Она хотела бороться, но дождь лил как из ведра, плотина была уже открыта, и вся система была совершенно равнодушна к ее ничтожным желаниям.
Она посмотрела на Элмера, маленького, но сухого в своем желтом непромокаемом плаще. Скопы присели в гнезде, став невидимыми.
— Сколько у нас времени? — спросила она.
— Наводнение пока лишь в начале каньона, — ответил Элмер. — Так что у нас есть час, а может, и больше.
— Думаете, открытие этого шлюза поможет?
Элмер помолчал, затем пожал плечами:
— Может быть, не поможет уже ничто.
— Ждите здесь.
— У меня нет особого выбора, — буркнул Элмер. — Эта нога.
Лия использовала оставленные ею следы, чтобы вернуться, стараясь ступать как можно осторожнее в существующие ямки в грязи. Добравшись до плотины, она остановилась и сунула руку в холодную воду канала, напрягшись от усилия удержать ее неподвижной, в то время как сильное течение кружило вокруг и давило на нее, пытаясь сдвинуть с места, унести вниз по течению. Вода поднялась и уже текла поверх бетонных блоков. Лия нащупала колесо, навалилась на него всем весом, но не смогла заставить створки шлюза открыться. Она продолжала попытки, но мешала скользкая грязь. Она дважды упала так сильно, что ее плечо оставило следы в мокрой тине. Направляясь к машинам, обещающим безопасность, Лия увидела дрожащего Элмера, сидевшего сгорбившись там, где она его оставила, а затем почувствовала все сразу. Виновность в том, что заставила ждать раненого Элмера. Страх, что она пошатнется, упадет в воду, исчезнет в ней. Разочарование и ярость, вызванные тем, что она недостаточно сильна и не может открыть шлюз, спасти Риверсайд.
— Ты его открыла? — спросил Элмер, когда она подошла, грязная и покрытая тиной.
— Колесо заело, — произнесла Лия и закрыла лицо руками, пытаясь сохранить достоинство, но это не помогло. Все ее глупое «я» было измазано грязью.
Они медленно заковыляли к машинам. Элмер сказал почти нежно:
— Ты сделала все, что могла.
Он осторожно поднялся на пассажирское сиденье. По работавшему в автомобиле радио объявили, что школы закрываются. Автобусы, которые высадили детей всего пару часов назад, теперь отправились доставлять их домой. Перекрывшие дорогу полицейские разрешили припарковать грузовик Элмера на возвышенности.
Элмер позвонил Бобби и попросил встретить их у больницы.
— С кем остался твой паренек? — спросил он, тыча пальцем в экран своего телефона.
— Он в детском саду, — объяснила она. — Думаю, мне нужно за ним заехать.
Бобби встретил их у больницы и вместе с Лией помог Элмеру сесть в кресло-каталку. Лия очень хотела поскорей добраться до Тайлера, чтобы предоставить ему защиту и окружить заботой. Бобби положил руку ей на плечо.
— Я не знаю, что бы случилось, не окажись тебя рядом.
С минуту Лие казалось, будто Бобби хочет чего-то большего, чего-то, что могло оказаться объятием, хотя и не могло им стать.
Элмер тоже посмотрел на нее:
— Сегодня ты сделала все, что могла, Лия. Все, что в твоих силах.
Лия почувствовала, что ее глаза наполняются слезами, и вернулась к своему джипу, чтобы ехать к Тайлеру. Она чувствовала, что ее кровь бурлит так же, как и река. Это было унизительно — так сильно желать, чтобы ее простили, когда единственное, что она, возможно, сделала неправильно с самого начала, — это вышла замуж за Энди. Но, в самом деле, откуда она могла знать, что он окажется таким мерзавцем? У них было несколько счастливых лет. Энди укутывал ее плечи одеялом, когда она занималась допоздна, узнавал, сколько сливок она любила добавлять в кофе. Она ощущала глубокую связь с Энди, такую же глубокую, как и у нее с родным городом, чувство общей ответственности за его благосостояние и защиту. Однако в конце концов оказалось, что все это не имеет никого значения по сравнению с его неспособностью признавать свою неправоту, с его неуместно пылкой уверенностью в том, что он знает о людях вокруг него больше, чем они знают о себе сами. Даже самые плохие люди иногда бывают нежными. Даже лжецы, или, может быть, особенно лжецы, знают, как выглядеть добрыми. Она вдруг ощутила потребность скорее добраться до сына, такую глубокую, что почувствовала боль, как от ожога, и кровь запульсировала во всем ее теле. Она должна была защитить Тайлера сегодня и навсегда. Она должна быть уверена, что в нем проявится лишь самое лучшее, что досталось ему от отца, если ему вообще довелось унаследовать что-то от Энди.
Лия нажала кнопку охраняемого входа в детский сад, и администратор произнесла: «О’кей», но двери не открылись. Водосливы были переполнены, и потоки холодной дождевой воды лились вниз по ее спине, собираясь в лифчике, а потом медленно высвобождаясь, так что крошечные капельки зигзагами спускались к пояснице, смачивая пояс ее брюк.
Лия уставилась в камеру охраны, которая, как она знала, передавала изображение прямо на стойку администратора. Она была уверена: нельзя держать человека под таким дождем, хотя она уже промокла насквозь и вся в грязи, впечатляющее зрелище. Она втянула воздух, задержала в легких и, когда больше не могла сдерживаться, снова потянулась к кнопке. Но прежде чем она успела нажать ее еще раз, прозвучал женский голос:
— Я вас вижу. Попридержите коней.
Она внутренне улыбнулась, осознавая, что оставляет на полу грязную лужу.
— Я приехала за Тайлером.
— Вы можете пройти, — решила все же ответить женщина, явно встревоженная видом Лии, похожей на утопленницу.
Лия с трудом переносила запахи детского сада — подгоревшее молоко, закисшие подгузники, спреи с лизолом и дезинфицирующие средства для рук, — а сегодня к тому же было холодно и как-то особенно липко, а где-то на заднем плане звучали истерики, детские крики. Дети были так же встревожены, как и все остальные. Она не могла представить, как Тайлер вообще выдерживал подобную атмосферу, а потом вспомнила, что на самом деле он и не выдерживал.
Когда она вошла в помещение группы, то увидела Тайлера в одиночестве в углу комнаты, строящего большую башню из кубиков. Двое других трехлетних детей раскрашивали картинки вместе с воспитательницей, а госпожа Эверс, директор, читала сказку еще четверым. Когда башня Тайлера рухнула на пол, она увидела, как мисс Эверс бросила на нее раздраженный взгляд.
— Тайлер! — воскликнула она. — Соблюдай тишину!
Тайлер смотрел на груду упавших кубиков. Он выглядел таким убитым горем, что Лие пришлось бороться с желанием немедленно подбежать и обнять его.
— Тайлер, — строго продолжила госпожа Эверс, — ты меня слышал?
Другие дети, сидевшие у ее ног, смотрели на Тайлера так, словно он был комаром, чем-то раздражающим, что они могли, не задумываясь, прихлопнуть.
И тогда Лия почувствовала, что больше не может этого выносить. Она не могла видеть своего мальчика таким одиноким, таким изолированным, видеть, как взрослые, которым поручена забота о нем, провоцируют сами такое безразличное поведение. Она вошла в комнату, села рядом со своим сыном, заслонив его всем телом от группы детей, сидящих рядом с госпожой Эверс.
— Можно я помогу починить твою башню? — спросила она.
Тайлер забрался к ней на колени и запустил свои маленькие мальчишеские пальчики в ее волосы.
— Ты такая мокрая, мамочка.
— Миссис Тинкер, — вмешалась госпожа Эверс.
— Я приехала забрать его домой из-за наводнения, — отозвалась Лия. — Но с этого момента я забираю его насовсем.
— Согласно контракту, чтобы его забрать…
Лия оборвала ее:
— Я знаю, нужно подписать десять тысяч бумаг, и вы все равно возьмете с меня деньги за какое-то количество дней. Сегодня я этого делать не буду. Мне нужно просто забрать отсюда моего ребенка.
Она взяла Тайлера на руки. Было трудно уйти с достоинством, промокнув насквозь, неся трехлетнего ребенка и сумку с подгузниками, но Лия старалась по крайней мере держать подбородок высоко, чтобы с вызовом встретить взгляд госпожи Эверс, когда выходила за дверь.
— Вы не очень хорошо справляетесь со своей работой, — произнесла она, — если делаете ее лишь тогда, когда она легкая.
Тайлер, умиротворенно сидевший в автомобильном кресле, заснул по дороге домой. Лия восхищалась высотой уровня стремительно несущейся реки, гигантскими воронками у переполненных ливневых стоков, водой, наполовину скрывающей колеса джипа. Они провели день наводнения вместе. Тайлер прижался к боку Лии, посасывая большой палец. Они зажгли газовый камин, поели теплого супа, а потом читали книги при свечах, когда отключалось электричество. Они засиделись допоздна, слушая аварийные предупреждения по радиоприемнику, работающему на батарейках, под завывания ветра, который дребезжал оконными стеклами, бившимися о дешевые рамы.
Когда небо прояснилось, наводнение на реке Биг-Томпсон по-прежнему давало о себе знать. Лия и Тайлер пошли со своими соседями к барьерам из мешков с песком, которые полиция воздвигла выше русла реки. Риверсайд находился где-то под тремя этажами бурлящей коричневой воды, полной всего на свете: шипящих баллонов с пропаном, искореженных батутов, выкорчеванных сосен с узловатыми обнаженными корнями. Лия не могла поверить, что город может оказаться так глубоко под водой. Он вмещал гораздо больше всего, чем она думала, и все знакомое под этой бурлящей водой, конечно, теперь было неузнаваемо.
Позже она проехала вдоль барьеров и нашла свободный путь в больницу. Левая нога Элмера находилась на вытяжке, верх больничной койки был приподнят. В руках он держал развернутую газету. Воздух вокруг, казалось, дрожал от беспокойства.
— Как самочувствие?
Элмер посмотрел на пакет с пончиками у нее в руке, на мальчика, которого она держала на бедре. Лия задумалась, сработает ли такое предложение мира. Она не пришла бы, но у нее появилось смутное ощущение, что они нашли путь навстречу друг другу, что она может простить его за несправедливые обвинения и что он тоже ее простил.
Прошло некоторое время, прежде чем он заговорил:
— Тебе очень повезло, что Марсия ушла домой. Уверен, она не потерпела бы рядом со мной молодую женщину, приносящую пончики, в моем уязвимом состоянии.
— О, — произнесла Лия, сознавая неловкость положения. — Я не имела в виду…
Но потом она увидела огонек в его глазах и немного расслабилась.
Элмер хмыкнул. Она положила пончики на тумбочку рядом с кроватью и села на краешек стула для посетителей. Тайлер сел на холодные плитки пола, провел машинкой из игрового набора «Хот уилз» по металлическим прутьям кровати.
— Я могу чем-нибудь помочь?
— Ну да, — улыбнулся Элмер. — Хотя не думаю, что вам удастся закрыть все шлюзы на Риверсайде, когда вода спадет. У меня будут некоторые проблемы с тем, чтобы выбраться туда по крайней мере в течение месяца или около того.
— Вчера я даже не смогла сдвинуть с места ворота одного из них.
— Это не высшая математика, — возразил Элмер. — Используй немного смазки.
Элмер указал на свои джинсы, аккуратно сложенные и висящие на спинке стула. Лия попыталась представить себе жену Элмера, Марсию, взволнованную, усталую, складывающую джинсы, делающую это, исходя из предположения, что ежедневная забота и уход за другими людьми, а в особенности за теми, кто не может сам о себе позаботиться, есть интимная и мощная форма любви.
— Ключи в кармане. Там есть пара ворот с висячими замками.
Ей хотелось спросить у Элмера, как справиться с невероятно трудной проблемой воспитания сына, попросить совета, как обращаться с Тайлером, узнать его мысли по поводу пословицы «Пожалеешь розгу — испортишь ребенка», спросить, как разговаривать с людьми, которые не в силах любить ее мальчика так, как должны. Как узнать, что она любит его достаточно, что любит его правильно? Что ей делать, когда люди видят в ее мальчике то, чего в нем нет? Как принимать рациональные решения по волнующим вопросам?
Элмер протянул Тайлеру пончик, встретился с ней взглядом и не сказал ни слова. Она не знала, что делать с тем, что произошло между ними в этой тишине, но почувствовала, что ее поняли.
Несколько дней спустя, когда вода полностью спала, Лия посадила Тайлера в автомобильное кресло и поехала в Риверсайд, поглядеть на обломки пяти лет своей трудовой жизни. Она не нашла нового детского сада и никому не могла оставить своего сына. Доверия в ней больше не было. Она брала его с собой на работу, уверяя босса, что это временно, но плана у нее пока не появилось. Новая парковка в Риверсайде была разворочена, куски асфальта нашли в нескольких милях ниже по течению. Новые крыши над туалетами были сорваны. Два больших мусорных контейнера затонули в одном из прудов карьера. Водные растения были слишком молоды, чтобы противостоять силе воды, их нежные корни вырвало из донного грунта, и лилии и кувшинки смыло течением.
Бобби был там, он бросал камни в пруд, и Тайлер, очарованный этим занятием, подбежал, чтобы встать рядом с ним и лучше видеть. Лия глубоко вздохнула:
— Бобби, я не знаю, что…
Бобби махнул рукой, останавливая ее:
— Это не твоя вина, Лия. Я сожалею о том, что произошло между нами. Долгое время я не знал, что и думать.
Лия фыркнула:
— Я тоже, наверное.
— Папа послал меня сюда, чтобы тебе помочь. С каналами.
Он по-прежнему не смотрел на нее. Лия задумалась, только ли с ней одной Бобби не мог встретиться взглядом или со всеми другими людьми тоже. Она не знала, как обстоят дела между ним и Эми, его женой. Она никогда не задумывалась о том, что город мог отвернуться и от него, никогда не задавалась вопросом, что он чувствует в последнее время по этому поводу.
Они втроем прошлись по Риверсайду, стараясь наступать ногами на сорняки и полевую траву, чтобы ботинки не увязли в липкой грязи. Один за другим Лия поворачивала колеса, чтобы закрыть шлюзы каналов. В смазке нуждалось лишь то колесо, которое она не могла сдвинуть с места до наводнения. Изменение уровня воды, как и многое другое, не сразу бросалось в глаза.
Тайлер бросал камешки в канал, его смех был ярким и громким. Бобби присоединился к нему, тоже смеясь, и они оба внезапно забыли о ее присутствии.
Лия не знала, как правильно воспитать хорошего человека. У нее были сомнения в том, насколько сильно мать влияет на сердце сына, но, увидев Элмера и Бобби, она задалась вопросом, насколько сильно влияет отец. Какую часть Энди она увидит в своем мальчике, когда он вырастет, перейдут ли к Тайлеру то очарование и та юношеская нежность, которые привлекли ее к Энди в первую очередь, и что еще окажется врожденным для мальчика, такого жесткого и неуступчивого?
Гнездо скопы находилось выше уровня воды во время наводнения. Ветки гнезда были растрепаны, но целы.
— Послушай, Тайлер, — обратилась к сыну Лия, — ты видишь гнездо?
Она указала на дерево. Тайлер, очарованный новым другом и тем глухим плеском, который издавали камни при падении в канал, проигнорировал ее.
Бобби улыбнулся и пожал плечами:
— Наверное, там птенцы.
Но птиц видно не было — ни родителей, ни птенцов. И не было никакого способа узнать, улетели они во время непогоды сами, свободно и по доброй воле, или оказались пойманными в ловушку, утонули в воде, втянутые в водоворот, образованный стремительным напором воды. Она не хотела быть единственной, кого это заинтересовало.
Лия подняла мальчика, повернулась вместе с ним к дереву и снова указала на гнездо.
— Вот оно, сынок, — настойчиво проговорила она. — Смотри. Оно все еще там.
Тайлер отвернулся, отказываясь смотреть в ту сторону, куда она указывала. Лия сдалась, обняла Тайлера обеими руками, притянула его ближе к себе, почувствовала, как ее щеку щекочут его все еще тонкие детские волосы. Она начала перечислять про себя все, что, как она могла видеть, все еще стояло — это было гораздо легче, нежели составлять список того, что смыла вода.
Потерян пистолет, награда тысяча долларов, никаких вопросов
Кому: Маме
От: Чарли
Тема: Проект «Золотая лихорадка»
18 августа 2016
Дорогая мама!
Вчера мы с Крисом получили контракт на установку нашей гибридной гидравлической тормозной системы в национальном автопарке дальнемагистральных грузовиков, базирующемся здесь, в Лос-Анджелесе. Кроме того, мы получили записку от нашего отца, бывшего дальнобойщика, которая гласила:
Мальчики, я нахожусь на шахтерской заимке недалеко от Тонопы. Умираю. Вы хотите меня видеть? Поторопитесь. На вашем месте я бы не стал этого делать. Но я — не вы. — Дэл
Я сразу сказал: не наше это дело, брат.
Крис покачал головой. Он сказал, что мы должны сначала тщательно рассмотреть, как всегда, соотношение цены и стоимости ситуации.
Мой мозг размышлял о Дэле, но сердцем я все еще был в октябре прошлого года, в Колорадо, под катальпой, за твоим столом для пикника, покрытым клетчатой скатертью и заставленным разномастными блюдами: черным кофе, стейками, ветчиной, жгучей горчицей и знаменитым картофельным салатом «Мэри Лу Варгас». У тебя был один из волшебных моментов — помнишь? Когда ты и там, и не там, катаешься на волнах собственного разума, копаешься в своих темнеющих воспоминаниях? Либо это, либо ты мысленно повторяла проповедь, которая в тот день показалась мне особенно скучной. Я подавал тебе руку, когда ты с трудом поднималась и спускалась по церковным ступеням, но с тем же успехом я мог бы быть тетей Мэй, мог быть Крисом, мог быть деревянным костылем. Я определенно чувствовал себя деревянным, как кукла-марионетка, затвердевшим, холодным и расщепленным. Когда я встал, ты тоже встала. Ветер сдувал сухие листья с дерева, открывая путь солнцу, так, что оно мигало вспышками папарацци из-за лохматой коры, и твой образ, запечатленный светом, словно негативный рентгеновский снимок проникал в меня и сквозь меня, прожигал мои кости.
Ты посмотрела на меня, и твои глаза каким-то образом засияли чистой голубизной, заливая молочную пленку высокослоистого облака, которая опустилась на них за последние годы. Твои глаза на этот краткий миг снова стали голубыми, как глаза Криса, как глаза твоих сестер. НАОА[99] говорит, что высокослоистые облака достаточно тонкие, и сквозь них можно видеть солнце так, как оно видно сквозь матовое стекло. НАОА утверждает, что высокослоистые облака не создают эффект ореола, и когда они присутствуют, тени объектов на земле не видны. НАОА увлекается поэзией, магией и прогнозированием.
Ты улыбнулась, положила руки на обе мои щеки, ладони были прохладные, кожа — бархатной.
«Я не знаю в точности, кто ты на самом деле, — сказала ты, — но я знаю, что люблю тебя».
Твоя старая собака, Касс, начала лаять на невидимую белку.
«Позеленей, собака», — заругалась на нее ты. Из всех твоих оскорблений это мое любимое.
Ты видишь тени на земле, мама? Или ты видишь только туманный солнечный свет, как будто проходящий сквозь матовое стекло? Что эти вопросы, эти истории (если ты можешь их прочитать, если Мано читает их тебе) заставляют тебя чувствовать?
Томас Эдисон был невысокого мнения о досках Уиджа[100]. Крис уже некоторое время владеет подлинной «коробкой Фрэнка», изготовленной самим Фрэнком Сампшеном, который любил собак, гонялся за призраками и ушел из жизни в 2014 году. Сампшен смоделировал свои коробки по образцу оккультных подслушивающих машин, построенных Томасом Эдисоном, который пытался доказать шарлатанство энтузиастов спиритических сеансов. Мы с Крисом, ожидая твоей смерти, потратили весь прошлый год на создание разных радиоустройств, но ни одно из них не уловило потусторонней болтовни на циферблате амплитудной модуляции. По правде говоря, даже подлинная «коробка Фрэнка» не работает. Существуют онлайн-сообщества, посвященные взглядам Томаса Эдисона на оккультизм в контексте более широкого спиритуалистического движения, его желанию научно оценить общение с мертвыми, и большинство из них, вероятно, согласятся с тем, что «Хэк-Шэки», которые мы с Крисом построили, были настоящим дерьмом, несмотря на наши с ним инженерные степени.
Я давно восхищаюсь Томасом Эдисоном. Интересно, что бы он подумал, как и мне интересно, что думаешь ты, о недавних общественных дискуссиях о нейротипичности во всем человеческом спектре. Я люблю своих тетушек, Мано и сестру Агнес-Мэри, как своих вторых мам. Мы, ваши дети, плоды вашей командной работы, результат коллективных материнских усилий вас, трех сестер. Но «любовь» слишком бледное слово, чтобы выразить то, как я люблю тебя, Рут, мою настоящую мать, то, как мое сердце стало полнозвучным и гулким, когда ты коснулась моего лица, как завибрировала во мне глубокая музыка, напоминающая звук контрабаса.
Когда Крис представляет нашу гибридную гидравлическую тормозную систему городским менеджерам и генеральным директорам, он делает акцент на потенциальной экономии в цене по сравнению с потенциальной экономией затрат. По его мнению, они отражают степень волатильности на нефтяных рынках, которая основана на прогнозировании невидимого будущего спроса и предложения, степени нестабильности на Ближнем Востоке или, возможно, тревожных результатах долгосрочной президентской кампании. Помимо собственного мнения о социально-политических факторах, Крис, как и все опытные продавцы, оглашает четкие суждения о ценностях, правде и приманке.
Мне приходит в голову, что Крис видит во мне бледное подобие отца, несмотря на то что я всю жизнь стремился быть хозяином дома (дом в данном случае является метафорой для семьи в целом, для тебя и Криса особенно). В конце концов, я всего на восемь лет старше его, но как часто я слышал выражение «мужчина в доме» от тебя, от Мано, от сестры Агнес-Мэри. Хотелось бы, чтобы ты понимала тогда, как, похоже, понимаешь сейчас, насколько это действовало на меня. Я простил вас всех бесконечно давно благодаря многим другим вашим урокам, которые сформировали меня как личность, но мне интересно, является ли одним из ваших постоянных воспоминаний вот это: маленькое, полное искренности сердце мальчика, на которое вы все трое по очереди возлагаете ответственность, тяжелую, как свинцовые гири.
Может быть, есть еще один вид родительской любви, мама, в которой нуждается Крис, и, может быть, Дэл готов дать ему ее.
С любовью, Чарли
Кому: Маме
От: Чарли
Тема: Проект «Золотая лихорадка»
19 августа 2016
Дорогая мама!
Гидравлические тормозные системы, которые мы проектируем и изготавливаем, улавливают энергию торможения, чтобы ее можно было использовать для ускорения, и, когда цена на газ высока, Крис красноречиво описывает доступную экономию денежных средств только на топливе. Однако в наши дни дешевый газ делает ее меньшим стимулом для инвестиций, поэтому он подчеркивает затраты. Более низкая топливная экономичность может означать, что Лос-Анджелес, Сан-Франциско и даже Рино смогут когда-нибудь соперничать с Дели и Пекином за непригодное для жизни качество воздуха, за детей, лишенных природы, с астмой и низким мышечным тонусом. Крис показывает связь между парками коммерческих автомобилей и тающими ледяными шапками, заставляет «пиджаков» поверить, что он может помочь им спасти белых медведей, тонущих на бесконечно нагревающихся арктических водных путях. Он делает белых медведей близкими каждому.
Этот глубокий анализ цен и затрат — одна из многих причин, по которым мы все должны гордиться Крисом.
Томас Эдисон был слишком трудным ребенком для государственной школы. Мать и отец обучали его на дому, причем отца выгнали из Канады за его дерзкую, невежливую политику поведения. Отец Томаса Эдисона научил сына критическому мышлению и недоверию к правительству. Мы с Крисом согласны с тем, что наш собственный отец учил нас только расстоянию: мили против километров, синапс[101] против плоти, кровь против бензина. Тем не менее Крис хотел приложить усилия, что мы и сделали.
Ты, может, удивишься, что я нашел шахту Дэла, удивишься, как я ее отыскал, но для меня это не стало удивлением. Сегодня мы вырвались из тисков лос-анджелесских пробок и понеслись по пустынным шоссе Невады. Ветер был устойчивым и дул не переставая. Он колыхал низкую полынь в степи, но был не настолько яростным, чтобы поднимать в воздух песок. Небольшие миражи, вызванные разогретым у земли воздухом, мерцали как над асфальтом, так и над пустыней. Перистые облака образовывали тонкие нитевидные хохлатые полосы, известные как «кобыльи хвосты», но напоминающие девичьи косы. Хищные птицы, оседлав восходящие воздушные потоки, парили высоко в небе — так высоко, что я не мог сказать, орлы это или стервятники. Но давай обойдемся без очевидного символического понимания образа стервятника, связывающего его с дурными предзнаменованиями. Допустим, это были орлы — из чистой радости присоединиться к более оптимистической точке зрения, в которой, вероятно, заключена разница между успехом и неудачей любого приключения, мифического или современного. Крис и его телефон остались в машине. Они оба проявляли нетерпение. Я лизнул кончик пальца и приложил его к земле — он оказался покрыт коркой песка и сверкал вкраплениями слюды. У него был смутный привкус клубники — или скорее положенной в рот монетки. Песчинка застряла между клыком и первым коренным зубом, и ее оказалось невозможным выковырять. Я сделал пометки на твоей карте дорог, возможно, исчеркав ее до неузнаваемости.
Томас Эдисон был особенным гением — гением, страдающим бессонницей. Он часто устраивался ненадолго вздремнуть на лабораторных столах, в своем рабочем кресле. Томас Эдисон мог прикорнуть везде, где захотелось спать. Как и Томаса Эдисона, как и тебя, меня часто мучает бессонница, но я больше понимаю в облаках, чем в дремоте. Я чувствую, ты знаешь, что я имею в виду, ты, как никто другой, меня понимаешь. Возможно, это не так. Интересно, все еще способна ли ты дремать влажными летними днями?
Сначала к нам потянулись удлинившиеся тени, затем на обочине дороги почти на уровне земли появились сами знаки. Один из них был знаком кампании Трампа — Пенса. Другой был написан от руки на пластиковой доске, окаймленной желтой светоотражающей лентой федеральной безопасности. Она была укреплена на толстых кусках проволоки, воткнутых в землю, и слегка покачивалась (в чем был виноват ветерок, а не что-то божественное). Надпись гласила: «Потерян пистолет, награда тысяча долларов, никаких вопросов». Я съехал с дороги, позвонил по указанному номеру телефона и получил ответ: «Ящик голосовой почты переполнен». Грунтовая дорога, местами изрытая колеями, а местами представляющая собой стиральную доску, вела к нависающей гряде пустынных гор. Проржавевшая старая ограда для скота перекрывала доступ, знак «Посторонним вход воспрещен» выцвел на солнце, став почти нечитаемым, но цепь и висячий замок, которые крепили ворота к столбу, были новехонькими.
Крис сказал: «Ни хрена себе», и мы оба тут же поняли, что это именно то место, о котором нам писал Дэл. И я повторяю тебе еще раз, мама, хотя убежден, ты уже это знаешь, что иногда простая вера во что-то — например, в то, что ты найдешь отца, который тебя оставил, — вызывает материализацию предмета веры, он просто появляется перед тобой.
«Господи, — сказал Крис. — Как ты думаешь, сколько у них найденных пистолетов?»
Было уже поздно. Мы вернулись к шипучему антисептическому поплавку с хлором в круглой гидромассажной ванне для нескольких человек в казино/отеле «Тонопа». Завтра мы вернемся, чтобы посмотреть, как наш отец примет нас, взрослых сыновей, которых он не воспитывал и с которыми не разговаривал десять лет.
С любовью, Чарли
Кому: Маме
От: Чарли
Тема: Проект «Золотая лихорадка»
20 августа 2016
Дорогая мама!
Вот история, которую Дэл рассказал мне в детстве о времени, когда мальчиком был он сам. Речь шла о грозе, которая разразилась во время его газетного тура[102], о скорости, которую он развил, о том, как неистово крутил педали велосипеда посреди сущего потопа, несясь по направлению к дому. Вода переполняла ливневые канавы, лужи пытались поймать его шины, свалить на землю, но у него были навыки, он стал единым целым со своим старым Швинном[103]. Как только он завернул за угол, молния ударила в металл его руля. Дэл сказал, что мир стал размытым, статичным, обрамляющим черно-белое изображение улицы, дома, как будто с его мозгом что-то произошло. Дэл рассказывал, что не упал, добрался до дома и вытерся, а мир продолжал вращаться вокруг Солнца, Луна продолжала вращаться вокруг Земли, а инопланетяне продолжали направлять послов ко всем троим.
Дэл рассказал тебе эту историю? Это из-за нее ты его любила? Что в нем было привлекательного?
Дэл увидел своего первого призрака той ночью, а его первое похищение инопланетянами тоже произошло вскоре после этого. Молния наэлектризовала Дэла, пометила его. Молния сделала Дэла героем для мальчика, которым я был. И, возможно, с тех пор, постоянно охваченный благоговением, я видел отца именно таким, на самом деле не наблюдая его в реальности. В моем воображении Дэл — фигура скорее мифическая, чем человеческая, но на самом деле он умер где-то между написанием записки и нашим прибытием на шахту.
Четвертая жена Дэла Бренди сказала, что его убила обрушившаяся стена. Она состояла из магнезита, камня, похожего на разбавленное молоко, того же цвета, что высокослоистые облака, и бирюзово-голубого макгиннессита, цвета, как глаза у меня и у Криса. Эти минералы были указаны в федеральной заявке на их добычу, которую Дэл и Бренди купили на дне рецессии в 2009 году. Когда она сказала нам, что мы можем спуститься и засвидетельствовать свое почтение, Крис фыркнул. «Почтение к чему?»
Бренди говорит, что забрать его тело не удалось, но это как раз то, чего желал Дэл, он хотел, чтобы его похоронили в шахте. «Я думаю, он ожидал, что в первую очередь истечет срок его жизни, а вместо этого он погиб и был похоронен одновременно», — сказала она. Она и ее сыновья, наши братья по отцу, устроили символическую могилу, положив ряд молочно-белых кусков магнезита в форме сердца слева от входа в шахту. Мальчики были на работе в городе, пояснила она, укладывали дерн.
Она протянула мне смятый листок почтовой бумаги, на котором, по ее словам, Дэл написал нечто вроде последней воли и завещания. Полностью разгладив ее, мы нашли на ней всего одно предложение: «Федералам об этом не надо ничего знать».
Оно было написано тем же почерком, что наша записка от Дэла, но когда Крис показал Бренди нашу записку, она нахмурилась.
«Это не от Дэла», — заявила она.
«Кто еще мог это написать?» — спросил Крис.
«Это не моя проблема».
Вот слова Томаса Эдисона, приведенные на сайте, посвященном его автобиографии, в которых отражено его мнение о загробной жизни:
«Теперь я не делаю никаких заявлений, желая доказать, что человеческая личность переживает нечто, именуемое „смертью“. Я утверждаю лишь, что любое воздействие, уловленное моим аппаратом, будет многократно усилено, и не важно, насколько незначительным будет это воздействие, его будет достаточно, чтобы записать все, что нужно записать. Откровенно говоря, я не принимаю нынешние теории о жизни и смерти».
Томас Эдисон продавал построенные способом массового производства цементные дома американской публике, но он не смог создать устройство, которое могло бы слышать мертвых, и даже не попытался создать устройство, которое могло бы улавливать мысли матерей, страдающих деменцией. У меня в кармане лежит «Айфон», я целыми днями пишу код, используя программное обеспечение для проектирования. Семья Дэла использует пристройку рядом с курятником, в котором копошится, может быть, дюжина тощих кур. Раз в неделю они доставляют воду в гигантском резервуаре-цистерне, укрепленном на старом шатком прицепе. Баллон с пропаном весь проржавел. Заявка на шахту устарела, исторически она исчерпала себя. Она ничего не дала настоящим золотоискателям, прибывшим в эти края в сорок девятом, в период золотой лихорадки. Она была возрождена во время Великой депрессии и заброшена к 1948 году, когда эдисоновский филиал Публичной библиотеки Детройта открылся в арендованном магазине с видом на скоростную автомагистраль. Дэл годами не обращал внимания на детей от своего первого брака, а потом умер, не успев взглянуть никому из нас в глаза цвета макгиннессита, похоронившего его.
С любовью, Чарли
Кому: Маме
От: Чарли
Тема: Проект «Золотая лихорадка»
21 августа 2016
Мама, дерн для коммерческих работ доставляется поддонами:
480 квадратных футов дерна;
8-футовые рулоны мятлика лугового;
60 рулонов на поддон в засухоустойчивом, невосприимчивом к болезням изумрудно-голубом варианте.
Нет никаких конкретных рекомендаций производителя по поливу дерна в первые несколько дней. Необходимо лишь, чтобы он был равномерно увлажнен до укоренения. Это требует тщательного мониторинга, внимания, и, вероятно, следует потребовать от Армейского корпуса инженеров официального заключения о воздействии на окружающую среду касательно колебаний уровня грунтовых вод в Тонопе, штат Невада.
Каждый из этих рулонов дерна весит не менее 30 фунтов, и то, что я увидел, как их несет по два зараз на своих жилистых плечах четырнадцатилетний мальчик, потрясло мое сердце, как та молния, попавшая в руль Дэла.
Человек, следивший за укладкой дерна, подошел ближе к нашему молодому единокровному брату и наклонился к нему, но тот отстранился, вскинул руки и крикнул: «Я просто пытаюсь хорошо работать».
Контролер расправил плечи и ткнул пальцем в грудь мальчика: «Тебе платят за квадратные футы, а не за хорошую работу».
Другой мальчик, явно тоже родственник, встал позади первого, крикнул контролеру: «Позеленей, придурок».
Крис потянул меня за рукав. Другая его рука была прижата к сердцу, глаза увлажнились. «Мама», — произнес он голосом, полным слез.
Это ты научила Дэла такому ругательству? Или он тебя?
Томас Эдисон потратил два года, занимаясь разведением каучуконосов в Америке вместе с Генри Фордом и Гарви Файрстоуном[104] (у которых, как и у нас с Крисом, много общего, например сколоченные в автомобилестроении состояния, полученные изобретательством). Томас Эдисон работал в своей лаборатории в Уэст-Ориндже, штат Нью-Джерси, и в своем доме во Флориде. Записи Нью-йоркского ботанического общества показывают, что со всей южной части США были собраны семь тысяч образцов растений, и лучшим оказался гибридный золотарник, который давал двенадцатипроцентный каучук.
Я — резина. Крис — клей. Он хочет сохранить семью из Тонопы. Он хочет вырастить новообретенных братьев, приютить, пролить бальзам заботы на их горе. Меня это не удивляет, ведь твоя болезнь стала такой тяжелой, а теперь еще Дэл. Я ношу свою долю всего этого, но мне кажется, что тяжесть горя Криса каким-то образом умножается на мое горе, и в результате оно становится почти невыносимым.
Старшему из наших братьев, Колтону, пятнадцать, и он на двадцать шесть лет моложе меня. Майклу четырнадцать. Когда они увидели нашу записку от Дэла, Колтон обнял нас обоих.
«У тебя его глаза», — сказал Колтон, глядя на меня.
Когда мы вернулись к шахте, Колтон пригласил нас на кофе, не спросив разрешения Бренди.
Вы входите — на самом деле не в дом, скорее в жилище — через деревянный навес, посеревшие доски, которые полностью сдвигаются влево, а затем открывается проем, ведущий в пещеру, вырубленную в склоне горы. Похоже, она могла служить раздевалкой для шахтеров прежних времен или офисом компании. Тут есть две двухъярусные кровати, сделанные вручную из поддонов, и дровяная печь рядом с пропановой походной плитой. Большой оружейный сейф стоит рядом с керамической раковиной. Водопровода нет, но они устроили канализацию с помощью ПВХ-трубы, пустив ее через щель в пристройке и выведя в канаву снаружи. В центре комнаты стоит деревянный стол с четырьмя стульями. Пыльные карты, акты отказа от прав и объявления, покрывают его поверхность.
Майкл чиркнул спичкой, зажег пропановую горелку, сварил кофе. Когда я открыл пакетик с сухими сливками, они просыпались на нарисованную Колтоном от руки карту шахты. Бренди цокнула языком, глядя на меня.
В посадке дерна есть одна тонкость. Не все почвоулучшители имеют одинаковые свойства. Чтобы вода проникала в корневую систему, повышала засухоустойчивость и разрушала любые твердые земляные слои под почвенной коркой, добавьте фосфор. Для общего хорошего здоровья растений опытный садовод будет делать упор на калий, а не на азот. Величественные темно-фиолетовые георгины «Томас Эдисон» размером со столовую тарелку любят жидкое удобрение «Миракл-Гро». Все члены семьи Дэла, проживающие в Тонопе, похожи на него самого. Они ищут вспышку и блеск азотного удобрения — что-то, что сделает их более эффектными, более заметными в этом мире.
Колтон и Майкл пообещали завтра взять с собой в шахту нас с Крисом. И нам нужно быть осторожными с ответными обещаниями.
С любовью, Чарли
Кому: Маме
От: Чарли
Тема: Проект «Золотая лихорадка»
22 августа 2016
Дойдя до деревянной крепи у входа в шахту, я не последовал за ними. Я видел в своей жизни более гостеприимные пещеры, мама. Эта шахта дышит барометрическим ветром, стремится уравновесить давление. Во время непогоды она нашептывает мифические истории о поисках лучшего — что-то о мечтах, о подверженности ошибкам, — или, может быть, шахта представляет собой «коробку Фрэнка», и в ней звучит шепот Дэла. Правда, в результате получается какая-то чепуха, либо говорящий пользуется эсперанто, или лингитом, или другим языком, на котором я не могу свободно общаться.
Возможно, когда тебя не станет, я арендую шахту и подожду, пока она начнет шептать.
Крис вышел из шахты, тихим голосом раскрывая свои секреты. Два года назад он потратил десять тысяч долларов на судебные издержки, помогая сводной сестре, которая живет в Рино[105], дочери Дэла от второго брака, арестованной по обвинению в краже личных данных. Она проиграла апелляцию и в настоящее время находится в тюрьме строгого режима в Колорадо. Крис пишет ей письма, присылает книги Луиса Ламура[106] в мягкой обложке. В прошлом году с Крисом связались два других единокровных брата, от третьей жены Дэла из Детройта. Они попросили денег на обучение, чтобы получить дипломы по автомобилестроению, и когда он отправил чек, они оборвали связь. Он заплатил детективу пять тысяч долларов, и тот выяснил, что они задолжали частной школе, не смогли отдать деньги вовремя и под вымышленными именами устроились на работу на рыболовецкой плавбазе, приписанной к порту Хейнс, штат Аляска.
У Криса безупречное чутье на деловых людей, но он совершенно не замечает недостатков своих братьев по отцу. Он, по его словам, ничего не сказал мне об этом, потому что расходы на братьев были незначительными, а точно рассчитать стоимость моего неодобрения ему не удалось.
Когда Крис вышел из шахты, я высказал ему упрек за то, что он встревает в чужие дела и забывает пословицу о яблоках, падающих неподалеку от яблони. Он рассчитал относительную силу ветра с юга и с запада, получив магистральную линию поколений. Он не вернется в Лос-Анджелес без мальчиков, а они не покинут шахту без Бренди.
«Ты нашел Дэла там, внизу?» — спросил я.
«Это просто большая груда камней, — ответил он. — Их не разгребешь».
Колтон прав. Глаза, вне всяких сомнений, достались мне от Дэла. Они карие, ничем не примечательные, лучше всего фокусирующиеся на периферии. Я не хочу верить, что мое сердце тоже от Дэла, подозрительное, блуждающее, так сильно бьющееся в поисках лучшей доли и не ценящее то, что уже имеет. Я хочу иметь сердце, которое любит легко и крепко, сердце настолько приветливое, жизнерадостное и доброе, что ему неведом страх разбиться. Такое же, как у Криса. Такое, как у тебя.
С любовью, Чарли
Кому: Маме
От: Чарли
Тема: Проект «Золотая лихорадка»
23 августа 2016
Дорогая мама!
Мы намереваемся вернуть оружейный сейф и оружие в скором времени. Мы обещали остановиться в Лас-Вегасе, чтобы Бренди могла навестить сестру. Сняли номера в отеле «Цирк-цирк»[107], больше похожем на парк развлечений, чем на казино. В конце концов, наши новые братья еще дети, а Крис обожает воздушных гимнастов и акробатов. Мы также достаточно поиграли в азартные игры.
Когда Томасу Эдисону было пятнадцать лет, он путешествовал по стране в качестве телеграфиста, заменяющего мужчин, ушедших воевать в Гражданскую войну. Это были электрические годы для молодого Эдисона, годы передачи сообщений, формирования личности, смыслообразования. Наши братья потратили сотни долларов Криса на полпути в «Цирк-цирк», бросая баскетбольные мячи в наклонное кольцо, пока не выиграли плюшевого медведя в натуральную величину для своей матери.
План состоял в том, чтобы встретиться в «приусе» в семь утра и выехать пораньше. Солнце уже взошло, когда мы с Крисом вышли, ослепленные его лучами, отражающимися от металла и стекла зданий бульвара. Позже мы просмотрели запись с камер видеонаблюдения, на которой Бренди и мальчики с украденной связкой ключей уезжают в три часа ночи, Колтон был за рулем, Бренди на переднем сиденье, Майкл с гигантским медведем сзади.
«Нет ничего такого, чего мы не могли бы себе позволить», — сказал Крис, пожимая плечами.
Днем ранее мы водили мальчиков смотреть бесплатные цирковые представления, наблюдали, как женщина в костюме белого медведя ложится на спину и жонглирует прозрачными пластиковыми кубиками льда руками и ногами. Крис попытался объяснить, что гидротехника стремится увеличить силу человеческих мускулов, что когда-нибудь он найдет способ сделать резкие движения гидравлических устройств такими же элегантными, как движения женщины — белого медведя и акробатов. «Миру не помешало бы больше грации», — сказал он.
Позже Майкл сделал сальто в открытом бассейне. Колтон поддразнивал его: «Изящное усиление! Элегантная гидравлика!»
Крис ликовал, отказываясь исправлять их «научные» термины.
При обнаружении на парковке пустого места на лице Криса появилось выражение, близкое к узнаванию. Я хотел позвонить в полицию, но он улыбнулся и вытащил из кармана завещание Дэла: «Федералам об этом не надо ничего знать».
Мы отложили обсуждение наших разногласий на потом, когда улягутся эмоции, и арендовали машину для поездки обратно в Лос-Анджелес. Пустыня светилась розовым светом, почва отражала угасающий цвет обожженного неба. Крис и телефон Криса молчали, а потом он сказал: «Мы сделали все, что могли. Я желаю им всего наилучшего».
Не знаю точно, чего им пожелать, мама, но я подумал о том, как ветер иногда гонит чечевицеобразные облака над горами. Эти облака имеют форму чечевицы и названы в честь чечевицы, но эти облака, как и многие другие вещи, всегда непрозрачны.
С любовью, Чарли
Куры
Как раз перед тем как Смит, этот ренегат из Национального агентства пропаганды сельскохозяйственных знаний, появился на моей ферме вместе с остальными, мы с Джерри запихнули моих кур в покрытые воском коробки из-под продуктов и бросили в кузов грузовика. У меня было всего около дюжины кур плюс петух Хичкок. Мы накрыли их утепленными одеялами, чтобы не было слышно шума, и держались очень неплохо, пока Смит и другие агенты обыскивали ферму. Раньше консультации по ведению сельского хозяйства имели вид только советов и предложений, но на этот раз агенты были вооружены, так что теперь все больше походило на обыск и принуждение к выполнению требований.
— Я знаю, у тебя все еще есть куры, Грейси, — заявил Смит, носком ботинка поддевая свежий кусок куриного помета. — Я никогда не видел тебя без них. Почему бы тебе просто не сотрудничать с нами?
Смит выглядел ужасно самодовольным для парня, у которого рубашка промокла в подмышках. Клянусь, в тот момент я не могла поверить, что когда-то делила с ним постель.
В прошлом месяце конгресс запретил содержание домашней птицы на открытом воздухе из-за птичьего гриппа и сделал разведение кур уголовным преступлением класса А, обещающим как минимум десять лет. Час назад моя соседка Фрэн позвонила, чтобы предупредить нас, когда работники агентства появились в ее доме. Фрэн — милая седовласая леди, которая на смертном одре пообещала моей матери, что будет заботиться обо мне, но в основном она просто вяжет мне шапочки каждое Рождество. Птицы Фрэн не болели птичьим гриппом, как и мои, но сотрудники агентства ходили от дома к дому, убивая любую курицу, которая могла контактировать с дикими птицами. Они не проверяли их или что-то в этом роде. Выращивание цыплят теперь регулируется. Вам нужно запереть их внутри гигантских амбаров, установить специальную вентиляцию и фильтры, заплатить за лицензии и инспекторов. Теперь цыплят могут иметь только миллионеры.
Я очень привязана к своим курам. Они у меня породы Баррд рок, и у них самые красивые черно-белые узоры, они не совсем пятнистые, но и не совсем полосатые, с ярко-красными головками и гребешками. У каждой из них свои оттенки и метки, которые вы бы не заметили, если бы не провели с ними так много времени, как я. Это похоже на то, что говорят о снежинках и отпечатках пальцев. Каждая из моих девочек всегда похожа только на саму себя.
Я назвала свою самую любимую курицу Монтаной, потому что ее отметины очень похожи на тот участок хребта Скалистых гор, который я вижу с фермы в ясные дни. Этот хребет выглядит как женщина, лежащая на спине, согнув колени, готовая принять любовника, вершины, образующие ее лицо, подняты к небу, оно радостное и смеющееся, а волосы разметаны позади, образуя неглубокую долину. У Монтаны те же самые вершины и долины видны на спине, будто Бог поднял ее и проследил, чтобы узор получился точно таким, как надо. Иногда я задаюсь вопросом, не нарочно ли Бог повсюду повторяет такую красоту. Может быть, он надеется, что люди научатся видеть и отражать ее, найдут способ копировать ее в вещах, которые мы создаем сами. Бог, наверное, очень разочарован.
— Привет, приятель, — обратился Джерри к одному из агентов. — У Смита, твоего босса, бывают видения, он думает, будто у него открылось какое-то экстрасенсорное второе куриное зрение. Об этом нужно написать какой-нибудь отчет.
Джерри был без рубашки, и нижние части его карманов болтались под обтрепанными краями джинсовых обрезанных шорт, хлопая по ногам. Я ненавижу эти обрезанные шорты. Все время говорю ему, что они слишком короткие, но Джерри возражает, что ему нужна вентиляция, чтобы его яйца не прели летом, а я не люблю опревшие яйца, так что приходится терпеть. Он ростом шесть футов с небольшим, худой как скелет. На макушке у него лысина, но остальные волосы почти такие же длинные, как борода, которая касается груди, даже когда он смотрит прямо перед собой. Не красавец, но держится рядом, так что сойдет и такой.
— Осторожнее, Джерри, — предупредил Смит. — Я пробуду здесь достаточно времени и найду этих птиц. У вас нелегальный курятник. Новые правила требуют, чтобы вы построили для птиц специальный сарай. В противном случае от них придется избавиться. Это для их же блага. Для всеобщего блага. Птичий грипп нельзя не принимать во внимание.
— Господи, Смит, — ответила я. — В следующий раз ты придешь и скажешь мне, что тебе нужно запереть всех людей в сараях. Для их же блага. Чтобы быть в безопасности. Это то, чего ты хочешь?
Я знаю историю и верю, что правительство способно на подобное и, может быть, даже стремится к этому. Худшей частью такого будущего, я думаю, было бы порочное установление неофициальной иерархии людей внутри самого сарая.
Смит долго смотрел на меня, но затем только пожал плечами и в конечном итоге птиц не нашел.
— Позаботься лучше о сорняках, Грейс, — проворчал Смит, садясь в джип и махая рукой в сторону моего загона. Этот загон представляет собой месиво из сорных трав, стелющихся якорцев и русского чертополоха с тех пор, как у меня забрали воду, с фиолетовыми цветами вербейника, заполонившего края моей старой оросительной канавы. — Ты же знаешь, я должен о них сообщить.
— Борись с ними сам, если хочешь, — парировала я. — Правительство — единственный инвазивный сорняк[108], который меня беспокоит в последнее время.
После того как Смит уехал, а шлейф красной пыли поднялся на дороге позади него, я некоторое время беспокоилась о том, что назвала правительство инвазивным сорняком. Говорят, свобода слова у нас все еще есть, но теперь уже трудно сказать наверняка.
Мы со Смитом были влюблены друг в друга в старших классах школы и еще пару лет после нее, но в 2017 году он оказался на стороне правительства, когда оно захватило у фермеров воду, и на этом все закончилось. Хотя он хорошо выглядит. Намного красивее Джерри. Внешность Смита — это единственное, что я теперь знаю о нем наверняка.
Захват воды было трудно проглотить, потому что я была воспитана патриоткой. Мой отец воевал в Афганистане и других местах, которые он не называл. Взрослея, я проводила День памяти павших[109] на кладбищах, а не на барбекю, думая о том, что свобода не бесплатна. Я прикладываю руку к сердцу, когда пою национальный гимн. Я помню по крайней мере половину «клятвы 4-H»[110], и я отношусь к этому серьезно, потому что в ней речь идет о том, чтобы использовать свою голову и руки на благо моей страны. Я настолько верила в демократию, свободу и все такое, что в первый раз, когда услышала, как кто-то сказал, что правительство собирается отменить наши права на воду, я подумала, что это опасный слух, и так и сказала.
На моих землях было так много воды, что я никогда не могла использовать ее полностью, потому что мой прапрадед был одним из первых, у кого хватило воображения заменить кустарник, которым поросли равнины восточного Колорадо, сахарной свеклой и кормовой кукурузой. Я могла бы превратить свою собственность в частное озеро и научиться кататься на водном мотоцикле. Я этого не сделала, потому что кукурузу было легко выращивать, и она ведет себя намного тише, чем жалкий маленький двухтактный двигатель, но я могла бы попробовать. Потом засуха, паника. Общественное мнение твердо стояло за то, чтобы украсть мои права на воду. Все, у кого воды не было, думали, что люди, у которых вода, как у меня, есть, являются жадными ублюдками.
В то время Смит уже работал в агентстве, отвечал за бригаду, навешивающую замки на ворота источников орошения. Ферма Фрэн и моя совместно использовали распределительный узел, и я переняла ее повадку — подбородок поднят, спина прямая, глаза смотрят вперед не мигая. Директор агентства, руководивший командой Смита, казался встревоженным нашим присутствием. Мы видели, как его глаза смотрят в нашу сторону, хотя он и не поворачивал головы.
Фрэн повернулась ко мне, прикрывая рукой глаза от солнца:
— Ты знала, что это должно произойти? Он тебе сказал?
Все мужчины могли ее слышать. Она имела в виду Смита, и я была уверена, что он знал это, потому что покраснел так же, как в первый раз, увидев меня без футболки, когда нам обоим было всего по шестнадцать.
— Похоже, он должен был это сделать, — ответила я.
В то утро мы со Смитом проснулись вместе и разругались из-за непрекращающегося кукареканья Хичкока, но на поле он не смотрел мне в глаза. Все выглядело так, словно я держала весы правосудия. С одной стороны я положила корсаж, который он подарил мне для нашего выпускного бала, серьги, которые, как я знала, не были бриллиантовыми, но сверкали, как настоящие камни, обещания, что он обо мне позаботится, произнесенные шепотом в то время, когда я рыдала в его объятиях на похоронах моей матери. В то время я приняла его торжественность и каменное лицо за силу, но потом, когда он помог правительству украсть мою воду, я положила их на другую чашу весов. Каменное лицо и каменное сердце говорили, что мы с ним потеряли всякое чувство меры.
Фрэн нахмурилась:
— Думаю, так оно и есть. Если, конечно, это не его способ сказать тебе что-то еще, Грейси.
Директор агентства пристально посмотрел на Смита. Смит уставился в распределительный узел, и я была рада осознать, что он видит там искаженное отражение самого себя в воде, потревоженной установкой замка.
Большинство фермеров здесь, конечно, сопротивлялись больше, чем я и Фрэн, но агентство с Национальной гвардией на его стороне быстро справилось с противостоянием. В передаваемых новостях никого не волнует, что я не могу вырастить урожай без воды, что мои сбережения почти израсходованы, а срок уплаты налогов вот-вот подойдет. Бекон теперь растет в чашках Петри, кукуруза рождается очищенной и упакованной в прозрачный пластик. Люди не заботятся о фермерах, если только не приближается Хеллоуин и они не хотят посетить тыквенную грядку.
Прятать цыплят все равно что реализовывать нашу дерьмовую конституцию. Прямое оправданное гражданское неповиновение. Любой, кто обращает внимание, знает, что птицам место снаружи. Чайки следуют за плугами. Орлы скользят по восходящим воздушным потокам. Гуси, построившись клином, мигрируют в зависимости от времени года. Кроме того, вы должны подвергаться воздействию микробов и вирусов, чтобы развить иммунитет. Вирус может перенестись на многие мили ветром прерий, как семена молочая или льна, но то же самое можно сказать и о пыли, которая очищает наши носы и уши. Мои девочки и их род переживут этих сарайных птиц на тысячу лет. Им не придется бояться ветра и солнечного света, чаек и семян.
Смит уже работал в агентстве и приехал с его сотрудниками в тот день, когда им понадобилось запереть все главные ворота ирригационной системы. Мне стыдно, что после этого мне потребовалось еще две недели, чтобы выгнать его с моей фермы, потому что каждый раз, когда он прикасался ко мне, мне казалось, что он крадет что-то еще, но у меня есть потребности, если вы понимаете, что я имею в виду. Одна из причин, по которой Джерри здесь, заключается в том, что я терпеть не могу, когда у меня в постели есть холодное место. Долгое время я надеялась, что полюблю Джерри так же, как любила Смита. Джерри — лучший человек, мягкосердечный, что для меня ново, и мне это нравится. Доброта Джерри открывает меня изнутри, выдувает из меня всю вонь. Джерри каждое утро ставит букет на стол для завтрака, даже если все, что он может найти, — это молочай или подсолнухи. У него твердое мнение о потреблении зеленых листовых овощей, и он каждое утро делает нам коктейли и жарит зелень на сковороде на ужин. Мне никогда не приходится задаваться вопросом, в моей ли команде Джерри, но я не всегда знаю, полностью ли я в его команде.
Во время того первого рейда агентства три курицы задохнулись, но Хичкок, Монтана и остальные выжили. Я каждый день ношу яйца Фрэн, чтобы поблагодарить ее. Должно быть, это все, что она ест, потому что с каждым днем, когда я ее вижу, она еще немного уменьшается. У меня все еще есть свой огород, но она не хочет брать никаких овощей. Говорит, от них ее слабит.
Моя девочка Монтана — вершина куриной иерархии, и она держит других кур в узде. Теперь мы прячем их за сараем, проволочная изгородь скрыта от посторонних глаз свинарником и овечьим загоном, индейской капустой и дикими подсолнухами, которым я позволила вырасти. Они все переплелись, эти сорняки, их стебли и листья составляют единое целое, как дети, играющие в «Ред-Ровер»[111], стена достаточно прочная, чтобы удержать кур на месте. Мне нравится смотреть, как стая скребется и сплетничает. У этих девочек есть свое мнение обо всем. Например, им не очень нравится их новый скрытный образ жизни. Они предпочитают свободный выгул. А еще они думают, что петух Хичкок настоящий осел. И надо сказать, я с ними согласна.
Хичкок всегда расхаживает с важным видом, как будто он хозяин этого места, и прыгает на бедных девочек, когда ему заблагорассудится, а это происходит постоянно. Он ненасытен. Он вырвал перья со спины бедняжки Бетти, когда оседлал ее, и я думаю, именно поэтому она стала такой задумчивой и отказывается оставлять кладку, которую высиживает в сарае. Кукареканье не такая большая проблема, как вы могли бы подумать, потому что Джерри зарабатывал на жизнь, продавая ошейники, не позволяющие петухам кукарекать. Он очень гуманен, такой ошейник, просто проволока и липучка на шее петуха. Я бы не сказала этого Джерри, но на самом деле подобное приспособление не совсем не дает петухам кукарекать. Хичкок кукарекает весь день и всю ночь. Ошейник просто заставляет его делать это достаточно тихо, чтобы не слышали соседи, а ночью я вдобавок надеваю на него корзину. У нас на сеновале есть множество коробок с петушиными ошейниками, потому что теперь их некому продавать. Мы используем Хичкока, чтобы начать нашу программу размножения, а затем нам понадобятся ошейники для маленьких петушков, которых высидят наши девочки. У нас уже есть список ожидания из людей, которые хотят иметь свою собственную тайную куриную стаю. В основном они спохватывались в последнюю минуту. Они могут быть ополченцами. Джерри беспокоится, что некоторые из них могут оказаться правительственными шпионами, но правда в том, что Джерри всегда был настоящим параноиком.
Однажды мы ехали по Небраске, я и Джерри, и один коп пристроился за нами на дороге. Мигалка у него не была включена, ничего такого. Джерри разволновался из-за пакетика с марихуаной, который засунул в пепельницу перед тем, как мы выехали. Он понес какую-то чушь о деревенских копах и войне с наркотиками. Я не превышала скорость и знала, что мои задние фары, поворотники и прочие глупости, за которые копы останавливают бедных людей, работают. Единственной причиной были мои колорадские номера. Копы Небраски все еще были очень злы из-за легальной травы в Колорадо в то время. Следовало проявлять осторожность.
— Мы должны избавиться от этого дерьма, — заявил Джерри.
— Успокойся, — отозвалась я. — Все в порядке.
Я услышала какой-то шорох, и следующее, что я помню, — это Джерри с полным ртом травы. Он съел весь пакет целиком. Мне пришлось отдать ему свою бутылку пепси, чтобы он не подавился, настолько марихуана была сухой. Полицейский покинул автостраду через два съезда.
Джерри очень милый, но с ним иногда трудно справляться.
— Они идут за чертовыми курями!
У Джерри были безумные глаза, он оглядывался через плечо и размахивал дробовиком. Иногда я сетовала, что вокруг тянутся нескончаемые равнины, где между мной и Скалистыми горами нет ни деревьев, ни холмов — ничего, кроме полей, канав и скудной растительности прерии. Я жаловалась на летний полдень, такой жаркий, что я могла бы растаять, растечься невидимым слоем по земле, стать крошечной и беспомощной в огромном мире с большим небом, но в любом случае в таком пейзаже было и кое-что хорошее, а именно отличная видимость. Вы можете увидеть оленя, бредущего в поле в пяти милях отсюда. Позади Джерри, за сухой канавой, за нефтяными вышками, за домом Фрэн, я могла видеть поднимающуюся линию красного пыльного шлейфа: по дороге кто-то быстро ехал по направлению к моей ферме.
У меня возникло то же самое чувство, что и перед первым налетом, как тогда, когда я прыгнула в ледяной поток реки Саут-Платт в июне. Я не могла наполнить легкие воздухом. Мои руки метались, но не делали ничего определенного. Моя кровь казалась густой и липкой, она как бы замедлилась, в то время как паника ускорила во мне все остальное. Воздух, как вода, мешал двигаться, сковывая движения.
— Грейс, это не учения! Не учения! Беги в бункер!
Джерри снова был без рубашки и босиком, он в бешенстве бежал по загону, а потом, должно быть, наступил на колючку или что-то в этом роде, потому что начал ругаться и прыгать на одной ноге, оставаясь на прежнем месте, но поворачиваясь по кругу, держа дробовик одной рукой и хватаясь за ногу другой.
Джерри вытащил колючку и снова побежал ко мне.
— Черт возьми, Грейси, пошевеливайся! — заорал он.
У нас был план на случай появления сотрудников агентства, и да, мы провели несколько учений. Мы построили бункер-курятник из поддонов, которые украли из магазина кормов, обложили их обрезками фанеры и набили соломой, так у нас появились настоящие прочные стены. У нас там хранились боеприпасы, вяленое мясо, вода в бутылках и лубриканты. Мы могли бы сдерживать набег достаточно долго. Я реалистична, а потому знала, что, если мы наставим на сотрудников агентства наши ружья, это, вероятно, не закончится хорошо. Конечно, на самом деле я не верила, что до этого дойдет.
Облако пыли приближалось. Джерри все еще кричал. Я схватила Монтану и трех или четырех других кур за ноги и перевернула вниз головой. Это должно было их успокоить или по крайней мере заставить молчать. Мои курицы — сущее сборище неблагодарных тварей, поэтому они хлопали крыльями и кудахтали, пытаясь клювами оторвать кусочек моей руки или ногтя. Джерри поймал других кур, и мы отнесли их в курятник. Я сбегала за своим револьвером 22-го калибра, пока Джерри гонялся за Хичкоком. Револьвер 22-го калибра не такой уж большой пистолет. Как-то неловко использовать 22-й калибр в противостоянии с правительством, но мне пришлось смириться с оскорблением моего тщеславия. Я забралась в курятник вместе с курами и выглянула в глазок.
— Чертова птица, — пробормотал Джерри, пытаясь схватить Хичкока согнувшись наполовину, совсем как обезьяна. — Это для твоего же, черт возьми, блага. Это на благо всего человечества.
Мой отец знал бы, что делать, лучше, чем мы с Джерри. Он был так хорошо подготовлен к бою, что начал жить ради него, искать его повсюду, затевать, когда не мог найти. Я очень злилась на него, когда была девочкой, за то, что он все время возвращался на службу, за то, что оставил нас с мамой выращивать посевы, убирать урожай, хранить поленницу дров всю зиму. Теперь, когда у меня появилось время, чтобы обдумать это, я знаю, что он, вероятно, поступал так ради нашего блага, ибо в глубине души понимал, что мы не были врагами, хотя в большинстве случаев он обращался с нами именно так. И все же я испытала к нему настоящую ненависть, когда увидела его в последний раз, сразу после моего восемнадцатилетия, на похоронах мамы. Он сказал мне, что ему нужно вернуться, что он израсходовал весь свой отпуск. Я ответила ему, что просто присоединюсь к гребаному джихаду, если захочу его увидеть. Несколько месяцев спустя ко мне пришли и вручили сложенный флаг. Он лежит в сарае, накрытый кучей воротничков для кукарекающих петухов.
Джерри вспотел, гоняясь за Хичкоком. Со лба у него капало, лицо блестело, и от влаги некоторые волоски его бровей слиплись и неестественно торчали. Хичкок и Джерри оба выдохлись, причем Хичкок был в полностью подавленном состоянии, когда Смит вошел в дверь сарая. У меня был хороший обзор, и эта сцена четко зафиксировалась в моей памяти. Я отщипнула немного вяленого мяса, положила в рот и приготовилась к тому, что должно было произойти дальше.
Смит был нарядно одет, и одна рука у него была заложена за спину. Его коричневые туфли с крыловидным мыском были огромными, как настоящие модные клоунские башмаки. Он слишком накрахмалил рубашку с концами воротника, застегивающимися на пуговицы, но она была голубой, и это придавало его зеленым глазам привлекательный вид, а блейзер был лишь немного потерт на локтях. Он выглядел просто красавцем, хотя его рот, когда он смотрел на Джерри, был странно приоткрыт. Смит не мог меня видеть. Он не ожидал найти меня в курятнике и не распознал курятник в бункере. Не знаю, видел ли Смит Хичкока, потому что петух застыл и замер, но в тот момент Смит и Хичкок были очень похожи. Они оба выглядели обеспокоенными, и их ноги были странно расставлены в стороны. Глаз петуха двигался, настороженно наблюдая за двумя мужчинами. Смит одним глазом следил за Джерри, другим оценивал обстановку.
— Грейс где-то поблизости? — спросил Смит.
Джерри развернулся между Смитом и Хичкоком и направил дробовик на Смита.
— Я хочу увидеть твою пушку, — произнес Джерри очень спокойно. — Я хочу знать, что у тебя в руках.
Смит сделал шаг назад и поднял руку, но это была половинчатая капитуляция, как будто ты что-то пообещал, скрестив пальцы.
— Давай просто успокоимся. Я пришел только для того, чтобы поговорить с Грейс. Я застал тебя в неподходящее время, Джерри?
— Кто пришел с тобой? — спросил Джерри, направляя дробовик на дверь. Голос Джерри был похож на одну из старомодных сирен с ручкой, постепенно становясь все громче и пронзительнее. — У тебя там гвардия?
Смит казался искренне смущенным.
— Что? — спросил он. — Гвардия? Какая гвардия?
— Национальная гребаная гвардия! — издал вопль Джерри, демонстрируя всю мощь своего голоса и перепрыгивая с одной ноги на другую. Он выглядел так, словно был под кайфом. Возможно, он действительно принял какой-то наркотик. — Я знаю, ты слишком труслив, чтобы прийти один!
Затем Хичкок сделал свой ход, подкравшись сзади и стартовав с отрывистым свистом вертолета. Его когти, чешуйчатый генетический дар предков-динозавров, приземлились на плечо Джерри, он ударил Джерри крыльями по голове, и победоносный боевой клич прозвучал в виде несколько жалких писков из-за его воротника. Джерри издал несколько очень пронзительных криков и воплей. Он повернулся, пытаясь оторваться от петуха, и наконец запрыгнул на штабель из двух тюков сена. В этом хаосе его дробовик выстрелил, и я увидела брызги крови, когда пуля попала в Смита, который, немного пошатнувшись, достаточно сконцентрировался, чтобы вытащить свой собственный пистолет из скрытой кобуры и сделать два действительно впечатляющих выстрела. Он вырубил Хичкока и Джерри, прежде чем упасть на землю, а затем они все трое замолчали, не двигаясь. Рядом со Смитом влажная земля пола сарая вихрилась, плавая затейливыми узорами поверх растекающейся лужи крови, а в середине этого пятна маячила одинокая белая роза. Джерри я нигде не видела.
Меня вырвало вяленым мясом. Монтана и другие курицы сразу же начали есть его, сражаясь друг с другом за лучший подход к теплому содержимому моего желудка. Все, кроме Бетти, которая бдительно следила за своим гнездом, защищая заключенные в скорлупу эмбрионы будущих цыплят. Люди думают, что курицы глупы, используют выражение «куриные мозги», как будто это какое-то оскорбление, но у моих девочек есть инстинкт самосохранения. Они возвращаются домой на ночлег. Они разбегаются, когда в небе появляются тени хищников, ищут укрытия от ястребов и белоголовых орланов. Они становятся задумчивыми, когда им это нужно, а иногда и без надобности, как будто сидят на лекции по беременности и родам. Вскоре там, в бункере, меня перестало рвать, и Монтана сидела у меня на коленях, прихорашиваясь, пока я дышала глубоко и ровно, пытаясь успокоиться.
Я подумала, что мне следует куда-то позвонить, но единственный человек из властных структур, которому я наполовину доверяла, лежал мертвым на полу моего сарая. Я, конечно, предполагала убийство с особой жестокостью. Естественно, я так подумала, учитывая, что потеряла обоих родителей в довольно нежном возрасте. Я полагаю, что каждый возраст, когда вы теряете родителей, вероятно, нежен, независимо от того, сколько вам лет на самом деле. Это весьма сильное чувство. Мне и в голову не приходило, что кто-то из моих мальчиков все еще жив, пока я не услышала стоны.
— Грейс?
Это был едва слышный шепот. Я едва могла его расслышать. Я проверила, готов ли к стрельбе мой револьвер, и вылезла из курятника.
Сперва я решила осмотреть Джерри. Я опустилась на колени рядом с ним, не сразу осознав, что прохладная, густая влага, которая, я чувствовала, просачивалась сквозь мои штанины и растекалась вокруг моих коленей, была кровью Джерри. Его дыхание было прерывистым и неглубоким. Я взяла дробовик из его рук, поцеловала его в лысину и прошептала:
— Прости, Джерри.
— Моя нога, Грейси.
Джерри истекал кровью, сочащейся из раны на бедре, возле паха, но, к счастью, пуля попала не в его «причинное место». Я схватила кучу пропитанных маслом тряпок, лежавших возле старого трактора, и Джерри поморщился, когда я прижала их к ране, пытаясь немного надавить на нее. Масло, наверное, не совсем подходило для этих целей, но, кроме этих тряпок, у меня не было ничего, чтобы остановить кровотечение.
— Как ты, Джерри?
— Этот ублюдок в меня попал.
— Ты выстрелил первым.
— Случайность, — ответил Джерри, вздрогнул и потерял сознание.
Затем я наложила жгут, затянув его как можно туже. Кровотечение замедлилась, но все равно кровь просачивалась и скапливалась в складках промасленной тряпки, окрашивая ее все больше. Должно быть, я немного отвлеклась, наблюдая это зрелище, потому что, услышав, как Смит окликнул меня по имени, я почувствовала, что какой-то отрезок времени, который я не могла определить количественно, прошел мимо меня.
— Грейс, — прошептал Смит.
Я посмотрела в его сторону. Одна из его рук оторвалась от пола и замерла на мгновение, как будто он небрежно помахал мне рукой в знак приветствия. Он смутил меня, этот взмах, как будто Смит был не так сильно ранен, как могло показаться, но, подойдя ближе, я поняла, что дело серьезно. Пистолет все еще был у него в руке. Он направлял его на меня. Я знала, что он делает это не нарочно, но вид наставленного на меня оружия заставил нервничать, поэтому я осторожно протянула руку и забрала пистолет.
— Смит? — произнесла я. — Какого черта ты здесь делаешь?
Смит выдавил слабую улыбку:
— Умираю, я думаю.
— Нет.
— Наверное, да. Я принес тебе розу, Грейс.
Роза теперь полностью погрузилась в лужу крови. Когда Смит поднял ее и протянул мне, кровь стекала с кончиков его пальцев и теплыми вязкими ручейками стекала по руке под манжету его модной куртки.
— Это очень мило с твоей стороны, Смит.
— Не хочешь как-нибудь со мной поужинать?
— Конечно, Смит, но сначала я отвезу тебя и Джерри к Фрэн. Она может помочь.
— Фрэн учила меня играть на фортепиано, когда я был мальчиком.
— Да.
— Я убил всех ее куриц. Я не хотел этого, Грейси. Я знаю, что ты имела в виду, говоря о сараях и людях. Но я все равно это сделал. Это была моя работа, и я ее выполнил.
— Ты точно это сделал.
— Фрэн теперь меня ненавидит.
— Может быть, — на минуту заколебалась я.
Смит не ошибся, беспокоясь, что Фрэн могла затаить на него обиду, и я подумала, не стоит ли отвезти его в больницу. Джерри тоже. Смит казался милым, раскаивающимся. Он говорил так, словно был на моей стороне по крайней мере насчет куриц. Но что, если он просто пытался умаслить меня, чтобы я раскрыла свои карты? Что, если роза была способом Смита убедиться, что я не перехитрила его в этом курином деле, способом затащить меня в постель, прежде чем он отправит меня в тюрьму? Быть пойманной с моими девочками было уже достаточно плохо, но что помешало бы полиции, и агентству, и Богу, и всем остальным подумать, что именно я была той, кто застрелил их обоих? Я только что дотронулась и до пистолета, и до дробовика. Мои отпечатки пальцев были повсюду.
Я подумала обо всех вопросах, полицейском расследовании, усилении мер, предпринимаемых агентством, и посмотрела на своих собственных девочек, которые толпились вокруг Хичкока и работали над тем, чтобы превратить его в еду. Монтана разорвала Хичкоку задний проход, и девочки принялись вытаскивать из него кишки, похожие на серо-голубые блестящие ленты майского дерева.
Я очень любила Смита, но никаких шансов на мировую с властями у меня не было. Я сняла свой свитер, кроме его ткани у меня не нашлось другой, и заткнула ему отверстие от пули.
— Пошли, — позвала я. — Фрэн догадается, что надо делать.
— Фрэн учила меня играть на фортепиано.
— Да.
— Фрэн меня ненавидит.
— Возможно.
Я попыталась приподнять Смита, чтобы он оперся на меня и сам пошел к джипу, но это не сработало, и он повалился, увлекая меня за собой. Мы приземлились вместе, моя рука оказалась под его задницей, его левая нога поверх моей правой. Находиться рядом со Смитом было приятно, за исключением того, что меня тревожило, каким легким он мне казался, насколько расслабленными и гибкими были его конечности, как кровь начала впитываться в кончики его ботинок. Я немного не дотянула до среднего для женщины телосложения, но жизнь на ферме научила меня поднимать невероятно тяжелые вещи. Я подняла Смита на плечи и понесла его. Припарковавшись, он «запер» мою машину, так что я направилась к его джипу, а не к своему. Затащить его внутрь оказалось намного труднее, чем поднять. Я старалась быть осторожной, но споткнулась, когда открывала дверь, и довольно сильно уронила его на пассажирское сиденье. Тогда он немного застонал. Ключи были у него в кармане, и мне пришлось нащупать их, чтобы до них добраться. Он продолжал стонать, и его глаза закатились, как будто он пытался прочитать мелкий шрифт, напечатанный на его собственном мозгу.
Я также попыталась перетащить к машине Джерри, но уже истратила все силы. Мои руки и плечи горели и дрожали. Я просто не могла с этим справиться. Я прислонила его к тюку сена, поцеловала в щеку. Он все еще дышал.
— Я вернусь, Джерри, — прошептала я, касаясь губами мягкого уха Джерри. — Я пришлю Фрэн.
Когда я отошла от Джерри, слезы выступили у меня на глазах. Я знаю, что я не тот человек, которым хотела бы быть, потому что, хотя мы с Джерри были вместе всего пару лет и хотя он всегда был очень добр ко мне, и я очень заботился о нем, я была счастлива, что в джипе со мной был именно Смит.
Фрэн вышла нас встретить на подъездную дорожку. Ее седые волосы были собраны в пучок, скрепленный двумя карандашами, на ней был домашний фартук, который закрывал почти всю одежду, как рабочий халат художника. Смит больше не говорил, но кровь у него текла немного медленнее, чем в сарае.
— Отведи его на кухню, — велела Фрэн, оглядываясь через плечо на дорогу. — Клади на линолеум. Не хочу, чтобы он испачкал кровью ковры.
Фрэн не улыбалась, но и не выглядела особенно мрачной. Трудно сказать, о чем она думала.
Я уложила Смита, на этот раз более осторожно, на пол Фрэн.
— Ты поможешь ему? — спросила я.
— Я осмотрю его, — сказала она, протягивая мне старое полотенце, обтрепанное по краям, с дырами, где отбеливатель проел махровую ткань.
— О’кей.
— Где Джерри?
— Он тоже ранен. Лежит в сарае. Ты можешь к нему съездить?
Фрэн кивнула.
— После того как я осмотрю этого, съезжу. — Она указала на джип Смита. — Тебе лучше полить его машину из шланга. Постарайся смыть кровь как можно ближе к резервуару для хранения нефти, в высокой траве за сараем, где мы забиваем мясных коров. Потом загонишь джип в пустое силосное хранилище на заднем пастбище.
— Ладно, — согласилась я.
Волосы Фрэн были невероятно аккуратными, ни одна прядь не выбивалась из прически. Мне было интересно, как ей это удалось с карандашами, и я подумала, что когда-нибудь спрошу.
— Грейс, — позвала она. Ее голос был резким, как пощечина. — Скорее убери джип с глаз долой. Быстрей, девочка.
— Хорошо.
Земля поглотила кровь Смита, трава покрыла все вокруг. В силосном хранилище пахло сладкой травой, перебродившей, как сидр. Я вернулась в дом пешком. Фрэн вышла с узлом постельного белья. Она бросила узел и полотенце, которое я использовала, в бочку для сжигания, облила их дизельным топливом и подожгла. Я постояла с минуту, загипнотизированная пламенем и дымом, пытаясь сосредоточиться, придумать какой-то план. Пожар не был частью летнего праздника. Это был еще не конец. Оставались курятник, Джерри и останки Хичкока.
— Джерри? — спросила я.
— С ним все в порядке. Перевязала его и устроила поудобнее. Скоро нужно в больницу, но это не самая большая твоя проблема, девочка.
— Смит умрет?
— Ха! — рассмеялась Фрэн, да так музыкально, словно кто-то нажал клавишу «до» в средней части клавиатуры. — Мертвецы не болтают без умолку. Дорогая, твоя проблема в том, что он будет жить.
— Он в сознании? Он разговаривает прямо сейчас?
— Нет, — бросила Фрэн, держа руки над огнем, хотя на улице было довольно тепло. — Кто-нибудь знает, что он был у вас на ферме?
— Не уверена. Он привез мне розу, вот и все. Пригласил меня на ужин.
Фрэн пристально посмотрела мне прямо в глаза.
— Он видел твоих кур?
— Да.
— Джерри выстрелил первый?
— Да.
Фрэн покачала головой.
— Грейси, — сказала она, — ты должна принять кое-какие решения.
— Что я должна сделать? — переспросила я.
Фрэн, внешне такая милая, седовласая, ассоциирующаяся с уроками игры на фортепиано и вязальными спицами, уставилась на меня.
— Делай что хочешь, — сказала она. — Но послушай. Сегодня вечером я собираюсь сжечь обрезки досок. Если у тебя есть что-нибудь, от чего нужно избавиться, можешь бросить это в огонь.
Фрэн была похожа на Монтану. Красивая. Учащая уму-разуму. Беспощадная.
Я покачала головой и вошла в дом. Это была не первая моя мысль об убийстве человека. Я много думала об этом, когда мой отец возвращался домой с войны, неуклюжий от виски, ругал нас с мамой. Правда, казалось маловероятным, что я справлюсь со взрослым мужчиной, особенно со Смитом. С другой стороны, Смит украл у меня воду, пришел за моими курами. Это нынешнее дерьмо было просто неизбежным после случившегося, оно предвещало конец, который начинал казаться тяжелым, но неизбежным. Мой отец однажды сказал мне, что, как бы сильно он ни верил в распространение демократии, в справедливые войны и возмездие террористам, ему неизменно требовалось сжать волю в кулак, чтобы посмотреть через прицел пистолета на другого человека, любящего и любимого, на тело с бьющимся сердцем, на бьющуюся жизнь и нажать на спусковой крючок.
— В конце концов, Грейси, — заключил он, — ты делаешь это, потому что до смерти боишься, что тебя пристрелят первым.
На кухне Фрэн пахло в основном яблочным пюре, но и кровью Смита. Голова Смита была выбрита, одежда помята, из уголка рта стекала тонкая струйка слюны. На лацкане блейзера виднелся прилипший клочок куриного пуха. Я не знала, принадлежал он Хичкоку или Монтане, но его тонкие волоски дрожали, когда грудь Смита поднималась и опускалась. Рядом, на полу, лежал кухонный нож с деревянной ручкой.
Мне хотелось покормить Смита. Укусить его. Врезать ногой по носу.
Я не могла перестать думать о том дне, когда сотрудники агентства пришли за моей водой, много лет назад, и Смит просто стоял там, обритый наголо, с пистолетом наготове, притворяясь, что не знает меня, в то время как директор агентства навешивал замки. Я закрыла глаза, пытаясь представить Смита таким, каким любила его больше всего, когда мы оба были лишь школьниками, и все было очень просто. На выпускном балу взятый напрокат смокинг подошел ему идеально. У него были длинные волосы, и мои пальцы погрузились в его кудри, когда я целовалась с ним на заднем сиденье в машине его матери. Я все еще помню полную луну, заставляющую блестеть виниловую обивку, и тяжелый аромат английских мятных конфет Смита на моем собственном языке.
Вернувшись на кухню Фрэн, я нуждалась во всей своей ярости, но почему-то мне ее недоставало. Я закрыла все окна. Это помогло почувствовать себя запертой, загнанной в угол, лишенной свежего воздуха. Я опустилась на колени рядом со Смитом, линолеум холодил мои голени. Я обхватила пальцами рукоятку ножа, провела костяшками другой руки по его щеке. Он слегка улыбнулся. Я наклонилась ближе, провела языком по изогнутому краю его уха.
— Что, — прошептала я, и мои губы скользнули по мягкому пушку на его коже, — ты имел в виду, принеся эту розу?
Смит немного подвинулся и положил свое предплечье мне на бедро. Он не открыл глаз и не ответил на мой вопрос. Я подумала о Джерри, о том, как он обычно зажимал мои косы между большим и указательным пальцами, водил по ним вверх и вниз, свидетельствуя о своей любви. Он проделывал то же самое и с куриными перьями, когда слушал радио. Джерри утверждал, будто подобные повторяющиеся действия помогают ему войти в контакт с самим собой. Я почувствовала ровное биение сердца Смита там, где его кожа согревала мою, и снова задышала, глубоко и ровно, пытаясь сравнить свой пульс и его, пытаясь войти в контакт с собой. Я не боялась действовать в собственных интересах, но больше не могла различить, какие действия правильны, а какие нет. Мои инстинкты потеряли ясность, превратились в помехи. Я представила себе тюрьму убийцы, тюрьму владелицы кур. Я видела, как мои поля высохли, мой курятник опустел, моя нация стала такой же растерянной и хаотичной, как мое собственное глупое девичье сердце, — сердце, болеющее за свободу, которая вечно ускользает, ощущающее, как свобода растекается лужицей. Как слезы. Как кровь.