Шлейф бесплатное чтение
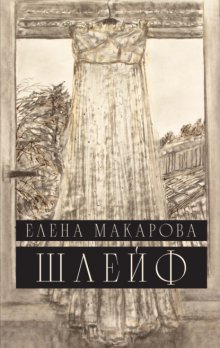
Пролог
– Ты спишь?
– Нет. Думаю.
– О чем?
– О царях Давидах.
– Первый из Грузии, второй наш?
– Оба наших. Утрешнего доставили без царских аксессуаров, а вечернего в простынном облачении с игрушечной арфой. Утрешний во всем винит всех, вечерний во всем винит себя. Утрешний утверждает, что его останки находятся за чертой Старого города, а вовсе не на горе Сион. Требует демонтировать памятник, установленный перед его лжемогилой. Мало того, что это преступление перед иудейским законом, запрещающим создавать подобия, так еще и ни малейшего сходства. Разве похож он на безобразного черного тельца?! Утрешний царь Давид – правдолюб из Жмеринки. Вечерний – сложнее. Психоз на почве обостренного чувства вины. Может, пришил кого-нибудь на бывшей родине? Щиплет струны и рыдает. Не может простить себе гибель Урии. Завладеть его женой он мог и без кровопролития. На всякий случай положил его в отдельную палату.
– Арфа в виде подковы с прибитыми к ней нитями?
– Да.
– Можешь купить себе такую в келье надкупольной крыши. Туда есть ход. Справа от ворот в храм Гроба Господня – неприметная дверка. Заходишь в нее и оказываешься в церкви, отнятой эфиопами у коптов, но те смиренно молятся и в эфиопском антураже… Оттуда ведет узенькая лестница. Взбираешься по ней – и ты на белоснежной крыше. Там, в одной из келий у христиан-эфиопов лавка…
– Думаешь, мне пора?
– Не помешало бы… Да лавка закрыта на карантин. А как поживает шейх?
– Он уже не шейх, он Шмуэль Шимон ибн Гвироль. Под этим именем пытался прорваться в министерство обороны и уничтожить ШАБАК. Пробыл месяц в тюремной психушке, теперь у меня. Пишет сатирическую пьесу про израильских политиков.
– Записывай кейсы.
– Зачем? Их можно выдумать.
– Но они уже есть…
– Мифология богаче истории.
– Без истории не было бы никакой мифологии.
– Воображение богаче действительности.
– Но формируется-то оно ею!
– Все, застряли. Скажи лучше, сантехник был?
– Был.
– Течь на антресоли устранил?
– Устранил. Но произошла странность… Он нашел там два чемодана с занятными культурными ценностями.
– Периода Маккавеев?
– Да… Разве что российских.
– К этой химере лучше не приближаться… Все, труба зовет. Звони, если что.
Если что?
Здесь – карантин, там – мятеж. Здесь сверчит воздух и мерцают во тьме светлячки. Там – прозрачный лес один чернеет. В окне вагона.
Цари Давиды спят. А чемоданный герой, не внемля предостережению психиатра, отправляется в путь.
Часть 1
Весна берет свое
Сто лет тому назад, 7 марта 1921 года, высокий русоволосый юноша вскочил на подножку вагона. Поезд отбывал в сторону Луги.
«Ай, лели-лели… Лели-лели…»
Что там еще было в арии Брусило? – подумал он складно, в рифму.
«Уж лучше вы меня свяжите, братцы, чтоб не было беды какой…»
Эту фразу петь тяжело.
Опера – труд голоса. Ухо слышит, горло производит. Что-то вроде молотилки. И эту вот молотилку где-то заклинило. Как ни разевай рот, не проходит звук таким, как он слышен, в горло. Сама по себе «Снегурочка» очень интересна, особенно когда изучишь содержание…
Будучи в состоянии объяснимого возбуждения, – из-за восстания в Кронштадте два дня не мог достать билет в центральной кассе, говорят, «ждите на вокзале», да и этим утром пришлось встать в пять, переться с пудовым мешком до станции, отстоять долгую очередь, дрожать, что поезд уйдет без него, – Федя плюхнулся на первое попавшееся место. Непосадочное.
– Утруска да усушка, – ворчала старушенция, – ложь мешок под зад и не ерзай!
Раздался свисток, и поезд со скрипом тронулся.
Конец предотъездной волынке.
Дирекцией педучилища Федя был отпущен на каникулы с 5 по 13 марта. И на тебе – мятеж! Два дня задержки. До понедельника в Петрограде стояла ясная погода. В полдень, как бы дразня ожидания людей, выглянуло яркое, смеющееся весеннее солнышко – доброе предзнаменование. Однако по пути на вокзал ноздри пощипывал легкий морозец. А раз так, жди в Теребуни снежную бурю. Ехал бы по плану до Торопца, там бы отец встретил. В ненастье подводы не сыскать. Разве что отец уговорит почтальона за буханку. Или за две…
Мятеж правит бал.
«Военный совет через комиссии по борьбе с контрреволюцией предлагает принять немедленные меры к раскрытию всех шпионских организаций и аресту тех, кто распространяет злостные слухи, сеющие панику и смуту». Это он вычитал в «Правде», стоя у кассы, где распространение слухов наличествовало, однако исходило оно от нервных баб, которые божились, что билеты кончились. Зря, мол, безответный народ томят в ожидании. Однако билеты на самом деле были.
В вагоне, несмотря на просветлевшее утро, было сумеречно, – скопление народа поглощает свет, вбирает его в себя. Выдуваемый изо ртов воздух пачкается, и свет, пожираемый верхней одеждой, меркнет.
Пассажиры, насколько удавалось рассмотреть их, не вызывали подозрения в благонадежности. Деревенские, служивые, военнообязанные… Может ли среди них скрываться агент зарубежной разведки? Всем известно, что Англия и Франция имеют своих шпионов в Петрограде. Маскируются они умело, не как в театре: наклеил усы – и переменился лицом… Могут ли они выглядеть как обычные болтуны?
В газете не говорилось, по каким именно улицам Петрограда прогуливаются шпионы. Должно быть, по центральным… Да и что считать за злостные слухи? Что билетов нет, а они на самом деле есть? Нюх надо вострить. Как лезвие перед бритьем.
Нормально ли, что он постоянно говорит сам с собой про себя? Такое сталось с ним в городе. В деревне он говорил много, да думал мало. Не приучен был к внутренней, самостоятельной мысли. Не до того было. Гражданская война, революция одна, другая… Отец то на войне сражается, то с недоимками, а он, старший сын Федя, в карауле, на нем ответственность за мать да за шестерых детей мал мала меньше. Недоедает, недосыпает, но верит – скоро-скоро наступит мир. И вот вроде наступил, а все равно – волынка. Опера, та порезвей будет. Декорации, смена обстановки, музыка, пение, танцы…
В опере, кстати, дело происходило на Масленицу, – и в деревню он едет на Масленицу. Крепко сцеплены жизнь и искусство.
Неделю тому назад они всем педучилищем ходили на «Снегурочку». Опера Римского-Корсакова, слова Островского. Чтобы создать под руководством учителя, который, по-видимому, разбирается в способе постановок, свою собственную, важно видеть, как работают профессионалы, и учиться на их примере. Премьера назначена на 17 апреля. Разомкнется ли голос? Учитель дал совет петь в чистом поле, наедине с природой. Вобрать в легкие чистого воздуха и… «Чем же мы не молодцы? Не хуже сплясать да спеть умеем». Спеть – еще куда ни шло, а вот сплясать за Брусилу в раскисшей земле – выдумка ума городского. Чисто поле, уважаемый, создают в театрах декорациями и специально направленным светом.
Опера шла долго. В училище пойдет по сокращенной программе. Хлопали без устали, вызывали на поклоны, еще и еще, пока сами актеры не изнемогли выбегать да кланяться. Пусть и мишура буржуазная, а все же прикраса действительности.
Поезд едет. Окна заслонены людьми и вещами, вагон болтает, скрепят изношенные сцепления. Как и всему на свете, им нужен уход, но в суматохе войн и революций не до сцеплений, а теперь еще и мятеж… Пока не подавят, тишины не жди. Сцепления так и будут скрежетать, а черная гарь из трубины паровоза так и будет пачкать нарождающуюся весну.
Эго
В глазах – дым, в окне – монастырь Креста.
Где она?
В Иерусалиме.
Кто она?
Человек без эго. Ни электрошок, ни сеансы психоанализа, ни погружение в гипноз так и не вызволили из недр ее сознания того, что называется «самоидентификацией». Но и с эго, впавшим в летаргический сон, вполне можно жить. По заключению медкомиссии она не представляет угрозы обществу. С учетом высокого IQ и отсутствия агрессии ей дано право на независимое существование. Без сопровождения, но под надзором.
Арон считает, что она прикидывается, что ей доставляет удовольствие играть с самой собой в прятки и заодно щекотать его либидо. Фрейдист.
Будь воображение и впрямь богаче действительности, чемоданы с ее прошлым тоже можно было достать с чьих-нибудь антресолей. Составить удостоверение личности. Пока что его заменяет справка с кодом и диагнозом. За границу не выедешь. Но в пандемию и с паспортом не выедешь.
Компьютер легко перевести в режим sleep.
Его не надо усыплять вариациями Баха. Страдающий от бессонницы студент, для коего Бах сочинил тридцать вариаций, уходил в сон за 38 минут и 34 секунды. По замеру Глена Гульда. А выписали бы страдальцу снотворное – и никаких ночных музицирований в спальне.
В человеческое время монастырь Креста освещался прожекторами, теперь тонет в общей тьме. Вид толстостенного охристого сооружения, из которого в конце XVIII века выросла несообразная древности колокольня, поддерживал ее бессонными ночами. По утрам она ходила туда пить кофе – его варили арабы-христиане в сувенирной лавке. Железная дверца отпиралась по звонку. Входное отверстие было столь низким, что даже ей приходилось пригибать голову. Неужели Шота Руставели был еще ниже нее?
Поэт, благословленный царицей Тамарой на паломничество, прибыл сюда семь веков тому назад. Об этом, кроме всего прочего, свидетельствует фреска в подножье одной из внутренних колонн монастыря. Автопортрет Шота. Старец в красной мантии и воздетыми в молитве руками. Верный неразделенной любви к царице, Шота, по утверждению фрейдистов, сублимировал либидо кипучей деятельностью: восстановил порушенное крестоносцами, подновил внутренние росписи, мимоходом нарисовал и себя. Он создал при монастыре библиотеку, в которой богословы сочиняли новые трактаты или переписывали древние манускрипты. На стенах появились портреты Платона, Сократа и Аристотеля. Ничего этого теперь там нет. Ни библиотеки, ни философов, одни архангелы. В 70-х годах прошлого века при реставрации мозаичного пола под колонной с автопортретом были обнаружены гробы, в одном из коих покоился мужчина; предполагают, это останки Шота Руставели. Так или не так, никто не знает.
Бои времен Османской империи и войны за независимость оставили в архангелах пробоины, но Шота пуля не взяла. Стертый с колонны, он покинул ее подножье в начале ХХI века. Камера внутреннего наблюдения этот момент, увы, не зафиксировала. Меж тем факт отсутствия Шота был очевиден, и Грузинская церковь пригрозила Греко-Римской межконфессиональным скандалом. Во избежание неприятностей дорожку перед монастырем заасфальтировали и нарекли улицей Шота Руставели. Беглец был пойман кистью кустарного копировщика и водружен на место. С того времени монастырь стерегут высокие прожектора. Реанимированному автору «Витязя в тигровой шкуре» из плена не вырваться.
Шпионы, чародеи и просто люди
Только отъехали, встали.
Народ разволновался. Чего встали? Какие такие обстоятельства?
– Ясно какие. Читайте «Петроградскую правду»! – Сидящий рядом с Федей на полу флотский достал из кармана вчетверо сложенную газету. – Еще первого марта было сказано, что враг не дремлет, но и моряк зорко следит за ним.
– Так ты тут за чем и за кем следишь? – напустилась на флотского кособокая старушенция с плетеной корзинкой.
– Козни врага разгаданы и будут разрушены!
– Окстись, сегодня, чай, седьмое!
– Не вышло за неделю и разгадать, и разрушить, – осклабился флотский.
Лицо молодое, а зубов раз-два и обчелся. Держал бы рот закрытым. Отец, чтобы не терпеть боли, пальцами их из десен выкручивает. Жевательные винты, говорит, к челюсти не крепко приделаны, а в его изношенном организме вообще все на соплях держится.
– В Киевце чародей по прозвищу Сердоха зубы заговаривает, – зачем-то сказал Федя.
– Колдунов своими руками душил бы! – потряс кулаками флотский.
Паровоз загудел и тронулся с места.
– Сам колдун, – прошепелявила старушенция, не глядя на флотского. – Паровозы словами заводит.
– Так что твой Сердоха?! – Флотский поднес табак к носу, одним вдохом собрал его в ноздрю, да как чихнет. Артист! Или шпион, нанятый франко-английской разведкой?
Федя ответил обтекаемо, мол, конечно, смешно, что люди верят в заговор.
– Мне-то ты зубы, которых нет, не заговаривай! – Флотский широко открыл рот, штук пять там все же насчитывалось. – Отвечай по делу, про колдуна.
– Он действительно помогает. Своими глазами видел. Мужик здоровый, глаза характерные – лукаво бегают под нависшими бровями, колдовского ничего нет. Помощь же его заключается не в том, что он надевает соответственную рубашку и производит всякие махинации, а в том, что он в дупло прогнившего зуба кладет лекарство. Не то креозот, не то что-то другое. И им убивает нерв.
– Тогда твой Сердоха лекарь. Подозрения насчет колдовства сняты.
Поезд разогнался, сделалось гулко и душно. Беседы с незнакомыми дело небезопасное. Лучше беседовать с собой, себе знакомым. Но знаком ли он сам себе? Если да, то он мог все знать про себя. До скончания жизни. Эта мысль была трудноватой, и Федор отвлекся на пустяки. Хорошо, что перед отъездом он успел примерить костюм Брусило. Зажига! Сказать без рисовки, малороссийский этот парубок в таком костюме и с таким лицом мог бы кое-что устроить и пользоваться успехом. Роль, правда, проходная. И играется в одном лишь первом акте. Потом писатель Островский Брусилу то ли забыл, то ли пренебрег им сознательно в угоду более важным действующим лицам. Наверное, писатель не составил предварительного плана сочинения. Очень много путаницы в этой пьесе. В будущем надо бы научиться писать сочинения с обдуманным набором действий. Не рубить зараз, что Ванька будет вперед надевать: брюки или френч и какой френч, черный или зеленый.
Мимолетная мысль – что холостая пуля из рогатки.
Из какой засады выскочили френч и брюки? Где они прятались, в каком полушарии? А цвета? В черепушке-то темным-темно. Где, в какой из извилин происходит распознавание? Извилины как ручейки, созданные природой для струения мысли, но каким образом торится путь от истока к устью? Как слово, выходя на свет из кромешной тьмы, образуется во рту? Зря пошел в учителя, надо бы в науку. Ради нее он вскрывал бы бесстрастно людские черепа. Коровьи он и так видел вместе с мозгами драными, их он бы изучать не стал. Что там мясо и молоко думают? А в человечьи бы заглянул.
Флотский шуршит газетами, привлекает внимание. Тело его, худое внутри одежды, начинено бумажными новостями государственного значения. Руки снуют по карманам: то табак достанет, нюхнет да чихнет, то за очередной газетой под ворот бушлата залезет – они у него где вчетверо сложены, где комком. Газеты нужны всегда и везде. И уж непременно при долгой дороге. Для чтения – свежие, на подтирку – старые. В поезде подтираться негде. Значит, сугубо для чтения. Кстати, при справлении нужды в местах общественного пользования следует проявлять зоркость, дабы не подтереться значительным лицом или крылатой мыслью. А то как присядет рядом англо-французский шпион…
Народ дремлет в унисон с мерным и звучным движением состава, приглядывает за вещами вполглаза.
Федя сидел в обнимку с холщовым мешком. За полгода разлуки насбирал он для семьи пуд гостинцев и кое-что по ремонтной части. Отец намерен управить за праздники прохудившуюся крышу, заменить прогнившие подпорки на новые. Мечты крестьянина из рассказа Григоровича. Кулак обобрал крестьянина кругом и около. Чтобы перезимовать в избе, он загодя «замазывал глиной места, где становил подпорки». Так и отцу придется поступить с его планами.
Пробежав взглядом по письму – почерк у отца в общем и целом понятный, разве что без заглавных букв и знаков препинания, – Федя убрал конверт в мешок и достал серенькую тетрадку – дневник начинающегося года. Литературный язык, употребленный на его написание, отличен от устного. Отцу учиться не довелось, никто ему не разъяснил, чем речь устная отличается от письменной.
«Появилась у меня мысль: бросить на себя взгляд по сравнению с тем, что я был и что стал, причем не в смысле физическом (вырос, например), но именно в смысле перетасовки некоторых убеждений, приобретения новых и уже в связи с этим внешних действий…»
Тут уж френч с брюками из засады не выскочат. Цензура ума. Контроль. Зато в разговорной речи он бы не употребил словосочетание «перетасовка убеждений», не тянул бы тянучку с «приобретением новых и уже в связи с этим внешних действий»… Если задуматься, не очень понятно, что имеется в виду, зато заметно, что человек в 19 лет мыслит. И подчас многосложно. У Ленина тоже не все понятно, приходится заучивать ветвистые параграфы наизусть. Тренировка памяти. На ночь четыре раза прочел, утром повторил – готово.
«Это будет нечто вроде самокритики своей психологии и в связи с этим внешних действий (к примеру: недостаток слога и повторения). Период перелома можно считать с начала учебного 1920/21 года, т. е. с осени и до сего дня, и я не берусь сказать, что он кончился и я перешагнул красную черту. Физически я здорово возмужал за последний год и оброс всех школьных товарищей, за исключением Полозова, а также Солодова, который был выше меня. Причина такого роста может быть та, что у меня позже, чем у других, наступил период зрелости, и замечательно, что в связи с этим начинается психологический переворот. Главная перемена – это отношение к Д. или Ж. И все остальное имеет то или иное отношение к этому».
При одной мысли о Д. или Ж. бросает в краску. Да если бы только этим дело кончалось! В паху нагнетается напряжение такое, что вот-вот штаны треснут. Это крайне неприлично, такое дневнику не доверишь.
– Ты чего там читаешь? Ну-ка дай сюда!
Флотский возвышался горой. Федя сховал тетрадь в мешок. Унизительное, однако, чувство. Будто пойман в процессе дела интимного. Ни туда, ни сюда. Мгновения порой длятся долго, – думал Федя, пережидая тягость вынужденного бездействия.
– Струсил? – раззявил рот флотский, вернулся на место и достал газету из-под бескозырки. И там у него склад!
– Достукались! – вскричал он, размахивая «Петроградской правдой». – Всем слушать! «Теперь вы видите, куда вели вас негодяи. Из-за спины эсеров и меньшевиков уже выглянули оскаленные зубы бывших царских генералов…» – изо рта флотского пошла пена, скрыла под собой оскаленные зубы. – «Вам рассказывают сказки, будто за вас стоит Петроград, будто вас поддерживают Советы и Украина. Все это наглая ложь. В Петрограде от вас отвернулся последний моряк…» – А последний моряк – это я, я! – стучал он кулаком в проложенную газетами грудь, отчего звук получался вялым. – Пока вы тут по своим делам разъезжаете, я от лица Красного Петрограда смеюсь над жалкими потугами кучки эсеров и белогвардейцев!
Народ пробудился от флотского громогласного смеха, но глаз не подымал. Сидел, как пристыженный.
– Агитатор хренов! Поворачивай оглобли, вали в Кронштадт, – пригрозила ему клюкой старушенция. – Иль ты шпион английский?
– Я тут от имени Комитета обороны Петрограда!
– Новости должны быть новые. Ты газету нам от какого числа зачитываешь?
– От 5 марта.
– Вот и подотрись ею!
Флотский умолк. Видать, вспомнил свою мать-старушенцию и затосковал по ней. Утерши рот, он распустил кулаки, уткнул подбородок в ладони и засопел в огромные, волосатые изнутри ноздри. Дышал он что паровоз о двух трубах, спал глубоко, непритворно, и Федя вернулся к тетради.
«До перелома я был примерным учеником-отроком. Исправно учил уроки, был безусловно хорош в смысле поведения с воспитательской точки зрения, застенчиво шалил с Д., когда бывал в ударе, но больше держался от них подалее, боясь насмешек, а может, и чего другого со стороны Д. Остатки того есть и теперь, и часто не знаешь, что говорить с какой-нибудь вздорной Д.
Ну я, кажется, слишком далеко залез в воспоминания, теперь ближе к делу. То, что я назвал переломом, будет не вполне правильно. Перелом при нормальном течении жизни невозможен в полугодие, а совершается он все время, а это лишь наиболее яркий момент в жизни. Оправдание поворотной политики я видел в том, что для того, чтобы сделаться общественным работником, т. е. собственно слугой нового общества, которое есть народ, необходимо познакомиться с народом, со всем хорошим и худым, что там найдется, чтобы быть в его среде своим человеком».
Флотский зашевелился. Федя спрятал тетрадь. Зевая, флотский завязил кулачища в глазницы и стал тереть ими с такой неистовостью, что, того и гляди, зрение свое пристальное в порошок сотрет. Однако не стер и, отняв кулаки от лица, уставился на Федю. Змей Горыныч! Глаза что выжигательные стекла. Опять взялся махать газетою, сначала одной, а потом и другой. Вроде стрелочника у шлагбаума, только слишком быстро, без пауз: то путь открыт – и тотчас закрыт, то закрыт – и тотчас открыт. А потом опустил обе руки, оторвал клочок от газеты, поднес к глазам и как закричит:
«Вы окружены со всех сторон. Пройдет еще несколько часов, и вы вынуждены будете сдаваться. У Кронштадта нет хлеба, нет топлива. Если вы будете упорствовать, вас перестреляют, как куропаток! Все эти генералы Козловские, Бурскеры, все эти негодяи Петриченки и Тукины в последнюю минуту сбегут к белогвардейцам в Финляндию. А вы, обманутые рядовые моряки и красноармейцы, – куда денетесь вы? Если вам обещают, что в Финляндии будут кормить, вас обманывают. Разве вы не слышали, как бывших врангельцев увезли в Константинополь и как они там тысячами умирали, как мухи, от голода и болезней?»
Изо рта-ямины рвались слова, смешиваясь со слюной, и Флотский то утирал ее локтем, то сплевывал под ноги.
Для слуги нового общества, как Федя изволил себя назвать, флотский – золотник в копилке знаний. Ведь изучать придется не только людей положительных, но и физически отталкивающих. Подобных флотскому. У этого дисгармония личности изо всех дыр прет.
– Такая же участь ожидает и вас, если вы не опомнитесь тотчас же!
– Сам первый и опомнись, – одернула флотского бесстрашная старушенция.
Он же, никого не видя и не слыша, продолжал выкрикивать газетные слова:
– «Сдавайтесь сейчас же, не теряя ни минуты! Складывайте оружие и переходите к нам! Разоружайте и арестовывайте преступных главарей, в особенности царских генералов! Кто сдастся немедленно, тому будет прощена его вина. Сдавайтесь немедленно!»
– Кому сдаваться-то? – подбоченилась старушенция и пошла приступом на флотского. – Сбежал с войны и мозги перчишь, дезертир!
– Вражья мать! – рассердился флотский не на шутку и, сцедив остаток слюны, плюнул на старушенцию, да не попал. – Смотри сюда! – шлепнул он ее по чепцу газетой, но легонько, и снова побагровел лицом. – Эту дрянь мелкобуржуазную я на вокзале стибрил. «Известия» называется. Тут другой призыв: «Граждане! Кронштадт сейчас переживает напряженный момент борьбы за свободу. Каждую минуту можно ожидать наступления коммунистов с целью овладеть Кронштадтом и навязать нам свою власть… Поэтому Временный революционный комитет предупреждает граждан не поддаваться панике и страху, если придется услышать стрельбу». Так что, граждане, если начнут стрелять, в панику не впадайте. Посмешище-то какое! Кучка авантюристов-демагогов решила взять обманом полуголодных матросов… Предательскому временному комитету мы хребет перешибем, а вот дурней восставших жаль… Упьются собственной кровью».
С этими словами флотский перекинул котомку за плечо и пошел, расталкивая пассажиров, к тамбуру. Может, другой вагон агитировать? Федя последовал за ним.
– Знай, парень, весна возьмет свое, – сказал флотский, спрыгнул с подножки – и пропал из виду.
На станции «42-й километр» небо было покрыто низкими тучами. Воздух, пропитанный влагой и запахом паровозного дыма, саднил в гортани.
Шеш-беш
Иерусалим включил дальний свет, опоясал холмы гирляндой огней. Прежде огней было море, как в мемориале погибшим детям, теперь – свет ближний – из окон и от изредка проезжающих машин.
Грозди желтоватых шариков акации летят в темноту, свет из окна застревает в стволе надтреснутой оливы.
Этот город без всякой обточки превратит бревно в поэта. Но она не бревно. Она – надтреснутая личность с диагнозом. Зато в обнимку со справкой ей разрешено гулять где угодно. Кроме Меа-Шеарим, вотчины ортодоксов. Эти полегли первыми. У избранного народа и министр здравоохранения – Всевышний. Покарал за вероотступничество шесть миллионов евреев, не помогло. Наслал коронавирус. И именно в этот час, когда весь народ Израиля должен быть в синагоге, государство не выпускает его из дому.
А ее – выпускает. Справка, маска, аэрозоль, перчатки – все при ней.
Город пуст. Разве что стражи порядка могут остановить ее у Яффских ворот. Но она проходит незамеченной. На площади перед музеем царя Давида ошиваются таксисты. Ждут несуществующих клиентов. К ней не кинулся ни один.
Ступеньки, отполированные поступью тысячелетий, едва посверкивают во тьме. Из-за того, что все закрыто, лестница, ведущая к площади Святой Елены, кажется широкой. Легкие кеды шуршат при ходьбе. И еще какой-то звук вдалеке нарушает тишину города-призрака. С приближением к храму Гроба Господня он превращается в гулкие удары. Это стучат шашки, ударяясь о деревянное поле.
Две тени играют в шеш-беш.
Миновав игроков, она останавливается у массивных, неплотно закрытых дверей. Запах паровозного дыма все еще сидит в ноздрях. Душистый камень помазания – у самого входа. Забыв о пандемии, во время которой даже до перил в собственном подъезде опасно дотрагиваться, она садится на корточки, возит ладонями по плите, умащенной эфирными маслами. Ничего, при ней красные латексные перчатки омерзительного оттенка.
Лестница, ведущая на Голгофу, справа от нее. Ступени высокие и неровные, в темноте лучше держаться за железный поручень. Вывинтившись из лестничного проема, она ощупью движется к тому месту, где за стеклом хранится потрескавшаяся скальная плита. Обцелованный и обплаканный покров ее не тускнеет, господни слуги ежедневно отмывают его от слез и лобызаний. Для этого в Израиле производятся особые средства для очистки святынь.
Что-то дзынькнуло, видимо, покачнулась одна из лампад, и из-за черной шторы, куда после проповеди удаляются священники, выступила фигура.
– Кто здесь?
– Царь Давид, – ответствовал тихий голос по-английски, и послышались нитяные звуки маленькой арфочки.
Видимо, и этот не прошел мимо эфиопской лавки. Звонить Арону?
– Вы знаете, что эта церковь принадлежит арабской семье? Ахмед-ключник суров, чуть что вызывает полицию. Идемте, я провожу вас домой. Вы по-прежнему живете в Силуанской долине?
Арфа стихла.
– Увы и ах… Рядом с моим домом развелись недостойные, жестокие подростки. На моих глазах разорвали собаку на части. Я покинул дворец и оказался в Нью-Джерси. Но пока воздушное сообщение закрыто, обитаю здесь.
– Ортодоксальная еврейская община Америки вас осудит.
– Мир погряз в невежестве, иудеи – не исключение. Известно ли вам, что эта пещера носит имя Адама, первого человека на земле? Выше всего живущего в творении – Адам! И погребен он именно здесь. Во время распятия Творец наслал сюда землетрясение, и останки праотца нашего провалились в расщелину между скалами. Никаким раскопщикам не найти. А раз доказательств нет, отправляйтесь в Хеврон.
– Почему в Хеврон?
– Таково предположение нынешних невежд-иудеев. Да и Израилю не нужны конфликты на Голгофе. А араб Ахмед, к вашему сведению, человек благородный и меня не гонит. И кого бояться мне? Кого страшиться? Господь – опора жизни моей. Псалом 27.
С этими словами Давид исчез за черной шторой.
Цари нелюбопытны. Ни одного вопроса. Кто она? Как оказалась ночью на Голгофе?
Шеш-бешники испарились, оставив после себя гору семечковой лузги. Избитая фраза – свято место пусто не бывает – расправила крылья. Эскадрилья каркучего воронья спикировала, нахватала шелухи в клювы и взмыла. Настала безголосая тьма.
В докарантинную тьму свет от площадных фонарей добивал почти до самого низа базарной лестницы, ведущей к Яффским воротам. При потухших фонарях пропало ощущение конца пути. Понятно, каким образом флотский испарился среди бела дня: его поглотила внутренняя тьма. Ей это не грозит, просто надо идти прямо, никуда не сворачивая. Разве что на улицу Арарат – от нее кружной путь ведет к стене Плача, оттуда к Мусорным воротам, что напротив Силуанской долины, вотчины царя Давида, сбежавшего из дворца при виде растерзанной собаки… Дальше мимо Геенны Огненной к Синематеке… Кружным путем она добралась бы до дому за полчаса, прямым – минут за двадцать.
Сдать ли Арону американского царя? Ахмед-ключник – личность неприятная. Во время схождения Благодатного огня запер храм изнутри. Люди стояли впритирку, женщину, потерявшую сознание, подпирала толпа. Кто-то все же пробился к двери и умолял Ахмеда отпереть ее. Ни в какую! «Ждите окончания службы!»
У Яффских ворот ее остановил полицейский. Она показала справку. Он посветил телефоном на код и молча указал рукой направление.
Life is good. Как она не сообразила про LG? Могла бы осветить телефоном ступеньки и фигуру царя…
Миновав торговый пассаж с призрачными манекенами в витринах, она свернула к гостинице «Царь Давид». Евреи с названиями не оригинальничают. Улица Царя Давида, царя Соломона, Пророков и, конечно же, Герцля и Бен-Гуриона есть в каждом городе.
В гостинице горел свет. Богатые иностранцы тоже сидят на карантине. Брильянты под защитными масками.
Меч мести
LG мигает с позавчерашнего дня. Три сообщения от Арона. Два старых, одно пятиминутной давности.
1. «Мордехай был отпущен мною с санитаром навестить умирающего отца. Санитар зазевался, а тот, увидев чернокожую женщину с девочкой на руках, воткнул ей в голову ножницы… Задержан на месте преступления».
2. «Девочка в тяжелом состоянии доставлена в «Ихилов». Мордехай заявил полиции, что черные мешают Израилю, а он, черт бы его подрал, меч мести белых за террор черных».
3. «Что случилось? Отзовись».
Этот шизофреник меняет имена как перчатки. К ней он впервые явился под двойным именем Михаил-Мордехай. Из-под пятницы – суббота. Заказ на перевод 122 декретов государственной важности. Оплачивает министерство абсорбции. Одутловатый от стероидов автор уселся за стол на кухне, угостился всем, что было, испросил позволения покурить, не имея курева при себе. Завидев самокрутку, оживился, решил, что трава. Из декретов Михаила-Мордехая, избранного еврейским народом в его лице, один актуален, как никогда: «Национализация всего воздушного и космического пространства». Кстати, перевод этого бреда и впрямь был оплачен указанным министерством. Десять лет – нормальный срок для реализации проекта в левантийской стране. Первым абсорбцию пройдет воздушное пространство, за ним подтянется космос.
– Что с девочкой?
– Лучше. Главное, глаз цел. Где ты шастаешь? Почему не отвечаешь на звонки?
– Думаешь, тебя уволят?
Чирк спичкой о полоску серы. Арон раскуривает трубку. Он обожает спичечные коробки и не пользуется зажигалками. В детстве он был поджигателем. В попытке расшевелить ее память он много и красочно рассказывал о своем детстве. Ход неглупый. Она бы и сама применила его к пациентам с ее диагнозом. Но ей и так хорошо – живет интересами новообразованной семьи, вслушивается в музыку чужих слов, всматривается в рукописный узор.
– Ты где?
– В письмах.
Почерк Алексея Федоровича пружинистый, плясовой, почерк его деда-крестьянина Петра Петровича – неуверенно запинающийся, почерк его деда-поэта Владимира Абрамовича – плавный в прозе и прыгучий в стихах, почерк его отца Федора Петровича – четкий, строевой, почерк его матери Эльги Владимировны – крученый, забористый… В ворде все почерка одинаковы, а нотный стан един – Times New Roman.
– Анна, прекрати играть в молчанку!
– В справке с кодом имя не значится.
– А в истории болезни – значится. Ты где?
– Иду с Голгофы.
– Зачем ты туда ходишь?! В пандемию…
До генеральной репетиции несуществующей оперы далеко. У каждой партии – своя директория, они пополняются, но с заминками. Папаша главного чемоданного персонажа уже двинулся в путь, а мамаша – в засаде, строчит донос на сотрудника. Того посадят… Согласно хронологии, нескоро, но имя сотрудника следует найти непременно. Имя. Важно найти имя. Тем более когда своего нет. Может, поэтому она часто ходит в темную комнату с огнями, размноженными зеркальными отражениями, и слушает имена детей, уничтоженных в газовой камере.
Арон пыхтит. Ему было бы проще держать ее на поводке, отслеживая траекторию ее передвижений в айфоне. Но этого она ему не позволит. А настаивать он не умеет. Как удалось этому мягкотелому субъекту сделаться чинителем душ?
– Успокойся, твоя подопечная в безопасности и находится за пределами Старого Города около гостиницы «Царь Давид». Знаешь, кто автор ее роскошного интерьера?
– Не знаю.
– Венский архитектор Пауль Энгельман. Друг философа Витгенштейна. По его заказу строил виллу для его сестры Маргареты. В 35-м Энгельман уехал из Вены в Палестину. За тридцать лет спроектировал какой-то дом в Хайфе, а в начале 50-х – лобби и ресторан гостиницы «Царь Давид». Невероятная личность. В Палестинах развлекался литературой и философией. Каким-то образом его архив очутился в Инсбруке. Оказывается, он был автором трудов по психологии и планированию современных городов, пьесы «Орфей», классных карикатур… Чтобы не платить в одиночку за съем квартиры, этот планетарный мыслитель взял в компаньоны драматурга Макса Цвейга. Тот попал в Палестину перед самым началом войны и, представь себе, во все то время, пока шла война, они собирали по памяти антологию немецкой поэзии за 400 лет. Они были уверены, что с третьим рейхом кончится немецкая культура. Хочешь услышать, что Энгельман написал перед смертью?
– Я бы с большим удовольствием услышал что-то о тебе самой…
– Пожалуйста: «Если считать себя кому-то обязанным своими интеллектуальными достижениями, то только своим учителям: у Крауса я научился не писать, у Витгенштейна – не говорить, а у Лооса – не строить». Крауса звали Карл, а Лооса – Адольф. На всякий случай.
– Ты могла бы стать блестящим лектором…
– А ты – завотделом по трудоустройству.
– Наймусь. Мордехая запрут в тюремную психушку, а меня отправят на волю.
– Не отправят. Главное, держи при себе царей Давидов. Не пускай их навещать тяжело больного папашу Иессея.
– Я их завтра выпишу.
– И примешь нового, с Голгофы. С эфиопской арфочкой.
– Тоже из наших?
– Не угадал. Из Нью-Джерси. Сторожит останки Адама. Они провалились в расщелину во время землетрясения… Пока воздушное пространство на карантине, Ахмед-ключник приютил его у себя.
– Это нехорошо. Одна моя пациентка считает, что он бес. Во время схождения Благодатного огня ее пробил колотун. Еле до дверей довели. Ахмед не отворил. Дразнил ее, позвякивал перед носом связкой ключей… Но ты-то как туда попала?! В карантин все молельные учреждения заперты.
– Там была щель. Видимо, Ахмед оставил ее для царя Давида.
– Так ты видела царя или нет?
– Видела. Но смутно. Там была эфиопская тьма. Не волнуйся, это не глюки.
– А фонарик включить в телефоне?
– Не сообразила.
– Тогда передай царю, что класть его некуда! – Арон стучит обо что-то трубкой и чиркает спичкой. Поджигателей утешает огонь. – Правда, некуда! Из хостела «Дипломат» привезли двух Иисусов. Пытались распять друг друга на общей кухне. К Магдалинам не положишь – гендерный барьер. Собрал представителей Нового и Ветхого Завета в одной палате…
– Нормальные психи у тебя есть?
– Конечно. Но они этого о себе не знают. Зато знают все про собирателей антологии немецкой поэзии по памяти.
– Это реальная история.
– А твоя – выдуманная?
– Да. Тобой.
Переход в новую форму
Алексея Федоровича она узнает на всех фотографиях, групповых и индивидуальных, она узнает его, как узнавала бы себя. Если бы. Она узнает его не по чертам меняющегося с возрастом лица (выдающийся лоб, большой нос, голубые глаза, тонкие губы, небольшой подбородок), а по взгляду, припечатанному к облику. Не удаются ей портреты. А уж тем более физиогномические пасьянсы. Ими увлекался Владимир Канторович, еврейский дед Алексея Федоровича. Стоял перед зеркалом и измерял штангенциркулем расстояния между лбом и нижней губой, между ухом и носом… Френолог-любитель, он оставил после себя маловразумительный отчет о связи черт его лица со свойствами характера.
«Владимир Абрамович Канторович.
Зубы, овал лица, подбородок
Алексей Федорович не унаследовал от деда интереса к псевдонаучным изысканиям, искрометного юмора в дедовских сочинениях она также не обнаружила, возможно, они не попали в чемодан. Из наличествующего разве что шуточные куплеты связывают деда и внука-весельчака. Интересно, какой был у Владимира Канторовича голос?
У Алексея Федоровича – бархатистый, глубокий.
– Как-то он исполнил итальянцам песню «Из-за острова на стрежень». Не зная ни времен, ни форм глаголов по-итальянски. Одни существительные и инфинитивы, позаимствованные из французского и музыки. Изложение содержания звучало примерно так: «Бандито грандо Стенька Разин ин Руссия векья (большой разбойник Стенька Разин в старой России) андаре гондола а фьюмо руссо мольто гранде Вольга (ходить лодка на очень большой русский река Волга). Стенька любить (аморе) благородная девушка (рагацца ноблесса). Другие бандиты (альтри бандитти) быть недовольны на Стенька (нон филичитозо а Стенька). Ты мы забрасывать (абандонаре) говорить бандиты, ты аморе только свой долбаный (долбанутто) рагацца. Стенька говорить: „Ах так, бля!“ (Эти слова он произнес по-русски, не зная эквивалента – но постарался передать смысл экспрессией). Стенька бросать рагацца ин аква, и бандиты мольто довольны (феличитозо)».
Всеобщий хохот.
– Откуда это в вас?
– Понятия не имею. Генетический код? Во время йоги мне вот что пришло в голову: семейное прошлое, как и вообще прошлое, человек, занятый собственной жизнью, по большей части вытесняет и игнорирует. Так оно и пропадает. Иногда в определенном возрасте начинаешь думать о нем – и вдруг понимаешь, что его нет. Да и то, что есть – надо ли это кому-то?
– Тогда зачем вы хранили чемоданы?
Алексей Федорович не отвечает. Он – в процессе медитации. Но ей слышно, о чем он думает.
«Предки с еврейской стороны казались мне старыми и умными (коими и являлись). Я их, конечно, интересовал – помню испытующий взгляд дяди Леки: „Интересно, что у него в мозгах?“ На их вопросы я что-то мямлил, типа: „Учусь нормально, живу нормально“. В принципе и они мне, помнится, казались интересными, скорее даже таинственными. Но я был правильным советским ребенком из правильной советской семьи, а у советских людей, как известно, память отшибло тем самым паровозом, у которого „в коммуне остановка“. Полагалось работать для будущего счастья человечества, а о прошлом не задумываться. История была обкромсана или изувечена. Но случилось так, что я стал заниматься чужими историями, и они захватывают меня куда сильней…»
Это нас и роднит.
– Родная… Чувство такое, будто я растворяюсь в тебе…
– Вы шутите?
– …или даже расплавляюсь, блаженство размягчения плавящегося металла, перехода в новую форму…
– Алексей Федорович, вы пьяны! Вы по всем фотографиям с бокалом разгуливаете…
– Это от тоски. У окна один стою и во тьму гляжу, а тоскую почему, вам не расскажу…
И не надо.
Дома безмолвны над каналами
8 марта 1921 года Владимир Абрамович Канторович вернулся домой из Музея революции с пустыми руками – из-за мятежа все позакрывали, и долгожданная встреча с организатором Петроградского историко-революционного архива не состоялась.
- Раскинут темными кварталами,
- Ты замер, каменный, в гробу,
- Дома безмолвны над каналами
- И люди мечутся в бреду…
Записать! Хотя озябшие феминистки с портретами невинно убиенной Розы Люксембург и все еще здравствующей Клары Цеткин не метались в бреду. Напротив, держались организованно и, кажется, были единственными, кто в этот день вышел на улицу без рабочей надобности. Ни мятеж, ни холодрыга не способны обуздать дамскую страсть к раскрепощению. Клара Цеткин – еще куда ни шло, но Роза – та еще стервоза, он ее по Лондонскому съезду помнит.
Запершись в кабинете, Владимир Абрамович провел рукой по скатерти, изображенной на фотографии черт знает какого года, и уставился пустым взором на супругу в немыслимо дорогом платье (продали за сколько-то ленинок), сидящую у стола, за которым сейчас сидит он в той же тройке, разве что обветшавшей.
Все не так. На фотографии он лежит на софе в тогда еще новой тройке, рука с папиросой обнимает изящно выгнутую спинку. Логичней было бы обнимать жену, а не спинку софы, но она, родившая ему двоих детей, на ней бы вряд ли уместилась. Впрочем, для этого есть кровать, пока еще не проданная и не конфискованная в пользу бедных. Пятнадцать лет тому назад, в пору романтических ухаживаний, будущая супруга попросила его не называть ее Песей Абрамовной. А как же тогда? Полей, и без отчества.
Имея при себе Полю, легко отважиться на книгу об императрице.
«Она имела крупные, правильные черты лица, была хорошо сложена, даже могла казаться красивой, но такой красотой, которая оставляет равнодушным, не волнует, не зовет. Поэту умирающей династии она не давала никакого сюжета. Прямая, высокая, с неподвижным лицом, она казалась человеком, который не гнется. Что-то деревянное было во всей фигуре, какая-то застывшая „царственность“. Она хорошо умела стоять на одном месте, еще лучше выслушивать, не выражая на лице ни похвалы, ни порицания. Глаза играли подчиненную роль: могли бы совсем закрыться без ущерба».
А куда, кстати, улетел висящий над диваном ковер, этот апофеоз дурновкусия, которым страдало ее семейство? Хотя нет, оно не страдало – страдал только он. И продолжал бы страдать, если бы вся эта роскошь в одночасье не была распродана Полиным отцом Абрамом Моисеевичем Варшавским.
«Что ты творишь, Абрам?» – вопрошала мужа Шейна Лея, с нескрываемым ужасом глядя на перекупщиков. В 18-м за незаконную торговлю расстреливали.
«Кушать надо», – отвечал ей Абрам с не присущим ему прежде хладнокровием.
Он, лесопромышленник, основатель парового судоходства в Лужском уезде, ранее владевший знаменитым Екатерининским имением в Торопце, теперь заботился лишь о пропитании семьи, попавшей в шторм на утлом суденышке. Счастливые лета, когда он по доброте душевной заселял имение разными Канторовичами, канули в лету.
Настенный ковер со всеми атрибутами буржуазной неги он бы вернул на место.
Парк, озеро, беседка, мостик… Коленопреклоненная красотка в темном платье, подпоясанном под грудью, кормит с руки белого лебедя. Короткий рукав с кружевным крылышком, рука странным образом выгнута, цветы, пеструшки, курчавый усатый кавалер во фраке ведет под ручку декольтированную черноволосую даму в шляпе, несообразно сидящей на голове…
Впрочем, окно его кабинета смотрело на ту же картину, разве что на гобелене был разгар лета, а нынче, в безлиственную пору, сквозь стволы деревьев просвечивало озеро с беседкой, далеко за ним смутно виднелось здание бывшей Думы.
Помпезному эталону усадебной архитектуры удалось уцелеть после штурма. Революция не пошатнула его дорических колонн, держащих на себе портик широкого купола, усаженного на плоский барабан с прямоугольными узкими окнами.
После роспуска Учредительного собрания, в комиссию по подготовке коего Владимир Абрамович был делегирован Бундом, в стенах Таврического дворца произошел разгром, приведший к уничтожению множества ценных исторических документов и артефактов.
- …Не для молитв твои пределы,
- И не для святости покой.
- Без крыльев дух, без крови тело –
- Тебя замыслил гений злой.
«Светлый день; просторная комната. А я мечусь, как птица в золоченой клетке. Видимо, объелся жизнью и не понимаю, что значат подлинные испытания. Еще издеваюсь над позитивизмом людей, знающих наверняка, что дважды два – четыре, что детей надо воспитывать, жену любить, по ночам спать, а утром пить горячий кофе с булками. Пусть бы швырнула меня судьба в какой-нибудь сырой угол, где паук виснет от тоски на своей паутине и куда солнечный луч никогда не забегает. Хорошо бы там разводить скептицизм. От сырости и мрака он, быть может, прорастет и даст начало новой жизни.
Дома – зловещее спокойствие. Все ходят, словно по канату. Каждую минуту кто-нибудь может споткнуться; тогда пойдет быстро к развязке. Смерть, кажется, около и все собирается постучать в двери. Кто первый ей откроет?»
Стук в дверь. Владимир Абрамович спрятал тетрадь в ящик стола и запер его на ключ. Новоприобретенная манера смахивает на паранойю.
Поля встревожена.
– Седьмая армия под руководством Тухачевского пытается взять штурмом Кронштадт… Пока безрезультатно. Будущее большевиков в опасности.
– Вот уж за чье будущее я бы не опасался, – хмыкнул Владимир Абрамович и, взяв жену обеими руками за талию, усадил на стул. Сам же сел напротив и долго глядел на нее, словно бы не узнавая.
– Поля, ты вылитая императрица…
– Надеюсь, ты не мечтаешь об участи Николая Второго?
– Поля, давай уедем! Хорошо ведь, имея в кармане пару лишних монет, путешествовать по белу свету, ночевать в маленьких отелях, просыпаться в незнакомых городах Норвегии и Дании, пересекать горные хребты Испании, Италии! Флоренция, Венеция!
– Лишние монеты в кармане уж точно бы не помешали…
– Поэту умирающей династии…
– Птенчик мой, как же ты страдаешь в неволе, – вздохнула жена и, вытянувшись всем корпусом навстречу, дотянулась до его лба ладонью.
«За каждым движением царя следит ее наблюдательный глаз. Каждый неловкий шаг его она исправляет; вытягивает его низкорослую фигуру, возвеличивает осанку, усиливает голос, подталкивает руку, подчеркивает решимость».
– Увидим ли мы все это вновь?
– Увидим! А нет, так будем вместе вдаль смотреть. Главное, вместе, верно ведь?
Вопрос повис в воздухе. Владимир Абрамович выпростал ладони, чтобы словить его, да получил по лбу.
– Вместе, конечно… Да ты меня в упор не видишь! Я же по-прежнему тебе рада, пойдем!
«Она хотела облегчить ему бремя – и на каждом шагу увеличивала его».
Наркомфины и фасоны
Дверь кабинета, ведущая в общую залу, распахивается, и из куплетов, зарифмованных его опустошенным умом, разом выступают персонажи квартирного театра.
Выпархивает младшая сестра жены, Роза:
- Дункан весит сто пудов.
- Чем платить? К Далькрозу
- На обмен Внешторг готов
- Выслать нашу Розу.
Дункан толста и неопрятна, Роза грациозна и девственно-чиста.
Являются родители Поли, Розы, Шуры и Леки – хмурый Абрам Варшавский с лоснящейся Шейной Леей:
- Круто жали капитал,
- Сох Абрам, сдал в весе,
- Горе мыкал и менял
- Много он профессий.
- Но как только Наркомфин
- Поднял курс валюты,
- Стал Варшавский господин
- Через две минуты.
- Тут он сразу весь расцвел,
- Занялся экспортом;
- Булки белые завел,
- Смотрит прямо чертом.
- Шейна Лея всем страстям
- Тоже дала волю
- И, представьте, по утрам
- Масла мажет вволю.
- Чтоб не портить общий тон
- И вторить супругу –
- Как вам нравится фасон? –
- Завела прислугу…
Промелькивает безымянная прислуга в белом фартуке, седые волосы пучком, поверх наколка.
Подходят вплотную легкомысленный Шура и целеустремленный Лека с его стеснительной подругой Мирой.
- Шура бросил Караван,
- Штепсель, арматуру,
- И теперь, как Дон Жуан,
- Рад всегда Амуру.
- Шура спекулянтом стал
- Денег-то навалом,
- Для обмена он достал
- Фунт гвоздей крестьянам.
- Шура «страсть» держать готов
- В заключенье строго.
- Тьма на свете дураков,
- Но таких немного.
- Лека зелен, тощ и худ,
- Весь ушел в науку;
- Высох так, что весит пуд,
- Нагоняет скуку.
- Брось линейку, интеграл,
- И не порть ты Шуры.
- Стань мужчиной, черт тя драл,
- Заведи амуры…
- Улыбнись, взгляни кругом,
- Сделай Мире глазки…
- ……………………………..
Поля с детьми – десятилетним Левой и восьмилетней Лялей – завершают шествие.
- Поля стала разуметь
- Канта, Локка с Юмом,
- Но важней того уметь
- Штрудель печь с изюмом.
- Нет ритмической блохи,
- Мучившей Далькроза.
- Ляля говорит стихи
- «Соловей и Роза».
У девочки и впрямь феноменальная память. Корней Чуковский, которого они навещали в Куоккале (от Сестрорецка полчаса на поезде), так вдохновился пятилетней Лялей, что даже имени ее менять не стал:
- «Милая девочка Лялечка!
- С куклой гуляла она
- И на Таврической улице
- Вдруг увидала Слона…»
От их дома на Кирочной до Таврической – рукой подать, из окна виден сад, переименованный нынче в Парк культуры и отдыха 1-й Пятилетки. Там-то и гуляла с куклой милая Лялечка.
Про Леву и вовсе несправедливо:
- Лева много обещал,
- Думали – он гаон,
- Но «балдою» доказал,
- Что большой балда он.
Гаон в переводе с иврита – гений. Балда – это игра. Расчерчиваешь квадрат пять на пять, в середине пишешь слово. От него, с добавлением одной буквы по вертикали или горизонтали создаются новые слова. Чем больше клеток заполнено, тем сложнее в мешанине букв увидеть новое слово. Лева – смышленый, но быстро сдается. Неусидчивый. Ляля, вдохновившая поэта, натура властная, на правах младшей манипулирует всеми. Но не Полей.
- Есть у нас свой совнарком,
- Поля – наш Ульянов.
- Кто не хочет стать ослом,
- Должен стричь баранов!
Роза Лялю балует. Детей у нее нет и вряд ли будут – балерины рожают, уходя со сцены, а Розу только что приняли в труппу.
- Есть в Москве Наркомбалет,
- Что ни жест, то поза.
- Кто ж у нас Наркомконцерт –
- Ляля или Роза?
– Графоман!
– Кто?!
– Вы, ваша светлость.
– Да мне и самому неловко за эти вирши. Так вот помрешь, не успев навести в делах порядок, а через сто лет попадешься в руки досужему исследователю. Для такого любая писулька – документ. И станет мне памятником карточный домик из случайных обрывков… Мертвецы лишены права голоса.
– Вы не мертвец!
Быт и исторические хроники
Изобразить императрицу сподручнее, чем думать за нее. Подспорьем служили письма, адресованные ею государю, как приторно интимные, так и наставительные: «Целую каждое дорогое местечко… Я целовала и благословляла твою подушку… Целую твое дорогое лицо, милую шейку и дорогие, любимые ручки…» или: «Будь более автократом, моя душка… ты повелитель и хозяин России… Всем нужно почувствовать железную волю и руку…» – нечто вроде практического руководства для супруга, обреченного быть самодержцем. Во время войны она побуждала его чаще показываться войскам: «Солдаты должны тебя увидеть… Ты им нужен…». Мол, непосредственная близость «обожаемого монарха» вызовет всеобщий энтузиазм среди серой солдатской массы.
Утопия… Образец исторического кретинизма.
Последний параграф книги звучал так: «И когда 8 марта 1917 года генерал Корнилов, главнокомандующий Петроградским военным округом, читал бывшей царице постановление Временного правительства об ее аресте, она сделала бессильный жест рукой и не произнесла ни слова…»
По официальному сообщению, «решение расстрелять Николая Романова было принято в связи с крайне тяжелой военной обстановкой, сложившейся в районе Екатеринбурга, и раскрытием контрреволюционного заговора, имевшего целью освобождение бывшего царя». О судьбе царской семьи ходили разные слухи.
Будь Владимир Абрамович горазд на вымыслы, он написал бы эпилог провидца. Да не таков он был. Бессильный жест и многословное оправдание – вот и все, на что он был способен.
«Полинька, прости меня, что я так неспокойно, нехорошо говорю с тобой. Так прорывается наружу искривленность души моей. Это совсем, совсем не соответствует моим чувствам и мыслям о тебе. Во мне живет и определенная агрессия, и часто восхищение – при высокопарности – твоим подвигом и надежной, цельной жизнью. Но у меня последнее время такое чувство, будто иссякают силы физические. Причем душа, которая, наоборот, растет, сталкивается с этой немощностью. Мне кажется, что я нравственно совершенствуюсь, но все это – в преддверии какой-то жизни. А руки, которые должны открыть дверь, слабеют. Быть может, меня ждет возмездие – упасть на пороге. Или поздно я за душу взялся, или тело рано ослабело… Не хватает содержательного спокойствия и той глубинной мудрости, при которой можно было бы найти примирение с самим собой. (Даже если „сам“ чувствуешь, что надежда на пороге).
Не знаю, что это за недуг, Полинька. Вероятно, он медленно, но верно подкрадывается – и убьет. А может быть, трещина в сознании. Ты поймешь и простишь меня, если иногда я с тобой (ведь с тобой я бываю самый натуральный, со всеми своими многочисленными светотенями) распускаю свою надломленную, перегруженную волю. Помнишь, когда ты была тяжело больна, мне казалось, что море, цветы и тишина вернут тебе голос, здоровье. Так это и было. Не знаю, почему я пишу это. Неужели вся сила моего творчества ушла на то, чтобы предвидеть свой конец? Прощай и прости, друг мой. Ц. Вне жизни – я сейчас».
Голос Поли: «Звонил Давид Заславский. Он прибыл из Москвы и скоро будет у нас».
Владимир Абрамович жене не отворил. Впустишь – налетят куплеты: Поля нависнет над лысиной и будет глядеть поверх на раскиданные по столу бумаги; Роза приземлится на подлокотник кресла; Лека непременно где-нибудь обнаружит поломку и тотчас исправит; Мира будет смотреть на своего избранника и плавиться от любви; Шура расскажет очередной анекдот про ожирение в эпоху военного коммунизма; Лева скорее всего усядется рисовать; Ляля встанет на стульчик и прочтет недавно разученное стихотворение…
Абрам Моисеевич явится вряд ли, ему и так все поперек глотки стали. И Шейна Лея со служанкой не зайдут. Они заняты на кухне. Готовят все из ничего. Теперь, когда Абрам начал приторговывать из-под полы, у Шейны Леи к ничего прибавилось кое-что, но, наученная горьким опытом, она это кое-что прячет. Кронштадт восстал, значит, все будет из ничего.
– То не брать, се не брать, я и так служу за пропитание, – ворчит служанка.
– Не бубните мне под руку, скушайте хлеб с маслом.
С маслом?! За хлеб с маслом она запрет свой рот на ключ.
Петросовет. Лондон. Вовик и Дэвик
На улице ночь. На экране – Владимир Абрамович смотрит в окно на освещенный солнцем Таврический дворец. Вспоминает. А ей, сколько ни смотри в окно, ничего своего не вспомнить. Как член Петросовета Владимир Абрамович часто посещал тамошние собрания. Однажды был приглашен Горьким на обсуждение помощи голодающим. Нет, это было не в Таврическом, а в Смольном. Владимира Абрамовича подводит собственная память. Она же помнит, что случилось это в Смольном, и что на собрании тотчас началась грызня. «Горький всячески хотел примирения. Вышел демонстративно из комнаты, чтобы не производить давления своим присутствием. Однако давление произведено было даже тенью его. Вернувшись, он произнес, импровизируя, заключительную речь: „Надо защищать народ от мужика. Мужик – зверюга, подлый, жестокий. Придет и разрушит зачатки городской культуры“. Зверь, зверье, зверюга – эти слова повторял он много раз. Вообще, в прямоте Горького, в нарочитой резкости его выражений, во взгляде через головы присутствующих куда-то вдаль, столько лжи и рисовки, что вся его скуластая фигура отталкивает. Человек, потерявший стержень».
Собрание в помощь голодающим оставило отвратительный осадок. Зато благодаря членству в Петросовете, им с Давидом Заславским удалось не только издать «Приключения Крокодила Крокодиловича», но и выхлопотать для книги большой тираж и бесплатное распространение.
Чуковский – вот типаж! Привлекает и отталкивает одновременно. «Хлещет в нем струя подлинного таланта, какого-то особенно умного. И все он по поводу кого-нибудь, о ком-нибудь, за кого-нибудь думает и рассуждает. А где сам человек, не учуешь. Вряд ли этот изумительный „перевоплотитель“ сам себя знает. Единственным человеком, которого Чуковский не мог бы подметить, подловить на каком-нибудь слове, чувстве или мысли, был он сам».
И Давид Заславский типаж. Но с этим Владимир Абрамович знаком долго и плотно. С Лондонского съезда РСДРП.
1907 год. Еврейские юноши, делегаты съезда – Давид от киевского Бунда, а Вовик, как прозвал его тогда новый друг, от питерского. Оба – юристы по образованию, оба – участники студенческих беспорядков. Дэвик – в Киеве, Вовик – в Петербурге. Давид, уроженец Малороссии, знал идиш и сотрудничал в еврейской прессе. Вовику язык-гибрид из немецкого и иврита так и не привился. В семье говорили по-русски, а в Минской школе на уроках религии – предмет, обязательный и для христиан, и для иудеев, – одни изучали Новый Завет, другие – Ветхий. Идиш, язык штетла, на котором в Минске в ту пору говорила значительная часть населения, в школьную программу не входил.
При царском режиме Давид (уменьшительное Дэвик претило слуху Владимира Абрамовича) неоднократно сидел в тюрьме. Вовик же, глава студенческой сходки, за пылкую речь в защиту Льва Толстого был на два года выслан из столицы. Давид старше Вовика на шесть лет, а выглядит лет на десять моложе. Единственная его дочь родилась, когда ему стукнуло тридцать четыре, а Вовик – отец ранний. Поля на сносях, дома обыск…
Плеханов открыл съезд.
Курчавый еврейский юноша с нескрываемым восторгом смотрел на героя своего будущего произведения.
Недавно Давид издал о нем книгу. Теперь имя Плеханова знает каждый рабочий. А в то время, когда «старое поколение интеллигенции сходило со сцены», имя его оставалось в тени. В книге Давид объясняет это тем, что образ его не был «овеян ореолом мученичества или героизма».
Ленин слушал Плеханова с улыбкой, однако, когда докладчик заявил о необходимости соглашений с прогрессивными элементами буржуазного общества, улыбка исчезла. Любование великим социал-демократом закончилось после выбора президиума. Оказавшись в меньшинстве, большевики как бы давали меньшевикам фору – пусть порадуются, мы их после прихлопнем!
Роза Люксембург упрекнула Плеханова за мягкотелый оппортунизм. Она держала сторону настоящих большевиков, у которых, «бывают промахи, странности, излишняя твердокаменность». Но как не быть «твердокаменным при виде расплывчатой, студенистой массы меньшевистского оппортунизма?!»
На съезде был и Сталин, делегат от Тифлисской организации, но там он помалкивал. Своими впечатлениями он поделился в газете «Бакинский пролетарий» за подписью «Коба Иванович».
Пришлось прочесть и это, и книгу про Плеханова. Противны оба.
«Вера в русского рабочего сохранила Плеханова среди распада эмиграции».
Такое не переведешь. Разве что на язык оборотней.
Лондон. Шикарный ресторан «Вейбридж». За скромный выбор салата из козьего сыра Давид поднял Вовика на смех. Зря. Сыр, перемешанный с зеленью и помидорами, – одно из ее любимых блюд.
За одним столом с ними сидели эсеры. Владимир Абрамович спросил, когда они расправятся с Лениным, Троцким и всей этой компанией, предавшей рабочее дело?
– А почему мы, а не вы?
– Это дело эсеров, – ответил за него Давид. – Кому как не вам назначено расчищать дорогу восходящему на историческую арену пролетариату!
– Какова же тогда ваша, еврейская, роль? – спросил эсер.
– Мы будем вам сочувствовать, – отпарировал Давид.
За сотрудничество в местных газетах при Деникине Давида исключили из Бунда. Нож в спину. Но не ему. Подумаешь, ошибся в оценке большевизма. В открытом письме, направленном в редакцию киевского «Коммуниста» и в красные еврейские газеты, он заявил о прекращении всякой политической деятельности и отбыл в Москву. В обогащенном кислородом сердце пролетарской культуры и дышится легко, и пишется споро.
В партию Давид не вступает, но великодушно прощает ей ошибки. «Непросто строить социализм в отдельно взятой стране. Мы первые из рискнувших, и потому победим», – пишет он Владимиру Абрамовичу из Москвы. Юридически неграмотное заявление. Риск – не залог победы.
Беатриче
Интересно, зачем приехал Давид? Неужто завершить «Хронику Февральской революции»? С этой целью Владимир Абрамович ездил к нему в Москву, но там они разругались. Из-за Линде. Давид вымарал его из «Хроники» по причине необъективности: «Он был твоим другом»! Но ведь Линде стоял во главе Финляндского полка, который первым выступил на демонстрацию, а после знаменитой ноты Милюкова пытался арестовать Временное правительство! «Твой герой столь велик, что в нашу скромную „Хронику“ не умещается», – съязвил Давид.
Он, конечно, мог не знать стихотворения Мандельштама, обращенного к Линде: «Среди гражданских бурь и яростных личин, / Тончайшим гневом пламенея, / Ты шел бестрепетно, свободный гражданин, / Куда вела тебя Психея». Но перед тем, как громить роман «Доктор Живаго», он обязательно и внимательно его прочитал и конечно же, заметил сходство между Линде и образом комиссара Гинце. Да не об этом же писать в «Правде»!
В статье под названием «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка», опубликованной 26 октября 1958 года, Заславский не затрагивает второстепенное, говорит о главном:
«Роман был сенсационной находкой для буржуазной реакционной печати. Его подняли на щит самые отъявленные враги Советского Союза, мракобесы разного толка, поджигатели новой мировой войны, провокаторы. Из явления как будто бы литературного они пытаются устроить политический скандал с явной целью обострить международные отношения, подлить масла в огонь «холодной войны», посеять вражду к Советскому Союзу, очернить советскую общественность. Захлебываясь от восторга, антисоветская печать провозгласила роман «лучшим» произведением текущего года, а услужливые холопы крупной буржуазии увенчали Пастернака Нобелевской премией».
Ах так! Владимир Абрамович хлопнул дверью и пошел куда глаза глядят.
В дымном кабаке повстречал он дантовскую Беатриче, с коей и провел неделю в очаровательном бездействии.
«На душе не умирала песнь радости; мгновенными часами повторял я одни и те же слова, имена любви и ласки. В комнатушке топил полуразрушенную печь; холод исчезал; в темноте, лежа у раскаленного отверстия печи, так грезилось о северной жизни в нарвинской избе, где за дверью открывается тихая пустыня ночи. Впрочем, не жизнь грезилась, а скорее чудесная смерть от любви, переход, исполненный музыки и тончайшей напряженности, от реальных ощущений жизни (поцелуев, тела, речи, смеха) к таинственному замиранию, непередаваемому спокойствию. Со мной была Беатриче».
Они гуляли с ней по чудесным переулкам, и ему открылась другая Москва, поразившая его «ароматом исконно русского, исторически выросшего города».
«Бурлила жизнь, вырвавшаяся из подполья. Так странно было видеть лавки, набитые разной снедью, обилие торговцев и покупателей, улицы, залитые электричеством, извозчиков, проституток на лихачах. Словно бы сквозь прозрачную завесу глянула рожа старого „буржуазно-дворянского“ города; и в разгульном комиссаре виделся ему забуянивший купеческий сынок.