Ветряки на зелёных холмах бесплатное чтение
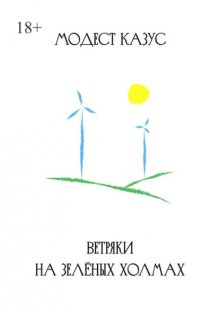
© Модест Казус, 2022
ISBN 978-5-0059-4175-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
– 1
Эта история началась в маленьком городке, где не происходило ничего, о чём стоило бы рассказывать в книгах. Она бы и не началась бы, если бы я, Антон Васильевич, не вышел бы из дома в тот жаркий летний день, когда на чистом и безоблачном небе не светило бы ослепительно яркое и жёлтое солнце. Бы. Или вы не Антон Васильевич? Простите. Тогда чуть иначе.
Эта история началась в маленьком городке, где не было никого, о ком стоило бы рассказывать в книгах. Люди жили себе припеваючи на одну зарплату и свято верили только в то, что завтра наступит новый день, разительно похожий на предыдущий, потому что все их дни были сочтены до их рождения. Все их дни были одинаковыми, как неоплодотворённые куриные яйца. Или как яйца вальдшнепа. Или кроншнепа. Или гаршнепа. У людей не хватало мозгов, чтобы задуматься об этом. Хватало лишь денег и средств до следующей зарплаты.
А мне, признаюсь честно, этого не хватало. Мне этого было, честно говоря, мало. Потому что я, по правде сказать, был другим. Я ни капельки не похож был на этих, прошу прощения, людей. И мне с этими, извините, людьми было не по себе. И я чувствовал себя среди этих, казалось бы, людей изгоем. Но жалким отщепенцем среди этих людей я себя не чувствовал, хотя и отчётливо понимал, что мне не по пути с теми, кто не видит дальше собственного носа. И то, что под носом, – тоже не видит.
Я это, поверьте, хорошо понимал, но не знал, что делать дальше. Как жить? Я этого не понимал, пока однажды не наступил тот самый жаркий летний день, когда на безоблачном и чистом небе ослепительно, но доверчиво засияло жёлтое солнце, яркое, как хирургический софит. Но обо всём по порядку. Уж я-то постараюсь, в отличие от тех горе-рассказчиков, что не прикладывают никаких усилий, чтобы их услышали. Грош цена таким рассказчикам. Изверги они и садисты. И больше никто.
В тот день я проснулся ранним утром в половине седьмого утра и, внимательно рассмотрев своё отражение в зеркале, пришёл к неутешительному выводу, что вид мой оставляет желать лучшего. Уж очень неприятен был этот вид, и чтобы как-то себя утешить, я отправился прямиком в ванную комнату, чтобы тщательно умыть лицо и старательно почистить зубы. Не самая рациональная трата времени, но что поделать?! Такова жизнь. Каждое утро люди поднимаются с кроватей, умываются и чистят зубы. Иногда принимают душ. Я тоже иногда принимаю душ, но в тот день почему-то не горел желанием его принимать, поэтому ограничился умыванием и чисткой зубов. Ради кого прихорашиваться, спрашивается. Уж не ради сантехника, заходившего на прошлой неделе починить сливной бачок.
– Надо бы поменять! – пробасил сантехник, со знанием дела, осмотрев сливной бачок, профессиональным взглядом его окинув и красноречиво постучав пальцем по шее.
Мой внешний вид его, разумеется, не обрадовал. И не огорчил. Ему было плевать на мой внешний вид. Его радовал только вид денег, потому что на деньги можно купить водку. Сантехник очень радовался, когда мог купить водку. Потому что сантехник был запойным алкоголиком. Смысл всех его мыслей заключался в том, где бы купить водку. А такая ерунда, как внешний вид собеседника, его мало волновала. Осмелюсь добавить, не волновала вообще. Волновал только вопрос «где купить водку?». Есть водка – хорошо. Нет водки – плохо. Такова была его парадигма. Таков был его нарратив.
После ухода сантехника я весь вечер проторчал на балконе своей колокольни, взирая с её высоты на подавляющее уныние двора с разбитыми качелями, на убожество ржавых гаражей и безысходность железной дороги за пролеском – дороги из никуда в ниоткуда. Проторчал на балконе, прислушиваясь к воплям товарняков. И вопли эти были такими пронзительно жалобными, что я решил уйти с балкона подальше от греха. Я ещё слишком молод, чтобы так глупо умереть. А ещё не хотелось, чтобы эти пустые люди подумали: «вот ещё один алкоголик свалился с балкона». Не стоит давать им пищу для размышлений. Пусть варятся в собственном соку и пусть они там сварятся.
Умывшись и почистив зубы, я решил проскользнуть на кухню, где завтракал каждое утро. Каждое божье утро. Кухня состояла из кафельных стен, кухонных шкафов, холодильника в углу, электроплиты с круглыми такими штуками… не то конфорками, не то камфорками (я, знаете ли, не из этих), стола и пары стульев для гостей, которых у меня ни разу не бывало. А если и бывали, то не больше двух. Так что в третьем стуле не было никакой потребности и даже надобности, а в четвёртом и подавно.
Я залил чайник холодной водой из-под крана, плотно закрыл крышку, аккуратно поставил на плиту, игриво щёлкнул переключателем и заходил по кухне взад-вперёд. Что-то меня беспокоило, но я не мог понять, что именно меня беспокоило. Может быть, вчерашние слова Бориса о том, что кто-то очень плохой избежал смерти, и теперь смерть косит всех без разбору. Он сказал это, когда трамвай на Иерусалимских аллеях въехал в толпу зевак и увяз в груде их тел. Но вернёмся к описанию моего утра. Это важно. Куда более важно, чем мыслишки доморощенного конспиролога.
Вроде обычное утро. На заре, как обычно, взошло утреннее солнце, вхолостую озаряя солнечным весельем гаражи и поломанные качели. Как обычно заорал дворник во дворе. Как обычно закаркали вороны на ветвях деревьев, высаженных во дворе пирамидкой. Вроде всё как обычно, но что-то не давало мне покоя. Что-то угнетало меня. Какая-то неуловимая мысль, которую безуспешно пытался поймать за хвост, но она ловко просачивалась сквозь пальцы и скрывалась в лабиринтах моего сознания, петляя, как электрический угорь.
Тем временем чайник вскипел и свистом напомнил о себе, вернув меня в реальность происходящего. Я интуитивно вздрогнул и достал из кухонного шкафа стакан с надписью «I love Warsaw». Скромный сувенир из прошлогодней поездки в Варшаву, согревающий моё замшелое сердце. Я вспомнил, как мне было невероятно хорошо в городе Варшаве, где меня никто не узнавал на улицах, не спрашивал, как дела, не звал выпить. Было мне очень хорошо в Варшаве. И когда я вернулся обратно туда, откуда уехал, мне стало грустно. И мне захотелось расколотить стакан о кафельную стену, но что-то помешало. Не помню уже что. Мог ли это быть телефонный звонок?
Мог бы. Если бы в квартире имелся телефон. Но у меня нет телефона. Я бессребреник. Живу, как у Христа за пазухой. Как сыр без масла катаюсь. Зачем телефон, если звонить некому? А если вдруг возьмут и позвонят, то лишь за тем, чтобы позвать пить водку. Сами пейте свою водку! Я размахнулся и швырнул стакан с надписью «I love Prague» о стену изо всех сил. Осколки, словно брызги, разлетелись во все стороны фонтаном Треви.
Увы, других кружек у меня, кажется, не водилось. Поэтому я отправился прямиком в прихожую, где на вешалках с плечиками висела куртка и штаны. В прихожей я машинально надел куртку и штаны, завязал шнурки на ботинках и ненароком проверил показания счётчика. Долго не мог найти ключи. А потом долго искал кошелёк, который невзначай оказался не там, где я, как мне казалось, его оставил.
С этим кошельком связана мистическая история. Один мудрый человек сказал мне, что без кошелька денег не жди. С деньгами действительно было туго, и я отправился на поиски. Искомый кошелёк был найден на пыльной витрине газетного киоска. Кожаный кошелёк со значком в виде весов. А ведь я по знаку зодиака тоже Весы! Вот какое удивительное стечение обстоятельств.
Но спустя месяц я этот кошелёк потерял, когда ехал до кладбища на автобусе, и огорчение моё было беспредельным. Но что делать? Такова жизнь. И мне не осталось ничего другого, как купить новый кошелёк. Однако моё огорчение стало гораздо беспредельнее, когда выяснилось, что в газетном киоске больше нет кошелька с Весами. Пришлось довольствоваться кошельком с Водолеем. Тогда-то я и призадумался, а не проживаю ли я чью-то чужую, неведомую мне жизнь?
Кошелёк со Змееносцем был обнаружен под полкой для обуви. Лежал себе там, никого не трогал. Удобный и вместительный кошелёк. Удачное приобретение с карманом для визитных и скидочных карточек. С кармашком для мелочи. С двумя отделениями для купюр. С прозрачной плёнкой для фотографии дорогих и близких. Но некого мне было вставлять под эту прозрачную плёнку. Разве что фотографию самого кошелька. Я нашёл шутку смешной и грустно усмехнулся.
– Друг мой, кошелёк! – дурачился я, как малолетний шалопай. – Один ты у меня остался.
Потом инстинктивно спрятал кошелёк в карман и принялся сосредоточенно завязывать шнурки на ботинках. Процесс занял несколько секунд, но мне казалось, что прошла не одна вечность с тех пор, как я появился в прихожей. Много оксида водорода утекло с той минуты, когда я вернулся из кухни, где собирал осколки разбитого о кафель стакана, представляя, как полетят эти осколки, грохоча по пищеводу мусоропровода.
Но вот шнурки завязаны. Кошелёк в кармане. Пробую провернуть ключ в замке. Но что это? Почему ключ не проворачивается?! Ругаю себя за то, что забыл запереть дверь. Так и проспал всю ночь с открытой дверью. Хотя кому я нужен? Кто решит грабить там, где грабить нечего? Где нет ничего, кроме трижды никому не нужной жизни.
Оказавшись на лестничной площадке с рисунками детородных органов на стенах, я внезапно вспомнил, что в кухонном шкафу остались ещё кружки-непроливайки, из которых не менее приятно пить чай, не проливая ни единой капли. Но возвращаться и корчить рожи зеркалу не хотелось. Да и не верю я во все эти суеверия. Я же не суеверный дурачок. Не боязливая старушка. Поэтому скатился по лестнице, как белка по колесу, и выбежал под тёплые лучи солнца, гревшие сегодня как-то по-особенному приветливо.
Дворник, завидев меня, помахал кому-то рукой и продолжил скрипеть метлой по растрескавшемуся асфальту, выметая из трещинок в асфальте мусор, песок, глину и хлам. Наверняка он тоже алкоголик. Метёт метлой, а сам думает, где бы сейчас выпить. И метла ему не мила, и не греет солнце. Лишь алкоголь способен согреть его очерствевшую душу. Прикрыв ладонью глаза, я зашагал прочь. Единственным моим желанием в ту минуту было покинуть эту юдоль скорби, чтобы никогда больше сюда не возвращаться.
Я добрался до вокзала, купил в железнодорожной кассе билет на скорый поезд до Москвы и уехал в Москву.
0
Существует ли что-либо изумительнее поездок на поездах! Ах, эти полустанки. Эти безымянные платформы. Эти сторожевые столбы, то и дело проплывающие за окном. Дачники в панамках и шеренги сосен. Этот бесконечный сосновый частокол. Если бы я был поэтом, непременно сочинил бы стихотворение о романтике поездок на поездах. О том, как поют колёса. О просторах родного края. Но я не поэт. Поэты – прохвосты без стыда и совести со своими «воздушными бисквитами». А я просто беглец. Бегу от других, ибо не в силах убежать от самого себя.
Не отказался бы сейчас от курицы, завёрнутой в фольгу. И от бутербродов с колбасой тоже бы не отказался. Вообще я всеядный, но кому до этого есть дело? Никому. Подумаешь, любит человек бутерброды с колбасой. Что с того? Памятник ему за это ставить что ли? Смешно. Потехи коробок. Колонка юмора в рекламной газетёнке.
Мой голодный взгляд, взгляд человека, никогда не покидавшего свой город, словно взгляд вампира, никогда не покидавшего свой гроб, жадно и алчно впивался в туманные дали и бескрайний горизонт. Воодушевляющее зрелище вселяло уверенность, что мой поступок приведёт меня к впечатляющим результатам. И наступит утро, когда я смою с лица не только сны и упавшую с потолка паутину, но и неизгладимый отпечаток бесприютной тоски. Некоторые утверждают, что перемена мест благотворно сказывается на психической усталости. И моё намерение состояло в том, чтобы на личном опыте убедиться, правы они или нет.
Под усыпляющий перестук колёс, я задремал, а когда проснулся, увидел восседающего напротив пассажира – пожилого седобородого человека. Седобородый лихорадочно постреливал лучистыми глазками, ел разноцветные таблетки и суховато кашлял в кулак.
– С добрым утром! – добродушно поприветствовал меня пассажир. – Меня зовут Алексей Степанович. А вас как зовут, молодой человек?
– А меня зовут Семёном, – почему-то соврал я, но ничуть об этом не пожалел. – С добрым утром!
– Я человек пожилой, – сказал Алексей Степанович, и на его лице забрезжила улыбка. – И борода моя, как вы заметили, седа. Поэтому много болтаю и кашляю.
– Ничего страшного, – сказал я вслух, а на самом деле подумал, что сам не отказался бы что-нибудь сболтнуть. Если бы было кому сболтнуть. А вот кашлять мой организм отказывался наотрез. Хотя, чего уж лукавить, на людей мне накашлять с водонапорной башни.
– Семён, чтобы я не надоел вам своей болтовнёй, расскажите, пожалуйста, о себе.
– Да что рассказывать. Родился я в крохотном городке, название которого вам ни о чём не скажет.
– В каком же городке? Я в силу профессии бывал во многих городках.
– Какая у вас профессия? Расскажите, пожалуйста.
– Скукота! Профессия моя – скверно написанная повесть со штампами и клише.
– Так кто же вы?
– Я страховой агент.
– Что это значит?
– Это значит, что я заключаю сделки по страхованию имущества и человеческой жизни. Я хорошо разбираюсь в этом вопросе, потому что имею университетский диплом с отличием.
– Вы интересный собеседник, Борис Аркадьевич. Зря на себя наговариваете!
Пассажир вдруг перестал говорить и молча уставился в окно, за которым мелькали линии электропередач.
– Я бы предпочёл, чтобы вы называли меня Алексеем Степановичем…
– О! Примите мои глубочайшие извинения, Борис… Простите, Алексей Степанович. Мне показалось, что имя Борис больше подходит страховому агенту, чем Алексей.
– Видите ли, Семён, – улыбка на лице седобородого окончательно растаяла и погасла. Он сокрушительно покачал головой и продолжил. – В детстве я хотел стать космонавтом.
– Космонавтом?
– Да.
– Почему же вы не стали космонавтом? Расскажите, пожалуйста.
– Да что тут рассказывать… Не стал и всё тут. Давайте выпьем.
Алексей Степанович извлёк из потрёпанного странствиями чемодана бутылку водки и торжественно водрузил на стол.
– Не откажусь! – ответил я с энтузиазмом. – Мне нужно сходить в уборную.
Конечно же, ни в какую уборную мне не хотелось. Пока не хотелось. Совсем. А хотелось исчезнуть из этого поезда навсегда. Терзаемый калейдоскопом мрачных мыслей я вышел в тамбур, где какие-то хмыри бодро разливали водку по рюмкам.
Почему реальность не соответствует моим представлениям о ней? Почему любое благородное начинание обещающе начинается, но оборачивается крахом иллюзий? Почему мы не верим в себя? Сидим на печи, как Конёк-Горбунок из русской народной сказки, и ждём, когда появится тот, кто всех нас спасёт? Вера в чудо – не самое бесперспективное занятие, но что мы делаем для того, чтобы это чудо произошло? Мы считаем себя пупами земли, верим в своё великое предназначение, а сами хлещем водку по тамбурам. Поневоле станешь философом.
Сорвать бы прямо сейчас стоп-кран, выпрыгнуть из поезда на полном ходу и прокатиться пылающей покрышкой по откосу, расшибая в кровь колени и мечты. Или просто выйти одиноко на безвестной платформе.
Поздно пить боржом. Отвалилась почка. Поезд въезжал в Москву.
1
Пора бы уже развеять сомнения относительно моей личности и подробно рассказать о том, кто я такой и зачем решил рассказать историю, произошедшую со мной тем самым душным летом, когда дым от лесных пожаров, похожий на дыхание трёхглавого дракона, грозного вестника грядущего апокалипсиса, окутал и поглотил улицы городов и пригородов. Назвался груздём – полезай в кузовок.
Моё детство было счастливым и беззаботным, но рано закончилось. Сжимается сердце, когда вспоминаю материнские руки, качавшие колыбель, в которой мирно посапывал розовый малыш. Неужели это был я? С годами воспоминания тускнеют, как осеннее солнце на закате. Старость – не радость. А радость – не старость.
Что я помню? Помню бабушкино печенье, щедро усыпанное кристаллами сахарного песка, сладко хрустевшего на зубах. Большего вспомнить не смогу, потому что ничем, кроме этих печений, не питался. Пыхтел, как самовар, и сучил ножками, как мышь. Бабушка сердобольно называла меня малоежкой и грозилась сдать в районную поликлинику, потому что в поликлинике работал её знакомый врач Тарасюк, ворчливый старичок в зловеще поблёскивающих очках. Он являлся мне в страшных снах, угрожающе размахивая над головой шлангом с катетером. И тогда я просыпался в холодном поту и звал маму. А когда на майских праздниках объелся мороженого, этот Тарасюк, мерзко давясь смехом, вырезал мне гланды. Сон в рукав, как говорится.
Но продолжим вить венок из одуванчиков моего детства. Сейчас мы докопаемся до самой сути.
Был у меня друг Петя. Петя был туп, но его было, за что уважать. Ведь у Пети был самокат, а у меня самоката не было. Зато было желание покататься на Петином самокате.
– Петя, дай самокат покататься! – сказал я Пете.
– А ты мне что? – резонно спросил Петя.
– А вот что! – я показал Пете кулак.
Петя был добрым мальчиком. Он понимал, что настоящая дружба превыше любых самокатов.
И когда я помчал на самокате так, что в ушах засвистал ветер, Петя стремглав бросился следом, плача от радости. Тут его и сбил вынырнувший из-за поворота внезапный грузовик. И Петя умер.
Смерть Пети меня страшно огорчила. И даже самокат бывшего Пети, который я приволок домой в память о погибшем друге, не утолил жгучую боль, не принёс душевного равновесия, столь желанного в столь трудную минуту.
Подобно принцу из Гаутамы, я осознал, что в мире есть смерть. И что чужая смерть не всегда удачное решение проблем. Петин самокат я обменял на игровую приставку. Игровая приставка сожгла какую-то трубку в телевизоре, и с тех пор сюжеты новых мультфильмов я узнавал от Васи, у которого как раз обменял самокат на приставку.
Вася был очень хитрым. Ничего не делал просто так. Вася во всём искал личную выгоду. Конченым человеком был этот Вася. За каждый Васин рассказ я отдавал марку из дедушкиной коллекции. Дедушка скоропостижно скончался задолго до моего рождения – и ему было всё равно. И с каждой отданной маркой я желал, чтобы Вася провалился пропадом. И Вася провалился. В канализационный люк. Отделался лёгкой хромотой на всю оставшуюся жизнь. Паршивцы живучи, как коты. Другое дело – Петя.
Надеюсь, сейчас ты, Петя, в лучшем мире. Порхаешь ангелочком с альпийским рожком по облакам. И смотришь на меня, горемычного своего друга, единственного, кто помнит о тебе на этой грешной земле.
Мы почти добрались до самой сути. Осталось чуть-чуть. Потерпите.
В детстве я любил одну девочку. Звали эту девочку Таней. Я следил за ней каждое утро по дороге в школу. Таня не замечала меня, потому что я был неприметным сорванцом. Или потому, что я шёл сзади, а у Тани глаз на спине не было. Только ранец. Находите шутку глупой? Ваши проблемы.
Я мечтал, чтобы Таню сбил автомобиль. Как Петю, но так, чтобы не насмерть. Чтобы она ещё могла двигаться и не потеряла дар речи. И тогда я взял бы Таню на руки и отнёс бы Таню в поликлинику к врачу Тарасюку.
– Тарасюк! – крикнул бы я на всю поликлинику. – Ты давал клятву Гиппократу, и ты обязан вылечить девочку. Если с её головы упадёт хотя бы волос, несдобровать тебе, Тарасюк. Я прокляну тебя, Тарасюк, и ты провалишься в канализационный люк.
Потом я заболел. Лежал, укутанный в одеяла, размышляя о превратностях любви. В комнату вошла мама с градусником и спросила, знаком ли я с Таней из соседнего дома. Оказалось, что Таню на днях сбил автомобиль, и какой-то мальчик отнёс её в поликлинику к доктору Тарасюку.
Это было ударом ниже пояса. Это было пощёчиной жизни. Жестокой была ирония судьбы.
Ни смерть друга, ни потеря дорогих сердцу дедушкиных марок не могли сравниться по масштабам с грянувшей катастрофой. Мир словно, встав на дыбу, перевернулся слонами к верху. Словно померкли звёзды. Словно Вася перестал хромать, а Петя вернулся с того света, чтобы поинтересоваться, где его самокат.
А ещё в детстве у меня был пудель Тимка.
– Купи собаку! – умолял я маму.
– Собака – это большая ответственность! – говорила мама, указывая почему-то пальцем в потолок.
– Я буду за ней ухаживать! – не отступал я, продолжая гнуть своё.
– Будешь вести себя хорошо – куплю, – сдалась мама, которой стало нечем крыть.
И я вёл себя очень хорошо. Сделался прилежным учеником и послушным сыном. И даже каким-то чудом запихнул в себя тарелку борща. Но, как выяснилось, овчинка не стоила выделки, а игра – свеч.
Пудель Тимка оказался собакой бесполезной, не поддавался дрессировке и напрочь отказывался нападать на людей. Лапу поднимал, когда, скуля, попрошайничал у кухонного стола. Ещё спал, гавкал и два раза в сутки просился во двор. Выгуливать, как вы, наверное, уже догадались, приходилось мне. Кому же ещё! И я выгуливал, скрипя сердцем и зубами, пока не привязал поводок к поручню.
Я вышел на автобусной остановке, а Тимка отправился в увлекательное путешествие по окраинам. Дальнейшая судьба его неизвестна.
И вот мы добрались до самой сути.
До того самого дня, когда закончилось моё детство. Закончилось оно без предупреждения. Словно его обрубило алебардой. В этот самый день дверь в мою комнату открылась и на пороге появился мужчина, похожий на спелый корнеплод.
– Теперь я твой отец! – заявил корнеплод громогласно прямо с порога. – И я тебя научу всему.
С этими словами он снял с пояса ремень и отхлестал меня, как сидоровскую козу. Он систематически наносил побои, независимо от того, хорошо я себя вёл или плохо. Он дубасил меня почём зря, даже если в дневнике стояли хорошие оценки и был съеден борщ. Он колотил меня чем попало, и это доставляло ему удовольствие. А когда я, не помня себя от ярости, выкинул в окно его радиоприёмник, он вообще меня чуть не прибил.
Экзекуции продолжались до тех пор, пока синяки и ссадины на моём лице не заметила добрая учительница.
– Откуда у тебя ссадины и синяки на лице? – спросила добрая учительница.
– Меня бьют родители, – ответил я и заревел в три-четыре ручья.
Мужчину посадили в тюрьму, маму лишили родительских прав, а меня усыновила женщина, инструктор по гребле. На самом деле она давно уже не работала инструктором по гребле, потому что за работу инструктором по гребле платили копейки, а валютой оплачивали наркотики. Поэтому женщина для надёжной доставки товара в качестве курьеров использовала приёмных детей.
Когда её поймали милиционеры и тоже посадили в тюрьму, меня усыновила добрая учительница. Всё, что знаю о французских философах и фламандских композиторах, я услышал именно от неё. Она вплотную и всерьёз занялась моим культурным образованием: учила играть на фортепиано, танцевать краковяк, рисовать пастелью, а потом предательски умерла, оставив меня круглым сиротой.
И жизнь моя перестала быть прежней.
2
Поезд дёрнулся в последний раз и замер у платформы. Закинув увесистый рюкзак за плечи, я ступил ногой на московскую землю.
Я был полон чистых побуждений. Мой взгляд был устремлён в светлое будущее. И будущее это виделось мне радужным. Я даже не шагал, а парил над перроном на крыльях вдохновения и скользил алым парусником по залитой дождём привокзальной площади.
И тут меня грубо окликнули.
В паре метров, уперев руки в бока, стоял человек в форме полицейского. Он смотрел на меня, как на тлю. Он смотрел на меня, как на вошь. Он смотрел сквозь меня, как рентгеновский луч. Он словно видел меня насквозь.
– Сержант полиции Дернаков. Ваши документы, молодой человек!
Показал документы.
– Откуда и с какой целью приехали?
Ответил.
Потеряв ко мне интерес, сержант Дернаков вернул документы. Но настроение было испорчено.
Я больше не летел на крыльях вдохновения и не скользил парусником. Я полз по коварному московскому дну, пресмыкаясь, как земноводное. Я озирался, пытаясь понять, какая ещё опасность подстерегает меня за ближайшими углами. В этом городе слишком много углов и столько же неприятностей таится за каждым из них. Наверное, после заката из этих углов выползают ожившие мертвецы. Знать бы заранее – прихватил бы осиновый кол. Или церковный колокол.
А я-то, наивный простачок, думал, что Москва – город танцевальных площадок и магазинов с пластинками. Возможно, давным-давно так оно и было, но ничто не вечно под созвездиями. И сами созвездия не вечны. Меняются эпохи и времена, меняются искусство и быт, меняются культура и высокие технологии. В булочной, где ты покупал хлеб, вдруг открывается мебельный магазин. Но зачем мне мебель? Разве она съедобна, эта мебель? Этажерку не съешь, даже если по ней жирным слоем размазать майонез.
Но время неумолимо скоротечно. Реки текут в одном направлении, и в одну и ту же воду войдёшь лишь однажды. Увы. Поэтому не стоит делать из мухи палеолоксодона. И не очаровываться, чтобы потом не разочароваться. Может быть, кто-то считает иначе. Но я бы поглядел на то, как этот кто-то прекратит считать иначе. Когда бисер его рафинированных грёз растопчут свиньи, а потом вернутся, чтобы сожрать его самого. Я бы взглянул на это, но нужно было искать ночлег.
Ночлег нашёлся в хостеле рядом с Курским вокзалом. Мне досталась койка в четырёхместном номере с видом на тихую улицу. Правда, сам номер, в отличие от улицы, нельзя было назвать тихим. Моими соседями оказались студенты, будущие инженеры и алкоголики: по ночам играли в преферанс и пили сомнительно пахнущую сивуху. Предлагали и мне, но я, естественно, отказался. Сказал, что не хочу выглядеть пьяной скотиной. С того момента студенты объявили мне бойкот, смотрели шакалами, а летом уехали на каникулы, умыкнув мои сумки с вещами и деньгами. В тот же вечер администратор хостела вышвырнул меня за порог.
– Нам бомжи не нужны! – сказал администратор хостела, вышвыривая меня на тихую улицу. – Возвращайся, когда найдёшь деньги.
Так я стал бомжом.
Но это не конец истории. Это лишь начало истории. Я бы назвал это предысторией, потому что забыл рассказать про Свету.
Света – заносчивая дурнушка из Хабаровска, с которой я познакомился на общей кухне. Света работала консультантом в подземном салоне связи и в каждом человеке видела кретина.
Впервые я встретил Свету, когда она сидела на краешке подоконника с видом на тихую улицу и курила, выдувая дым в форточку.
– Здесь нельзя курить! – возмутился я.
– А ты кто? Начальник? – ответила Света вопросом на вопрос.
– Нет, – завертелся я вьюном, – но…
– Ну, так вали отсюда! – и Света демонстративно отвернулась к окну.
Второй раз я встретился со Светой, когда она постучалась к нам в номер с неожиданной просьбой. Мы ничем не смогли ей помочь, и она, скривив гримаску, удалилась.
Третий раз я встретился со Светой, когда она вдруг ни с того ни с его спросила, как меня зовут.
– Поможешь? – предложила она, волоча по ступенькам два тяжёлых пакета, в которых что-то задорно позвякивало. И я помог. За это Света угостила меня борщом и затащила в постель. Я представил, что она может быть моей женой, и сказал ей об этом. Света расхохоталась мне в лицо и покрутила пальцем у виска.
– Ты же нищеброд! Будут деньги – приходи. Обсудим.
И вот я на улице без денег. Куда идти? Куда податься? Подумывая о самоубийстве, я понуро брёл, свесив голову и шаркая по тротуару. Переулок за переулком. Фонарь за фонарём. Витрина за витриной. Подворотня за подворотней. Проходной двор за проходным двором. Сквозь непроглядную тьму неопределённости.
Света оказалась меркантильной сукой, которая вбила очередной кривой гвоздь в гроб моих утопических стремлений. Ничего-ничего. Она у меня попляшет. Уж я ей покажу, кто из нас двоих нищеброд. Вот устроюсь в банк – стану грести лопатой деньги в кожаный портфель. Вот тогда она узнает, кто из нас нищеброд. Ишь, выискалась. Понаехали из своих хабаровсков, а всё туда же. Ещё будет умолять взять её замуж. На коленях ползать будет. А я шлёпну портфелем ей по лбу, плюну и уйду. Заявлю, что приоритеты у меня иные отныне. Мне нужна настоящая любовь, а твоя продажная сущность мне даже с прикупом не нужна. Так ей скажу. Сама таскай пакеты по ступенькам. Или твой муж-алкоголик пусть таскает.
Я не заметил, как попал в безлюдный сквер с обесточенными фонарями. Наощупь отыскал лавочку и прилёг, свернувшись калачиком.
Вот высплюсь, думал я, а завтра будь что будет. Утро вечера мудренее. И уснул.
Но долго поспать не удалось. Меня разбудили выстрелы. Присмотревшись, я обнаружил подле лавочки, на которой спал, два человеческих трупа и дипломат.
– Вот так удача! – сказал я сам себе вкрадчивым шёпотом.
Открыв дипломат, я обнаружил деньги. Много денег. Очень много денег. Слишком много денег, чтобы возвращаться в провонявший крысятиной хостел.
Нужно было уносить ноги, пока не заявились дружки этих бандитов. Я ринулся в кусты – и вовремя! Со стороны аллеи послышался топот. Кто-то приближался, выкрикивая угрозы и оскорбления.
Сердце моё бешено стучало, заставляя мозг работать на все обороты. На всю катушку. На все сто.
– Меня никто не видел. Меня никто не ищет. Я – тень. Я – тростник на ветру. Я – снежинка на листе бамбука. У меня есть десять секунд, чтобы прокрасться между деревьями до ограды.
На цыпочках я прокрался между деревьями, перемахнул через ограду и – был таков.
3
Море сегодня неспокойно. Над его серой гладью хмуро клубятся штормовые тучи. Никто не вышел на яхте. Даже отчаянный смельчак, сорвиголова и авантюрист Гильермо предпочёл отсидеться в своей хижине.
А я, развалившись в шезлонге, наблюдаю, как перекатываются друг через друга волны, вылизывая песчаный берег и хрустя ракушечником. В моей коричневой от загара руке полупустой бокал, в гранях которого преломляются пальмы. Ром с привкусом мяты приятен на вкус.
Солёный воздух освежает и навевает ностальгические воспоминания о той весне, когда я впервые увидел море, поразившее меня своей безбрежностью. Ощущение свободы – последний форпост линии жизни. Ты продираешься сквозь тернии и звёзды, пока вдруг не оказываешься на берегу океана. И тогда окончательно и бесповоротно понимаешь, что свободен. Некуда и незачем больше продираться, лезть, рвать сухожилия, сбивать в кровь локти. Ты стоишь на берегу океана и смотришь вдаль, понимая, что так должна выглядеть вечность.
Пабло вчера вернулся с доброй добычей. Три лангуста в морозильнике ждут, когда Мария приготовит из них рагу. Но у меня нет аппетита. Загипнотизированный волновыми кульбитами, я сижу в шезлонге, потягивая ром с привкусом мяты, и думаю о вечности. Ведь что такое вечность? Ничто. И альбатросы, мечущиеся над морем, вторили мне своими скорбными криками.
О чём кричите вы, альбатросы? Что вы хотите мне сказать? О том, что приближается шторм? Или о том, что род приходит и род уходит, а вечность остаётся? Как же вы правы, гордые альбатросы! Озабоченные лишь тем, чтобы выхватить из воды зазевавшуюся макрель. Выхватить зазевавшуюся макрель, чтобы накормить голодное потомство. Скоро птенцы расправят крылья и полетят над волнами, выискивая зоркими глазами макрель, чтобы накормить уже своё голодное потомство. Суета сует. Но вы, гордые альбатросы, не суетливы. Вы знаете, что делаете. И зачем – тоже знаете. А я сижу, развалившись в шезлонге, и думаю о вас. Думаете ли вы об мне, гордые альбатросы? Наверное, нет. Кто я такой? Пища? Гнездо? Я бессмысленная декорация вашей экзистенции.
– Синьор! – тревожно кричит Пабло, высунувшись из окна. – Скоро грянет буря. Шли бы вы в дом.
– Эх, Пабло! – отмахиваюсь от него, как от назойливого москита. – Посмотри, какое море!
Пабло укоризненно качает головой, и прячется обратно. Пабло не в курсе. Не похож Пабло на гордо реющего над гребнями волн альбатроса. А похож Пабло на рака-отшельника с банкой из-под пива вместо раковины. И больше ни на кого.
Ставлю бокал с ромом на столик и беру в руки альбом для рисования. Мне хочется зарисовать этот идиллический пейзаж за секунду перед тем, как ветер и дождь прогонят меня с пляжа. Карандаш движется по бумаге, оставляя штрихи. Вот появляется кривая полоска берега. Вот овалы штормовых туч. Вот линия горизонта. А вот…
Что это? Присматриваюсь. Незнакомка в развевающемся белом платье, с трудом удерживая бамбуковую шляпу, бредёт босиком по песку со стороны деревни. Она приближается и доброжелательно машет мне рукой.
– Вы не похожи на местных, – смеётся она. – Давно здесь живёте?
– С прошлой весны, – отвечаю, отложив альбом с незаконченным рисунком в сторону. – Но с вами, кажется, не знаком.
– О, простите! – незнакомка протягивает руку. – Я Ингрид. Из Стокгольма. Приехала изучать флору и фауну.
– Вы биолог?
– Да. Я биолог.
– Интересно. Значит, изучаете флору и фауну?
– Ага. Изучаю.
– Хотите выпить, Ингрид?
– О, нет! Я вегетарианка. Здоровый образ жизни и всё такое.
– Может, и мне пора бы начать, – смеюсь я и выливаю содержимое стакана в песок. – Сегодня не самая подходящая для прогулок погода.
– О, я знаю. Но очень хотелось прогуляться у моря, – грустно пожимает плечами Ингрид. – У нас в Норвегии море совсем другое. Сплошные фьорды и совсем нет пляжей.
– Шторм начнётся с минуты на минуту. Можете переждать в моём доме. Я выдам вам тёплый плед. А потом Пабло отвезёт вас в деревню.
В окне мелькнуло недовольное лицо Пабло.
– О, спасибо! Это так неожиданно. Вы, как вижу, заразились местным гостеприимством.
– Иначе тут не прожить. Общество существует за счёт взаимопомощи и чувства солидарности. Утопия, казалось бы, но факт. Я планирую написать об этом философский трактат.
– О, так вы ещё и философ!
– И художник, – протягиваю ей альбом с рисунком. – Нарисовал только что.
– Чудесный рисунок! – восхищённо хлопает в ладоши Ингрид. – А это кто идёт по берегу?
– Это вы, Ингрид. Я нарисовал вас, когда вы шли по берегу.
– Очень приятно. Романтичный рисунок.
– Можете оставить себе.
– О, я не могу. Мы же почти незнакомцы.
– Бросьте, Ингрид, – вырываю из альбома лист и протягиваю Ингрид. – Заберите рисунок сейчас же!
Ингрид подозрительно смотрит на меня, словно ожидая какого-то подвоха, но принимает подарок.
– Мне пора, – она резко разворачивается и шагает в сторону деревни.
– Могу проводить вас! – кричу ей вслед, но она делает вид, что не слышит, или действительно не слышит, потому что гремит гром и первые капли тропического дождя падают на брезент навеса.
Возвращаюсь в дом со скверным настроением. Что я сделал не так? Чем я мог обидеть Ингрид? Может, ей не понравился мой рисунок?
Мария возится у плиты. Пабло плетёт сеть. Сквозь хрипы радиоприёмника прорывается голос синоптика. Похоже, штормить будет до утра. Тем лучше. Есть время всё обдумать.
– Шторм, – сообщает Пабло, продолжая усидчиво латать сеть.
– Шторм, – вторит ему Мария.
– Даже Гильермо дома остался, – подхватываю я.
– Кто та женщина, с которой вы разговаривали? – спрашивает Пабло, не отрываясь от работы.
– Учёная. Откуда-то из Финляндии…
– Чего людям дома не сидится… – томно вздыхает Мария. – Тащатся в этакую даль. К чёрту на кулички.
– У нас уже есть один учёный, – ворчит Пабло, глядя на меня с заносчивым прищуром.
– Изучает флору и фауну.
– Альбатросов что ли? – заводится Пабло. – Чего их изучать?! Изгадили всю крышу.
– А эта Ингрид-то красотка! – подмигивает Мария. – Та ещё штучка! Взбрыкнула, как необъезженный мустанг. Что вы ей такого сказали?
– Решил подарить свой рисунок.
– Вы там в Европе совсем эль локо, – Пабло заводится ещё больше. – Дарите картинки. Пугаетесь картинок.
– Мне вы ни разу не дарили рисунков, – взволнованно отзывается Мария.
Продолжать этот разговор не хочется.
Запираюсь у себя в каморке, извлекаю из-под кровати рюкзак, пересчитываю купюры. Осталось прилично. Осталось достаточно, чтобы прожить на берегу океана остаток жизни. Но я не могу больше здесь находиться. Меня тошнит от океана, от шума прибоя, от цикличности приливов и отливов, от крика альбатросов, от стряпни Марии и менторского тона Пабло, который видит во мне нахального гринго.
Без лишних раздумий извлекаю из-под кровати загодя приготовленную канистру, отвинчиваю крышку и щедро обливаю бензином дощатый пол, просиженный диван, облезлые стены. Затем щёлкаю зажигалкой, жду, когда возгорится пламя, и потом, прихватив рюкзак, выпрыгиваю в окно.
4
Геннадий нажал на кнопку Print и с нескрываемым безразличием смотрел, как из щели принтера выползают распечатанные листы бумаги формата А4, украденные из офиса, где он в свободное время подрабатывал мальчиком на побегушках, чтобы свести концы с концами и не свалиться в долговую яму, как это произошло с Константином, его закадычным приятелем, который прогорел на спортивных ставках и теперь якшается неизвестно где и неизвестно с кем, лишённый жилья и средств к существованию, без того беспросветным, так теперь ещё и без тёплого угла, где можно было хотя бы высыпаться и приводить себя в порядок, накладывая грим, маскируясь под человека, под типичного обывателя, члена общества, стать частью социума, как бы заявляя своим видом – «эй, ребята, я такой же, как вы, смотрите-смотрите, мои ботинки начищены до блеска, а на манжетах ни пятнышка» – иначе люди поймут, что ты засланный казачок, витязь в овечьей шкуре, и когда они это поймут, беги со всех ног, куда глядят твои глаза, а ведь ты знаешь, куда глядят твои глаза, как бы ни блестели твои ботинки, как бы ни сверкали твои манжеты, каким бы изысканным способом не был бы повязан твой галстук, знаешь, но стараешься не вдаваться в подробности, дабы не омрачать рассудок сомнениями и самоедством, потому что нервные клетки, как известно, не восстанавливаются, хотя кое-кто утверждал, что это не так, и нервные клетки восстанавливаются, очень медленно, но восстанавливаются, впрочем, сейчас Борис Дмитриевич Третий думал о совсем другом.
Борис взял распечатанные листы бумаги формата А4 и принялся читать строчку за строчкой, то и дело деловито хмурясь и цокая языком, что-то перечитывая по второму и третьему разу, что-то подчёркивая, что-то зачёркивая, что-то записывая на полях, что-то обводя, что-то помечая стрелками, и, судя по выражению лица, был категорически недоволен читаемым, кривился, словно съел что-то кислое, или горькое, или пересоленное, или приторное, или вовсе несъедобное, нечто убийственное для его вкусовых рецепторов, такое, от чего кишечник свернётся в петлю или морской узел, или примет вид ленты Мёбиуса или знака бесконечности, а глазные яблоки заболят, словно при взгляде на солнечное затмение, или жерло доменной печи, или ультрафиолетовую лампу в солярии, или искры от сварочного аппарата, а руки зачешутся, как если бы их опустить в чан с химическим реактивом, или в заросли крапивы, или в комариное гнездо, или в термитник, или облечь в синтетические перчатки, а в носу засвербит, словно кто-то пустил через вентиляцию слезоточивый газ.