Встречи и прощания. Воспоминания о Василии Аксенове, Белле Ахмадулиной, Владимире Войновиче… бесплатное чтение
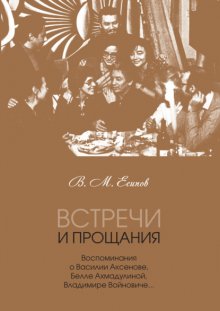
© Есипов В. М., 2020
© Издательство «Нестор-История», 2020
Вместо предисловия
Воспоминания, вошедшие в настоящее издание, написаны в разные годы. Временные интервалы между описываемыми событиями порой составляют несколько десятилетий. Мысль объединить эти очерки в книгу возникла, лишь когда значительная часть их оказалась уже опубликованной. Первыми были написаны воспоминания о моем двоюродном брате Борисе Балтере (1919–1974), ветеране Второй мировой войны, авторе замечательной повести «До свидания, мальчики!» (1963), принесшей ему известность не только на родине, но и далеко за ее пределами. Повесть, ставшая наряду с прозой Анатолия Гладилина и Василия Аксенова свежим веянием в послевоенной советской литературе, переиздается до сих пор.
Благодаря близости к Борису Балтеру я имел возможность познакомиться, а затем и подружиться с его друзьями и писателями его круга. Поэтому значительную часть книги занимают воспоминания литературные: о моем многолетнем общении с Владимиром Войновичем, Бенедиктом Сарновым, Василием Аксеновым и его женой Майей, Семеном Липкиным и Инной Лиснянской, Александром Володиным, Беллой Ахмадулиной, Валентином Непомнящим, замечательным художником-живописцем Борисом Биргером, входившим в этот писательский круг.
Кроме того, в книге описаны и события моей личной жизни, которым я, однако, постарался отвести как можно более скромное место, потому что воспоминания об известных людях, дружбой с которыми осчастливила меня судьба, конечно, намного интереснее для читателя. Есть и страницы, посвященные моим родителям и моей горячо любимой жене Ирине Радченко, известной переводчице классической и современной французской литературы на русский язык, покинувшей сей мир в 2005 году. Ввиду того что я значительно моложе почти всех, о ком здесь вспоминаю, получилось так, что мне выпала горькая участь провожать в последний путь почти всех героев этой книги. Поэтому она и называется «Встречи и прощания».
Виктор Есипов
Калейдоскоп
Я помню себя приблизительно с трех лет, с 1942 года. Может быть, чуть раньше или чуть позже. Это не связные воспоминания, а отдельные цветные пятна, как в калейдоскопе. Так я и постараюсь их воспроизвести.
Самое первое, пожалуй, это. Мы с мамой в ташкентской квартире ее подруги. В ней несколько комнат, она светлая и благоустроенная (это я сейчас осознаю, тогда, конечно, даже и слова такого не слышал). Откуда-то вдруг появляются две цыганки. Они шумят, уговаривают хозяйку, чтобы согласилась погадать. Гадают на картах. О чем гадать, ясно. Ведь идет война, кто-то у нее на фронте: муж, сын, брат? Хозяйка, мамина подруга, соглашается. В качестве платы за гадание предлагает вместо денег две бутылки подсолнечного масла – это ценность! Цыганки вынимают пробки и смачно плюют в горлышки бутылок.
На меня это производит большое впечатление. Я потом спрашиваю маму:
– Зачем они это сделали?
– Чтобы у них не забрали назад, если гадание не понравится, – отвечает мама.
Я еду на задней площадке трамвая, со мной парень-узбек лет четырнадцати. Кажется, наш сосед по двору. Наверное, он везет меня в детский сад по просьбе мамы. Вагон почти пустой. Пасмурный день.
Небольшой дворик в Ташкенте, огороженный забором. Голая земля под ногами. Одноэтажный домик, кажется, глинобитный. В середине комнаты – стол, накрытый обтрепанной клеенкой. Мама ставит на него небольшой заварной чайничек и, показывая на него пальцем, строго говорит:
– Не трогай! Я сейчас приду.
Она выходит на минуту к соседке.
Меня неудержимо тянет к чайничку. Становлюсь на цыпочки, дотягиваюсь рукой до фарфоровой ручки, подвигаю его к краю стола. Дальше просто: чуть наклоняю чайничек и обхватываю носик губами. Обжигающая жидкость, кипяток, льется в рот:
– А-а-а!
Я еду с отцом на велосипеде. Сижу на раме между его руками, сжимающими руль. Слева проезжают машины, справа идут прохожие по тротуару. Слишком быстро приближаются стоящие впереди здания, ограды, столбы. Мне страшно.
Опять с отцом. На берегу водоема, вернее, уже в воде. Он окунает меня с головой в воду, и мир на миг исчезает, перестает существовать. Опять страшно. Но вот глаза вновь ослепило солнце. Отец держит меня на руках и смеется.
Дальше уже Самарканд (значит, год 1944-й). Живем в одноэтажном домике у базара. У нас немецкая овчарка Дезька: отец – любитель собак. Дезька умна. Она никак не реагирует на управдома, который стремительным шагом направляется в нашу комнату. Мы с ней сидим на дощатом крыльце – я на нижней ступеньке, она наверху, у входа в дом. Управдом какое-то время находится в нашей комнате, разговаривает с мамой. Потом выбегает назад, и тут Дезька встает на его пути и грозно рычит. Шерсть на загривке поднялась дыбом. Управдом мечется от крыльца к двери комнаты, зовет маму. И только после ее окрика Дезька разрешает пришельцу выйти из дома. Я в восторге.
Не могу уже узнать, в Самарканде это происходит или еще в Ташкенте. Мы с мамой едем в переполненном трамвае. Даже на ступеньках висят люди, держась одной рукой за поручни. Трамвай набирает скорость. В толпе вдруг проносится гул одобрения. Это висящий на задней площадке офицер ударил ногой (руками не дотянуться) карманника. Карманник, парень лет шестнадцати, уже запустил было руку в чью-то кошелку, но от удара сапогом упал со ступенек трамвая на мостовую.
Очень люблю соль. Кусок черного хлеба с крупинками соли на мякише – объедение! А тут еще обед. Что на обед, не помню. Помню, что после обеда дыня – сладкая, сочная. Потом отец собирает с тарелок шкурки от дыни, чтобы выбросить на помойку – на углу улицы. Берет меня с собой. Выходя из-за стола, я успеваю ухватить пальцами из солонки щепотку соли – и в рот.
Не успеваю дойти до конца двора – реакция организма почти мгновенная: дыня и все остальное вываливается наружу…
Отец обеспокоен, не понимает, в чем дело.
Проснувшись утром, вижу на столе вазочку – из нее пологим конусом поднимается вверх какое-то белое вещество. Похоже на соль, но у соли крупинки помельче. Родители еще не поднялись, но уже не спят. Спрашиваю:
– А что это на столе, в вазочке?
– Сахарный песок. Дали по карточкам к празднику.
В жаркий солнечный день встречается на улице женщина с растрепанными седыми волосами до плеч, в меховой обтрепанной шубе, распахнутой на груди.
– Почему она в шубе? – спрашиваю родителей.
– Сумасшедшая, – отвечает отец.
– Что это значит – «сумасшедшая»? – спрашиваю я. И ощущаю в душе какое-то тягостное чувство.
Переехали в старый город – так называется район, не тронутый европейской цивилизацией. Глинобитные заборы наглухо закрывают дворы от посторонних взоров. Вся улочка – непрерывный ряд глухих заборов слева и справа. В одном из дворов наш дом, снова одноэтажный. Рядом еще один такой же. Через двор протянуты веревки, на которых сушится белье. По двору бегают куры.
Ночью просыпаюсь от шума. Родители с шестами в руках при свете керосиновой лампы (электричества нет) ловят кого-то, хотят прихлопнуть. Оказывается, ложась спать, мама увидела скорпиона, он сидел у меня на одеяльце. Почувствовав угрозу, ядовитое насекомое отпрыгнуло в сторону. И началась охота за ним.
Соседи решили съесть петуха. Сосед отрубил ему голову топором, но петух вскочил и начал как угорелый кругами носиться по двору. Прямо всадник без головы, но Майн Рида прочту еще не скоро.
Здесь же, во дворе, наблюдаю необычное явление. На одной половине двора идет довольно сильный дождь, капли колотят о голую землю. На другой, нашей, сухо. Я перебегаю с одной половины двора на другую: то бросаюсь под тугие водяные струи, то выпрыгиваю из-под них.
Летом ночуем во дворе. Ложимся на кошму, чтобы змеи не заползли. Кошма – ковер из овечьей шерсти. А змеи боятся овец, потому что те забивают их копытами. Я сплю между мамой и ее приятельницей Верой Федоровной, она из Воронежа.
Утром слышу сквозь сон, как Вера Федоровна говорит маме:
– Ой, как я испугалась, когда он взял меня ручонкой за грудь!
Обтрепанный томик Пушкина. В нем картинка: Пушкин лежит с закрытыми глазами, словно спит. Мама читает: «Пушкин на смертном одре».
– Что такое «одр»?
Мама прочитала мне Горького, «Дед Архип и Ленька». После этого не могу спокойно видеть нищих. Сердце сжимается от тоски и жалости. А их полно в городе, особенно там, где идет торговля.
Такая же безысходность после «Белого пуделя» Куприна.
На базаре (это, наверное, еще до переезда в старый город) – инвалид на деревяшках вместо ног. Показывает за деньги фокус: короткий огрызок карандаша, отточенный с двух сторон, глубоко засовывает в рот – достает из уха.
Заключительные кадры «Маскарада»: сошедший с ума Арбенин, на ходу распахивая двери, движется через бесконечную анфиладу комнат. Какой-то самаркандец, сидящий сзади, говорит тихо:
– Зачем столько комнат? Богатый человек!
Я с мамой и с отцом – в летнем кинотеатре в центре Самарканда.
Фильм кончился. Зажегся свет. Выходя на улицу, слышим из городского репродуктора голос диктора Левитана:
– Сегодня войсками 1-го Украинского фронта освобожден от фашистских захватчиков город Львов.
Мама ведет меня за ручку по нашей Пенджикентской улочке, мимо глухих глинобитных заборов. У мамы коса закручена на затылке узлом и закреплена шпильками. Она в белой блузке. Мы идем на автобусную остановку. Теплый полдень. Синее-синее небо. Саксаул на углу улицы с шелестящей под ветерком листвой. Мама говорит: «Сегодня мой день рождения, мне сорок лет…»
Значит, это 29 августа 1944 года.
Недалеко от нас в старом городе живет красавица-таджичка Тамара. Ей 18, ее собираются выдать замуж за молодого художника Тимура Рашидова, товарища моего отца. Мы часто приходим к ним во двор. Что она красавица, это слова моих родителей. Я знаю, что она очень добрая. И у нее на груди, как ордена, серебряные монеты, нанизанные на нитки – ряд за рядом.
Отец – начальник в Союзе художников Самарканда. Его мастерская в медресе Шер-Дор, в галерее на втором этаже. В дальнем от входа углу. В соседних кельях мастерские других художников. Мы с отцом поднимаемся на крышу медресе. Сверху открывается вид на старый город. Весна. Все красно от маков. Они цветут на крышах глинобитных домиков старого города.
На площади Регистан цепочкой лежат тушки разбившихся во время весеннего перелета стрижей. Цепочка тянется через всю площадь. Взрослые гадают, что с ними случилось. Кто-то из взрослых говорит, что они разбиваются о минареты, которые возвышаются рядом с порталами трех медресе, которые выходят на площадь.
Мы с мамой и отцом ждем около Шер-Дора художника Татевосяна. Он приезжает в пролетке с черным верхом. Пока он вылезает, лошадь стоит, понурив голову. Мама, имея в виду низкорослость полноватого Татевосяна, подтрунивает над его отчеством:
– Оганес Карапетович, – то и дело обращается она к нему, сдерживая улыбку.
Как я болел малярией, совсем не помню. Помню время выздоровления. Мне каждый день дают таблетки хины. Это страшная горечь. Чтобы в буквальном смысле подсластить пилюлю, таблетку обволакивают сливочным маслом и еще посыпают сахарной пудрой. Такой шарик нужно сразу проглотить, иначе будет страшно горько во рту. Чтобы воодушевить, меня сажают верхом на Дезьку. Я глотаю подслащенную гадость, и взрослые хлопают в ладоши.
Так жарко, что ноги жжет сквозь подошвы сандалий. Я хнычу, стараюсь идти на цыпочках. Мама ведет меня фотографироваться. Фотограф прячет голову под черную накидку. Нужно не пропустить момент, когда из объектива, нацеленного прямо на меня, вылетит какая-то птичка. Птичка не вылетает, но что-то щелкает, после чего меня оставляют в покое…
На карточке – пухлощекий бутуз в коротеньких штанишках с помочами. Стоит ногами на стуле и еле сдерживает довольную улыбку.
Война подошла к концу. Отец, возвратившись с базара, рассказывает, как хотел продать остатки холста или какой-то холщовой ткани, – мы собираемся в Москву. Он уже положил ткань на прилавок, когда подошла узбечка в парандже и, заговорщически понизив голос, спросила:
– Мешок иде?
– Какой мешок? – спросил отец в ответ.
– Мешок иде? – опять повторила узбечка.
– Какой мешок? – начал возмущаться отец.
– Мешок иде? – вновь повторила она. И внезапно юркнула в толпу, в которой полно было женщин в национальной одежде.
Взглянув на прилавок, отец не обнаружил на нем своего холста.
Май 1945-го. Мы с мамой уезжаем в Москву. Не просто сами по себе, а сопровождаем до Москвы раненого красноармейца. Он еще не может ходить без поддержки, а тем более нести свои пожитки.
Перрон переполнен людьми. Тамбур вагона тоже. Тяжелая посадка в вагон. Отец помогает нам протиснуться сквозь толпу, тащит самые тяжелые вещи. Все что-нибудь тащат: и мама, и раненый. Мне доверено нести металлический чайник с водой.
Это мое первое осознанное путешествие по железной дороге.
Через тридцать пять с лишним лет мне довелось вновь побывать в Самарканде. Постаревшая Тамара (восточные женщины стареют рано) рассказала мне самаркандское поверье: кто побывает в этом городе раз, обязательно когда-нибудь возвратится сюда. Рашид стал известным художником, заслуженным деятелем искусства Узбекистана. Они жили теперь в центральном районе, на Октябрьской улице, в многоэтажном доме со всеми удобствами. Несмотря на это, Рашид не отказался от некоторых национальных обычаев, в чем я вскоре имел случай убедиться. Так, когда мы шли в старый город, где у Тимуровых сохранился дворик на той самой Пенджикентской улице, Рашид шел впереди, а Тамара – след в след, метров на десять сзади.
В том самом дворике, где мои родители сватали когда-то Тамару и Рашида, жил теперь их старший сын Санат. К приходу родителей и гостя из Москвы он приготовил плов, на столе, конечно, стояли подносы с фруктами и русская водка. Здесь же были младшая дочь Рашида и Тамары миловидная Гуля и два средних сына – Шухрат и Александр. Гуля недавно окончила Петербургскую Академию художеств и стала искусствоведом. Шухрат пошел по стопам отца и стал художником.
Рашид и Тамара вспоминали военные годы, когда подружились с моими родителями. Что-то вспомнилось и мне, в частности, и то, о чем рассказано выше.
2010 год
Факультет промышленного рыболовства
Когда я утром поднялся на палубу, мне стало не по себе: свинцово-серые валы вздымались над мачтой нашего БРТ (большого рыболовного траулера) на высоту многоэтажного дома. А потом опадали, и тогда неведомая, страшная в своем могуществе сила выталкивала БРТ вверх. После чего мы вновь словно проваливались в бездну, и становилось страшно, что свинцовый вал, нависший над бортом, обрушится на палубу. Хватаясь руками за все, что попадалось на пути, отчаянно теряя на ходу равновесие и все-таки удерживаясь на ногах, я добрался до камбуза. Было время завтрака. Мой однокурсник, гигант двухметрового роста Женя Добровольский, остался лежать в кубрике. Его тошнило, он не в силах был подняться на ноги – ни о какой еде не могло быть и речи. Я тоже думал было отказаться от еды, ограничившись чаем, но оказавшийся на соседней лавке пожилой тралмейстер взял надо мной шефство. Он объяснил, что желудок не должен быть пустым – тогда его не будет выворачивать наизнанку. Сам взял у кока ту еду, которую считал подходящей случаю, и велел мне есть. Уже не помню его принципов составления штормового меню, но, кажется, в нем не было жирной пищи. Опека бывалого моряка помогла мне, весь шторм я чувствовал себя вполне прилично. А когда стихия немного унялась, показался Женя, шатающийся, с зеленым от морской болезни лицом…
Это учебная практика для студентов факультета промышленного рыболовства Калининградского технического института. Поступали все в Московский рыбный, но в 1959 году по инициативе Хрущева (сколько у него было инициатив!) институт перевели ближе к производству – на Балтику, с прохождением практики в Мурманском тралфлоте, на Баренцевом море.
Из Мурманска шли каким-то каналом. Была ночь. Команда траулера расслабилась при выходе в море, и потому за штурвал поставили студента, меня. Старпом указал мне курс. Компас находился перед штурвальным колесом так, чтобы все время оставаться в поле зрения штурвального. Потом старпом показал, как удерживать судно на курсе: при уходе его в сторону крутить штурвал в противоположном направлении.
– Держись вон за тем поляком, – у казал он кивком головы на огоньки идущего впереди польского траулера, покидая рубку.
И канал сразу стал казаться слишком узким, того и гляди врубишься в стенку. А польское судно уходило вперед все дальше и дальше. Скоро его огоньки растворились во тьме. Я остался совсем один на всем белом или, вернее сказать, черном свете, потому что, как уже упомянуто, была ночь. Нос траулера, который был хорошо виден сквозь стекло рулевой рубки, так и норовил уйти вбок – приходилось возвращать его на курс резким поворотом штурвала, но он не останавливался, а норовил уйти в противоположную сторону еще дальше, чем прежде. Приходилось крутить штурвал назад, и опять нос не желал оставаться на курсе и все забирал и забирал в сторону. Я начал паниковать. И тут за спиной раздался спасительный ор старпома:
– Ты что, … мать, совсем …, что ты, …, рыскаешь из стороны в сторону!
Оглянувшись назад, я увидел за кормой зигзагообразный след от гребного винта.
Старпом выровнял судно острожными поворотами штурвала, велел не крутить его резко, учитывать инерцию движения.
– Не раскачивай судно, – бросил он уже миролюбиво и вновь покинул рубку, видимо, допивать отходную.
Не помню уже, как я дотянул до утра…
Объяснять что-либо не принято в тралфлоте. Наоборот, над новичками глумились, их разыгрывали, как разыгрывают коллег сухопутные весельчаки по случаю первого апреля. Славку Сухачева во время непродолжительной стоянки в Тюва-губе заставили осаживать причальную тумбу.
– А ну-ка осади тумбу! – повелительным тоном сказал ему какой-то остряк с его траулера.
– Как осадить? – доверчиво спросил Славка.
– Как, как, – передразнил остряк, – возьми кувалду и осади.
– А где ее взять? – переспросил было практикант, но кувалду уже услужливо тащил ему приятель остряка.
Сухачев взял кувалду в руки, не замечая, что вокруг уже собирается толпа любопытных не только с его траулера, но и с соседних, и пошел молотить по чугунной тумбе.
Он был добросовестный парень и продолжал бить кувалдой, даже когда вокруг уже гремел оглушительный хохот, – не сразу понял, что смеются над ним.
Объяснять что-либо, как уже сказано, было не принято. Где, например, нужно стоять, когда высыпают рыбу из трала. Трал – это здоровый сетчатый мешок, который траулер тянет за собой на глубине за толстые тросы (ваеры). Когда есть улов, его поднимают из воды траловой лебедкой, и он висит на стреле крана над головами матросов, огромный, полуторатонный, до верху набитый трепещущей рыбой. Потом его раскрывают снизу, и рыба всей массой обрушивается на палубу. Где встать? Все свободные места заняты. Причем самые безопасные заняты бывалыми рыбаками. Я мечусь по свободному пространству, не зная, куда приткнуться. Встаю под рулевой рубкой, вжимаясь спиной в металлическую стенку. И вдруг слышу над собой громовый голос капитана:
– Ты что, Вогман, …! Ну и … с тобой!
Нет бы сказать новичку: «Встань там-то, а здесь опасно». Куда там!
Я отскакиваю в сторону, рыба со стуком сыплется на палубу.
И вот мы уже все стоим чуть ли не по пояс в этой бьющейся, осклизлой массе. Здесь треска, пикша, сайда, камбала, встречается краснокожий, с огромными глазницами (глаза лопнули при подъеме из глубины) морской окунь. Начинается обработка рыбы.
Подавальщики руками набрасывают ее на рыбодел (деревянный стол с дощатой столешницей), шкерщики острыми ножами разделывают рыбу (шкерят), то есть потрошат ее и отрезают головы. Обработанные тушки шкерщики сбрасывают в открытый люк трюма – там ее обкладывают льдом. Практиканты, конечно, работают подавальщиками. Нужно работать быстро, чтобы у тех, кто шкерит, не было простоя. А они, как назло, работают как заведенные, с неслыханной скоростью. Невольно задумаешься: как они не ранят себе руки? А мы не успеваем обеспечить их рыбой. И тогда они матерятся, и кто-то из них орет:
– Гнись, дубина, в бычий …!
Почему в «бычий», непонятно, как и то, почему у быка он гнутый.
Но задумываться некогда, нужно скорее набросать рыбу на рыбодел.
Сколько раз за вахту я нагибался и распрямлял спину? Тысячу, десять тысяч раз? Кто же считал!
Работа в три смены. Вахта – четыре часа. Выходят два шкерщика и два подавальщика – это одна смена. Если рыбы много и ее не успеваем убрать – работаем еще четыре часа, помогая второй смене. Это называется «подвахта»: четыре шкерщика и четыре подавальщика. А если рыбы очень много, то объявляется аврал: работают все три смены, весь экипаж траулера, включая боцмана, радиста, свободных мотористов и даже старпома.
Радист – самая завидная должность на судне. Отдельная рубка, правда, очень тесная, музыка, азбука Морзе. И зарплата – не то что у матросов.
А мы ходили матросами третьего класса. Ниже некуда. Практиканты.
Но оказалось, может быть и ниже. Подавальщик Петя в красном свитере – заключенный. За что осужден, мы не знаем. Удалось как-то устроиться в рейс вместо лагеря. Видимо, кто-то помог. Тут он вроде бы и на свободе, да дальше борта не уйдешь. Даже в порту. Когда рейс заканчивался, он оставался на судне до следующего выхода в море.
Кто-то из старожилов траулера привел ему от ворот порта какую-то шалаву, она поселилась у Пети в кубрике на все время стоянки в порту.
Вернулось сразу несколько траулеров, на которых были практиканты. Так что теперь нас, студентов, было человек семь. Мы ожидали расчета. Ночевали на судне. Утром уходили в город, возвращались к вечеру, принося в авоське несколько бутылок водки и какую-нибудь закусь для Пети и его новоявленной подружки. Водку проносили через проходную в бутылках из-под минеральной воды «Полюстровская». Вода выливалась на тротуар прямо у магазина, и бутылки заполняли водкой. Самым сложным было приладить назад металлические крышки, слегка деформированные при вскрытии бутылок из-под минералки. Вечером снова уходили пошататься по Мурманску.
«Проживание на судне»! Так будет записано в направлении на работу, которое выдадут мне через год при распределении после окончания института. Но я не соглашусь и самовольно уеду в Москву. Да и в самом деле, что это за проживание? Антураж убийственно унылый и серый. Серое все: корпус судна, судовые агрегаты, стены переборок, подматрасники в кубриках, простыни на них, байковые одеяла, вечность не стиранные. А еще клопы! Когда только вышли в море, двое из экипажа (делать еще было нечего) позвали нас с Женькой в пустовавший кубрик, приподняли матрас на нижней лежанке, и открылось жуткое зрелище: бугрообразное скопище клопов до полуметра в диаметре! Клопы, конечно, были и в других кубриках, но не в таком количестве. Да когда свалишься на койку после очередной подвахты, засыпаешь мгновенно, никакие клопы не помешают! Спишь четыре часа, потом восемь (или двенадцать) часов работы на палубе, потом снова сон, здоровый, не то что сейчас. Так что смены дня и ночи во время рейса почти не замечаешь: ночью только работаешь при электрическом освещении, вот и вся разница!
В Мурманске стояли белые ночи, как в Ленинграде. Мы шатались компанией по безлюдным улицам. В портовом городе много пьяных. Таких, что, упав, не могут подняться с тротуара и лежат до утра. Попадались и веселые девицы, но уж больно они были пьяные и грязные. Получив деньги, мы устроили прощальный вечер в ресторане «Север». Здорово подпив, пели хором рыбацкую народную:
- Все говорят, что рыбаки лишь только пьяницы,
- Все говорят, они запоем водку пьют.
- Всю ночь проклятые по Мурманску шатаются,
- В дымину пьяные, чуть ноги волокут.
- Ах, если бзнали вы про жизнь нашу рыбацкую,
- То не судили бы так строго вы о нас.
- Не называли бы шпаною нас кабацкою,
- А повстречавшись, не ругали бы вы нас.
- Ах, сколько тонет, тонет в море наших тральщиков,
- Ах, сколько терпит команда их невзгод.
- В ту ночь осеннюю, штормягу несусветную,
- Погибли тральщик «Союзрыба» и «Осетр».
- На помощь вышла им «Макрель» из порта Мурманска
- С поднятым гордо флагом над ее кормой,
- Но, не дойдя еще до места аварийного,
- Была накрыта океанскою волной.
- И даль морская так осталась неотплаченной,
- И жертвы требовал суровый океан.
- Идя на помощь потерпевшим там аварию,
- Наш ледокол «Девятка» без вести пропал…
- Все говорят, что рыбаки лишь только пьяницы,
- Все говорят, они запоем водку пьют.
- Всю ночь проклятые по Мурманску шатаются,
- В дымину пьяные, чуть ноги волокут.
Рассчитали нас щедро: больше четырех месячных стипендий сразу! Таких денег я еще не получал.
Другая плавательная практика, предшествовавшая переводу института на Балтику, была на Черном море. Кого-то направили в Новороссийск, кого-то в Адлер. Я с четырьмя своими сокурсниками попал в рыболовецкий колхоз «Геленджик». Так же назывался один из колхозных сейнеров. Еще были «Тенгинка», «Бетта» и «Краснодарец». Первые несколько дней мы провели на пляже в Геленджике, рассматривая бухту, раскинувшуюся между Тонким и Толстым мысами. Ездили в соседний Джанхот.
В море вышли в ночь на понедельник. Я – на борту «Геленджика», мои сокурсники – по одному – на других сейнерах. Через час берег с горсточкой огней превратился в узкую полоску. В поглотившей сейнер темноте линия горизонта едва угадывалась, звезды были крупнее и ярче, чем на берегу. Спать всей командой устроились на палубе, подстелив под себя замурзанные казенные одеяла…
Наутро мы были уже далеко от Геленджика, и потянулись долгие дни погони за рыбой. Ощущение этих дней довольно точно передано в давнем моем стихотворении:
- Мы по палубе ходим в трусах, босиком —
- Не для нас бескозырка и клеши.
- За ставридой, идущей густым косяком,
- Мы плетемся на старой калоше.
- Водяниста похлебка, и боцман суров,
- Духота в раскаленной каюте.
- Но, пока на свободе гуляет улов,
- Мы весь день загораем на юте.
- Писк прожорливых чаек тосклив и высок,
- Черный дым рассыпается гривой.
- Мы лежим, а от палубных старых досок
- Жирно пахнет мазутом и рыбой.
- Сейнер мачтою вязнет в лазури густой,
- Сейнер волны ленивые режет.
- И лежит вдалеке голубой полосой
- Потерявшее нас побережье.
Три недели сейнер мотался по акватории, то вдоль береговой линии (доходя до Адлера), то уходя в открытое море. Рыбаки вглядывались в водное пространство, ища взглядом характерные всплески. Но, если вдали и обнаруживался косяк, мы не мог ли за ним угнаться. Рыба не шла к нам. Не помогал и эхолот: показания глубины оставались стабильными. Если бы под сейнером оказался косяк ставриды или кефали, звуковой сигнал, отразившись от него, показал бы меньшую глубину.
Рыба не шла, а запасы продуктов закончились. Есть стало нечего. В металлическом шкафчике на камбузе оставались лишь твердые, как камень, сухари от предыдущих рейсов. Да и те мрачно догрызал оголодавший экипаж. Заметив неподалеку небольшую стайку дельфинов, капитан приказал спустить на воду шлюпки. Поймали двух молодых афалин, которые были немедленно отправлены на камбуз. Кок задумал угостить команду котлетами. Часа через два котлеты были готовы.
– Котлеты из молодых дельфинчиков – отличное блюдо, – приговаривал он, раскладывая их по мискам рыбаков.
Но мне это диковинное блюдо не пришлось по вкусу – я едва успел добежать до борта, чтобы срыгнуть его в воду.
Рыба не шла, и решено было возвращаться в порт без улова. Вот тут и попалась нам на пути большая дельфинья стая. Видно было, как они играют, выпрыгивая из воды, а потом всей массой плюхаются в воду. Капитан дал команду спустить шлюпки. В отличие от траулеров орудием лова на сейнере служит кошельковый невод. Это прямоугольная сеть высотой 80–100 метров. Ею окружают косяк, образуя круг диаметром до полукилометра, и соединяют концы. Потом стягивают низ сети специальным тросом, образуя мешок, в котором остается рыба. Невод поднимают на палубу лебедкой с помощью стрелы, которая прикреплена к мачте сейнера.
А на практике это было так. Один конец невода сбросили в уже болтающуюся на волнах шлюпку, его подхватили находящиеся в ней рыбаки. Другой конец остался на сейнере, который начал огибать по кругу резвящихся на поверхности воды дельфинов. Когда сейнер описал полный круг и вновь приблизился к шлюпке, оба конца невода соединили и затянули трос внизу невода. Дельфины оказались внутри сети.
Теперь нужно было не давать им вырваться из ловушки. По периметру круга расположились шлюпки с нашего и других сейнеров. Дельфины боятся шума. Поэтому рыбаки, находившиеся в шлюпках, улюлюкая и громыхая железными инструментами, начали отпугивать их от края невода, загоняя в центр. Потом началось их избиение. Эта жуткая картина до сих пор жива в памяти. Дельфинов лупили веслами по головам, а оглушенных ударами, обнимая их окровавленные тела руками, втаскивали в шлюпки. Тела дельфинов были гладкие (не за что ухватиться) и резиновые на ощупь. Приходилось перегибаться через борт так, что шлюпка вот-вот могла перевернуться. Но постепенно она наполнялась безжизненными тушами и устойчивость увеличивалась. Груженные дельфинами шлюпки подходили к бортам сейнеров. Туши дельфинов стропили за хвостовой плавник и стрелой поднимали на палубу. Шлюпки возвращалась назад, и вошедшие в раж мужики вновь били веслами беззащитных животных. Дельфины хрипели и хрюкали, на поверхности воды их оставалось все меньше. Когда их осталось совсем мало, начался подъем кошелькового невода…
Палубы сейнеров заполнились тушами дельфинов. Они задыхались в предсмертной агонии, глаза их покрывались туманной пленкой. В миле от места бойни дрейфовала на волнах громадная плавбаза с ярко освещенными надстройками. С верхней палубы в сгустившуюся темноту южной ночи неслись мелодичные звуки аргентинского танго. Там шла совсем иная жизнь. Но ее пришлось на время нарушить, чтобы перегрузить дельфинов с сейнеров в трюм плавбазы…
В те годы на Черном море еще били дельфинов. Их мясо шло на кормовую муку для скота. Вспоминая тот рейс и бойню, которой подверглись эти коренные обитатели Черного моря, я ощущаю себя соучастником кровавого преступления. Мне было тогда 18 лет, и я только исполнял то, что мне поручено было делать: обычное самооправдание живших при тоталитарном режиме! Позже я проверил законность этого промысла, заглянув в Большую Советскую Энциклопедию, где в конце статьи об этих морских животных значилось: «В СССР ведется промысел дельфина».
Московский рыбный институт, куда я поступил в 1956 году, представлял из себя довольно интересное заведение. Отчисленные за неуспеваемость могли избежать призыва в армию, завербовавшись в тралфлот. Через год работы на промысле их восстанавливали в институте. Среди преподавателей встречались политические штрафники: бывшие заместители министров, руководители главков. Заведующий кафедрой ихтиологии был членом-корреспондентом Академии наук. Я попал сюда, потому что не прошел по конкурсу в МГУ, хотя был серебряным медалистом. А в рыбный с серебряной медалью принимали без экзаменов.
Инженерные дисциплины, все эти сопроматы и теормехи, давались мне сравнительно легко, хуже было с начертательной геометрией и черчением. На кафедре военной подготовки мы прилежно записывали в особым образом сброшюрованные тетради всякую ерунду. Например, до сих пор помню, что предписывалось делать во время атомного взрыва в море: «Увидев атомный взрыв, командир должен немедленно развернуть корабль кормой к взрыву и уходить полным ходом».
Раз в две недели собиралось институтское литобъединение. Возглавлял его майор Новицкий с кафедры военной подготовки. Он писал басни. Стихи читали ихтиологи Саша Яржомбек, Евгений Сметанин, Медведев (имени не помню), судостроители Саша Хайковский, Слава Евстратов. Печатались в многотиражке «За кадры рыбной промышленности и флота». Мое стихотворение о том, что любимая девушка появляется в дверях института, как солнце, вышедшее из-за облаков, потрясло институтскую общественность.
Однажды мы пригласили к себе Роберта Рождественского и Евгения Евтушенко. Рождественский приехал один. Все по очереди читали ему свои стихи. Держался Роберт очень демократично. Что-то сдержанно одобрял, что-то подвергал критике. О моих стихах не сказал ни слова.
В Калининграде появился у нас новый стихотворец Сэм Симкин, ставший впоследствии известным в городе поэтом[1]. А начинал стихами о Венере Милосской («Ей обломали руки в драке…») и о «Бригантине» (в подражание Павлу Когану). С этими стихами он заявился в гостиничный номер к Борису Слуцкому, когда тот приехал в наш город с группой столичных писателей. Слуцкий принял его радушно, а на следующий год в «Дне поэзии» вышло его стихотворение, посвященное Сэму: «Сэму Симкину – хорошо, // долгоносой и юной пташке…»
Институт перевели в Калининград, когда я окончил третий курс. Город встретил москвичей настороженно. Местный журналист Кондратович опубликовал в областной газете хлесткий фельетон, в котором утверждалось, что московские стиляги разгуливают по улицам «в курточках цвета взбесившейся лососины». На самом деле одевались мы тогда вполне убого, по-советски. И вообще были вполне идейными юношами. Так, в апреле 1961 года всей группой пошли на стихийно возникшую городскую демонстрацию по случаю полета в космос Юрия Гагарина. Потом с главпочтамта отправили в Москву, в Кремль, поздравительную телеграмму первому космонавту от студентов группы 56 П Калининградского технического института. Случались и всякие казусы. Так, тот же Сэм со своим неразлучным другом Баракиным оказался как-то после подпития в вольере у верблюдов в калининградском зоопарке. Они были обнаружены служителями зоопарка спящими под боком у одного из верблюдов.
В день получения стипендии наша компания, состоявшая из четырех человек, отправлялась пообедать в ресторан «Балтика», где было сравнительно недорого даже для студентов. Иногда в полупустом зале встречался какой-нибудь подвыпивший капитан дальнего плавания, который тут же подсаживался к нам, угощал водкой и травил (выражаясь на морском жаргоне) про свои морские приключения.
Калининград – портовый город со всеми вытекающими отсюда последствиями. Нашему однокурснику Жорке Андрееву очень не везло с местными девицами. После каждого знакомства ему приходилось обращаться к врачу по поводу очередного неприличного заболевания. Но он не унывал и продолжал предаваться пороку.
В 1959 и 1960 годах город хорошо обеспечивался продуктами. На ужин в общежитии бедные студенты покупали копченого угря, который сейчас считается деликатесом. Этого угря мы неизменно возили в Москву угостить родителей, когда уезжали домой на каникулы. Все резко изменилось в 1961 году. Не помню уже, что послужило причиной – неурожай или какие-то экономические трудности. Но продукты в магазинах исчезли совсем. Проезжая на трамвае по главной улице города – проспекту Мира, – можно было видеть за стеклами витрин абсолютно пустые прилавки. И так на всем протяжении трамвайного маршрута. Когда привозили говяжий рубец и прочую требуху, у прилавков выстраивались дикие очереди. И ни о каком угре нельзя было и подумать.
Мы прожили в этом городе два года. Здесь я встретил свою первую жену – студентку экономического факультета Риту Попцову, розовощекую блондинку. Своей внешностью она обращала на себя внимание не только студентов, но и городских парубков, из-за чего на одном из институтских вечеров произошла большая драка с последними. Один из них попытался пригласить Риту на танец, когда мы с ней танцевали. А когда я попросил его отойти, предложил мне выйти «поговорить». Я обещал выйти после окончания танца. Кто-то из моих однокурсников слышал наш разговор, и, когда танец кончился, в коридоре меня ожидали две противоборствующие группы: наши промрыбаки, собравшиеся меня защитить, и городская шпана с отнюдь не дружелюбными по отношению ко мне намерениями. Только я появился из дверей актового зала, как обе группы пришли в беспорядочное движение. Образовалось полтора десятка боксирующих пар. Групповая драка, подобно шаровой молнии, покатилась по коридору, выплеснулась на лестничную клетку и стала спускаться вниз по лестничным маршам до самого низа. В вестибюле сверкнули последние хуки и апперкоты, после чего городские драчуны выбежали на улицу, а мы начали осознавать свои потери. У Володи Койфмана, которого за длинный и узкий крючковатый нос факультетские остряки окрестил курносым, оказался двойной перелом челюсти. Женя Добровольский отделался громадным кровоподтеком под глазом, были и другие, менее существенные боевые отметины…
Наш брак с Ритой оказался не очень удачным, я ушел от нее через шесть лет совместной жизни, когда нашему сыну Косте еще не исполнилось двух лет. Это было уже в Москве, я работал инженером в конструкторском бюро.
А для многих моих однокурсников Калининград стал родным городом. Женя Добровольский, Сэм Симкин, которых я уже упоминал, и другие мои товарищи остались в нем навсегда. Один из них, балагур и выпивоха, выбился, чего никто бы тогда не смог предположить, в большие начальники. А его брат, который был на курс младше нас, вообще командовал всеми рыболовецкими судами Калининграда. Другие мои товарищи ходили к берегам Африки и Америки капитанами-наставниками, работали на берегу, в морском порту и в НИИ. Я после окончания института с дипломом инженера-механика и с невестой уехал в Москву, к своим родителям. Но и в Москве выпускники института, нечасто встречаясь друг с другом, последнюю рюмку неизменно поднимали под тост: «За тех, кто в море!»
2010 год
У Балтера в Малеевке
1
Бориса Балтера, моего двоюродного брата, автора щемяще искренней повести «До свидания, мальчики», помню с детства. Его мать, тетя Соня, приходилась старшей сестрой моему отцу. Помню, в одно из своих посещений Сони (в начале пятидесятых годов прошлого века) отец взял меня с собой. Тетя Соня жила у своей старшей дочери, сестры Бориса, Нетты на Житной улице в центре Москвы. Она уже тяжело болела и потому встретила нас лежа. Отец подвел меня к ней поздороваться, потом сел возле ее кровати на стул, а я отправился в соседнюю комнату. Там меня пыталась занять разговором внучка тети Сони Долли, то есть моя двоюродная племянница, которая оказалась года на четыре старше меня, своего дяди (я был младше всех своих братьев и сестер по отцовской линии, младше Бориса на 20 лет). О чем мы говорили, в памяти не сохранилось, зато помню, что Доля предложила играть в шахматы. Я к тому времени усвоил в шахматах только ходы фигур и не имел еще никакого игрового опыта. Поэтому Доля, играя белыми, уже на четвертом ходу поставила мне так называемый детский мат (слон на с4, ферзь с поля f3 бьет пешку на f7 с матом). Мы поменяли фигуры, и она поставила мне такой же мат черными. Так мы меняли фигуры несколько раз, и результат оставался неизменным. Я никак не мог сообразить, что сделать, чтобы избежать мата, и тупо повторял одни и те же заученные раньше ходы. Ей же, видимо, нравилось одерживать столь легкие победы…
Больше, чем с Соней, отец дружил с другой своей старшей сестрой, Феней, жившей в огромной квартире на Большой Полянке. Муж ее Исайя Туров работал в полпредстве Узбекской ССР, которое находилось в том же доме. Они жили вместе с младшим сыном Арнольдом, который был лет на десять младше Бориса, но перед самым окончанием войны успел побывать на фронте. Еще у них были две дочери: Инна и Рашель, жившие в Риге. По семейному преданию, Инна Турова, с которой Борис одно время был очень дружен, стала прототипом его Инки в повести «До свидания, мальчики».
У Туровых мы бывали чаще. Здесь у отца случались забавные ссоры с тетей Феней: стоило ему случайно упомянуть, что он родился в 1896 году, или иным образом случайно обозначить свой возраст, как тетка возмущенно прерывала его выкриком: «Миша, что ты говоришь, как ты мог родиться в 1896-м, если я, твоя старшая сестра, родилась в 1898-м!» По дороге домой отец со смехом рассказывал мне и маме, что в двадцатые годы, когда выдавали советские паспорта, Феня убавила свой возраст лет на пять и с тех пор упорно придерживается паспортных данных.
А Бориса я увидел впервые примерно в те же годы, то есть в конце сороковых – начале пятидесятых, у нас дома на Ивановской улице (Тимирязевский район Москвы). Я учился классе в четвертом-пятом и с гордостью рассказывал своим одноклассникам и приятелям по двору, что у меня есть двоюродный брат, фронтовик, майор по званию, которого после окончания войны направили учиться в Академию им. Фрунзе. Я слышал, что это самое главное военное учебное заведение, в котором готовят будущих генералов и маршалов, поэтому известие об увольнении Бориса из армии меня очень разочаровало. Отец, мама и я занимали одну небольшую комнату в трехкомнатной квартире в двухэтажном доме барачного типа. В комнате была печь, которую топили дровами и углем, кухни не было, керосинка и помойное ведро стояли тут же. Два окна выходили в крохотный палисадник, за которым сплошной стеной тянулись дровяные сараи с голубятнями и курятниками…
Подробности знакомства с Борисом, как и когда он первый раз у нас появился, в памяти не сохранились. Помню только, что он был высок ростом, держался свободно, очень уверенно, по-командирски. С моим отцом, его дядей, несмотря на значительную разницу в возрасте (25 лет), говорил на равных, то же и с мамой, обращался к ним по имени: Миша, Люба. Разговор вел спокойно, вдумчиво, но, когда тема его волновала или возникал спор, легко переходил на повышенные интонации. Речь его была проста и лишена каких-либо словесных изысков.
К отцу, художнику-живописцу, единственному из родственников человеку творческой профессии, Борис, будучи уже студентом Литинститута, приезжал, чтобы поговорить об искусстве, о литературе, почитать что-то из вновь написанного. Приступая к чтению, он демократично приглашал послушать и маму, и даже меня и потом у всех троих по очереди спрашивал, понравилось ли то, что он прочел. Когда очередь доходила до меня, спрашивал внушительно: «Ну, а ты, Витя, что скажешь?» Я бывал смущен его вниманием и выдавливал из себя какую-нибудь положительную реплику, хотя не все понимал в услышанном.
Помню, в один из приездов Борис читал что-то о войне, где главным героем был молодой офицер-артиллерист, командир батареи, все бойцы которой гибли в бою. Запомнился даже обрывок одной довольно-таки грубой фразы о «желторотой гадине», под которой подразумевалась какая-то женщина. Как я понял спустя годы, это был один из первых вариантов повести «Подвиг лейтенанта Беляева», опубликованной в пятидесятые годы и вновь переработанной в семидесятые, незадолго до смерти Бориса. В конце восьмидесятых пожилой уже Вячеслав Кондратьев, шумно дебютировавший тогда повестью «Сашка», сказал вдове Бориса Гале, что «Подвиг лейтенанта Беляева», новый вариант которого он прочел в машинописном виде, считает лучшей повестью об Отечественной войне…
Отец при встрече с Борисом тоже пользовался случаем показать свои новые работы. Творческие дела его были не очень хороши. Живописать приходилось в нашей комнатушке, мастерской у него не было. После окончания ВХУТЕМАСа, где осваивал секреты живописи в мастерской Фалька, он подавал надежды, был общественником и потому отказался от очереди на мастерскую в пользу менее «заслуженного» товарища, в уверенности, что уж он-то сам мастерскую получит при следующем распределении. Но обстоятельства изменились, он так и остался без мастерской, что сыграло роковую роль в его судьбе. В тридцатые годы отец входил в какое-то небольшое объединение, вместе ездили по Союзу, регулярно выставлялись. Но в связи с войной группа распалась.
Теперь участие в выставках стало проблематичным, работать для продажи он не считал возможным. Приходилось зарабатывать какие-то деньги в копийном цеху, копировать «Рожь» Шишкина, «Опять двойка» Решетникова или «Утро нашей Родины» Шурпина, где был изображен вождь в белом кителе на фоне колхозного поля. Отводил душу только летом, снимая дачу в Подмосковье, где можно было, по-быстрому разделавшись с приносящей скудный заработок очередной копией, писать на природе лес, реку, песчаные осыпи, облака.
По случаю приезда Бориса отец извлекал свои новые работы из угла, где они стояли, повернутые холстами к линялым обоям, или из-за спинки кровати – старые обычно висели на стенах. Борису однажды понравился больше других романтический этюд: одинокая сосна с обломанными ветвями на фоне облачного, с просветами, неба. «Знаешь, дядька, – внушительно сказал он отцу, – в этом устоявшем под бурей дереве есть драматизм, есть идея!»
Содержание, как я теперь понимаю, было для него важнее формы. Работа была, конечно, не из лучших, отцу больше удавались пейзажи с натуры и портреты. Но Борис в то время вряд ли разбирался в живописи. Что понимал и отец. Поэтому он с особенным энтузиазмом принял предложение Бориса пойти с группой его товарищей в Третьяковку, где, конечно, не обошлось без умеренной (времена-то были какие!) критики передвижников и нынешних лауреатов типа того же Шурпина. Домой отец возвратился очень довольный общением с писательской молодежью. Писателям, по его ощущению, экскурсия понравилась. Отец бывал иногда у Бориса в гостях. Очень тепло отзывался о его жене Вале, враче по специальности, с которой Бориса свела война.
После окончания Литинститута Борис уехал в Абакан, главный город Хакасской автономной области в составе Красноярского края, на работу то ли в областную газету, то ли в какое-то литературное учреждение. В Абакан он взял с собой племянника Витю, сына старшей сестры Ланы (Нетта упоминалась ранее), который стал там перворазрядником по боксу. С Витей в мои детские годы я виделся только раз: отец зачем-то ненадолго приезжал к Лане и взял меня с собой. Помню весенний день, солнечный московский дворик, напоминающий известный поленовский пейзаж, только без церковки.
Пока взрослые разговаривали, мы с племянником, который, как и Доля (дочь Нетты), оказался старше меня, своего двоюродного дяди, были предоставлены сами себе. Витя с воодушевлением пересказывал мне содержание приключенческой повести «Капитан старой черепахи», а в перерывах напевал бесцензурную песенку о московском трамвае: «Мы летим, ковыляя во мгле, // Две старухи повисли на мне…»
При каких обстоятельствах появилась у нас дома книжечка хакасских сказок, переведенных и обработанных Борисом Балтером, с его дарственной надписью – не помню…
После возвращения в Москву Борис продолжал бывать у нас. Помню, летом 1955 года именно от него мы узнали о снятии Маленкова (председателя Совета министров СССР), в газетах и по радио об этом было объявлено позже. Новость была оглашена довольно эффектно, с расчетом на неожиданность. Хитро улыбающийся Борис вдруг заявил: «Сейчас я вам скажу такое, отчего вы все полезете под стол!» Под стол мы, конечно, не полезли, но стало ясно, что в литературные круги, в которых вращается Борис, новости с самого верха доходят быстрее, чем к нам на Ивановскую улицу. Чувствовалось, что изменения наверху ему по душе, вероятно, они знаменовали для него хрущевскую оттепель. Я еще не был посвящен в политические противоречия эпохи, хотя учился хорошо и на следующий год собирался окончить школу с золотой медалью (из-за описки в сочинении получил лишь серебряную). Меня интересовала литература, но уровень познаний не превышал школьной программы. Конечно, я уже знал что-то о символизме, о футуризме, видел импрессионистов в только что открывшейся экспозиции Музея изобразительных искусств. Даже пробовал уже писать стихи, но поскольку самым почитаемым поэтом был для меня Маяковский из школьной программы, то выходило что-то в таком духе: «В магазинах, кроме хлеба, сыр, колбасы, апельсины…» Раннего Маяковского я еще не мог оценить, хотя кое-что уже вызывало интерес. Увлечение Маяковским, помимо прочего, объясняется влиянием отца, бывшего воспитанника ВХУТЕМАСа, современника и страстного почитателя поэта победившей революции. Сочинения мои по литературе признавались в школе лучшими, и я собирался поступать на факультет журналистики в МГУ, почему не на филологический, до сих пор не могу понять. Видимо, ни я, ни родители не знали о существовании такого факультета. Журналистское же поприще отец посчитал малоподходящим и решил меня разубедить. Поскольку его аргументов явно не хватало, он призвал на подмогу Бориса.
Тот разговор я хорошо помню. Он происходил в начале лета 1956 года; старые липы с двух сторон нашей, к тому времени уже заасфальтированной, улочки зеленели. В свежей зелени был палисадник, где мне предстояло, по замыслу старших, обрести под ногами суровую почву реальности. Во-первых, сразу и без сожаления Борис разгромил мои стихи. Первоисточник тоже был узнан моментально. Здесь я впервые столкнулся с таким удивительным для меня фактом, что авторитетам не обязательно только поклоняться, их можно еще критически осмысливать, как и все, с чем сталкиваешься в жизни. Борис утверждал, что стихи Маяковского двадцатых годов в подавляющем своем большинстве рассудочны и неглубоки, а те немногие, что составляют исключение, мне попросту неизвестны: «Ты знаешь, например, „Пощечину члену ВЦИКа“?» – внушительно вопросил он меня, имея в виду стихотворение «Помпадур» (1928):
- Мне неведомо,
- в кого я попаду,
- Знаю только —
- попаду в кого-то…
- Выдающийся
- советский помпадур
- Выезжает
- отдыхать
- на воды…
Этого стихотворения я действительно не знал. Но сейчас, по прошествии лет, замечу, что и оно выделяется из массы других агитационно-пропагандистских творений Маяковского советского времени лишь сатирическим содержанием. Значит, и здесь, как в оценке отцовского этюда с одинокой сосной, социальная острота интересовала Бориса прежде всего. Что же касается Маяковского в целом, думаю, в двадцатые годы лишь отдельные стихи достойны его поэтического таланта.
Касательно же моего стихотворчества Борис попытался растолковать мне, что надо уметь схватывать характерное в окружающих предметах и ситуациях и тогда любая деталь станет выразительной и интересной. Для примера привел строки Евгения Винокурова, мною тогда еще не читанные, про «узелочки почек», которые весна «завязала затем, чтобы помнили все», и пастернаковское изображение грозы: «Сто слепящих фотографий ночью снял на память гром…» Пастернака я тоже, конечно, еще не читал и едва ли слышал его имя. Ни у кого из наших знакомых, родственников и учителей ни одной его книги я никогда не видел, а в книжные магазины я тогда еще не хаживал, да и не было их поблизости в нашем окраинном районе. А если бы и были, вряд ли в них обнаружилась бы книжечка стихов Пастернака. Такое было время.
К моим жизненным планам Борис отнесся столь же отрицательно, как и к стихам. Он полностью согласился с моим отцом в том, что зарабатывать на хлеб сочинением заметок и статеек по мерке редактора – дело неблагодарное, писать только правду никто не позволит. А вот сочинять стихи можно и будучи инженером – отрицательное отношение к ранней литературной профессионализации сохранялось у него до последних дней.
Не решаясь спорить с братом-писателем, я возражал вяло и даже соглашался там, где недавно еще спорил с отцом. Все последующие вечера, гоняя по округе на велосипеде, я обдумывал услышанное. В конце концов решил подавать документы на геологический факультет – поступать непременно в МГУ мне хотелось, потому что туда поступала одна моя одноклассница…
Когда основная тема разговора исчерпалась, между отцом и Борисом вдруг завязался яростный спор по политическим вопросам. Погруженный в свои мысли, я и не заметил, как он возник. Речь шла о недавнем (двух месяцев не прошло) ХХ съезде правящей коммунистической партии. Отец воспринял его со свойственной ему доверчивостью к официальным формулировкам. Для него, беспартийного коммуниста, каковым он себя считал, докладом Хрущева коммунистическая идея ничуть не была поколеблена. Исключение составляла лишь сфера искусства, где вторжение власти в творческий процесс всегда вызывало его внутренний протест и возмущение. Но для члена коммунистической партии Бориса Балтера доклад генсека означал совсем иное. Он, видимо, уже тогда сомневался, можно ли доверять всей этой организации в ее современном виде и всем ее свершениям: «Такие, как ты, дядька, позволили этим фашистам прийти к власти в тридцатые годы!» – разъяренно кричал он на защищавшего партийную линию отца.
Не думаю, чтобы гнев Бориса в отношении отца был справедлив, хотя в главном (по поводу фашистов) он был прав. Во-первых, не такие, как мой отец, позволили «им» прийти к власти. С мнением творческой интеллигенции, вообще интеллигенции, никто уже не считался, да и вообще с ее мнением никогда не считались в России, а социальная демагогия «этих фашистов» (как выразился Борис) была точной и беспроигрышной, и поэтому народ в своей подавляющей массе шел за ними. Социалистическая утопия успешно привилась на российской почве, потому что в России всегда относились к богатству или даже просто к благополучию если не с ненавистью, то с недоброжелательством и завистью. А во-вторых, пришедшие к власти в 1917-м были не намного лучше «этих», более поздних, может быть, только принципиальней и фанатичнее, что и сам Борис, я уверен, прекрасно осознал уже через несколько лет.
Спор, как я уже упомянул, был яростным и даже злым. У обоих от волнения белели губы. Объяснение происходило в дубовой рощице (ныне парк Дубки) неподалеку от дома. Одной рукой Борис крепко прижимал меня к себе, обхватив за пояс, другой – опирался на палку. Шли быстро, я в какие-то мгновения не успевал переступить с ноги на ногу, и он буквально волочил меня за собой. Иногда он обращался ко мне, словно рассчитывая на мою поддержку. Но я не смел вступить в разговор старших, да и мало что понимал тогда в их споре, который, как мне кажется, отдалил их друг от друга. Мы еще возвратились домой, Борис пробыл у нас какое-то время, но расстались они холоднее, чем обычно.
Еще до спора отец, сам уже перенесший инфаркт, упрекнул Бориса в небрежном отношении к здоровью, к болезни сердца. «У меня нет времени на врачей», – отрезал Борис. Также еще до спора он обмолвился, что пишет историческую повесть о казаках, а затем без всякой позы признался, что ничем из написанного не удовлетворен. Ему было 37, и он отчетливо осознавал, что времени остается мало: «Если за ближайшие пять лет не удастся написать ничего действительно стоящего – придется это дело бросить», – решительно подытожил он.
2
В МГУ я не поступил, допустив досадную оплошность на письменном экзамене по математике. Пришлось пойти в Рыбный институт – туда медалистов принимали без экзаменов, – благо здание института располагалось недалеко от дома, на берегу Тимирязевского пруда. Там я начал печататься в институтской многотиражке с экзотическим названием «За кадры рыбной промышленности и флота», стал участником институтского литобъединения. В 1959 году институт по настоянию Хрущева перевели в Калининград – ближе к морю! Я бывал в Москве только во время зимних каникул. Никаких встреч с Борисом не происходило. Собственные отношения с ним у меня возникли на какое-то время лишь после окончания института и возвращения в Москву в 1961 году. Я привез к родителям молодую жену, студентку четвертого курса нашего института. Борис при первой встрече смутил меня прямым вопросом: «Миша с Любой согласились принять тебя с женой в своей комнатушке?» – и озадаченно покачал головой.
Я несколько раз побывал у него в коммунальной квартире на Песчаной улице. Он, Валя и сын Игорь занимали одну комнату, но значительно больше нашей. Игорь еще учился в школе, но уже курил. Борис не запрещал ему курить дома, а иногда даже стрелял у сына сигареты. Мне он объяснил это довольно дружелюбной по отношению к Игорю фразой: «Что с балбесом сделаешь!» Валя происходящее не комментировала, во всяком случае при мне.
Борис интересовался моим чтением. Хвалил, когда среди названных авторов были Хемингуэй и Ремарк, ругал за присутствие в этом перечне Кронина и Уилсона. Однажды очень многозначительно, словно гордясь самим фактом публикации, показал мне напечатанные в каком-то журнале стихи своего друга, совершенно неизвестного мне поэта Наума Коржавина, среди которых было стихотворение «Инерция стиля».
Как я потом узнал, например из воспоминаний Бенедикта Сарнова «Скуки не было», Борис, как и Коржавин, во второй половине пятидесятых внештатно работал в «Литгазете», где собралась в то время неплохая компания поэтов, прозаиков и критиков, ставших со временем очень известными и даже знаменитыми. А некоторым из них суждено было приобрести широкое признание (пусть пока неофициальное) уже и тогда, например Булату Окуджаве.