А и Б. Финал менипеи бесплатное чтение
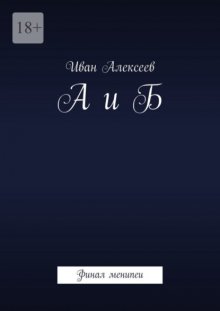
© Иван Алексеев, 2022
ISBN 978-5-0055-9177-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
От автора
Настоящая книжка предлагает читателям повесть «А и Б» и рассказ «На Бородине» пишущего в самиздате Ивана Алексеевича Алексеева.
Содержанием повести «А и Б» является хрестоматийный обзор произведений Алексеева, выполненный от его имени в диалоге с им же выдуманным сочинителем – Ильёй Ильичом Белкиным. Продвинутые литературоведы придумали называть подобного рода сочинения менипеями, объясняя и доказывая, как и почему «Евгения Онегина», например, следует считать литературным автопортретом забытого ныне поэта Катенина, а в булгаковском Мастере разглядеть основоположника социалистического реализма.
Заметим, что поскольку сам Иван Алексеев оттачивал свои писательские умения, прячась за придуманным им повествователем, то заглавная повесть представляет собой двойную менипею с обзором белкинских «Повестей Ильи Ильича» и трёх алексеевских книжек («Светлые истории», «Херувим четырёхликий» и «Лебединое озеро»).
Приводимый здесь же рассказ «На Бородине» является последним и единственным необнародованным произведением Алексеева. Рассказ отличают определённые художественные достоинства и скорректированный на основе современных источников взгляд на ход Бородинской битвы и её значение. Кроме того, он даёт вдумчивому читателю образец алексеевского письма и, следовательно, возможность самостоятельно оценить успешность реализации авторской задумки с менипеей.
28 декабря 2021 г.
А и Б
Повесть
- «А и Б
- сидели на трубе.
- А упало,
- Б пропало.
- Кто остался на трубе?»
1
Уже слепой разглядит, что климат меняется. Весна с осенью всё длиннее, зима с летом короче, да разные погодные причуды случаются каждый год.
В этом, например, на бескрайних просторах между Москвой и Петербургом весь апрель задували штормовые ветра, ноябрь был сух и без заморозков, а декабрь на целую неделю убрал от нас низкое хмурое небо, радуя солнечными днями, звёздными ночами и бодрыми десятиградусными морозами. Для полного счастья не хватало снега. За городом, на обезлюдевших дачах, в молчаливых полях и скромных перелесках он ещё понемногу набирался. А в столицах и городах забелил лишь островки малохоженой земли с заледеневшими лужами. Дороги и улицы долго оставались сухи, полны транспорта и люда, беспокойного и усталого – не столько от вируса и масок, сколько от очередных обещаний скорого роста экономики.
Примерно таким был общий фон мыслей седого человека с невыразительным лицом и глубоко посаженными глазами. На фотографиях с лесных прогулок, которые его супруга посылала по телефону родственникам, он выглядел угрюмым. Иногда они спрашивали: почему? – тогда супруга повторяла фото, заставляя мужа улыбнуться и закрыть рот.
Возраст и жизненный опыт непременно приносят толику мрачных взглядов на мир и изрядного пессимизма. Наложенные на соответствующие характер, темперамент и некую особенность поведения, они зачастую придают взгляду и всему лицу этакую отстранённость, которую трудно не заметить, остановив мгновение.
Особенностью нашего угрюмого героя была принадлежность к той счастливой или несчастной прослойке людей, умеющих делами и разговорами быть рядом с вами, а мысленно – в своих неведомых сторонках и мирах, на которые самым естественным для них образом раскладывался видимый мир. Сторонки эти бывают разными, – в том числе, заставляющими достигать недостижимых целей. Одна из них привила нашему герою навязчивое намерение заявить о себе посредством сочинительства. В нём рано пробудилась жадность до чтения хороших книг, склонность к холодному аналитическому мышлению, кажущееся умение видеть за литературными героями автора – всё это вместе с энергией проснувшихся чувств подвигли юношу ощутить сладкую горечь вдохновения. Впрочем, первые писательские опыты оказались нехороши, и их пришлось надолго оставить. И только когда дети выросли, ставшая рутиной работа позволила иметь свободное время, а в сердце потенциального сочинителя поселился страх ухода в безвестность, желание писать пересилило инерцию устоявшейся жизни.
Сочинитель наш, загадывая на умного читателя, назвался Ильёй Ильичом Белкиным. Имя-отчество псевдониму он взял от Обломова: и черты характера есть похожие, и желание вот-вот, прямо с завтрашнего дня, начать заниматься настоящим делом – с беспрестанным его откладыванием. А за Белкина спрятался по двум причинам. Первая отталкивалась от жизненного опыта и ясного понимания тщетности попыток добраться до вершин какого бы то ни было мастерства без соответствующего окружения и обратной связи. Пусть он не без способностей, пусть призван и даже талант, но как без общения, духовной поддержки, дружеской похвалы и обоснованной критики стать мастером? Ведь история литературы самородков не знает. Не считать же таковым сказочника Ершова за «Конька-горбунка», писаного пушкинским слогом и с пушкинскими закладками в тексте?
Вторая и более важная причина пряток состояла в прозрении удобства повествовать от чужого лица и чужим голосом, облегчая восприятие текста, с одной стороны, и сохраняя в нём загадки для пытливого ума – с другой.
Белкин нашему герою удался. Авторские мысли и мучительные сомнения Илья Ильич излагал по-своему, оставаясь верной тенью сочинителя, который на Белкина, если кто позовёт, отозвался бы без раздумий и с той же естественностью, как отзывался на данное ему родителями имя Ивана Алексеева.
Вот так лет десять назад в братской могиле самиздатовских сочинений появились белкинские «Повести Ильи Ильича», а позже и произведения Алексеева, разбросанные по нескольким общедоступным для любителей писательским и издательским платформам.
Продвинутые современники-литературоведы придумали называть подобного рода сочинения профессионалов мега-литературой и менипеями, объясняя и доказывая, как и почему «Евгений Онегин», например, сочинён от лица и зачастую слогом забытого ныне поэта Катенина, а в булгаковском «Мастере и Маргарите» мастером следует считать основоположника социалистического реализма.
Наверное, сравнение любителя с мастерами слова многим не понравится. Кто такой Алексеев?!
Соглашаясь со справедливым негодованием, мы с удовольствием добавим, что про менипеи и мега-литературу Алексеев вычитал недавно. А когда придумал Белкина, ничего про это не знал. Его Белкин, преодолевая кризис среднего возраста и тоскуя по литературе, которую мы потеряли, не умеем воскресить и скоро посчитаем излишней, должен был стать примером реализации возможностей самообразования и миропонимания, помноженных на компьютерные и сетевые технологии подготовки текстов. Образованный человек способен реализовать свои способности в любой области – вот что хотел доказать Алексеев и что, как он считал, доказал. Перечитывая повести своего Белкина, сам он всякий раз убеждался в том, что голос Ильи Ильича различим в щебете писательской братии и пробуждает добрые чувства, а то, что этот факт не подтверждает устроившаяся возле имеющихся кормушек окололитературная орда, списывал на победивший в нашей стране меркантилизм и его следствия вроде отторжения от чтения книг и общего культурного упадка.
Выплеснув в последней из «Повестей Ильи Ильича» свою приглаженную биографию, Алексеев навсегда, как он считал, расстался с придуманным им повествователем, но не с литературой, продолжив отстаивать свой взгляд на мир и место в нём современника. За модой удивлять особенно острыми и загадочными сюжетами, которые давно все известны и разложены, как по нотам, Алексеев не гнался и поэтому за семь лет сладкого и тяжёлого труда приобрёл не более сотни читателей, самым внимательным из которых был его отец, да получил на свою электронную почту десяток хвалебных писем от поклонниц. Столь скудное внимание к его сочинениям вкупе со слабеющей силой глаз, отражающей естественное возрастное угасание, не могли не принести нашему писателю известную толику разочарования в людях и заставили его отойти от правила сочинять каждый календарный год хотя бы один рассказ или повесть. В последние два года к литературным разочарованиям прибавились перенесённая им неприятная болезнь и выбившая из колеи смерть отца. Алексеев перестал писать, решив не напрягаться до пенсии, а в первый пенсионный год красиво закольцевать свой не очень удавшийся литературный поход с помощью поднятого из небытия Белкина.
Шестидесятилетняя отсечка вообще представлялась Алексееву крайней писательской ступенькой. Когда-то он посчитал недостойным начинать докторскую диссертацию после сорока, наблюдая отсутствие новизны и пользы науке от таких работ. Что-то сходно фальшивое и заведомо ненужное людям, грезилось ему и в писательстве после шестидесяти.
Однако выверенный план дал сбой: пенсионный возраст увеличили на пять лет, спокойного завершения сочинительства не получалось.
– Не понятно, зачем он это сделал. Говорил, что не будем повышать, и обманул, – пожаловался на президента Алексеев кому смог, то есть супруге.
– Сам под собой сук рубит… Я совершенно согласен с тем, что пенсии входят в пакет негласных договорённостей власти с населением. Они и введены капиталистами для устойчивого управления массами, в первую очередь. Ради обещанной кормёжки в старости можно и несправедливости потерпеть, и детей не рожать, и глаза закрывать на полезный буржуям круговорот пенсионных накоплений, вплоть до банального их воровства, в чём преуспело наше Отечество. Но зачем терпеть, если условия договора меняются одной из сторон без согласия другой? И ради чего весь этот сыр-бор? Ради желаний забугорного начальства и банального бухгалтерского стремления сэкономить, сводя баланс? – всё остальное дымовая завеса. Ну, сэкономите сегодня, а сколько потеряете завтра? Да и согласятся ли люди завтра жить под такой властью?
– А им на твоё завтра плевать, – откликнулась жена. – Они сегодня живут. Сколько, ты говорил, сэкономят в год на твоей пенсии? Больше трёхсот тысяч? Неужели плохо? А я им сколько подарила?
– Умножай свою пенсию на шесть, – жене Алексеева повезло переработать всего полгода сверх старого пенсионного возраста. – Тысяч сто.
– Немного?! – женщина возмущённо взмахнула руками, всем видом показывая, что муж со своими всеведущими умниками не умеют понять самые простые вещи.
Умниками она называла толкователей жизни из Интернета, забиравших своими беседами и лекциями свободное время у её уткнувшегося в компьютер супруга.
Первое время Алексеев, как мог, пытался объяснять свой голод до новой и правдивой информации, добывать которую ему было больше неоткуда. Повторяя за учителями, что ложь многогранна, правда у каждого своя, а истина одна, он считал, что овладевает различением истины, для добычи которой требуется перелопачивать горы информации. Он говорил, что наша жизнь не так хороша, как могла бы быть, оттого, что доступные нам знания не полны, противоречивы и грешат ложными утверждениями. Что принятые на веру официальные доктрины во всех областях науки от физики до медицины и от истории до социологии замалчивают неудобные факты и альтернативные представления об устройстве мира и общества. От кого об этом узнать, как не от самодеятельных подвижников, ведомых понятному нашему сочинителю желанию достучаться до людей?
Однако все воздушные замки Алексеева, построенные на вере в высшее предназначение человека, разбивались о твёрдый аргумент, что сыт этим не будешь.
Пришлось ему согласиться с известным учёным, популяризирующим современные научные достижения в понимании механизмов функционирования и изменчивости доставшегося нам от обезьян мозга. Если цели мужского и женского мозга отличаются вследствие различий в организации их работы, то добиться от супруги признания пользы его духовных занятий ему не суждено. Что, в свою очередь, компенсируется его неумением понять всю важность для жизни приземлённых женских трудов. Важное одному кажется неважным другому, полное взаимопонимание принципиально невозможно.
Так с кем Алексееву искать истину, если с супругой не договориться, а друзья, всегда готовые поспорить и поддержать, почти все с возрастом отсеялись? – с самодеятельными заочными аналитиками. Где выискивать новую и полезную информацию? – у них же. Других помощников нет.
Всё услышанное и увиденное можно обсуждать с самим собой, как привык обходиться Алексеев. А можно плюнуть на пенсию, которой не дождаться, и вызвать для общения и закругления писательских трудов своего записного помощника.
«Здравствуй, Илья Ильич! – обратился он к Белкину. – Выходи уже из своего далёка. Пора».
2
БЕЛКИН: «Зачем, Иван Алексеевич, беспокоишь покойника? Договорились в четырнадцатом году: я умер. Для тебя, в том числе».
АЛЕКСЕЕВ: «Помню, друг, всё помню. Но что делать, если время идёт, жизнь меняется, а посоветоваться не с кем? Мы с тобой, Илья Ильич, расстались на том, что ты умер как писатель. Рассказал про упадок культуры, кризис литературы и моду на чтиво, отчего твои повести не находят и не найдут читателя. Но мне от них было светло. И я верил, что мы на твоём пути не одни, что нас много, и чтобы убедиться в этом, надо продолжать идти в указанном направлении. Не хочешь ты, пойду я. И пошёл… Шёл-шёл, но устал. И теперь почти согласен с тобой. А чтобы совсем согласиться, хочу спросить, не поменялось ли твоё мнение?»
БЕЛКИН: «Нехорошо спрашивать, заранее зная ответ. Мыслим мы с тобой схоже. И видим одинаково. Что вижу я? В институте, например, где продолжаю работать нелюбимую работу? Вижу, что начальству удаётся скрывать прогрессирующий бардак теми же способами и с тем же результатом, как и во всей стране. Работающей молодёжи мало. Книг не читают. Думать не приучены. Стимулов развиваться нет. Ненужная информация обложила со всех сторон. Так что перспектив отклика, в том числе, на наше писательство, как не было, так и нет».
АЛЕКСЕЕВ: «Ладно, Белкин, не ругайся. Я ведь о чём подумал: пусть мы не востребованы, но если пришла пора закругляться, то хочется закруглить красиво. Вместе сподручнее, оттого и позвал. Ты формулируешь быстрее меня. Да и сочинял что-то наверняка. Так что помоги, как раньше».
БЕЛКИН: «Осталось у меня что-то типа записок. Ничего толкового: наблюдения, путешествия… Забирай. Помню я твою слабость приспосабливать к делу всякое разное, может, и с этим получится».
АЛЕКСЕЕВ: «Спасибо, Илья Ильич. Но это не всё. Хотелось попытать тебя насчёт современных представлений о работе мозга. Согласен ли ты с тем, что противоречивость и изменчивость наших устремлений, желаний и надежд могут быть объяснены на физиологическом уровне, отталкиваясь от организации и функционирования головного мозга?»
БЕЛКИН: «Древний рептилоидный мозг, лимбическая система против неокортекса… Знаю, читал».
БЕЛКИН: «Конечно, понимание работы мозга упрощает трактовку поступков и поведения людей. Спроецировав научное знание на уровень житейского восприятия, получим примерно следующее. Есть базовые инстинкты высших приматов: к еде, размножению и доминированию в стае. Есть управляющая нашим поведением кора головного мозга, полностью – и с невесть откуда взятым осознанием нравственного закона – формирующаяся к семилетнему возрасту. И есть вечная альтернатива заполнения полей неокортекса с помощью воспитания, семейных отношений, обучения и саморазвития: поддержать нравственное стремление стать человеком или его притормозить, потакая врождённым инстинктам. Отсюда двойственность сознания и наших желаний, их внутренняя борьба, противоречивые поступки, то есть „весьма важные последствия“ „от малых причин“ и простое объяснение того, что ложь многогранна, а правда у каждого своя, – ты это хотел услышать?»
АЛЕКСЕЕВ: «Возможно. Меня всегда интересовало, почему нам легче соврать, чем отстаивать правду? Откуда взялись и почему нам интуитивно понятны бог и отец лжи, их извечная борьба за наши души? Я пытался это понять сам и растолковать, как мог. А мог без понимания устройства и работы нашего мозга мало. Я и у других вижу и за собой знаю беду уводящего от темы витийствования, когда пытаешься объясняться на уровне интуиции и качественных понятий. Отталкиваться от физических основ проще и надёжнее. Но объяснение нашего поведения исключительно с материальных позиций работы мозга меня не устраивает. Мы с тобой лучше многих знаем, как трудна и энергетически затратна мыслительная работа. С медицинской и житейской точек зрения не думать выгоднее, чем думать. Ещё выгоднее обманывать других и себя, потакая инстинктам, получая удовольствия и оправдываясь тем, что все мы не святы и слабы духом. Но откуда тогда берётся счастье вдохновения и отрады от рождения нового и полезного людям? Счастье осознавать себя человеком? Развитой неокортекс, руководимый нравственным законом, судя по всему, имеет возможность настроиться в унисон внешнему источнику, задающему жизнь. А отсюда вопрос, ответа на который я не знаю: способны ли договориться между собой обладатели мозга, развивающегося в человечном направлении, с мозгом, деградирующим к обезьяньему первоисточнику? Пророки и учителя человечества, разные великие теории от непротивления зла насилием и слезинки ребёнка до великого инквизитора и миссии белого человека утверждают, что знают ответ на этот вопрос и его дают, но ответы их разные, вот в чём проблема».
БЕЛКИН: «Ты знаешь, о чём я подумал? Что пришло бы на ум услышавшему нас насмешливому учёному, знакомому с предметом эволюции, искусственного отбора и конструкции головного мозга? – Что наша уверенность в правоте собственных рассуждений и поразительное упорство в воплощении незатейливых идей посредством сочинительства объясняется масштабом потерь нейронов мозга от старости. Зная, что мыслительная компенсация за счёт богатой дендритной сети отдельных нейронов в пожилом мозге помогает любой мысли – особенно долго скрываемой – мобилизовать весь накопленный нейробиологический опыт для её отстаивания или осуществления, учёный нашёл бы в нашем поведении блестящий пример подтверждения теории мозга».
БЕЛКИН: «А если продолжать без ёрничанья, то трудно не видеть, что большинство людей используют свой мозг для умелого скрытия традиционного для высших приматов убогого поведения в бесконечном многообразии его особенностей. Декларируя справедливость и честность, приверженность традициям, верованиям предков и „вечным ценностям“, обезьянья кора большого мозга планирует воспользоваться этими заблуждениями и получить биологические преимущества в борьбе за ресурсы с наивными конкурентами, вроде нас с тобой. Жизненный опыт показывает, что самыми замаскированными обезьянами обычно являются публичные борцы за общечеловеческие ценности. Сосуществовать с ними трудно – я так понимаю твой вопрос о договороспособности.».
АЛЕКСЕЕВ: «Правильно понимаешь, Илья Ильич. Умеешь ухватить. В туманах, как я, не бродишь».
БЕЛКИН: «Твой туман, Иван Алексеевич, светлый и около вопроса, о котором беседуем. К тому же я не ленился, читал твои книжки. И предлагаю, продолжая разговор, вспомнить наших героев. Кто из них кто, и на чьей они стороне».
АЛЕКСЕЕВ: «Зато я обленился. Два года не работаю, отупел. Мне. чтобы вспомнить, придётся подглядывать в старые тексты. Предлагаю поэтому начать с тебя. Расскажи, как поживает сегодня твой лирический герой? Живы ли и чем занимаются генерал Василий Сергеевич, учёный начальник Михаил Михайлович, сбежавший предприниматель Антонов?»
БЕЛКИН: «Мой повествователь? – он постарел. Считает, что решил свои биологические задачи. Наблюдает общественный регресс. Склонен к слезливости. Констатирует угасающее желание совершать интеллектуальные подвиги, но продолжает относить себя к думающему меньшинству. Впрочем, отвечать двумя словами – не мой стиль. Изволь выслушать рассказ».
Рассказ Белкина
«Прибавь к семи годам после завершения «Повестей Ильи Ильича» пару-тройку лет на их написание и примерно получишь, на сколько нужно отступить, чтобы попасть в период самых острых моих размышлений на озвученный тобой вопрос. Для себя я его тогда формулировал так: кто и почему стремится к свету, кто довольствуется неразличимой серостью, а кого и по каким причинам бросает в тёмные стороны? Моими ответами стали картинки жизни, в которых я участвовал или которые близко наблюдал. Картинки эти я подсвечивал, отталкиваясь от размышлений Льва Толстого о пяти соблазнах или ловушках, придуманных для оправдания людьми своих обезьяньих грехов. Повествователем выбрал современника, ведомого мудростью Толстого, просветлённостью Достоевского, нервом Высоцкого и правдой коллектива под псевдонимом Внутренний предиктор СССР.
Что мною двигало? Скорее всего, желание поучаствовать в противостоянии культурному откату. Моя юность пришлась на период становления системы двойных отношений в советском обществе, когда новые социальные правила общежития, выработанные кровью и потом уходящего поколения, стали использоваться в качестве лозунгов, прикрывающих стремление обмануть наивное население. Параллельно с моим взрослением, становлением на ноги и накоплением жизненного опыта, в обществе развивались тенденции надувательства и вранья, из-за которых новый цикл искусственного отбора мозга, удаливший бы нас от обезьяньего прошлого на очередной шаг, остался незавершённым.
Более того, ускорился процесс снижения в среднем культурного потенциала общества. Уровень развития поколения детей заметно уступал уровню развития поколения отцов, который, как я понимал это по собственным возможностям, был довольно высок. У меня, например, получалось решать нетривиальные задачи на работе, к которой я не был особо расположен. Тем более и без сомнений должно было получиться на стезе сочинительства, способность к которому была мне давно открыта.
Продвинутые представители ВП СССР раздвигали горизонт осознания наших бед, подстёгивая моё желание присоединиться к борцам за народное просвещение, а оценка глубины нашего культурного падения отсылала во времена позднего Толстого с рассуждениями про уготовленные людям соблазны. Плясать от них, как от печки, показалось удобным. Придумав запрос от сына на понятные студентам тексты, я вознамерился показать в них силу ловушек, ожидающих людей на пути к человечности. Получилось следующее.
В «Приготовлении Антона Ивановича» толковый физик, безалаберно прожигающий жизнь, бесконечно откладывает намерение вернуть науку к правильным, как он полагает, началам, и когда, наконец, решается приступить к изложению новой теории эфира, странным образом и совершенно ошибочно верит, что не умрёт, пока не закончит работы.
Герой повести «В гостях», трудно переживший неудачи юношеских сексуальных опытов, предпочитает не напрягаться по жизни и быть «как все», внутренне оправдывая остановку своего развития благом своей семьи и детей.
Волин из повести «За отпуск», переживая смерти близких и неустроенность детей, вынужден задуматься о непрочности земного благополучия и поиске смыслов жизни. Решив думать обо всем, что придумано на земле, своей головой, и верить в то, что есть в душе с самого детства, он многое успевает за отпуск и надеется с божьей помощью выбраться на прямой путь.
Завершающей и ключевой повестью цикла стал «Мой путь», сочиненный в стиле биографического повествования. Повествователь окружён соблазнами дела, государства и одержимыми людьми, почти открыто оправдывающими неправедность пользой для коллектива, общего дела и государства. Нравственные поиски ведут его к пониманию причин побеждающих у нас несправедливости, неправедности, идей господства и превосходства одних людей над другими. Оседлавшие жизненный успех генерал, учёный начальник и сбежавший предприниматель, которые отчасти в определённое время приятельствовали с моим повествователем, оказываются в его глазах хитрецами и слепцами. Достигая обманом личных благ, они прикрываются знанием истины, а сами всю жизнь ходят вокруг да около, не понимая её. Но страх, земной страх иногда так сильно пронизывает все клеточки их тел, что ощутим моему сказителю. Тогда ему становится жаль победителей и хочется помочь им прислушаться к нравственному закону, который они перестали слышать. И он молится за одержимых в надежде использовать их возможности во имя света и добра, пока не понимает, что эта мольба выше его сил…
Перечитывая повести, мне было трудно тогда и трудно сейчас не признать, что при всём формально успешном воплощении общего замысла ответов на вызовы нашего времени, отвечал я на них с оглядкой на незримого свидетеля, который властно уводил моё повествование на вроде бы второстепенные наблюдения, странным образом оживлявшие мои искания. Как не выпячивал я размышления и рассуждения лирического героя на тему становления человека, они оказывались в тени случайных, на первый взгляд, и мало значащих деталей. Словно тот, незримо присутствующий третий, оценивал наши попытки уйти от обезьяньей природы и находил их лишь забавными и не новыми, как не нова и забавна для взрослого ума игра разгорячённых детей в догонялки. Зато отступления от темы с отдельными наблюдениями им явно приветствовались, заставляя частить моё сердце. Пробуждающие описания природы, обострённая ранимость чувств в минуты беззащитной людской открытости, тайна жизни и смерти, боль души в час ухода человека – в них, как подсказывало взволнованное сердце, не я один видел неброскую красоту и манящий свет жизни, открывающие прямой путь, выбираемый или невыбираемый моими героями.
Почему мне не интересно отвечать на твои вопросы о договороспособности с людьми иного устройства мозга, вроде одержимых героев «Моего пути»? Не оттого ли, что с подсказки того наблюдателя более ценным представляется рассмотреть как можно больше деталей в их естественной простоте, чем натужно приспосабливать их к морализаторству и навязыванию другим «гениальных» идей?
Недавно мне приснился твой ушедший отец, самый внимательный читатель «Повестей Ильи Ильича». В полном одиночестве он шёл по тёмному коридору в противоположную от выхода сторону. В одиночку ему было не выбраться, а встретить кого-то на этом пути было невозможно. Я смотрел на упрямо бредущего в темноте старика, пока не понял, что это одинокий путь в никуда, который предстоит каждому из нас. Тогда я вспомнил, как два года назад, заболев и предполагая плохой диагноз, впервые подумал об ожидающем нас одиночестве, от которого не спасут ни родные, ни близкие, ни друзья. Не зная, как к нему подготовиться, я захотел объехать и обойти разные места, где когда-то бывал, надеясь найти ответ по дороге. Но, выздоровев, никуда не поехал. Теперь же, испугавшись, что не успею, я придумал подготовиться силой воображенья и некоторое время представлял себе, засыпая, как выхожу из тела и незримо следую по знакомым сторонам.
Бодрствующему духу трудно описать путешествия во сне, но одно из них, дорогу к твоему отцу, попытаюсь.
Я чётко видел, как добираюсь до Москвы, как в аэропорту пробираюсь к выходу на посадку в самолёт, как занимаю пустое кресло в салоне, как лечу над белыми полями и горами облаков и как оказываюсь на открытом всем ветрам загородном кладбище перед лакированным деревянным крестом, на котором закреплена выцветшая фотография. Не имея тела, я ощущаю, что стою, чувствую силу пронизывающего ветра, вижу огромное высокое небо и слушаю тишину совершенно безлюдного места. Я стою и жду ушедшую душу, которой не дождаться, потому что согласно преданию она уже облетела места, которые хотела, трижды предстала перед творцом и приняла неземной удел. И всё-таки я жду, потому что так и не удовлетворил редкого читателя, высоко оценившего мой труд, ответом на упрёк: зачем я благоразумно и раньше не останавливался в описаниях некоторых сцен и интимных переживаний?
Я жду, надеясь на чудо встречи, чтобы сказать: «Вот я перед вами, без тела, но с памятью о мыслях, источником которых был мозг. Но согласитесь, что природа мозга внутренне конфликтна: в самых человечных устремлениях присутствует толика отступления к инстинктам, из которых похотливые желания не самые безнравственные. Вас коробил интим. Вы спрашивали: „Зачем?“ Я перечитал всё и нашёл не много скабрезного: девчонку „в одних трусах“, „залез в трусы“, „боялся раздвинуть ноги“, „подглядывал в душевой“, „рука залезла в плавки“, „междуножье“, открытые широкими шортами „чёрные стринги“. Всё это мелочи, которые точны и понятны воображению, умеющему интимными переживаниями и фантазиями сгладить грубость инстинктов. Тут главное не переборщить, чтобы плохое понималось плохим, а хорошее – хорошим. И я не согласен, что переборщил. Вас зацепило, но как? Душа отозвалась добрыми чувствами, и „трусы“ этому не помешали».
А потом я попробовал бы пояснить сказанное на простом примере.
«К нам на дачу, – продолжил бы я, – уверенной хозяйской поступью приходит подкормиться постоянно беременная молодая кошка. У неё гладкая трёхцветная шерсть, больше рыжая, один глаз болен от рожденья, да и вся вытянутая мордочка не очень красива. Поев, она любит отдохнуть на зелёной травке и тут и там рассыпанном привозном песке. Там же случалась кошачья любовь, свидетелем которой я был. К кошке приходили крупные бело-пепельный и чёрный коты, такие же свободные дачные приживалы. Распушась во все стороны и напустив на себя самый важный и строгий вид, после недолгих ухаживаний они ловко наскакивали на кошку, прихватывая её за холку зубами и прижимая к земле. Короткая серия ритмичных движений под горловое урчание несколько раз прерывалась отмашкой кошкиной лапы с выпущенными когтями и угрожающим оскалом её морды. Переждав грозу, коты заново седлали кошку – до тех пор, пока она решительно не поднималась на лапы и разворачивалась к ним, выгибая спину и выказывая противными звуками готовность драться, невзирая на размеры противника. Коты, постояв перед ней, поднимая-опуская лапы и мяуча, вскоре тушевались, пятились и, достигнув безопасного расстояния, степенно уходили, сохраняя свою выдающуюся пушистую форму. А стройная кошка, выбрав самую нежную травку, принималась сладко кататься по ней, изгибаясь всеми возможными способами. Иногда, особенно изогнувшись, она замирала, щурилась на ласковое солнце, точно вспомнив миг наслажденья, и, казалось, оглядывалась на кустики малины с наливающимися зеленью листочками, на звонких пичуг, перелетающих с дерева на дерево, на нависший над ней высокий дуб, на красную сосну за колючим забором, на вольную улицу – на всю разлитую вокруг радость жизни, которая приняла её в свои объятья… Когда, брюхатая, она прибегала подкормиться, преданно притираясь к ногам и жадно поглощая всё, на что домашние кошки даже не смотрят, то жалость к ней непременно переплеталась во мне с воспоминанием дарованного ей короткого счастья, испытав которое, можно преодолевать самые долгие тяготы».
Проговорив свои монологи окрестным ветрам, я отправляюсь в обратный путь, который получается таким коротким, что к его концу еле успеваю продумать, что буду говорить твоему отцу в следующей попытке.
Возможно, я начну с цитат, определяющих убогость нашего мозга от природы: «абстрагироваться от природы коры любви, которой мы думаем, крайне непросто», «эволюция посмеялась над нашим мышлением, заставив решать любые задачи через волшебную призму половых целей», «все наши предпочтения в одежде, пище, круге знакомств и профессиональных интересах проходят фильтр половой оценки».
То есть мозг, которым мы думаем, силён исключительно корой любви и энергией похотливых фантазий. Эффективно его использовать в иных целях без энергии любви весьма проблематично. Зато воспользовавшись этой энергией, можно решить многое. Например, продлить и украсить жизнь.
Я бы рассказал, что научился облегчать течение своих болезней игрой воображения, заставляя переделывать в уме самые неудачные мои романтические приключения в более, чем удачные. А чтобы воображаемый эффект был ярче, придумал ограничиться одной неудачей и переживать её неоднократно, всякий раз выбираясь из глупого положения по-новому и с непременным удовлетворением. И ещё я бы упомянул творчество, для которого нужна дополнительная энергия, которую взять нам, кроме как от коры любви, неоткуда.
С этими крайними мыслями о следующем разговоре я возвращаюсь в своё тело, оставляя в пелене надвигающегося забытья, на потом, прощальную слезу умирающей кошки, так похожую на слезу уходящего в одиночестве человека.
Это уже наша домашняя кошка, изжившая свой век и трижды в последний год готовая умереть, но поддержанная уколами. Она на границе света и тьмы. Как живая. Худющая, с опухолью на крестце, из-за которой на поворотах заплетались её задние лапы. Прячущаяся и вдруг противно кричащая, требуя то ли еды, то ли участия. До последнего пробующая запрыгивать на кровать и двигаться по квартире в поиске тёплых и тёмных углов. И этот взгляд уставших глаз с готовой пролиться прощальной слезой – я поймал его, когда нашёл спрятавшееся животное, пожалел словами и погладил. Еле поднятая в ответ мордочка, благодарное урчание и взгляд, отразивший кошачье погружение в небытие…
Наконец, полное забытье. Провал. За которым новый день. И новая ночь. И тьма. И сон по кругу с бестелесным путешествием. И желание всё это записать. И острое дневное разочарование от того, что записывать нечего…
Ну а теперь можно перейти к сегодняшнему дню и неинтересным мне, в силу рассказанного выше, поворотам судьбы одержимых героев «Моего пути». Впрочем, то, что о них знают многие, я готов пересказать.
Антонова год, как не преследуют фискальные и силовые службы. В конце ноября он прилетал из своей заграницы посмотреть на внучку от старшей дочери и проверить заодно оставшийся бизнес и некоторых недобросовестных своих управляющих наяву, а не по телефону и видеосвязи. Я пропустил его звонок и перезвонил на следующий день. «Я собирал всех в баню, – сказал он. – Жаль, что не дозвонился до тебя». «Вот, валю деревья на участке, – объяснил шум бензопилы. – Нравится мне это дело. Дома тоже этим балуюсь». «В Россию возвращаться не собираешься?» – спросил я. «Я буду приезжать, – ответил он. – Сразу после Нового года опять постараюсь прилететь. Скажи: старая наша городская баня работает? Отлично. Когда приеду, соберёмся там. А совсем переезжать обратно зачем? Девчонки мои от предыдущего брака живут самостоятельно. Сын учится в Московском университете, на каникулы прилетает к нам. Мы с женой там освоились. У нас двое маленьких детей, с которыми не соскучишься. Кружки, секции, языки». Слушая знакомый голос, я отметил, что Андрей не спешит закончить разговор и вообще не спешит, – как человек, которому спешить некуда. «Да он постарел», – подумал я, и, представив себе его стремительные движения, ухожено блестящие волосы, пышные усы и подсмеивающийся испытующий взгляд, какими запомнил их на полувековом юбилее, занялся редактированием: проредил и побелил его шевелюру, щедро посеребрил усы, добавил морщинок в уголки глаз, усталой мудрости взгляду и притормозил желания казаться первым во всём.
О генерале расскажу с чужих слов, институтских разговоров и жадных до остренького журналистских расследований. Беседовать с ним не мой уровень, хотя в обеденный перерыв на набережной мы частенько пересекались и здоровались. Я гулял, он шёл в ближайший ресторан, что на берегу и над речкой. От института до ресторана пар двести шагов. Василий Сергеевич до заморозков, даже когда все вокруг были в куртках, преодолевал это расстояние бодрым шагом и в одном костюме. Иногда он вёл за собой компанию столь же прилично одетых гостей. Он любил и съедал много мяса – над этим посмеивались в институте и должны были ценить официанты, особенно новые кавказские ребята, сменившие женщин после покупки ресторана азербайджанцами.
За Василием Сергеевичем пришли прямо в институт, на следующий день после приезда его московских приятелей, предупредивших под ресторанный коньячок о принятом Следственным комитетом решении. Поскольку предупреждений за последние полгода было несколько, отставной генерал им не внял, надеясь, видимо, на свои знакомства, – в том числе, с важным чиновником из комитета, должного помнить его по беседе в самолёте на пути из Китая и короткому застолью в микроавтобусе, встречавшем начальника нашего института в аэропорту.
Генерала арестовали за мошенничество. Взяли его вместе с тремя руководителями организованного им для кормления предприятия. Все трое пошли на сделку со следствием и были отпущены под домашний арест. Василий Сергеевич виновным себя не признал и, отказавшись вернуть миллионы, сидел больше года, пока его адвокату после неоднократно отклоняемых ходатайств удалось-таки уговорить отпустить подследственного дожидаться нескорого суда в загородном доме на берегу реки – с браслетом на ноге и обязательством не покидать дом ночью, не посещать институт и не общаться с его сотрудниками.
В вину генералу и его окружению вменялась типичная схема отмывания бюджетных денег: организованное им предприятие выполнило заказанные государством работы «мёртвыми душами» сотрудников института, а причитающиеся за это деньги получил Василий Сергеевич со своей камарильей. Фиктивно оформленных на работу сотрудников института было много, опросить надо было каждого, поэтому следствие затягивалось. Меня опрашивали одним из последних, когда нужные для самосохранения ответы были давно отработаны. «Вас кто-то готовил к опросу?» – «Нет». «Вы работали по такой-то теме?» – «Работал». «Что делали?» – «То-то и то-то». «Где работали? Кому передавали результаты?» – «Там-то. Тому-то». «Сколько заработали?» – «Столько-то». «Деньги получали?» – «Да». «Каким образом получали деньги?» – «С зарплатной карты». «Вы их должны были кому-то отдать?» – «Нет». Опрашивала прикомандированная следственная молодёжь, не удивляющаяся одинаковым, как под копирку, ответам. Ответы вбивались в шаблоны на компьютере. Опрашиваемые расписывались на каждом листе распечатанных показаний и отпускались. Общение со следователем длилось менее часа, было весьма вольным, без цели получить обвиняющие показания, которых, судя по всему, уже было предостаточно. Всё это подтверждало не раз слышимое: попав под каток следственно-судебной машины, вывернуться не получится. Медлительная и неповоротливая, она в любом случае упакует заказанного клиента.
Вникая в суть конфликта Василия Сергеевича с законом, следует признать, что генерал действовал в точном соответствии со своим девизом: «Мне система не нравится, но раз я ей служу и не могу переделать, то вправе играть по её негласным правилам в свою пользу». И не выходил за рамки того, на что раньше государство закрывало глаза: закрыл работу никому не нужными отчётами большого объёма, которые собрали ручные учёные за удвоенную зарплатную пайку, а для разбора фонда оплаты труда огромного размера разбавил исполнителей сотрудниками института. Падение его стало следствием редкого соединения нескольких обстоятельств: отказа освободить своё место, слишком большого проглоченного куска, жалоб обманутых пустой бумагой заказчиков и показной борьбы государства с коррупционерами. Но и попав под уголовное преследование, можно было Василию Сергеевичу обойтись малым, если бы не чрезмерный круг непосвящённых, наличие записей с видеокамер банкоматов, откуда генерал снимал деньги с чужих зарплатных карт, да трусость и жадность его ближнего круга, спасающего себя ценой предательства хозяина.
В общем, окормление генерала с присными приказало долго жить, что нетрудно было предсказать в 14-ом году, но столь разрушительных для самого генерала последствий вряд ли кто ожидал.
С камнем того же года, брошенным в огород Михал Михалыча, я тоже угадал не всё. Учёному начальнику я предрекал удел ненужного, когда «уйдут» генерала. На деле получилось сложнее.
«Жэкатешные» боли и «релюкс», которые ему лечили в санаториях, оказались вестниками опухолей. Он, конечно, собрал информацию о столичных клиниках и врачевателях его болячек и пробился к лучшим хирургам, которые успешно удалили бесполостным методом злокачественные образования вместе с изрядными долями здоровых тканей. Восстанавливался он после операции долго и на работу явился живым трупом, напомнив пришествие изведённого им Александра Петровича: вешалка с одетым будто с чужого плеча костюмом. Естественная волна жалости и прощенья оградила бедолагу от вероятного падения по служебной лестнице. «Берегите Михалыча», – выразил, увольняясь, общий настрой заместитель генерала, передавая болящего следующим за ним начальникам. Михалыча отпустили в свободное плавание, оставив за ним секретарство в учёном совете, и не трогают до сих пор, хотя он оброс мясом, выглядит сносно, стелет мягко и здоровье ставит выше дел. Однажды даже сорвался по старой памяти, явив неистребимую одержимость, но быстро опомнился и предложил мировую – невероятное событие применительно к нему до болезни. В общем, теперь он ограничен в некоторых житейских радостях, включая вкусную еду и банные посиделки, и не опасен по службе. Последнее, между прочим, позволило сложиться взаимовыгодному симбиозу «нового» Михалыча с оставшимися «рабочими лошадками» отдела. Кто-то больше работает головой, кто-то руками, Михалыч – учёными регалиями, связями и бодливой привычкой не пасовать перед бюрократами. И каждый в результате имеет необходимые научные труды, свободное время на более полезные занятия и частичную компенсацию недоплачиваемых науке денег. В части денег, например, мы освоили трёхлетний грант фонда прикладных исследований и готовы получить президентскую стипендию «за выдающиеся достижения», которых нет. И главная заслуга в этом, как ни крути, Михалыча. Почему? Каждый, кто крутится вокруг премий и стипендий, знает, как их получают. Для выбора победителей важны не достижения, разбираться в которых у членов комиссий нет ни времени, ни нужного кругозора, а грамотно составленные представления на кандидатов, подкреплённые личным знакомством или просьбой уважаемого человека. Михалыч тут вне конкуренции: он не стесняется самым естественным и не обидным образом напомнить о себе нужным людям, стартовавшим через наш диссертационный совет к своим руководящим постам.
Ну и хватит про одержимых. Наверное, я бы мог быть доволен тем, что мои предвиденья в их отношении определённым образом воплотились в жизни. Но счастливее от этого – ни тогда, когда предсказывал, ни тем более теперь – не стал. Напротив, больше прежнего щемит грудь от бессмысленного ползания по земле тех, кому наречено было быть лучшими среди нас, и больно за души, разучившиеся летать».
3
Алексеев переложил рассказ Белкина на бумагу и задумался, чем ему отвечать, гоня полнившие голову банальности вроде естественности с простотой: «Простота обычно естественна, а естественное всегда просто. Или наоборот?.. Вот что, голубушки: проваливайте обе и разбирайтесь между собой, а меня увольте».
Он открыл три свои книги и принялся их листать с долей родительской грусти, чувствуя, что книжки удаляются от него, как дети, начавшие жить своей жизнью. Продолжая листать, Алексеев вспомнил почти всё про работу над старыми текстами и некоторое время ощущал себя потерявшим спортивную форму атлетом, гордящимся старыми рекордами. А потом удивление и гордость собой заслонила тревожная мысль: недалёк час, когда память совсем ослабнет, и он не вспомнит, как всё это писал. И засомневается: он ли автор?
Мысль о том, что многие милые мелочи о старых трудах, с определённым усилием вспомненные сегодня, завтра могут оказаться утерянными, и в результате он не будет уверен в собственном родительском праве, – родила неприятное чувство и требовала своего разрешения.
Вот, что ему нужно: зафиксировать то, что вспомнит. Это будет не самый худший ответ Белкину и самому себе, – понял Алексеев и сразу почувствовал, что тревога отпускает его.
Рассказ Алексеева
«Творчество Белкина произвело на меня столь сильное впечатление, что когда он отказался тянуть лямку сочинительства дальше, я решил впрячься вместо него.
Пробой пера стал «Чечен», к которому на пойманной эйфории творчества прибавились опыт творческого «манифеста» и повесть поздней любви, приземлившие некоторые мои фантазии на заданную тему. Получились три «светлые истории»: «Чечен», «Мы есть», «Чаяно, нечаянно», – которые попробовали раскрыть, говоря высоким стилем, тему «любви в самом широком понимании, когда ожидание, вера, надежда и чувство к милому другу» ведут к миру и совершенству, а не к войне и упадку нравственности.
«Чечен» родился откликом на Киевский бунт и войну на Донбассе, понятых русскими людьми как новое наступление запада на восток. Причины нападения казались особенно понятными с позиций теории искусственного отбора мозга, а так как складывающиеся обстоятельства традиционно оказывались против нашей страны, подразумевая неизбежность затухания весенней волны открытого русского сопротивления, то требовалось поучаствовать в организации полупартизанской борьбы за нашу жизнь и любовь.
На роль проводника этой борьбы в задуманной повести лучше всего подходила девушка с крепким нравственным стержнем – такая отыскалась в закромах памяти. А тех, за кого предстояло бороться, – дети погибших в кавказской войне чеченских милиционеров, с которыми волей случая получилось однажды соседствовать на астраханской базе отдыха.
База отдыха стояла на берегу, когда-то занятом летними загородными лагерями – этими ежегодно доступными местами оздоровления детишек рабочих и служащих, оставившими след в душе каждого советского ребёнка. Меня в них отправляли со 2-го по 6-й класс – до тех пор, пока вместе с доброй половиной ребят лагерной смены я не оздоровился до дизентерии и месячного карантина в областной инфекционной больнице.
Но последний мой пионерский лагерь начала 1970-х годов запомнился не только диареей. После тихого часа в тенистой беседке между щитовыми домиками нашего и соседнего старшего отряда устраивались посиделки, на которые было трудно пробиться. Воспитательница старшего отряда —очкастая студентка пединститута, устроив с помощью бумажных гирлянд под потолком и дыма от свечки некую ауру тайны, пересказывала мальчишкам и девчонкам, которые чуть не смотрели ей в рот, хорошую фантастику, за которой тогда мы безуспешно охотились в библиотеках и книжных магазинах. В беседку было не протолкнуться, постоять с краешка и послушать рассказчицу мне удалось только два раза. При мне она пересказывала «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова и его же «Час быка», переиначив обе эти книжки в единое повествование о будущем и сумев заинтриговать мальчишечье сердце. Так что списывать для «Чечена» воспитательницу Марину было с кого. Отражая авторское неприятие нынешнего времени, образ Марины потребовалось приукрасить. Мама, всю жизнь проработавшая воспитательницей в садике, отметила, что таких идеальных девушек, какой получилась Марина, сегодня встретить трудно. Мама есть мама – мой замысел она раскрыла точно.
Что до ребят-чеченцев, то они находились под постоянной охраной двух бородачей, затворничали на выделенном им этаже и не понятно, чем занимались. Воспитательницы им явно не хватало, как показала живая детская реакция на устроенном для них студенческом концерте. Концерт и его озорная ведущая с негритянской внешностью, перебравшаяся вскоре на один из столичных телеканалов, естественным манером перекочевали в мою повесть.
К месту в «Чечене» пришлись и яркие наблюдения – те самые точные связующие мелочи, важные, по Белкину, для работы воображения.
Это и десятки потревоженных гадюк, прыгающих в воду с высокого берега на одной из проток волжской дельты, где в детстве я ловил воблу и куда добрался на своей первой машине вспомнить рыбацкую удачу. Моя пугливая спутница змеиных прыжков не видела. Ей хватило вильнувшей ящерки, чтобы согласиться с тем, что здесь не клюёт, и лучше нам поехать обратно.
И поле цветущей верблюжьей колючки перед прибрежной рощицей вязов – сотни плотных стеблей с большими розово-красными мохнатыми шариками, а над ними тучи больших стрекоз и слышимый сухой треск их прозрачных крыльев.
Стрекоз над верблюжьей колючкой я увидел в поездке на другую протоку, между Ахтубой и Волгой, куда теперь без денег не пустят шлагбаумы, заборы и сторожа ушлых хозяев всевозможных рыбацких баз и домов отдыха. Там мы ловили судаков: с высокого берега на леску с грузилом и резинку – после будящей кровь борьбы с попавшей на крючок рыбой перед вечерней зорькой, и с песчаного мелководья на далеко заброшенные удочки со сторожками – ночью, без сопротивления вытягивая безвольно заснувшие на крючке тушки.
Для полного писательского удовлетворения оставалось оживить героя придуманного Мариной рассказа и полюбившего её чеченского мальчишки. Первому пригодились мои туристические впечатления о походах в советское время через Кавказские горы из Карачаево-Черкесии в Абхазию, второму – выложенные в блогосфере рассказы нового чеченского лидера о своих родителях, детстве и отношениях внутри рода.
Последовавшую за «Чеченом» повесть «Мы есть» я интуитивно обозвал манифестом, не зная поначалу точно: манифестом кого? Собирательное «мы» стало образом, нащупываемым в тумане скучной обыденности. В опубликованных письмах академика Колмогорова, который был намечен заочным героем манифеста, я нашёл и вставил эпиграфом согласное с моим представлением видение: «человечество всегда мне представлялось в виде множества блуждающих в тумане огоньков, которые лишь смутно чувствуют сияние, рассеиваемое всеми другими. Но они связаны сетью ясных огненных нитей, каждый в одном, двух, трех… направлениях».
Фактическим содержанием манифеста стал процесс взросления умов Игната Прянишникова и его талантливых одноклассников по школе-интернату, «белорусов и ребят из ближних к столице областей. Много было тамбовских – Игнат связал это с тем, что уроженцем Тамбова был Колмогоров, придумавший эти интернаты для одаренных детей».
Провинциалы, отобранные для столичного употребления, представляли собой замечательный предмет художественного анализа процессов ускоренного отбора мозга. С рождения отличающиеся от большинства, формирующие сознание в столкновении с инстинктивно-гормональными принципами поведения, некоторые из них вырастают в странных людей, вынужденных скрывать свою мыслительную активность, которая направлена на решение отсроченных рассудочных задач. Один из них – Прянишников, который «понял и удивился людям, с которыми общался, и которых видел со стороны, и о которых только слышал – и уже всю жизнь потом мог не только догадываться, но и знать о существовании в людском многообразии таких же, как он, и много лучших него, и настолько лучших, что дух захватывало от одной мысли, что они есть».
По сути, «Мы есть» утверждает неизбывность «рассудочного меньшинства», которое интерпретаторы результатов искусственного отбора мозга полагают носителем принципов социальной эволюции, «принудительно отдаляющих человечество от его обезьяньего прошлого».
Для думающего Прянишникова попытка понять, хорошо ли он жил, неразделима с греющими душу ответами на некоторые вечные русские вопросы.
На один из них, о «чумазых», ответил Колмогоров, которого Игнат узнал в недобром уже здравии и не важным лектором.
«Ответ на этот вопрос был ответственным, поэтому умные люди от него обычно уклонялись, предпочитая послушать, что по этому поводу скажут другие умники. Чехов, например, уклонился, зато Михалков решил за него договорить». «Чумазый не может! Я же говорил!» – с той побеждающей интонацией барина, роль которого так удается мастеру, и с искренней радостью от того, что он, как всегда, оказался прав, ответил Михалков и за своего героя, и за себя. «Чумазый может!» – возразил своим подвижничеством Колмогоров».
На другой вопрос, о русских евреях, Прянишников ответил сам.
«То, что среди самых выдающихся математиков оказались евреи Арнольд и Синай, и на всех остальных математических уровнях среди учеников Колмогорова было непропорционально много евреев, а отпрыски „чумазых“ семей из глубинки, воспитанные в интернате и на том же математическом факультете, в массе своей оставались на вторых математических ролях – никак не отменяло вывода Прянишникова. Он видел многих, стремившихся не быть, а стать, и давно понял, что для лучшего результата важно не упустить нужный момент развития. По своевременности приобщения к наукам „чумазые“ были евреям не конкуренты и поначалу заведомо отставали, но как быстро догоняли и обгоняли лидеров и какую конкуренцию смогли им составить! И поднялись бы Арнольд или Синай на свою высоту без этой конкуренции? Прянишникову довелось повариться в мехматовской смеси из натасканных к поступлению в вузы выпускников интерната, больше половины которых были из „чумазых“, а евреев не было ни одного, и москвичей из сильных школ и математических классов, больше половины которых была евреями, а из „чумазых“ – никого, довелось учиться у разных учителей и посмотреть на университетских преподавателей разной национальности – и вот, до чего он дошел в собственном исследовании национального вопроса. Среди евреев было много неудачников – значит, только своевременного воспитания и образования мало. Успеха добивались те их них, кто искренно хотел сделать, а не имитировать дело. А еще не мешал делать свое дело не одноплеменнику. Поэтому если в чужой Игнату среде было поначалу хотение другого рода, оно или вело к неуспеху или преобразовывалось в искреннее намерение состояться. И самые успешные евреи многое в себе преодолевали, чтобы подняться – национальные условности, в том числе. Прянишников признал точное название феномена, которое объяснило его уважение к тем, кто состоялся, – русские евреи. Не вынося свои мысли на обсуждение и не боясь поэтому укоров в высокопарности, он говорил себе, как чувствовал: в них был русский дух».
В юном Игнате сидели беспокойными занозами и мучили ожидание любви и желание дружить. Но их Прянишников выводил не из желания владеть другим человеком, а из раскрытия творческих способностей.
«Дружбу и творческий импульс Прянишников связал, прочитав воспоминания о Колмогорове. Он и раньше слышал о необычной дружбе А.Н.Колмогорова и П.С.Александрова, бывших вместе до смерти. Состоявшаяся дружба как творческий толчок – это было понятно Прянишникову. Он бы не стал спорить с тем, что несостоявшаяся дружба и несостоявшаяся любовь тоже может быть сильной встряской и дать импульс к творчеству. Но эту возможность смело отдавал западу – все то, что было вопреки, ему никогда не нравилось».
Мифам о дружбе академиков, подразумевающей владение и физическое обладание, Прянишников не верил. С их авторами ему не договориться. Воспитанники западной культуры, на чувства они смотрят сквозь призму права собственности, – сами мастера маскировки под гуманистов и верят тому, что маскируются все.
К человечности – утверждает Прянишников – ведут две заповеди: не бояться, если страх угнетает волю, и не обращать других в господ. Те, кто этим руководствуется, «освещают общий путь, показывая его каждому народу и каждому человеку, глаза которых видят».
«Озноб пробежал по телу Прянишникова, когда он подумал, что бог ему дал и глаза, видящие в тумане, и душу, различающие огоньки. И если нет у него сил говорить в полный голос, то их достаточно, чтобы присоединиться к праведникам и силой своих дум усилить сказанное ими. Перед ним вырисовалась лесенка ступенек дружбы, братства, любви к близким, любви к дальним, любви ко всем людям, достойным любви; она вела прямо к сияющим вершинам, и то, что не каждую ступеньку этой сложной лесенки удалось Прянишникову пройти достойно, не отменяло для него возможности прийти к свету».
Почти параллельно с манифестом сочинялась «чаяно нечаянная» любовная история женщины и мужчины с похоже устроенными мозгами.
Ирина и Дима Третьяков работают вместе, на многое в жизни смотрят одинаково. Когда-то между ними был вероятен, но не состоялся служебный роман. Она замужем, он женат. Женились они по любви и любят свои половинки. Но… Им трудно в мире, где деньги стали значить чрезмерно много. Не легче их супругам и выросшим детям, отчего в семьях не всё хорошо.
Год назад Ирине исполнилось сорок пять, она решила, что пошел обратный отсчет лет, и ей теперь ничего не надо. Третьяков же тосковал от того, что ему нечего предъявить в качестве итогов повернувшей к закату жизни. И даже поговорить, думая вслух и надеясь на понимание, не с кем, если не считать Ирины.
Стечение обстоятельств, всегда готовый обмануть самую разумную голову «чёртов» голос инстинктов и нежданно подступившая к обоим страсть довели-таки моих героев до роковой близости, подобной украденной, которая порушила их дружбу и разлучила родственные души.
«Поздняя любовь» поначалу показалась мне самым точным названием этой повести, от которого позже пришлось отказаться как от занятого другими сочинениями с иной смысловой направленностью. Поздним «любовям» отдали дань и классики, и графоманы, но ни у кого из них, даже сумевших достоверно обыграть двойственность нашего сознания и поведения, я не нашёл того осмысленного переворота греховной слабости к человечности, который попытался вложить в душу своей героини.
«К ней вернулись пойманные вчера настроение безмятежности и медленное время, в которых она четко увидела, как люди убивают любовь и несут в мир ненависть, мучая свою душу и души своих близких. Она с ужасом видела, что тоже участвовала в этом процессе массового помешательства, когда опутывала Антона паутиной долга, а в минуты собственной слабости проклинала его и даже желала ему смерти; когда ненавидела людей, оказавшихся рядом и нелюбящих ее, считая причиной своих душевных болей не себя, а их. Она видела, как любовь уходит, когда люди стараются запастись ею впрок. Как в огороженных для нее, чтобы не улетела, клетках, появляется ненависть и приводит с собой зло, которое начинает разъедать душу. Любовь – вольная птица. Прилетает свыше. Дается всем и не принадлежит никому. Ее можно прогнать или убить, как и все живое, и тогда жизнь станет мукой, потому что петь о радости будет некому. С высоты медленного времени Ирине показалось, что она способна побороться за любовь и многое исправить. В себе она уже не сомневалась, она думала о других, веря, что ее любви хватит на всех».
«Луна двигалась по черному небу слева направо, спускаясь и меняя цвет отраженного света с белого на желтоватый. Ирине казалось, что луна знает, как дрожит её сердце от неизъяснимой любви ко всем людям и ко всему миру, в который перешла её любовь к милому и странному Третьякову. Пусть её любовь несовершенна, пусть люди не замечают её, но она есть, она такая, на какую Ира способна, без обмана».
На эту повесть я получил первые отзывы. Два их них были от графоманствующих писательниц, моих ровесниц, пытающихся испытать то ли на деле, то ли в бреду фантазий самые смелые плотские удовольствия. Рассудочный смысл описанного мной им был безразличен, важной представлялась исключительно биологическая составляющая. Особенно меня разозлила одна дама, посчитавшая подспудные призывы становиться человеками ловким прикрытием радостей страсти, пробуждающих вожделение. Похвалившись собственным романом, которым «зачитываются все» её родственники и друзья, она попросила за деньги помочь ей «переписать моменты истинной близости тем лаконичным стилем, который Вам повезло найти в своей повести».
Тогда же, благодаря моим восторженным читательницам, я задумался над вопросами с подразумевающимися и тяжёлыми для души ответами: о возможности договориться с людьми, недалеко ушедших от нашей обезьяньей природы, о причинах и следствиях их видимого размножения и доминирования в обществе и о разных других, не менее грустных предметах.
За «нас», существование которых я утверждал предыдущей повестью, отвечать было особенно муторно. Либо «мы» исчезающе малы относительно большинства, либо ничтожны наши возможности поисков, либо и возможности малы, и самих нас столь мало, что окликнуть родственную к сопереживанию и человеколюбию душу сравнимо с вероятностью найти инопланетный разум во вселенной.
Жаль, если мои наблюдения и находки, которыми я так старательно опутал своих героев, останутся лишь информационным отчётом перед надмирным наблюдателем, о котором говорил Белкин, да развлечением мне на старости.
Впрочем, интересно представить, как это через сколько-то лет я открою свои книжки и буду удивляться со слезой на глазу увиденному и запечатлённому когда-то.
Ирина напомнит мне про пляжный береговой склон, «по верху которого располагались ряд железных навесов-грибочков с синими, желтыми, зелеными и красными крышами, выложенная красной плиткой пешеходная дорожка и аллея могучих обрезанных тополей», – и про обманно неспешную летнюю грозу. Её глазами я увижу тревожные облака, плотно наплывающие на пляж с потемневшего на западе небосвода, и проникнусь её размышлениями на их счёт и не только.
«Слушая разум, как она делала всегда, следовало испугаться надвигающейся грозы и поспешить домой, но беспечность расположившихся у воды немногочисленных купальщиков, и все еще пробивающееся из-за облаков солнышко уговорили Ирину искупаться. Мягкая и тёплая вода приняла её ласково и долго не отпускала. Когда она вышла на берег, на минутку выглянуло хитрое солнышко и так мило пригрело, что совсем расхотелось уходить. Ирина попросила грозу подождать и улеглась позагорать, подставив солнцу и облакам ноги с упругими икрами и белыми стареющими бёдрами, длинные руки, узкие плечи, плоский бледный живот и тонкую шею с морщинами, выдающими возраст худеньких женщин. Закрыв глаза, она плыла по волнам безмятежности, радуясь игре радужных зайчиков, возвещающей о проглядывавшем солнце, и грустя, когда они пропадали. Когда она совсем загрустила, глаза открылись, и перед ними оказалось затянутое тучами небо. Ирина села, огляделась вокруг. На опустевшем берегу осталась загорелая дама с двумя внучками, из которых старшая, лет десяти, недовольно кривила губы, и две девчонки в белых трусах и темных футболках на голое тело, азартно толкающиеся в воде у берега. Потянул, и всё свежее, ветерок. Переодевшись, Ирина заняла один из грибков. Под соседним молодящаяся бабушка переодевала младшую внучку. Старшая стояла рядом, надувшись. Подростки внизу продолжали баловаться. Одинакового роста, коротко стриженые. Одна плотная, с оформившейся грудью, другая – худая и безгрудая, какой в её возрасте была Ирина. Дождь начался неожиданно и быстро перешел в косой ливень, от которого крыша грибка не спасала. По спине побежал ручеёк, и женщина забралась на лавочку с ногами, просунув голову между поперечинами из металлических уголков, скрепляющих основание крыши. На своеобразном „чердаке“ была паутина в углах и ничего интересного. Ирина выбралась на волю, где гроза разворачивалась во всем великолепии. В черном небе сверкали молнии, реку избивали сильные дождевые струи, ветер делился на несколько меняющихся направлений и гонял дырявую поверхность воды, как хотел, разукрашивая её светлыми и темными кружевами, разбегающимися от берега до берега и во все стороны. Загорелая бабушка переодевалась, стоя босыми ногами на мокром песке. Внучки кутались в покрывало и полотенце. Губастая позабыла капризы, во все глаза глядела на грозу. Напрыгавшиеся под дождём пацанки прибежали под свободный грибок, заскочили грязными ногами на лавку, одели шорты и юбку на мокрые трусы, сжались и дрожали. Ирина не могла на них смотреть, думая, что скоро её зубы застучат от холода не слабее девчоночьих. Когда на горизонте появилась спасительная синева, скрючившиеся под зонтиками люди мысленно принялись подгонять чёрные тучи, которые, казалось, не слушались ветра и уходили невозможно медленно, да ещё вдруг меняли направление и чуть не возвращались обратно. Как их ни уговаривали, верных десять минут ещё тучи ходили над головой, дождь заряжал с новой силой, далёкое прояснение оставалась далёким. Гроза заканчивалась неспешно, как начиналась. И также неожиданно закончилась. Как только последние большие дождевые капли разбились о землю, полнеба сразу стало синим, жаркое солнце принялось согревать всё вокруг, и через пару минут стало тепло, хоть снова плыви. Мокрые девчонки так и сделали, погнав друг друга в воду и визжа от избытка чувств. Река покрылась плавными гребешками, набегающими стройными рядами на песок. Солнечные блики от волн сложились в большое мерцающее светом пятно, вытянувшееся от середины реки почти до играющих девчонок у берега. Такое бликующее пятно Ирина видела в детстве и всегда пыталась забежать по нему в воду как можно дальше, разгоняясь на берегу изо всех сил…»
Ириному дружку тоже будет, что мне напомнить: о наших с женой поездках по лесам, речкам и родникам, за ягодами-грибами и просто так, отдохнуть от города.
Третьяков увезёт меня вместе с Ириной жарким летом из города, чтобы поплавать в лесном карьере и показать любимые роднички.
На спокойном шоссе с плавными поворотами мы будем смотреть на ленту асфальта перед собой, на тёмные еловые леса и березовые заросли по обочинам, слушать ровный шум двигателя и шуршание шин. Шоссе выведет нас на поле и к богатой деревне с коттеджами вдоль узкой извилистой реки. Проехав мост, мы поднимемся на сосновый пригорок и свернём на грунтовую аллею, пересекающую поля. Затем дорога заведёт в перелесок, пересечёт ручей и поднимется по косогору на широкое поле, за которым откроется расположенная у запруженного ручья деревня в одну улицу, только несколько домов в которой кричаще кичатся размерами и этажами. А впереди, за березовым подлеском, позовёт к себе светлый сосновый лес с покачивающимися на ветру красно-жёлтыми стволами деревьев.
Дорога в лесу пойдет длинными слегка укачивающими волнами. Дима расскажет нам, куда ведут отвороты налево и направо, про проданные частникам пионерские лагеря, про сколоченные из досок городки играющих в историю реконструкторов, про забор вокруг одинокого коттеджа на берегу лесной реки, про грибы и ягоды, которые здесь собирают. Мы будем ехать и ехать по этому лесу и этим волнам, несущим безмятежный покой и радость жизни, и согласно кивнём на Димин вопрос: «Правда ведь, лес лечит?»
Мы проедем отворот на родник, отворот к речным лугам со сладкой клубникой-белобочкой, отворот к деревне, отворот на древнее лесное кладбище, выедем на гравийную дорогу, с неё на асфальт, переедем речку по мосту и станем возвращаться другим берегом и просёлком, с одной стороны которого будет лес, а с другой, внизу, речка. Обратный путь более прямой, короткий и менее живописный. Все отвороты будут к реке, к машинам на берегу и вьющимся кое-где дымкам из мангалов. Дима, перекупавшийся во всех близлежащих речках и озерах, объехавший на велосипеде все пригородные рощи, а на машине забиравшийся в такие дебри, что даже со своей осторожной ездой на отечественном внедорожнике два раза ходил искать трактор, – скажет, что речка, вдоль которой мы едем, красива лесами и лугами, а купаться в ней летом скучно – воды по колено.
Проехав уже знакомую деревню с коттеджами, мы свернём к недалекой сосновой роще, за которой окажется песчаный карьер размером не больше двухсот метров, с двумя заводями, заросшими камышом, и высоким обрывистым берегом со стороны рощи. Обогнув высокий берег с редкими соснами, между которыми будут тесниться машины и виться дымки, доносящие запах сгоревшего мяса, мы проедем к противоположным нижнему берегу, заросшему кустами. За кустами будет большой песочный пляж, на котором всегда найдётся никем не занятое место.
На отмелях на середине небольшого и неглубокого озера две девчонки будут бесстыже целоваться, обняв руками и ногами похожих друг на друга бритых мужиков, а у пляжа шумная компания разгорячённых пивом великовозрастных детей – драться понарошку за надувной матрас. Ирина поплавает у берега в сторонке, выглядывая, как солнце присаживается на макушки сосен, а высокий берег отбрасывает тень на воду, в которой сначала потеряется и из которой выплывет вместе с утками её кавалер.
На большом покрывале, разложенном у самой воды, мы увидим двух женщин, маленькую мохнатую собачку и больного на голову мальчика лет восемнадцати с вывернутой правой рукой. Раз в минуту он будет громко называть себя резким лающим голосом: «Паша видит!», «Паше жарко!», «Паша купаться!» – и протягивать маме маску с трубкой. Ирина ровесница, с хорошей фигурой, приятным лицом и мягким взглядом, она будет ласково поглаживать сына, тихо уговаривая его, почти напевая, и смотреть в одну далёкую точку за озеро. Молча сидящая на покрывале молодка отвернётся от них, показав нам пустые глаза и вывернутую, как у мальчика, правую руку. Вслед за ней и собачка, терпеливо лежащая на покрывале с вытянутыми передними лапками, повернёт в нашу сторону мордашку с умными преданными глазками, словно просящими ничему не удивляться и принимать всё таким, как оно есть.
На следующий день мы поедем на источники.
Первый из них, самый простой и близкий, – в овраге, в сосновом лесу, который мы проезжали накануне. Вода вытекает из-под корней многовековых сосен, держащих края ямы. Тонкие ручейки бегут с разных сторон по её дну, собираясь у небольшой каменной запруды, из которой по желобу водичка выливается водопадом на ровную площадку, устроенную для питья и набора воды в посуду, и утекает вниз по заросшей травой и крапивой земле в сторону речки. Вода хороша на вкус, ломит зубы. Овраг метров двадцати шириной, глубиной в три-четыре человеческих роста. На дно ведёт тропинка со ступеньками, образованными корнями деревьев. Из обязательных святынь здесь крест с крышей домиком, вкопанный между двух ручейков в тени самой древней сосны. Сосны-хранительницы снизу, из оврага, кажутся сказочными великанами, достающими до неба. Заросшая травой темная часть оврага с крестом тоже как из сказки. Склоны оврага, ручейки, солнечные лучики, пробивающиеся сквозь кроны деревьев, трава, тропинка, поднимающаяся в сухой теплый лес, – завораживающая панорама словно замедляет время. Полная идиллия сопричастия и проникновения в еле слышное гулкое волнение леса, – если бы не настырные комары над водой.
Ориентир для поворота к второму источнику – деревня с трёхглавой белой церковью и пристроенной колокольней, синяя глава которой из луковицы в нижней части переходит в устремленную в небо пирамиду в верхней. Наезженный проселок ведёт мимо деревни в тёмный еловый лес. В лесу утоптанная многими ногами влажная дорожка, вдоль которой как часовые стоят высоченные необхватные ели. Перед спуском к источнику, на широкой полянке, закрытой деревьями от солнечного света, стоят резные беседки с лавками и дубовым столом. На орешнике и берёзе за ними сотни разноцветных тряпочек, привязанных суеверными людьми, а чуть дальше капитальная деревянная лестница с удобными перилами и широкими ступеньками ведёт вниз, к бревенчатому домику с купальней. Над входом в домик висит иконка, внутри, над чашей с водой – ещё одна. На полочке под иконкой потухшая свечка и несколько кривых огарков.
От второго источника до третьего полчаса езды через райцентр, железнодорожный переезд, красивый мост через красивую узкую Волгу с непривычно высокими зелёными берегами и белыми валунами у воды и в воде. Путь с многими поворотами, надёжно сбивающими ориентацию по сторонам света. Обжитой, с несколькими постройками источник располагается не в лесу, а в речной низине между полей. Вокруг спускающегося к речке луга с подстриженной травой и разбитыми цветочными клумбами, между купальнями, часовнями, молельным домиком, мостиком через речку и полянкой для пикника с мангалами и крытыми верандами проложены дорожки и деревянные мостки над болотистыми местами. По дорожкам и мосткам парами и группами ходят люди. Сверху в луг уткнулись десяток легковушек и два заказных автобуса. Перед часовней две предприимчивые женщины в белых платках собирают пожертвования на строительство храма и заодно торгуют пятилитровыми пластиковыми бутылками – пустыми и наполненными освящённой водой из родника, все по одной цене и дороже, чем в магазине. Одинокая бедная берёзка на задах часовни как разукрашенная ёлка – в ленточках и тряпочках, шевелящихся на ветру. Купальни для мужчин и женщин отдельно. От сараев их отличают небольшие окошки по обе стороны от двойной двери, открывающейся половинками налево и направо. За купальнями мостки к роднику в сторону большой часовни и, далее, к роднику у реки, который скрыт в домике с тремя оконными проёмами без стекол. Через мостик, за заболоченной и закрытой кустами лозняка шустрой речушкой, возле малой почерневшей часовни, самый дальний родничок. Две худосочные берёзки перед мостиком и за ним повязаны разноцветными тряпочками не с ног до головы, а только там, где доставала рука.
Накатавшись по родникам, мы вернёмся готовить шашлыки в близкий к городу светлый сосновый лес. Повернув от одиноко затаившегося в лесу коттеджа, мы выедем на высокий речной берег с песчаным обрывом. На берегу сухо, редко растут корабельные сосны, рассмотреть макушки которых можно, только задрав голову. Сосны покачиваются от верхового ветра, и это качание чувствуется спиной, если встать на краю обрыва. Там замирает дух от высоты, и нужно удерживать себя от желания побежать-покатиться по отвесному песчаному склону, врезающемуся в реку. На сухих полянках с бодрым вереском и грустными черничными и брусничными кустиками, ягоды на которых горят от жары, и ниже по течению, в скрытой высоким берегом от ветра зелёной низине, – места для палаток, вкопанные в землю бревенчатые столы и лавки около чёрных кострищ. Ветер и возможное соседство других шашлычников заставят нас проехать в другое, более интимное место.
Вернувшись к коттеджу, проехав ручей за ним и не доехав до оврага с родником, мы свернём в сосновое редколесье и окажемся на редко посещаемой поляне на высоком берегу. Там мы устроим костёр, а когда огонь развалит выстроенный в мангале домик, языки пламени перестанут взлетать вверх, и надо будет дать время на обугливание поленьев, прогуляемся по тропе, идущей над старицей. За ней, за заросшим крапивой и кривыми низкорослыми деревьями берегом будет призывно шуметь невидная речка. Мы спустимся к старице, перейдём её по бобровой плотине, осторожно, чтобы не обжечься, минуем заросли крапивы, пройдём лозняк, тальник и выйдем к ивам, берёзам, осинкам, одинокой яблоне, усыпанной зелёными плодами, и намытому быстрой речушкой узкой песчаной косе. С нашего низкого берега, укрытого кустами и деревьями, высокий противоположный, с красным сосновым лесом на утёсе и шикарным песочным обрывом, – будет как на ладони. Река тут делает резкий поворот, и если решить, что в кустах напротив нет подглядывающих глаз, случайно оказавшейся под обрывом беззаботной парочке легко представить себя здесь Адамом и Евой в раю. В один из жарких майских деньков я там видел таких счастливчиков. Молодая женщина, шумно поплескавшись в холодной воде, неспешно выходила на берег к своему мужчине, который терпеливо ждал её с полотенцем. Голая женщина, её кавалер в семейных трусах, белые тела с капельками воды в солнечном свете, смех и голоса, радость жизни, видная на расстоянии любовь одних на целом свете людей, – они несли в наш мир настолько сильную и интимную красоту, что понимать его созданным не для жизни в радости и любви было невозможно».
4
Наново пересказав некоторые идеи из первой книжки сочинений, под стук сердца, разгорячённого воспоминаниями и взглядом в будущее, Алексеев увидел в своих текстах три смысловых ряда.
Первый из них, отталкивавшийся от философии гуманизма и призывов становиться человеками, потерял для него былую привлекательность, оказавшись перепевом истин, к которым никогда не хотели и не хотят прислушиваться люди. Фон его собственных жизненных неурядиц и свершений если и помогал организовать новую аранжировку старой песни, не делал её лучше других, известных и безвестных, появляющихся и растворяющихся в водовороте времени.
Вторые смыслы порождали психологические перипетии жизненных устремлений его героев с их изначальными внутренними конфликтами, усиленные агрессивным внешним давлением сбивающего с толку информационного мусора. То, что Алексеев, в отличие от расплодившихся ремесленников от литературы, вкладывал в героев пережитое и прочувствованное навзрыд, не сильно отдаляло его от ремесла, поскольку его личное снова оказывалось лишь аранжировкой изъезженных вдоль и поперёк сюжетных линий и ходов, все из которых давно известны и отражены с любой степенью психологической достоверности. Как бы ему ни нравились, как бы ни любил он своих героев, с большой вероятностью он любил в них себя.
Изюминкой, которой Алексеев мог гордиться, получался третий смысловой ряд, растворённый в наблюдениях за живой природой, – то, что он оформлял текстом проще и быстрее всего, без особого усердия, и полагал теми пустяками, которые Белкин называл отступлениями от темы, помогающими связать разбегающиеся мысли повествователя. Белкину они нужны были для соединения вымученных подсказок при выборе прямого жизненного пути. Но не только. Илья Ильич, слушая своё взволнованное наблюдениями сердце, признавал существование надмирного наблюдателя, способного за верно подсмотренные Белкиным будто бы пустяки наполнить сердце восторгом и творческим удовлетворением. Если поверить Белкину, – а не верить своему альтер эго у Алексеева оснований не было, – все эти мелочи, детали и пустяки, ничего не стоящие отдельно друг от друга, сами по себе, – образовывали вместе скрытый смысловой ряд обострённой ранимости чувств, беззащитной открытости, душевной боли, прикосновений к тайне жизни и смерти, который наилучшим образом раскрывал неброскую красоту и манящий свет жизни.
Переводя сказанное на научный язык, от которого нашему герою трудно было отделаться, первый ряд ставил его литературные изыскания на обоснованные классические постулаты, второй давал достоверные литературные результаты, а третий привносил элементы новизны, определяющие ценность любого творчества.
То есть затея переворошить тот творческий мусор, из которого появлялись волнующие Алексеевское сердце изюминки, получалась не пустой и потенциально полезной. Больше того, если ему интересно припомнить как можно больше исходных для его сочинений деталей в их естественной простоте, то на этом и стоит сосредоточиться, не заморачиваясь морализаторством и переосмыслением общих «гениальных» идей, которые скорее затушат, чем поддержат огонёк сочинительства.
Алексеев про «Херувима»
«Работа над первой книжкой помогла мне определиться с собственными литературными возможностями. Как рыба в воде я чувствовал себя в рамках повести. Причём проба разных сюжетных линий: игровой, романтической, лирической, деловой и даже без формального сюжета, – показала, что они никак не ограничивают моей возможности самовыражения, в отличие от неправильно выстроенной композиции произведения.
На жанр следующей книжки повлияла мода на романы. Понимая, что родить классический роман было сверх моих возможностей, я постарался сочинить «почти роман» в виде ряда согласных между собой повестей. «Повести Ильи Ильича» были для меня в этом смысле примером, который можно было развить, повысив градус приближения к роману за счёт введения дополнительного уровня соединения частей, помимо общих темы, идей и смыслов. Эстафетная связь героев разных повестей представлялась при этом самым простым композиционным решением.
То есть мне были нужны три-четыре взаимосвязанных повести с эффектом присутствия в каждой из них общих героев, по очереди из повести в повесть передающих друг другу эстафетную палочку главной роли.
Правдивость повествованиям должна была обеспечить хорошо мной освоенная позиция подведения персонажами жизненных итогов. Вдохнуть не воображаемую, а реальную жизнь предстояло по образу и подобию людей мне интересных, которых я хорошо знал и наблюдал в разных обстоятельствах и возрастах. Среди моих знакомств требовалось выбрать длительные, с вероятным знанием подспудного: жизненных целей, устремлений, возможных и выбранных путей их достижения, – без чего психологические портреты героев, да и всё повествование о них повисало в воздухе, готовое раствориться в фальшивой или, как принято ныне говорить, виртуальной реальности.
Из таких друзей-приятелей, после многих уже отданных Белкину и «Светлым историям», вырисовывались три персоны: условные Рылов, Канцев и Дивин. Каждый из них довольно просто списывался из жизни с нужными мне прибавлениями некоторых характерных черт и мыслительных акцентов. Чтобы не путаться в условных и реальных именах при переходах туда-обратно, пришлось воспользоваться удобной белкинской придумкой: в реальных фамилиях изменить или убрать один слог, а имя-отчество поменять местами. Отсчёт повествования следовало вести со знакомства моей троицы, отнесённое на советское время, которое простейшим образом организовывалось заселением в одну комнату общежития молодых специалистов, прибывших по распределению на предприятие оборонной промышленности.
Пока я всё это мысленно прикидывал, подбирая, с кого начать, как буду продолжать и чем завершу, память и некоторые случайности подкидывали мне подсказки в виде огрызков смыслов, сорных словосочетаний и большого количества библейских образов.
«Херувим у сада Едемского». «Иже Херувимы». «Яко да Царя всех подымем». «Бог сидит на херувиме и наблюдает, что творится в Его мире. А херувимы не имеют определённой формы, являясь то мужчинами, то женщинами, то духами и ангелами. Лицо херувима – отроческое».
«Во глубине небес необозримой» представлялись тьмы волнующихся ангелов, летающих серафимов, музицирующих херувимов и безмолвствующих архангелов.
Там же были «огнегривый лев, синий вол, исполненный очей, и золотой орёл небесный» из песни. И обрывок церковного толкования: «Серафим, котораго видел Пророк Иезекииль, есть образ верных душ, кои подвизаются достигнуть совершенства. Имел он шесть крыльев, преисполненных очами; имел также четыре лица, смотрящих на четыре стороны: одно лицо подобно лицу человека, другое – лицу тельца, третье – лицу льва, четвёртое – лицу орла». Лицо человеческое означает верных, подобный тельцу несёт тяжёлые труды и совершает подвиги телесные, льву – кто «исходит в уединение и вступает в борьбу с невидимыми демонами». «Когда же победит он невидимых врагов и возобладает над страстьми и подчинит их себе, … уподобится лицу орла».
В общем, из этого мусорного безобразия родилось название «почти романного» произведения – «Херувим четырёхликий» – и его построение лесенкой из четырёх повестей-ликов: вопрошающего, бунтующего, зовущего и смиренного. Первый лик – Рылов. Из выбранной тройки героев он был наиболее приспособлен к жизни по правилам и с ограничениями и лучше всех подходил для пролога и роли общего знакомого и передаточного звена. На ступеньку выше него заступил бунтарь Канцев, особенно расположивший меня своими трудами, согласием слов и дел, искренним стремлением не отставать от убыстряющегося времени, мужественным преодолением сваливающихся на него несчастий – и неожиданно быстрым уходом, подгрузившим сердцу непреходящей жалости. На третьей ступеньке оказался старый и близкий приятель, о котором я многое знал и ведал и которому намеревался вложить главные свои мысли и терзания, дабы довести с его помощью действие до кульминации. Претендента на верхнюю ступеньку и эпилог у меня не было. На продиктованный интуицией смиренный лик лучшего всего подходила женщина, но откуда было взять нужную мне? Перебрав второстепенных персонажей и снова положившись на интуицию, я остановился на хоронившей Канцева жене, с которой он, разругавшись насмерть, развёлся и не примирился, несмотря на усилия многих посредников.
Общая композиция с иерархией повестей выстраивалась вроде бы сама собой: вопросы, бунт, зов, смирение, – но когда я спокойно, не замыленным глазом смотрю на результат, то не могу отделаться от ощущения направлявшей меня руки провидения. Ведь по-крупному я не ошибся: всё и все на своих местах. Первое лицо – человеческое. Оно означает верных, живущих в мире, исполняющих лежащие на них заповеди, – это Рылов. Кто «выйдет в монашество, то он подобным становится лицу тельца, потому что несет тяжёлые труды в исполнении монашеских правил и совершает подвиги более телесные», – это Канцев. «Кто, усовершившись в порядках общежития, исходит в уединение и вступает в борьбу с невидимыми демонами, тот уподобляется лицу льва, царя диких зверей», – вылитый Дивин. «Когда же победит он невидимых врагов и возобладает над страстьми и подчинит их себе, тогда будет восторгнут горе Духом Святым и увидит Божественныя видения; тут уподобится лицу орла: ум его будет тогда видеть все, могущее случиться с ним с шести сторон, подобясь тем 6-ти крылам, полным очей. Так станет он вполне Серафимом духовным и наследует вечное блаженство». Но чем не орлица старательно мной подкрашенная и почти идеализированная лучшими женскими качествами Канцева?
Вот уж, действительно: «Когда б вы знали, из какого сора Растут стихи, не ведая стыда…»
Крупных ошибок нет, но неточности в тексте присутствуют. Самая большая, которую хотелось исправить, если вернуть время назад, – эпизод переписывания Дивиным чужого рассказа про Пушкина.
Этот рассказ на старости лет сочинил умница Зазнобин – большой знаток и поклонник поэта и публичный представитель отряда неравнодушных к людских бедам институтских преподавателей из бывших военных, учёных-«технарей» и совестливых гуманитариев, разработавших концепцию справедливого общества. Хороший аналитик и опытный лектор, в искусстве художественного сочинения Владимир Михайлович предстал любителем, не овладевшим писательской техникой. Интересное, с элементами научной новизны, расследование приватной беседы русских императора и главного поэта, о которую издавна точили зубы все, кому не лень, было перегружено разъяснениями и повторами, как у учителя, старающегося научить весь класс, включая двоечников. Вдалбливаемые в читательские головы находки каменели и придавливали живые и трогательные эпизоды, самый памятный из которых был о потере дара речи, когда рассказчик, числившийся среди лучших чтецов в суворовском училище, не смог на уроке продекламировать выученного «Пророка» и только благодаря собственному анализу «чёрного ящика» беседы царя с поэтом, на исходе жизни, смог понять, почему. Дурные описания и некоторые неудачные и неточно расставленные слова ещё больше снижали художественную ценность рассказанного. Раскритиковавший всё это Дивин переписал хитромудрый рассказ, распутав тщательно обдуманные слова, заплетённые между собой не хуже синоптических связей головного мозга, и переакцентировав повествование с беседы Зазнобина с невесть как оказавшемся в нашем времени поэтом на разгадку «Пророка».
Сегодня к отредактированному рассказу по мотивам исторического расследования концептуалов у меня есть претензии: сосредоточившись на исправлении художественных огрехов, я полностью доверился их аналитике и, похоже, растиражировал имевшиеся в ней неточности.
К найденной в «Пророке» закладке, вложенной поэтом для грамотеев из будущего, которые на ней обязательно споткнутся и задумаются, в чём дело, – претензий не было. Вопрос был в другом: раз Пушкин должен был уважить просьбу императора, но не отступить от своих взглядов на религию, – так он ли автор «Пророка»? Или это результат игры в менипею с другим поэтом, согласным по приказу Бога поступиться дарованной людям свободой воли? Честные и думающие литературоведы, не из официозного околопушкинского болота, склоняются ко второму. Оглядываясь на Илью Ильича Белкина, мне их позиция ближе и понятнее.
События около роковой дуэли – вторая неточность, которую следовало исправить Дивину, согласившись с более обоснованными, чем у «технарей», доводами других знатоков и исследователей пушкинского творчества.
Козни извращенца Гаккерна и его усыновлённого смазливого партнёра, открытое врагам Пушкина роковое предсказание цыганки, кольчуга Дантеса под мундиром гомосексуального по тем временам красного цвета, мучительные дворцовые балы и придворные интриги, полицейский надзор и неудобства высочайшей цензуры, напряжённая пикировка поэта с вредным Бенкендорфом – всё это также не обсуждается. Но приписывание авторства диплома рогоносца кривоногому Долгорукову слишком поверхностно. Все факты за то, что анонимный пасквиль был обращён к самодержцу и сочинён самим Пушкиным, который окончательно убедился в связи жены с Николаем. Решённая дуэль с прикрывавшим царя Дантесом разрубала все опутавшие поэта узлы при любом её исходе. Конечно, быть убитым вряд ли было целью, – скорее всего, поэт надеялся на высылку с семьёй в деревню. Но к смерти, загадывая на неумолимый рок и вражье искусство убивать, он был готов, зная, что ему мало отмерено и осталось недолго. Пушкин был неизлечимо болен. Лекарств от его болезни не было. Практиковавшиеся с юности интенсивные физические упражнения, долгие прогулки на свежем воздухе и побеги в деревенское уединенье перестали помогать. Болезнь прогрессировала, грозя умственной инвалидностью и скорой смертью, и из-за этого, а не от интриг вражьей рати и записных друзей, легкомыслия супруги, обезьяньих страстей высшего света или наделанных чрезмерных долгов – на него было страшно смотреть в последние перед дуэлью месяцы.
Другие неточности «Херувима» менее значимы, связаны с художественными огрехами, которые проявились по прошествии времени. Исправлять их теперь себе дороже, да и надо ли что-то исправлять? Пять лет книга живёт отдельной жизнью и радует автора такой, какой получилась. Вместо того, чтобы резать по живому, интересней по ней пройтись и отчертить на долгую память главное.
Первая повесть закручена вокруг лекции «Дата Майнинг» маститого столичного профессора Стецкого в провинциальном отраслевом институт, где ранее он защитил обе свои диссертации и откуда стартовал в высокие научные миры. На лекции и вечеринке после неё в компании старинных друзей-приятелей Фимы Стецкого присутствует наблюдательный Рылов, тридцать лет тому назад подтолкнутый будущим профессором в научные хляби и участие на досуге в институтской агитбригаде. Рылов сопоставляет себя нынешнего с собравшимися дедушками и бабушками, когда-то здорово певшими и скакавшими галопом по клубным сценам под визги, круговерть открывающих голые ноги юбок и музыку бьющего толстыми пальцами по аккордеону на манер деревенского гармониста и облизывающего при этом свои полные губы Фимы. Былое, разбуженное встречей, напоминает Саше Рылову и про общение в рыхлеющее советское времечко с соседями по холостяцкому общежитию: Фёдором Канцевым и Вадимом Дивиным.
Фёдор не стеснялся в открытую ругать бредни про ускорение, перестройку и экономику, которая должна быть экономной, получая за это по шее от хитро щурящихся партийных руководителей. Саше его позиция нравилась, хотя самому Рылову подчиняться официозу было удобней и лезть на рожон казалось глупостью. Ещё Фёдор был заводила по женскому полу и почти утянул в эту бездну неопытного Сашу. Дорожки их разошлись давно, встречались приятели от случая к случаю. В последнюю встречу Канцев Рылову не понравился. Оптимист и балагур, никогда не болевший и сохранивший все зубы, вроде бы знакомо посмеивался и шутил, но был явно озабочен прицепившейся к нему хворобой.
С подачи Вадика Дивина соседи прильнули к разлитому властью сладкому – по образцу муравьёв, добравшихся до блюдца с сахарным сиропом, поставленным, чтобы их извести. Был год гласности, когда духовно голодным людям разрешили выписывать любое количество толстых литературных журналов, а журналам разрешили печатать, что захотят. Приятели чего только не прочитали, а самые понравившееся публикации с помощью сооружённого рукастым Фёдором станочка вырывали и склеивали в книжки с обложками из синей и красной искусственной кожи, заполнив ими книжные полки в комнате общежития и подоконник в придачу. Начитавшийся книжек Вадик изменился. Обзавёлся широкими блокнотами и строчил по их жёлтой бумаге косыми фиолетовыми строчками. А чаще сидел над своей писаниной в прострации, одолеваемый думами и печалями. Саша помог ему договориться с одной из танцорок, подрабатывавшей машинописью, напечатать рассказ, который Вадик посылал в один из журналов. Теперь Вадику, должно быть, легко плодить тексты. Если он ещё занимается этой ерундой. А занимаются многие. И откуда столько одержимых? И информации всё больше. Всякой и разной. Может, и есть в ней что-то толковое. Но как его разглядеть в огромных мусорных кучах?
Домой после встречи Рылов двинулся пешком – и потому, что после длительного воздержания ему пришлось немного выпить, и чтобы собрать мысли, разбежавшиеся от разных обидных мелочей, начиная с отказа супруги составить ему компанию и заканчивая равнодушным отношением к нему Фимы и старожилов агитбригады. Полная жёлтая луна с видимыми пятнами тёмных морей сопровождала его путь вдоль реки. Низкая, большая, как солнце, она словно шла перед ним по противоположному берегу, иногда скрываясь, полностью или частично, за отдельными высокими домами. Постепенно лунный образ встроился в сознание мужчины и переключил на себя его внимание, подсказывая, что полнолуние располагает людей уступить злу и соблазнам. Боль за себя и всё человечество пронзила Рылова, он запнулся и остановился на полпути. Луна, за которой он наблюдал, остановилась вместе с ним. Пока Рылов шёл, она поднялась над горизонтом и застыла над двумя перевёрнутыми в небо золочёными луковицами. Тонкая белая колокольня и приземистая белая церковь на другом берегу, красиво подсвеченные прожекторами, словно удерживали своими крестами жёлтого небожителя, манящего людей отражённым светом. Почему-то они представились Рылову так, как он никогда не думал, – символами мужского и женского начал, противостоящих соблазну. Церковь в это время должна была быть пуста, но он думал, что в ней поют, и, если прислушаться к ночной тишине, то можно разобрать «иже херувимы» голосом актёра Пуговкина. А в окружающей храм темноте ему чудились пространства клубящейся тьмы, пытающейся прошелестеть странные слова «дата майнинг». Рылов дождался, когда луна ещё поднялась над землёй и сдвинулась влево от колокольни, осветив пустырь. И продолжил путь, радуясь скорой встрече с наверняка задремавшей супругой и загадав, что время додумать о мусорных информационных кучах и уготованных людям соблазнах у него ещё будет.
Вторая часть «Херувима» – про бунтаря Канцева, который больше всего на свете хотел, чтобы все люди всегда радовались жизни. Самые грустные и несчастные – улыбнитесь, и Фёдор полюбит вас за эту улыбку всей силой своей души. Но так не получается, и мятущаяся душа всю жизнь ищет, почему. Долго ли осталось искать? С тех пор, когда бугай врач, пересмешник и оптимист не меньший Канцева, ласково похлопал его по плечу: «Наш клиент!» – Канцева успели прооперировать и загрузить двумя курсами химиотерапии. И всё равно уклончиво отвечают о будущем.
Восстановившись после крепко отравившей его второй химии, Фёдор с удовольствием прогуливался. Пять весенних километров до работы ему были не в тягость. Ветерок утром тих. Солнышко подмигивает из-за белых облачков. Птички поют. Берёзки зеленеют молодыми листочками.
Канцев много, где поработал в новейшее капиталистическое время. С его головой и умелыми руками он всюду пригождался, но подолгу нигде не задерживался: уходил, как только проявлялась хозяйская страсть к наживе за его счёт.
Теперь он работал в бюджетной организации и никак не мог привыкнуть к смеси имевшегося здесь допотопного и отжившего своё оборудования с дорогущим высокотехнологичным, на котором можно получать результаты мирового уровня. И к сборке людей, безынициативных в основной массе, дохаживающих до пенсии, с единицами, стремящимися, способными и обеспечивающими получение полезных результатов общей работы. И даже к стенам, в которых приходится работать, он не мог привыкнуть. Фасады зданий, приёмные, кабинеты руководства, бухгалтеров и прочих приближённых были показушно чисты, а на ремонт производственных помещений скупились. Крыши текли, деревянные оконные рамы прогнили, каблуки цеплялись за исхоженный неровный паркет и дыры в линолеуме. Современный измерительный стенд был устроен в пустом здании бывшей казармы. Новые приборы за миллионы рублей жались к единственной свежеокрашенной стене, удивлённо взирая на щербатые скрипучие половицы, серый белённый потолок и оконные стёкла с заклеенными скотчем трещинами.
Для стенда Канцев разработал самодельный механизм вращения, изготовление которого практически ничего не стоило. Делал всё сам. Копеечные общественные деньги были потрачены только на электродвигатель из магазина для «самоделкиных» и пару железных листов. С его механизмом стенд понадобился всем сразу и работал, не останавливаясь. Понятно, что маломощный двигатель быстро перегрузили, при вращении появились маятниковые эффекты, а потом и центровку нарушили, погнув барабан. Но всё это можно было поправить. Канцев знал, как. А ещё он в очередной раз убедился, что как ни усложняй и автоматизируй, а всегда приходит нужда придумать и приложить свои руки, чтобы всё это сложное и автоматизированное применить на деле. И тут он в своей стихии. С бумагомаранием справятся без него. Его место тут, у станков. Времени бы только хватило.
Канцев давно ушёл от жены, разругавшись с ней насмерть и невзлюбив похожую на неё старшую дочь; отношения поддерживал только с уехавшей в Питер младшей, жил после развода в однокомнатной квартире многоэтажного кирпичного дома. Квартирку ему повезло отхватить в год обрушения рубля за доллары, вырученные от продаж мастер-моделей кораблей и самолётов. Этот выгодный на рубеже веков приработок теперь сильно потерял в цене, но от домашнего моделирования Канцев всё равно не отказывался: нравилось ему корпеть вечерами на своих станочках, нравились получавшиеся модели, нравилось уважение к ним в профессиональной среде, да и хоть какие дополнительные денежки лишними не были.
Болезнь, правда, сильно ограничила его трудоспособность. Заняться работой, требующей полного сосредоточения и выверенных движений, теперь он частенько не мог, и многие недоделанные модели пылились на книжных полках. Фёдор же посвящал освободившиеся вечера другому увлечению – ползанью по всемирной паутине.
Из многого интересного самой долгой была история его заочного знакомства с анонимными авторами «КОБы» – концепции общественной безопасности, обосновывавшей возможность устойчивого справедливого развития. Знакомство начиналась восторженно и благодарно, прошло много стадий и чуть не завершилось стойкой неприязнью Фёдора к умникам, смотрящим на человеческий род свысока. Их мечта об обществе, где все люди станут человеками, представлялась ему утопической. Не получалось у Канцева человека без бесовских бацилл. Их и в нём предостаточно. Откуда иначе его злость и ненависть к многим людям или грызущая сердце тоска по недостижимому идеалу?
Болезнь выгнала из него эту начавшую завладевать им злость, и он вновь примирился с идеалистами, особенно с представлявшим авторский коллектив Зазнобиным, недавно рассказавшем о детском своём проколе с чтением «Пророка». Фёдор ясно представил себе усердного мальчишку с коротким чубчиком и краснеющими ушами, в чистенькой форме суворовца с начищенными круглыми пуговицами, не сачкующего на самоподготовке и привыкшего получать отличные оценки. И представил его преподавателя-офицера, знатока русской литературы и умелого чтеца стихов, поднявшего старательного ученика читать «Пророка» и признавшегося ему позже в том, что тоже терял дар речи, пытаясь на публике декламировать эти стихи.
Канцев поверил в загадку «Пророка», вспоминая, что делал в возрасте суворовца Зазнобина.
В двенадцать лет любимым Фединым занятием было переплывать с пацанами на остров на середине Оби, наскоро перекусив после школы картошкой и ароматным чёрным хлебом, посыпанным крупной солью. На песчаном острове, за дюнами с колючим кустарником, было неглубокое, оставшееся после разлива озеро с прогретой водой. В малых детских масштабах полукилометровое расстояние до острова казалось огромным, приближался он медленно, и жуткая боязнь не доплыть жгла голову азартным огнём. Зато с каким наслаждением они потом купались, по грудь в самом глубоком месте тёплого озерца! Все в одинаковых сатиновых трусах почти до колен, худые, с торчащими рёбрами и одинаково счастливыми хулиганскими глазами.
Нет, Канцева в двенадцать «Пророк» не интересовал. Не заинтересовал и в четырнадцать, когда он подарил девчонке самодельное железное колечко, отполированное до блеска. С ней они жадно целовались под соловьиные трели, и осмелевший Фёдор самым наглым образом исследовал почти сложившиеся женские изгибы, залезая под майку и подол платья и очумело плывя вместе с подружкой на волнах счастья.
К тому же читать вслух стихи Канцев не любил, а в школе заставляли редко. Учил легко, как и всё прочее, а декламировать не любил.
Прослушав лекцию Зазнобина, он захотел перечитать «Пророка».
Духовная жажда пророка и перепутье, на котором тот оказывался, были как про Канцева. Шестикрылый серафим заставил Фёдора вспомнить давний спор в подпитии с Фимой Стецким о небесной иерархии и бабушкины рассказы о шести- и четырёхкрылой Небесной Силе с человеческими ликами на старых иконах. Дальше в стихотворении серафим раскрыл человеку глаза и уши, позволив проникнуть во все тайны сущего, вместо вырванного языка вложил в уста жало змеи, вместо трепетного сердца – пылающий огнём уголь, после чего лежащий в пустыне труп восстал, услышал приказ исполниться волей Бога и жечь глаголом сердца людей. Не согласиться с поседевшим суворовцем в том, что создателю незачем требовать от пророка исполниться чужой волей, если всем нам от рождения Бог даровал свободу, было невозможно.
А потом Фёдор взялся читать аналитическую записку с переложением рассказа Зазнобина в текст и расстроился. Он показался ему неудачным и затянутым. Взволновавшее живое слово— умерло. Словно у автора замылился глаз. В практике моделирования у Фёдора было два случая помощи товарищу, замылившему глаз. Со стороны было виднее, что требовалось поправить в чужих моделях, чтобы их продать. Тут был похожий случай. Рассказ надо было переписывать. Фёдор был готов помочь, но он не был специалистом. Он мог поговорить, подсказать – не мог сделать. А между поговорить-подсказать и сделать – огромная дистанция.
Когда весна приуныла, задула холодными ветрами, набросила на небо серую кисею облаков, предпочитая колючий мелкий дождик весёлому солнышку, и надолго затянулась в холодных утренниках и пасмурных днях, тело Канцева захандрило. Он добросовестно выполнял предписания врачей, устраивал частые перекусы на работе, кушая много цитрусовых, но отравленного лекарствами организма до вечера не хватало. Вместо Интернета Фёдор включал телевизор, перед которым частенько засыпал. Весенняя хандра вообще сделала из него соню. После обеда он мог в любую минуту заснуть на работе: за своим столом, в казарме за верстаком и даже стоя у окна в чужой комнате или разговаривая. Только что Фёдор говорил или спрашивал о чём-то – и уже дремал с открытыми глазами, ошарашивая собеседника.