Самому себе не лгите. Том 1 бесплатное чтение
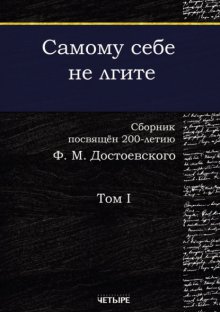
Сборник прозы и стихов, подготовленный издательством «Четыре», посвящается великому писателю Фёдору Михайловичу Достоевскому: в этом году мы отмечаем 200 лет со дня его рождения.
Мир Достоевского имеет неоценимое свойство: чем дальше продвигаешься в знакомстве с ним, тем бóльшие дали открываются перед нашим разумом. Как сказал когда-то философ и литератор Лев Шестов, книги Фёдора Михайловича «притягивают к себе всех тех, кому нужно выпытывать от жизни ее тайны». И сегодня, спустя два века, в этом отношении мало что изменилось – произведения великого романиста, мыслителя и публициста по-прежнему влекут и волнуют людей, которые продолжают открывать для себя новые грани его гения.
Достоевский сосредоточен на внутренних сторонах человека: он изображает душевные терзания, сомнения и тайные желания своих персонажей. По мнению писателя, у людей есть только два пути совершенствования: один ведет в бездну и бесчеловечность, другой – к вере и любви. Его герои зачастую – люди сомневающиеся, они мечутся от одной крайности к другой.
Всё это характерно и для нынешней жизни, а, следовательно, и для литературы. Современные писатели во многом развивают те же вечные темы, ведь порывы человеческой души, обретая в каждую эпоху новые черты и приметы, на самом деле остаются почти неизменными.
Будущий классик появился на свет 30 октября (11 ноября) 1821 года в Москве. Первые шаги в сочинительстве сделал уже в ранней юности, а опубликовав роман «Бедные люди» и повесть «Двойник», стал родоначальником жанра психологической прозы. Творчество Достоевского оказало заметное воздействие на мировую литературу. Его романы «Идиот», «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание», «Бесы», «Идиот», «Подросток», написанные в период 1860–1880 гг. прославились как великое пятикнижие.
«…Не любить Достоевского можно, ибо сам Достоевский всегда утверждал ценность только свободной любви, но не читать Достоевского можно, только если тебя совершенно не интересуют ни смысл собственного существования, ни судьба твоего народа, ни судьба человечества». Эти слова принадлежат литературоведу, критику, доктору филологических наук Карену Степаняну.
Актуальны ли произведения Достоевского сегодня? Влияют ли его книги на творчество современных авторов? Продолжены ли традиции писателя?
Право окончательного ответа мы предоставляем читателям этого сборника. Но с уверенностью можно сказать одно: дух великого классика продолжает витать в нашей вселенной, питая лучшие умы и встречаясь с музами…
Рамиз Аббаслы
Выпускник Бакинского государственного университета. Пишет на азербайджанском и русском языках.
Автор шести книг, многочисленных статей и переводов. Его первая книга, «Школа семи деревень», в 1994 году изданная в Баку, сразу же стала бестселлером, принеся автору известность в литературном мире. Рассказы и статьи, написанные на русском языке, публикуются в российских журналах.
Автор двух книг на русском языке: «Песня слепого» (М., 2019); «На необитаемом полуострове» (М., 2020). Российские литераторы высоко ценят творчество Р. Аббаслы: по их мнению, его рассказы современны, поистине величественны в своем внимании к деталям, глубине чувств и необычности сюжета, – это новая проза, свежий взгляд на мир.
Первый возвращенец
Война была в разгаре. И вдруг с фронта вернулся живой человек. Никогда такого не было: Гурбан был первым возвращенцем.
До него ни один человек, даже мертвый – ведь погибших хоронили там, где они погибали, – с войны не вернулся. А Гурбан – живой солдат, вернулся с фронта.
Люди (в основном пожилые мужчины и женщины) поспешили на встречу с Гурбаном. Оказывается, в одном из боев он был ранен и попал в госпиталь. Ранений у него было много. В госпитале все раны залечили, и Гурбан выздоровел. Но его правая нога была так изуродована, что, волоча ее за собой, Гурбан еле ходил. Можно было ее ампутировать, но не стали – все же своя нога лучше.
Солдата демобилизовали, и он вернулся домой. Пока ему нельзя было долго стоять или сидеть на стуле. Поэтому Гурбан беседовал с гостями в положении полулежа, облокотившись на подушки.
Время было тяжелое. Даже чай гостям подавали без сахара. Да и сам чай тоже был ненастоящий: его заварили из чабреца. Но многим цвет такого чая не нравится: «Как моча», – говорят, и не пьют его. Поэтому в заварной чайник положили куски тонкой айвовой ветки, и цвет чая стал коричневым.
Потом гости ушли, а Гурбан лежал и отдыхал. Его поразила необычная тишина родного края. От этой тишины приятно звенело в ушах. Раньше он на это внимания не обращал и считал, что так должно быть. А после фронта, где от грохота пушек и взрыва снарядов земля содрогалась, и чуть не лопались уши, абсолютное безмолвие, царившее на его красивой родине, казалось необычным, непривычным… даже неестественным. У него было такое впечатление, что это всего лишь мгновение – и сейчас, сию же минуту начнется пушечная канонада, и тишина нарушится.
Вдруг эта необычная тишина, так приятно поразившая Гурбана, действительно нарушилась. Проведать фронтовика пришла женщина, живущая на окраине деревни (семья Гурбана жила в центральной части). Она им не родня и не соседка, но всё равно пришла: хотела повидать Гурбана, поговорить с ним, посоветоваться.
В присутствии посторонней женщины мужчине не следует лежать. Гостье дали понять, что человек болен, он после госпиталя, очень слаб. Поэтому он может поговорить с ней только в положении полулежа.
– Да о чем вы говорите! – как-то нервозно сказала женщина и всем своим видом дала понять, что в данное время такие пустяки, связанные с приличием, ее не волнуют. – Он же мне в сыновья годится…
И вот Гурбан, облокотившись на подушку, уже беседует с очередной посетительницей. Ее сына забрали в армию, но долгое время от него нет известий. Гурбан – опытный фронтовик, как говорится, собаку на этом деле съел – он сразу понял, что парень или погиб, или в плен попал, или же пропал без вести. Если он погиб, должны были сообщить его семье. А что же тогда…
Гурбан думал о судьбе Сулеймана, мать которого сидела рядом и рассказывала о своем горе. Она даже не притронулась к стакану с чаем, который уже остыл. И вдруг она задала очень странный вопрос, который, можно сказать, сразу же ошеломил Гурбана и чуть было не вывел его из равновесия:
– Вот такое у меня горе, Гурбан. Я пришла спросить у тебя – может быть, ты там видел нашего Сосо, или кто-нибудь из твоих товарищей случайно его видел и о нем что-нибудь тебе сказал?
Сосо – ласкательное имя, парня дома так называли. Мать же так привыкла к этому, что уже и не могла называть сына Сулейманом.
То, что долгое время от Сулеймана вестей нет, – это, конечно, плохо. Но этот вопрос с его матерью обсуждать нельзя. Ситуация же была такой, что Гурбан должен был ответить на заданный вопрос. Вначале он растерялся и чуть было напрямую не сказал, что думает. Но вовремя опомнился и начал хитрить: уходил от прямых и однозначных ответов; пожимая плечами, выпячивал губы и свободной рукой делал какие-то неопределенные жесты, что означало «понятия не имею…», время от времени повторял одну и ту же фразу: «Понимаешь, это же война… Всякое бывает».
А мать Сулеймана порой поддавалась его уловкам, но постаралась не дать ему возможности совсем обвести ее вокруг пальца и уклониться от ответа. Ее вопрос – «Может быть, ты там видел нашего Сосо?» – стоял на повестке дня и требовал четкого, конкретного ответа.
Между тем Гурбан думал, ломал голову и хотел найти более-менее приемлемые слова.
«Глупая женщина… – думал фронтовик. – Она даже не знает, что такое война. Она считает, это что-то наподобие коллективного сенокоса, когда несколько десятков мужчин, заранее договорившись между собой, рано утром выходят из дома и до обеда косят траву на большом участке. По ее разговору, она представляет, что фронт – это два длинных (примерно от Хачынчая до Тертерчая) и параллельных окопа, в одном из которых сидят немцы, а в другом – советские солдаты, и с утра до вечера стреляют друг в друга… К тому же все наши бойцы очень хорошо знают друг друга, всегда в курсе всех событий, в том числе и о новых пополнениях. И если Сосо ушел на фронт, Гурбан непременно должен был об этом знать, и они там даже встретились бы…» – Гурбан с иронией усмехнулся: какая она глупая!
Но вместе с тем эта глупая женщина своим глупым вопросом сумела затронуть его гордость: своего сопливого Сосо она ставит в один ряд с Гурбаном – это унижало и весьма задело его самолюбие.
К моменту отправки в армию Гурбан уже был первым силачом деревни. Заслужить такое звание не так-то просто, потому что сильных сельских парней много, и конкуренция большая. Правда, Гурбан по характеру спокойный человек, он даже не очень-то стремился стать первым. Но в один прекрасный момент он понял: оказывается, в этой деревне он уже первый силач, то есть самый сильный мужчина. Это был факт, и это было приятно: его уважали, с ним считались.
Интересно, мать Сулеймана знает об этом? Судя по разговору, не знает, даже не слышала об этом.
Гурбан стал первым силачом, потому что принадлежал к роду черномазых. Все мужчины этого рода от рождения черны и очень сильны, и у всех известных представителей перед именем добавляется слово «Гара», что означает «черный». Гурбан тоже, как известный человек, звался Гара-Гурбан. Но после возвращения с фронта прозвище «Гара» сразу же уступило место двум другим – «Топал» и «Тайтах», и оба они означают одно и тоже: «Хромой» – после ранения он сильно волочил правую ногу.
Да, черномазые были сильны, но, как ни странно, только Гурбану удалось завоевать почетный титул первого силача. И всё это из-за конкуренции. Представители других родов тоже стремились стать первыми, и в решающий момент кто-то из них сумел вытеснить всех остальных, в том числе и представителя черномазых. Гурбан же от рождения был таким сильным, что даже без особых усилий и прилежания стал первым богатырем довоенных лет. Тем самым он прославил свое имя и поднял престиж своего рода. Это была большая заслуга перед своими родичами, особенно мужчинами, и они стали пуще прежнего уважать и ценить его, даже чуть не поклонялись ему. Особенно мальчики, дальние и близкие родственники Гурбана, очень гордились своим прославленным дядей…
А теперь глупая и неграмотная женщина (Гурбан окончил четыре класса и по сравнению с матерью Сулеймана, которая вообще в школу не ходила, считал себя образованным человеком), ставя его в один ряд со своим сопливым босяком, оскорбила его.
– Это очень большая война. Это мировая война, – сказал Гурбан. – Ты знаешь, что такое мировая война?
– Да какая разница: мировая – не мировая… один черт, война, – ответила мать Сулеймана. – Ты тоже странные вопросы задаешь.
– Не-е-ет, не один черт. Мировая война – совсем другая война. Сейчас везде война, и все люди воюют друг с другом. Потому что так надо, это же мировая война. Представь себе, что вся Украина и Россия – полным-полно солдат, танков, самолетов. Там очень много и немецких солдат. У них тоже много танков и самолетов. Все эти люди заняты тем, что убивают друг друга. Потому что это мировая война. А ты говоришь: один черт.
– Какой кошмар!
– Конечно, кошмар. Поэтому в такой суматохе встретить или искать фронтовиков-односельчан невозможно. Потому что это мировая война, это кошмар. Я был в самом пекле этого кошмара, но там твоего Сосо я не видел, никто из моих товарищей мне о нем ничего не сказал. Ты вообще-то уверена, что Сосо действительно на фронте? Он же мальчишка, зачем бы его сразу отправили на фронт?
– Гурбан, ты был на фронте… и даже стал городской, что ли, – мать Сулеймана обратила внимание на то, что Гурбан говорит теперь по-другому, вставляет в азербайджанские предложения непонятные ей слова «вообще», «оказывается», «уже», «как раз», «окоп» и т. п. Даже всем понятные, казалось бы, слова «немис» и «фиронт» он произносит по-другому: «немец» и «фронт». И всё это, по мнению женщины, говорило о том, что Гурбан уже сделался другим, городским человеком. Даже цвет его лица стал иным: уже не грязно-черным, как прежде, а приятно-смуглым.
– Я, конечно, тебя не обвиняю… Да, когда тебя забрали в армию, Сосо действительно был сопляком. Ты же его видел до войны. Правильно?..
– Да, когда я ушел в армию, войны еще не было. Она началась после двух лет моей службы. Значит, я видел Сосо четыре года назад.
– Четыре года назад он был маленьким. А ты знаешь, как он потом вырос? Ты даже не представляешь, каким он стал: высокий, как чинар, ей-богу. Волосы каштановые, лицо белое-белое, как у меня – красавец писаный! Девушки по нему с ума сходили. А потом пришла повестка, и его забрали в армию. Ты у меня спрашиваешь, зачем его взяли на фронт? Ну ты же это дело лучше всех знаешь. По-твоему, его, моего Сосо, куда могли забрать, если не на фронт?
– Его не на фронт отправили, – сказал Гурбан, – просто забрали в армию. Это же разные вещи. Не все колхозники косят траву. Сено косят молодые и сильные мужчины. На фронте тоже так. Воевать с немцем очень трудно. Это такое дело, что не каждому по плечу. Пули и снаряды над головой летят, как мухи и саранча. А еще и бомбы! Фронт – это ад. Каждого солдата нельзя отправлять на фронт. Трусов и сопляков на фронт не отправляют. Потому что это бессмысленно. Да, я тебе дело говорю. Им же многого не надо, достаточно одного взрыва бомбы – и сразу же от страха у всех получится разрыв сердца. Для фронта специально выбирают самых сильных, крепких, отважных… как я. Ты помнишь, кем до войны был я здесь? Если ты забыла, я напомню: я был первым силачом нашей деревни. Но ты смотри, что они сотворили со мной, самым сильным мужчиной нашего села!
В порыве чувств возбужденный Гурбан как будто впал в состояние невменяемости и временно забыл о правилах приличия. Он присел и в этом положении поднял свою рубашку до груди, чтобы показать раны на теле. Но этого ему показалось явно недостаточно, ведь его раны в основном были ниже пояса: на бедре и на ногах. А чтобы демонстрировать их, надо было встать, стоять во весь рост и спустить штаны вниз. С больной ногой ему очень трудно было вставать. Но все равно Гурбан кое-как поднялся. И вдруг опустились руки, опомнился: нет, нельзя. Пробормотав: «Я весь в ранах», – он вздохнул и с трудом опять сел. Запланированная демонстрация ран на теле так и не состоялась.
Наступила тишина, которую нарушил Гурбан:
– Ора Сосу-мосу ери дейил[1].
Опять тишина. Но теперь ее прервала мать Сулеймана:
– А по-твоему, где же мой Сосо, если не на фронте?
– Он картошку грузит.
– Правда?!
– Да. Новичков, как твой Сосо, сразу на фронт не отправляют. Временно им дают другую работу.
– Какую другую работу дают им?
– Тем, кто воюет на фронте, нужны оружие, одежда, еда. Ты знаешь, на фронте сколько едят? Очень много еды надо. А немец жрет больше наших. Ровно в двенадцать часов немец берет кусок картона и пишет: «Essen». Потом он это прикрепляет на штык своего автомата и поднимает наверх, чтобы мы все видели. «Essen» на их языке означает «кушать». Немец хочет сказать, что пора обедать: ребята, мы будем кушать, давайте вы тоже садитесь и поешьте, а как только закончим, сразу же продолжим убивать друг друга. У этих сволочей еда всегда была под рукой. А у нас не всегда можно было найти что-нибудь поесть. Но всё равно мы тоже переставали стрелять.
– Значит, вы там даже договорились с этими гадами?
– Да не договорились! Никакого договора не было. Я не понимаю, о чем ты говоришь? Я хочу ответить на твой вопрос, а ты рассказываешь о каком-то договоре. Ты лучше слушай, что тебе говорят. Опять повторяю: никакого договора между нами не было. Они хотели пообедать и сели кушать. Человек голодный, хочет кушать, понимаешь? Ты обратила внимание, что самая ядовитая змея гюрза, даже вот эта отвратительная тварь, смертельно опасный червяк, когда видит, что ее злейшие враги – человек или же другие животные, вовсе не враги, например, баран или козел, какая-то птица, вот этот воробей, ее самое любимое лакомство, – пьют воду, она их не трогает?
– Нет, я не видела, Гурбан. Честное слово, не видела. Ты даже это лучше меня знаешь. Молодец!.. Откуда мне всё это знать, если я из дома не выхожу? А ты же пастух, с детства на пастбищах за мзду скот своих соседей гонял и всё это видел своими глазами. Пастухи много знают.
– Ты не перебивай меня. При чем тут пастух? Если на то пошло, твой покойный муж, отец твоего Coco, тоже пастухом был, но он колхозных коров пас. Что я хотел сказать?.. Да… Если немец – этот подонок, кровопийца, людоед – хочет кушать, свой автомат положил в сторону, взял тарелку и ложку, принялся за еду, по-твоему, что мы должны были делать? Стрелять по их тарелкам и ложкам, что ли? Как это, по-твоему, получается, мы даже хуже гюрзы, что ли? Не-е-ет, так нельзя. Это не по-мужски.
– И вы дали этим негодяям спокойно кушать, набрать силу, чтобы потом убивать наших сыновей?
– Солдат здесь ни при чем.
– Как это «солдат ни при чем»? Убивает-то он!
– Ему такую команду дают. Война – это такая штука, что там все равно люди друг друга убивают. Войну придумали именно для того, чтобы убивать друг друга. Люди этим занимались и сейчас занимаются. Когда им нечего делать, они затевают войну, чтобы убивать друг друга. Всё это тебе объяснить очень трудно… Чтобы понять это, надо побывать на фронте – и сразу все становится ясно. В поговорке говорится то же самое: лучше один раз увидеть своими глазами, чем сто раз услышать.
– Я вижу, ты все знаешь, Гурбан. Впервые за свою жизнь разговариваю с таким всезнающим человеком. Я даже не ожидала… Честное слово, не ожидала. Ты не только первый силач довоенных лет, ты теперь самый знающий человек нашей деревни. С таким знанием тебе уже нельзя гоняться за коровами своих соседей. Это был бы позор и срам для нашего села. Да и коров-то уже нет: всех съели и продали. Но в любом случае тебе лучше работать исполкомом.
– Я не могу работать исполкомом. У вас же свой исполком есть, зачем ты хочешь меня посадить на его место? Моя нога больная, я всё равно сейчас не могу работать. Нигде не могу работать. Нельзя, понимаешь?.. Врачи не разрешают. Когда врачи скажут, что уже можно работать, тогда видно будет.
– Значит, ты пока не будешь работать. Ну, ладно. А теперь ты, как фронтовик и всезнающий человек, можешь мне сказать, где сейчас мой сын?
– Я же тебе сказал: он грузит картошку. Груженные картошкой вагоны отправляют на фронт, чтобы там готовить обед для наших бойцов. Еда у немца всегда под рукой, пусть и у наших всегда будет еда. А то, что Сулейман не пишет письма, это уже точно говорит о том, что он вместе с другими новичками грузит картошку. Между прочим, это очень трудно: они день и ночь работают. Им даже некогда сидеть и писать письма. Поэтому-то от твоего Coco вестей нет. У человека работа такая – ему некогда сидеть и письмо писать. Я, как фронтовик, знаю, что там творится. На участке фронта, где я был, твоего Coco не было, я его не видел. Как я мог его видеть там, если Coco на фронт не отправили?
…Мать пропавшего без вести Сулеймана долго говорила с Гурбаном. И за это время Гурбан, во-первых, сумел довести до сведения этой женщины (а заодно через нее всем жителям деревни), что он, фронтовик, не ровня какому-то сопливому Coco. Во-вторых, Гурбан, пусть даже временно, успокоил женщину, которая очень сильно переживала из-за того, что долгое время не получала письма от своего сына – участника войны, который так и не вернулся домой, письма тоже не писал, и его считали пропавшим без вести.
Другой важный момент этой встречи состоял в том, что именно там, в ходе этой беседы, родилась крылатая фраза Гурбана: «Ора Сосу-мосу ери дейил!», которая, передаваясь из уст в уста, стала поговоркой. Это тоже считается заслугой Гурбана: он хоть и необразованный человек – всего четыре класса окончил, – но внес значительный вклад в устный фольклор времен Второй мировой войны.
Не теряя своей животворной силы, эта поговорка часто звучит и по сей день, даже тогда, когда речь идет не о войне. Если что-то не на своем месте, не подходит, не соответствует, или же какая-то работа кому-то не по плечу и он, по всей вероятности, не справится с этой нагрузкой, – вот тогда говорят: «Ора Сосу-мосу ери дейил».
Имя пропавшего без вести Сулеймана-Сосо тоже не забыто: оно живет в этой поговорке, автором которой (еще раз повторим) является Гурбан.
Борис Алексеев
Москвич, родился в 1952 году.
Профессиональный художник-иконописец, имеет два ордена РПЦ. Член Московского Союза художников.
К литературе обратился в 2010 году, пишет стихи и прозу. В 2016-м принят в Союз писателей России. Серебряный лауреат Международной литературной премии «Золотое перо Руси» за 2016 год. Дипломант литературных премий Союза писателей России: «Серебряный крест» за 2018 г., «Лучшая книга года» (2016–2018).
В 2019 году награжден медалью И. А. Бунина «За верность отечественной литературе» (Союз писателей России). В 2020-м присвоено почетное звание «Заслуженный писатель МГО Союза писателей России» и вручена медаль МГО СПР «За мастерство и подвижничество во благо русской литературы».
Дима, Муза и общежитие МосГорЛита
Дима дописал предложение, поставил точку и закрыл тетрадь.
– Иди ж к московским берегам, новорожденное творенье! И заслужи мне славы дань: кривые толки, шум и…
В дверь постучали. Дима жил в общежитии работников МосГорЛита. Пятиметровый однокойковый нумер с пометкой «временно» ему выписала комендантша (честно говоря, по блату выписала, по просьбе одного симпатичного критика с бакенбардами).
Располагался нумер на самом оживленном пятачке узкого и длинного коридора. Насельники и посетители общежития часто путали двери и тревожили Дмитрия, особенно в выходные и праздничные дни.
Один раз вот так же постучали. Дима не успел снять щеколду с предохранителя, как дверь распахнулась под тяжестью совершенно пьяного работника МосГорЛита – корректора Сюзина[2].
Корректор ввалился в комнату, обнял и крепко поцеловал в губы сонного Диму. Затем Ипатий Ибрагимович сделал шаг, намереваясь выйти вон, но потерял равновесие и рухнул на единственную в нумере кровать. Пока Дима вытирал губы, корректор уснул с богатырским храпом.
Как ни пытался Дмитрий разбудить гр. Сюзина, его усилия оказались напрасными. Пришлось идти ночевать к товарищу.
И теперь, наученный горьким опытом, он прислушивался к шорохам за дверью и размышлял: открывать дверь или же сказаться спящим.
В дверь постучали еще раз. Вполне деликатно, пьяный человек стучит иначе.
– Кто там? – сухим, металлическим голосом спросил Дима.
– Откройте, откройте же скорей! – раздался за дверью нетерпеливый женский голос.
У Димы не было ни любовных, ни деловых знакомств с противоположным полом, поэтому никакая дама не могла прийти к нему в столь поздний час.
И тем не менее…
– Простите, я сейчас! – Дима бросился искать ключ (дверь к ночи он предусмотрительно запер), но услышал за спиной:
– Спасибо, не ищите. Я уже вошла.
Сочинитель вздрогнул и обернулся на голос. Действительно, метрах в трех от него перед закрытой на ключ входной дверью стояла красивая молодая женщина и перебирала в ладонях старенькую мятую тетрадь.
– Вы закончили повесть, – сказала она и присела на край кровати – Так вот я пришла слушать.
Заметив нерешительность Дмитрия, незнакомка добавила:
– У вас есть чай? Дайте мне чаю!
– Да-да, конечно… – Дима схватил электрический чайник и собрался бежать на кухню за водой, как вновь услышал нечто неожиданное:
– Ах, не надо, я уже пила.
Он сверкнул глазами, присел на другой край кровати и сухо сказал:
– Я вас слушаю.
– Нет, это я вас слушаю, гражданин писатель! Вы что, не догоняете, кто к вам пришел?
Дима нахмурился.
– Что вы мне голову моро… Стоп! – он вжался в спинку кровати. – Кажется, догнал… В-вы моя… Муза?
Гостья посмотрела на Диму с холодным безразличием. Так смотрит титулованная леди, пресыщенная светскими раутами и любовными признаниями мужчин.
– Ваша?!. Ха, да вы – самодовольный индюк! – предполагаемая Муза повела плечиком. – Радуйтесь, господин Замарашкин, что я здесь… С вас должно быть и того довольно.
Дима ощутил, как по его позвоночнику пробежал леденящий сгусток негодования. Мелкой дробью застучали зубы. «И это Муза?..»
Он уже приготовился выставить грубиянку за дверь, но молодая женщина вдруг изменилась в лице и с приторной улыбкой сказала:
– Ну, что же вы молчите? Читайте, читайте, наконец!
Дима взял себя в руки, сгреб со стола рукопись и приготовился читать.
Однако Муза вновь перебила его намерение.
– Кого вы мне напоминаете, юноша? – Она кулачком поджала подбородок и призадумалась.
– Так мне читать? – спросил Дима, смущенный задумчивостью гостьи.
– Не надо. Всё, что вы написали, я уже читала, – отмахнулась Муза, – и всё-таки, кого вы мне напоминаете?.. Не понимаю, у меня же идеальная память!..
Она открыла свою мятую тетрадку и стала просматривать какой-то список:
– Так, Рембо… нет, не то. Северянин, хм-м, Северянин?.. Ну какой вы Северянин! – Муза вскользь глянула на Диму. – Ладно, смотрим дальше: Ново-Переделкино. Ага, улица Приречная… дом не разберу, кажется, семь…
– Это адрес нашего общежития, – подтвердил Дима.
– Ничего не знаю, у меня свои данные, – ответила Муза, не отрывая глаз от списка, – Буха… стерто, не разберу. Буха-лен… ков! Да-да, Дмитрий Бухаленков. Это то, что я искала! Вот что я вам скажу, юный сочинитель: прочитайте-ка вы для начала пару рассказов Димы Бухаленкова. То-то вам будет польза! Слог, ритмика, а образы какие! А ваши, простите, сочинительства – это же тотальный плагиат! Короче, читайте Диму, а я как-нибудь еще загляну. Не провожайте…
Гостья встала и направилась к запертой двери.
– Стойте! – одними губами, как рыба, прошелестел Дима. – Бухаленков Дмитрий – это я…
Муза остановилась.
– Что вы сказали, мой юный врунишка?.. Вы хоть потрудитесь тексты сравнить!
Дима тупо повторил:
– Дмитрий Бухаленков – это я!
P.S. Разговор, невольными свидетелями которого мы с вами только что стали, случился на улице Приречной весьма давно. В те годы бульдозеры еще не ровняли под застройку живописные подмосковные слободки. И общежитие, ютившееся в помещении маленькой дореволюционной фабрики, лет пять после описанной встречи еще укрывало от непогоды ответственных работников МосГорЛита.
Дмитрий Бухаленков стал известным писателем. А Муза (ну бывает же такое!) нашла ошибку в своих записях. Как только не оправдывалась бедная служительница литературы перед Димой за свою «приреченскую» неловкость!..
Тот улыбался в ответ и успокаивал бедняжку:
– Ну, стоит ли Вера Павловна (он звал ее Верой Павловной) так убиваться по пустякам!
– Ничего себе, пустяки! Гения проглядела! Пора на покой. Стара я стала, не та уже…
– Э-э-э, Вера Павловна, полно вам наговаривать! Вас время не берет. Любой из нас побежит за вами вслед, лишь пальчиком поманите!
– Правда?.. – Муза жеманно смахнула слёзку. – Дима, вы меня не обманываете?
– Вера Павловна, ну зачем вы так… Ни-ни!
Муза повела плечиком и обворожительно, как в молодости, улыбнулась.
– А давайте писать роман!
– А давайте!..
Виктор Бабарыкин
Человек поистине творческий: писатель, артист песенного и театрального коллектива, художник, занимается декоративно-прикладным искусством (выжигание по дереву). Состоит в Российском Союзе писателей, Интернациональном Союзе писателей, в Союзе акварелистов России.
Член Международной литературной организации «Добро». Лауреат премии «Филантроп» 2004 и 2008 гг. в специальной номинации «Преодоление. За гранью возможного» в составе вокального коллектива «Не падаем духом».
Виктор Александрович – дипломант Международного фестиваля «Интер-Парафест – 2017», лауреат многих всероссийских и международных конкурсов.
Печатается с 2014 года. Издавался в сборниках Российского и Интернационального Союзов писателей, а также в МЛО «Добро».
Дерево детства
Не могу сказать, что мои детские годы были радужными…
Еще ходя в детский сад, заметил, что ребята сторонятся меня, так как я передвигался на стульчике и частенько был погружен в свои мысли. Дети уходили гулять то в парк, то по городу, а мне из-за моей инвалидности приходилось сидеть на крылечке и рассматривать прохожих через железный забор.
Уже учась в школе и видя ребят моего возраста и старше, я стал постепенно сознавать, что повзрослел… но мне представлялось, что меня просто перевели в другой детский сад. Оказалось совсем не так, как я думал: в этом учебном заведении мне предстояло учиться и закончить восемь (девять) или десять (одиннадцать) классов.
С первого дня старшие ребята стали учить меня самостоятельности. Мне приходилось ждать санитарку или воспитательницу, чтобы они накормили меня, а если они не подходили, я начинал капризничать. Мальчики мне объясняли так: жди своей очереди или бери ложку и пробуй сам. Было очень трудно поначалу, приходилось перебарывать себя. И все же со временем я привык есть самостоятельно.
Постепенно ребята научили меня передвигаться: сначала на высоком стуле, а потом я стал ездить на малогабаритной коляске.
И вот наступил мой первый учебный день. Нянечка тетя Клава – до сих пор помню ее имя и как она выглядела – впервые надела на меня костюмчик (до этого я так не одевался), принесла во двор и посадила на стульчик.
– Сиди и запоминай! – сказала она. – Это для тебя самый запоминающийся день: ты становишься школьником.
После этих слов я сидел тихо и внимательно глядел, что делается вокруг. До сих пор помню первый звонок. Директор много раз повторял потом и на других торжественных линейках похожие слова:
– Ребята, вы не смотрите, что имеете физические недостатки. Если будете хорошо учиться, сможете потом приносить пользу своей Родине. Сколько есть выдающихся людей с серьезными заболеваниями – а они стали известными людьми в разных профессиональных областях!.. Вы будете изучать замечательные книги: знаменитое произведение Николая Островского «Как закалялась сталь», «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого. Есть у нас и современники, которые мужественно стараются побороть свою болезнь – например, наш земляк Владимир Калмыков.
Я тогда не особенно вникал в смысл этих слов. Однако со временем стал сознавать: инвалидность – не приговор. (По сей день всё делаю зубами. Правда, зубы мне заменили обе руки.)
Поначалу я сильно капризничал. От напряжения постоянно болели зубы. Первые месяцы учительнице Галине Петровне пришлось много со мной возиться: дёсны кровоточили, начали выпадать молочные зубы, из-за этого мне пришлось учиться в первом классе два года.
До сих пор с большим уважением вспоминаю мою первую учительницу и преклоняюсь перед нею: она приоткрыла мне дверь в большой мир. Благодаря вниманию и чуткости Галины Петровны жизненные трудности не смогли убить во мне мои лидерские способности.
Сейчас я сознаю, что иногда переусердствовал. Но в то же время понимаю, что человеку без самостоятельности трудно, почти невозможно жить на свете. Я убедился в этом, уже живя в доме-интернате для престарелых и инвалидов.
Здесь без самостоятельности я не смог бы стать нужным человеком.
Последнее время в интернат начали поступать молодые инвалиды, которые проживали в своих домах, квартирах. Эти люди всегда находились в тепличных условиях, и теперь им очень тяжело, они не привыкли ухаживать за собой, проявлять в чем-либо инициативу.
Вот и понимаешь, что просто необходимо приучать ребенка в школе одеваться, делать что-то руками и двигаться: самому добраться до туалета, самому поесть или обуться, не ожидая посторонней помощи.
Еще учась в школе, я первые увидел, как можно рисовать «электричеством» на дощечке. Меня так впечатлило, что я захотел непременно научиться, и мой друг Игорь Севастьянов мне разрешал взять этот прибор для выжигания по дереву. Сам Игорь умел делать великолепные изделия, выжигал настоящие картины.
А вообще я люблю одиночество – возможно, потому, что, имея с рождения тяжелое заболевание, со мной редко кто хотел общаться. К тому же у большинства ребят были родители, а моя мать отказалась от меня, узнав, что родился инвалид. Я узнал об этом уже взрослым: оказывается, она вообще не хотела меня рожать и любым способом пыталась избавиться от беременности. Но не получилось. Тогда мама написала отказную.
По мере взросления мне всё сильнее хотелось узнать что-то о моих родителях. Я очень благодарен за помощь и поддержку в этом вопросе семье Харламовых и однокашнику Виктору Сударкину.
Но вот что хочу сказать: я не жалею ни об одном дне, ни об одной минуте, прожитых мною!.. Пройдя все испытания, начиная с детства, я сумел доказать (в первую очередь, своим родителям), что я – человек, хотя и инвалид. И мне много раз хотелось обратиться к отцу:
– Папа, вот и я сумел сделать так, чтобы наша фамилия зазвучала. Твоего сына знают не только в нашем городе, где он родился. Его знают в городе, где он сейчас живет, о нем слышали по всей России. Я понимаю: если вдруг начну гордиться и зазнаваться, то всё, чего я добился, может не принести пользы. Поэтому ставлю перед собой новую задачу: чтобы на моем примере ребята, которые упали духом, после получения инвалидности смогли почувствовать себя нужными обществу…
Людмила Безусова
Родилась в 1955 году в г. Лабинске (Краснодарский край), воспитывалась в детском доме. Училась в Новокубанской школе-интернате.
В 1978 году закончила лечебный факультет Кубанского медицинского института им. Красной Армии, в 1980-м – клиническую ординатуру по хирургии. 9 лет работала врачом-хирургом в Лабинской ЦРБ.
В настоящее время – врач-трансфузиолог высшей категории, заведует отделением.
Автор 31 сборника стихов. Состоит в Союзе журналистов России и в Союзе российских писателей.
Лауреат национальной премии «Поэт года – 2015» в номинации «Выбор издательства».
Лауреат международных фестивалей 2019 года имени А. С. Пушкина (III степени) и имени П. П. Бажова (II степени) в номинации «Поэзия».
Ангела вуаль
- Ангела вуаль
- Падает с небес!
- Накрывает шаль
- Прикорнувший лес.
- Кутает заботливо
- Веточки деревьев,
- Где стволы холодные
- Заметают ветры.
- Там мороз колдует,
- По ночам шаманит,
- Кружев нарисует,
- Вяжет и бросает,
- Вьюга-заводила
- До утра поёт
- И ночным светилам
- Закрывает ход.
- Падают снежинки
- На глаза, ресницы,
- Локоны и губы
- Да на рукавицы.
- В серебристой шубке
- Снегурочка стоит.
- И обнять голубку
- Вьюга не велит.
- Не согреть ее мне
- Любовью и теплом.
- И в сугробах тонет
- Занесенный дом.
- И скрипит, качаясь,
- На ветру фонарь.
- Зимушка примчалась,
- И бузит февраль.
- В белое, пушистое
- Всё вокруг одел,
- А глаза лучистые
- Спрятать не сумел!
Где вы, мальчики?
- Заплакала тихо,
- Присев на крыльцо…
- И, словно трусиха,
- Закрыла лицо.
- А плечи дрожали,
- Дрожало белье.
- И плач выдавали
- Безмолвный ее.
- У ног треуголкой
- Маячил конверт.
- А в нем похоронка —
- Последний привет!
- «Убили! Убили!
- Но как же ты мог?
- По-хо-ро-ни-ли…
- Не верю, сынок!»
- И руки она убрала от лица,
- Спустилась, качаясь,
- С родного крыльца.
- Ко мне подошла,
- Прислонилось щекой.
- И горькой меня
- Напоила слезой!
- С тех пор эта горечь
- Всё бродит во мне.
- Ах! Мальчики! Где вы?
- В Афгане?.. В Чечне?..
- Вас матери ищут,
- И девочки ждут.
- А черные вороны
- В спины клюют…
Разговор с Богом
- Я просил у Бога счастья —
- Он мне дал одни ненастья.
- Я старался, я потел,
- Я их все преодолел.
- Попросил любви у Бога —
- Он сказал: «Иди! Ищи!
- До любви одна дорога:
- Половинка от души!»
- Я здоровья попросил —
- Бог ответил: «Пошутил?
- Дух ведь должен быть здоров,
- А для тела нет основ!»
- Попросил я смерть у Бога.
- Бог сказал: «Ее не жди!
- Смерть – для тела! Что в нем проку?
- Нет же смерти для души!»
Жизнь
- Жизнь – это ниточка тонкая:
- Рвется в ненужный момент…
- В детстве упругая, звонкая,
- К старости сходит на нет!
- Жизнь – это веточка хрупкая.
- Очень легко поломать.
- В несправедливости жуткая:
- Может трагедией стать!
- Жизнь – это в мир путешествие,
- Долгий и трудный маршрут!
- То, как потоп и нашествие,
- Беды-напасти ползут:
- Полосы черные, белые.
- Будни то яркие, серые,
- То пролетают, ползут,
- То от безделицы пьяные…
- Но, наконец, окаянные,
- Счастье и радость несут.
- Жизнь паутиной запутана,
- Вся узелками завязана.
- В детстве в пеленку закутана,
- А в погребенье развязана.
Блокадный Ленинград
- – Дяденька, дайте хлебца…
- Самого наипростого,
- Не надо изюма и специй!
- Черненького, ржаного!
- Мне бы кусочек, две крошки
- Вы бы могли бы дать!
- Ну не могу из кошки
- Нашей я суп принимать!
- Вы, дяденька, солдатик?
- Умерли отец и мать…
- А сестреночка и братик
- Встать не могут, бать!
- Отколи нам сахарочка —
- Сладкого, как рай,
- Мы не съели! Жива кошка!
- Батя! Выручай!
- – Господи! Прими, сердечко,
- Весь солдатский пай
- И пока сгорает свечка,
- Семью выручай.
- Вам мой хлеб сейчас нужнее.
- Ты скажи, вы где?..
- Нет для вас сейчас важнее:
- Выжить на земле!
Когда прощаемся на миг…
(Акростих)
- Когда прощаемся на миг,
- Оставь душе своей навеки
- Глаза, улыбку, шепот, крик,
- Дрожание ресниц на веках…
- А напоследок прикоснись,
- Почувствуй ангела дыханье.
- Расставшись на мгновенье, жизнь
- Очертит полосу страданья
- Щенячьим возгласом тоски…
- Ах! Как любовь душой хранима!
- Ей дорог поцелуй руки:
- Мгновение – но как же мило!
- Сияет чуткая душа,
- Являя образ ипостаси
- На благо чести и ума,
- А в глубине скрывает страсти.
- Мы запираем на засов
- И прячем то, что сокровенно.
- Грустить и умирать любовь
- не заставляй ни на мгновенье!
Елена Белоусова
Живет в селе Перелюб Саратовской области. Работает методистом в детской библиотеке, воспитывает двоих сыновей. Стихи пишет с 10 лет, это для нее – требование души.
Член Российского союза писателей, участник Международной ассоциации «Содружество» литераторов Болгарии, России, Сербии. Активный автор международных литературных альманахов «Славянская лира» и «Содружество».
Принимала участие в формировании литературных сборников от Международного союза русскоязычных писателей – «Русская душа», «Вчера закончилась война», «Что за прелесть эти сказки!». Дважды участвовала в благотворительном литературном конкурсе «Мы за них в ответе», вырученные средства от которого шли на помощь бездомным животным.
Постоянный участник ежегодного Всероссийского литературного конкурса «Герои великой Победы»: трижды полуфиналист с присвоением почетного знака призера и памятной медали.
Степь
- Степь раскинулась – не объять!
- Взглядом пылким ни вдаль, ни вширь.
- С ветром в поле могу летать,
- Забывая про внешний мир!
- Льется песнь – ее поет степь.
- Сладострастен простой напев!
- Я без крыльев могу взлететь,
- Полет ощущая телом!
- Жар душевный не погасить!
- В разлуке люблю горячей.
- Сию жажду не утолить
- За число отведенных дней.
- Невозможно сильней любить,
- Чувству этому не сгореть…
- Сердце стонет, когда вдали
- Слышу песнь! Ее поет степь!
- Окружала добром, как мать.
- Обнимала теплом, как отец.
- От бед защищала, как брат,
- От злых и холодных сердец!
- В широкой степи – приволье.
- Солнечным светом согрета…
- На сердце тепло, спокойно!
- Она – моя добродетель!
- Она же оберегала,
- Сизой голубкой вскормила.
- Спасибо, что принимала!
- Спасибо, что полюбила!
- В степи мой родительский дом.
- Каждая мелочь любима.
- Шелест, до боли знакомый,
- И запах неповторимый!
- Шепот реки утром ранним
- Усладою день ото дня.
- Увидь душевные раны —
- Пойми, что не жить без тебя!
- Речка молчит терпеливо,
- А искры вонзаются в гладь!
- Смотрю, смотрю молчаливо,
- И взгляд не могу оторвать!
- А ночь из звезд паутиной
- Словно шалью, окутает —
- Голову, руки и спину,
- Мысли по-доброму спутав.
- Кто на земле грешной знает,
- Рвемся зачем и просимся
- Туда, где на свет рождались?..
- В других местах мы лишь гости!
- Почему так страстью горим
- К малой Родине, стороне?
- Отведенные тлеют дни,
- Но не гаснет Любовь во мне!
- Словно птица, вспорхнет вопрос.
- Под аккорды степи исполнит
- Колыбельную песнь рогоз
- И теплом мою душу заполнит!
- От усталости стихнет песнь.
- Нега в сон вплетена лентой.
- Ты мне мать, бесконечная степь!
- Тебе сердце останется верным…
- Лишь рогоз, убаюканный ветром,
- Накренится, будто в усталости.
- Степи вольной мы вольные дети —
- И достойны высот, а не жалости!
Натали Биссо
Поэт-песенник, прозаик, эссеист, клипмейкер. Живет в г. Маннгейм (Германия).
Автор 8 авторских сборников и около 100 песен, сотрудничает более чем с 50 международными альманахами, 40 газетами и журналами разных стран. Стихи Натали переведены на 18 языков мира.
Академик Международной академии развития литературы и искусства (МАРЛИ). Член нескольких писательских союзов, лауреат многих всемирных конкурсов, кавалер международных литературных и музыкальных медалей и орденов, имеет звание «Золотое перо Руси».
Как никто никогда
(Песня)
- Пусть кружит звездопад, невпопад покидая Вселенную,
- Пусть обрушится вмиг на планету сиреневый зной!..
- Я пленен навсегда добровольными сладкими пленами,
- Об одном лишь мечтая: когда-то я буду с тобой!
- Нет прекраснее чувств! Успокой мою душу мятежную!
- Если грех так любить – я давно болен этим грехом!
- Лишь в надежде на взгляд и улыбку твою белоснежную,
- Я зализывал раны до одури грешным вином.
- Чистотою души я влюблен в твою душу красивую!
- Ах, за что же мой Бог в жизни грешной меня наградил?
- Подарил мне твой образ с глазами невинно-игривыми…
- Я люблю тебя так, как никто никогда не любил!
- Отмолю все грехи: я сполна нагрешил на планете сей!
- Будут вёсны кружить… Я с надеждою тайною жил…
- Изумленно поведаю звездам о новом сюжете я —
- Что тебя так люблю, как никто никогда не любил!
- Припев:
- Обожаю тебя чистотой моей грешной души!
- Несравнимо ни с чем волшебство… и твой голос,
- твой смех…
- Я достиг уж давно самых высших блаженства вершин.
- Ты мой свет! Ты мой Бог! Моя жизнь, мой причал
- и мой грех!
Как на крыле
- Живу, как будто на крыле несусь —
- Вперед и ввысь, стремительно и страстно.
- На завтрак – кофе, а на ужин – грусть,
- И жизнь мне кажется такой контрастной.
- Молчу, как будто жду извне ответ,
- А время между тем меняет скорость.
- Ну а пока грядет чужой рассвет,
- Я открываю истин невесомость.
- Не завершится даже под закат
- Та череда всех дел и всех свершений.
- И кто, скажите, в этом виноват,
- Что мчится быстро смена поколений?..
- Но как без смены выживать Земле?
- Природа – мавр, ни в ком она не дремлет,
- И на планете, как на корабле,
- Меняя вахту, новой смене внемлет.
Простая наука
- Не корми зло в себе, не завидуй другому:
- Лесть и зависть – плохие по жизни друзья.
- Вся наука проста, лишь взгляни по-иному.
- Злейший враг – он в тебе! Победишь – ты в князьях!
- Ты не доллар, чтоб нравиться всем бесконечно,
- Выбрал цель – так иди к ней, назло всем врагам!
- Объяснять свои действия слишком беспечно:
- Остановишься – можешь попасть в чужой храм.
- Пообщайся с врагами (будет польза огромной),
- Лишь от них ты узнаешь легко о себе,
- То, что скрыто от глаз и от мысли нескромной,
- Протрубит в них, подобно не медной трубе.
- Не проси! Не жди милости – чуда не будет!
- Контролируй всё сам, ты – хозяин судьбы!
- Будь с собою в ладу, миг победы добудешь
- Лишь в борьбе! Только знай: рифы жизни грубы.
Альфред Бодров
Родился в 1942 году в г. Кутаиси (Грузия). Окончил исторический факультет МГПИ им. Ленина.
Проработав по специальности почти двадцать лет, продолжил деятельность в СМИ, вступив в Союз журналистов России.
Награжден дипломом издательского дома Максима Бурдина «За видный вклад в сохранение нравственных и языковых традиций в Российском государстве в связи с участием в сборнике „Не медь звенящая“ памяти благоверных Петра и Февроньи», дипломом финалиста конкурса-премии Интернационального Союза писателей, драматургов и журналистов имени Героев Советского Союза М. Егорова, А. Береста, М. Кантария в номинации «Художественное слово о войне» к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Как медведь лешего одолел
Медведь-воевода протер глаза после зимней спячки, вызвал к себе птицу Иволгу, да так рыкнул, что у несчастной с хвоста перья посыпались:
– До каких пор у меня под боком Леший будет строить козни против меня?
Мишка от возмущения даже на задние лапы встал и передними так замахал, что вот-вот на пернатую набросится. Иволга взлетела, и была служанка такова.
– Я разберусь с Лешим так, что ему не поздоровится! – произнес Топтыгин громовым рыком.
Лес содрогнулся, услышав этот рык. Леший тоже перепугался, хотя был не из робкого десятка. Он скрылся в лесной чаще.
Мишка и там нашел своего недруга. Столкнувшись с Лешим, воевода не растерялся и пошел прямо на него, но тот увернулся, прыгнув ему на голову.
Совсем обозлился Мишка и побежал, не разбирая лесных троп. От злобы он ослеп. Крепко вцепился Леший в голову Топтыгину. Бежит и думает косолапый, что скорее освободится от ненавистного наездника, если быстро добежит до какого-нибудь болота.
Всё лесное население попряталось в кустах, по деревьям, в норах. Только всякая нечисть повылезала наружу. Она выла, свистела, пищала, мяукала, лаяла, квакала, крякала, поддерживая Лешего. Это были упыри, кикиморы болотные, пиявки, клещи да пауки.
На пути бегущего Мишки оказался Ленивец. Он висел на суку вниз головой и размышлял. Все интеллигенты размышляют – неважно, о чем, лишь бы размышлять. Ленивец был интеллигентом и потому размышлял. Все ленивцы размышляют, потому что интеллигенты. Никто из лесного братства так не мог размышлять, как Ленивец. Он висел вниз головой, держался за хвост и висел. Ему хорошо было размышлять, на лес и зверье глядя снизу вверх, совсем другое впечатление получаешь.
Висит Ленивец на суку вниз головой и ждет гостей на коре дерева. Увидит и нехотя своим шершавым длинным языком слизнет участников трапезы – и снова висит, зацепившись хвостом за ветку дерева. В полусне он размечтался, как к нему на обед добровольно идут самые любимые лакомства: становятся в очередь и идут, идут… Сами идут, без кнута и пряника, при этом славословят Ленивца, выкрикивая ему здравицу. Не просто идут, а идут с выдумкой: то карнавальным шествием, то военным маршем, то парадом физкультурников. Полакомится первой партией живого деликатеса – и закроет глаза от удовольствия под торжественные и сладостные звуки здравицы в его честь…
…Ленивец так размечтался, что не заметил, как свалился на землю, сбитый бегущим воеводой. Несется Мишка с Лешим на голове, и с размаху плюхнулся в озерцо, которое оказалось на его пути.
Топтыгин вылез на берег, встряхнулся и развалился на берегу: обсушиться на солнце. Лежит Мишка и подставляет солнцу то один бок, то другой, зажмурившись. Вдруг он вспомнил, что после зимней спячки еще маковой росинки на язык не брал. Поднялся на задние лапы и с рыком отправился на охоту.
Сороки разнесли по всему лесу новость:
– Медведь остается хозяином леса. Многая лета нашему воеводе!..
Всё лесное население, в страхе укрывшись в чаще, трижды восславило хозяина леса.
Михаил Топтыгин, утолив голод, великодушно простил Лешего, и в лесу снова воцарились мир и согласие.
Тайна старого храма
Это произошло в те далекие времена, когда недовольные военными поборами местные князья – азнауры – враждовали с царем Багратом.
Царь Баграт III, при котором в столице на холме Уквеми-риони, то есть на нижнем, правом берегу реки Реюнион, как называли ее древние римляне, был построен храм Успения Пресвятой Богородицы. На этой земле побывали не только аргонавты, но и римские легионы. Они окрестили реку Реюнион, от этого названия и произошло Риони.
Строительные работы начались незамедлительно по проекту и плану сына Деметре.
Азнауры готовили заговор против царя. Они обратились к ворожейке Мадлен с просьбой предсказать успех в борьбе против Баграта.
В ответ Мадлен сама предложила заговорщикам свою помощь, объяснив, что в молодости пострадала от царя и готова ему отомстить. Она велела распространить слух на Большом базаре, будто Деметре – незаконнорожденный ребенок Баграта, а родного сына он приказал завернуть в бурку и заложить в фундамент храма, чтобы никто не обнаружил. Мадлен обещала заставить царя признаться в злодеянии, которого не совершал.
Всё так и произошло. По всей столице люди стали возмущаться царем, требуя его казни и расправы над Деметре. Баграт дознался, чьих это рук дело, и приказал доставить к нему Мадлен, чтобы наказать ее за подлый навет.
Однако ворожейка бесследно исчезла.
Прошло много времени, храм царя Баграта давно разрушился, столица государства перешла на берега реки Куры. Вдруг на Большом базаре поползли слухи, будто возле развалин храма появился призрак: он неожиданно возникает вместе с молодым месяцем и исчезает вместе с полнолунием.
Люди подумали, что это призрак ворожейки Мадлен, которая почему-то носилась среди камней, копала под ними, бормотала что-то себе под нос. Народ стал прислушиваться к голосу, который доносился от призрака. Так постепенно узнали, что не царь Баграт, а Мадлен сумела незаметно для строителей подложить в фундамент храма свою родную незаконнорожденную дочку – живую, и ей не исполнилось еще одного месяца.
Узнав, что царедворцы ее ищут, Мадлен добралась до горной реки Гумиста и бросилась на ее камни.
Оказавшись в аду, совесть в ее душе проснулась, ворожейка превратилась в призрак и стала искать дочку среди развалин старого храма. Поговаривают, будто по ворожбе призрака Мадлен он и разрушился – чтобы она могла быстрее найти останки дочери.
На самом деле храм разрушился из-за войны с врагами, нападавшими с юга. Его восстановили через триста лет, и призрак исчез.
Вад. Пан
Активный участник Р. Ж. и прочих форумов с 1998 года (понятия «блогер» еще не было). Автор портала «Проза.ру», публиковался в журнале «Край городов».
Книга «Дети питерских улиц» (первая версия повести) издана в 2008 г.
В 2010 году награжден дипломом международного конкурса малой прозы «Белая скрижаль». Лауреат конкурса Лито.ру с правом призовой публикация в журнале «Контрабанда» (2011 г.)
В 2019 году опубликована книга «Дети гранитных улиц» (вторая версия повести).
Лауреат 3-й степени Московской литературной премии – 2020 в номинации «Роман».
Дети гранитных улиц
(Глава из повести)
Восхождение
В очередной раз вернувшись с Северного Кавказа, Гоша пребывал в отличном расположении духа. Будущее представлялось чистым и безоблачным, никаких перспектив, как и работы, не было. Так что обозримое время он намеревался честно «маяться дурью», полагая, что, трижды перемахнув главный кавказский хребет, этим летом он достаточно поработал.
Единственным омрачавшим столь безоблачное состояние фактом было понимание мимолетности этого блаженного счастья. Идейному раздолбаю Гоше, вечно оказывающемуся в гуще непонятных людей и событий, на самом деле претила вся эта мирская суета: ничто он так не ценил, как рок и одиночество.
Может, ради этого он и уходил в горы?..
Впрочем, какая такая сила тянет людей в горы, Гоша не мог объяснить даже себе. Наверное, была в этом и красота, и масштаб горных пространств, и иное ощущение личности, окружающего мира, собственной значимости…
Но что толкает индивида вместо наслаждения короткими мгновеньями питерского лета из года в год, по колено в снегу, переть неподъемный рюкзак на высоту в две-три тысячи метров над уровнем моря, по убеждению Гоши каждый должен объяснять себе сам. Там, до тошноты измотанный и злой, перематюгавший всё и всех, он согревался единственной мечтой об этих самых мгновеньях – о диване, жареной картошке… и эта обостренная вспышка любви ко всему привычному, даже надоевшему, казалась Гоше достаточным стимулом, чтобы на время покинуть цивилизацию.
Очевидно, у других были свои мотивы. Его поражал Барклай, которого сладкий миг возвращения, похоже, совсем не заботил. Очередной бредовой идеей Барклая было покорение горы Чегет. Подъем на эту лавиноопасную, официально закрытую для посещений вершину, нормальными людьми рассматривался не иначе как попытка самоубийства. Последними ушедшими на Чегет называли не то шведскую, не то норвежскую группу. «Они любили горы, пусть там и остаются», – все на Кавказе знали ответ из телеграммы родственников на предложение оплатить поиск тел. Следующим готовился стать Барклай.
Не меньше Гошу удивляла Кирка.
– Ну эту-то куда несет?! – недоумевал он, давно позабыв, кто именно был инициатором ее походов, и не находя иных объяснений, кроме ярой приверженности к мазохизму. – Сидела бы, дура, дома! – сплевывал Гоша, когда из-за остановки связки в сотый раз бился башкой о котелок впереди идущего.
Кирку ставили вперед и гнали ледорубом, пока у той получалось переставлять ноги. Пару раз она сдыхала полностью, и ее снаряжение делили по цепи. Основную часть брал Барклай, что вызывало в Гоше, готовом убить за каждый лишний грамм, сложное чувство восхищения и обиды.
– Вот ведь джентльмен хренов! – ворчал он, с завистью провожая взглядом прущего как бульдозер Барклая.
Но в лагере, видя спокойно и деловито перебирающую снаряжение Кирку, глядя на ее хрупкую фигурку, плотно сжатые губы (обветренные почти до глаз, как у мартышки), его злость сменяли другие эмоции.
– А я бы так мог?! – не раз спрашивал себя Гоша, перед неломающейся, словно гвоздь, Киркой, и не находил ответа.
Всё это осталось там, в предгорьях Эльбруса, в Питере не должно было быть ничего, что отвлекло бы от столь сладостной и всегда мимолетной возможности наслаждаться ленью. И нужно ли говорить, как его взбесил телефонный звонок в шесть утра?
Звонил Барклай.
– Ты радио слушаешь? – без обиняков начал он. – В стране государственный переворот! Горбачёва сместили, у нас теперь ГКЧП!
– Послушай, Барклай, ты сдурел?! – огрызнулся Гоша. – Какой, нафиг, Горбачёв?! Какое ЧП?! Какое радио?! Ты на часы смотришь?! – Он негодовал: ну не совсем же Барклай дурак, чтобы всерьез будить человека по такому поводу!
– У тебя коротковолновый приемник есть? – не обращал тот внимания на раздражение Гоши. – Поймай «Свободу» или «Би-Би-Си», у них сейчас, кажется, всё на русском. В Москве танки, колонны идут на Питер, мы собираемся у меня, на Мойке!
– Да пошел ты! – огрызнулся Гоша и повесил трубку. – Танки… Москва… – ворчал он, пытаясь заснуть. – Барклай! Война давно кончилась! Наши победили. Тебе Горбачёва жалко? Ну пойди и тихо удавись, людей-то зачем будить?..
Только полностью соблюдя ритуал поклонения собственной лени, Гоша собрался и отправился в сторону Мойки. В центре было всё так необычно и занятно! Возбужденные толпы, знамена, перегороженные улицы. Все на полном серьезе ждали танков. Он даже забыл о Барклае, полагая, что тот давно сидит в окопе с гранатой под каким-нибудь Можайском (что, надо сказать, было недалеко от истины), и вспомнил о нем, лишь наблюдая, как сгружают бетонные блоки, воздвигая форпосты вокруг Ленсовета.
С истрепанным борьбой Барклаем он встретился лишь под утро, когда эти укрепления столь же спешно разбирали, словно стесняясь собственного испуга.
В городе наступило затишье перед общегородским митингом.
Уставший Барклай рассказывал немного, был обижен и сосредоточен. Зато скоро объявилась Кирка, которая трещала не умолкая.
С понедельника она вернулась на репетиции своего танцевального ансамбля и сразу угодила в автобус, отправляющийся на чествование блокадников. Но вместо встречи ветеранов окружного госпиталя на Мойке их автобус оказался в водовороте путча.
– Подъезжаем – блин!.. Там народу неадекватного! Улицы перегородили! Все гудят! Динамики орут: «Граждане! Сохраняйте спокойствие, танки в город не вошли!» Анархисты с флагами подбежали, давай по автобусу дубасить: «Ура! Девчонки! Ура! Подкрепление!» Потом какой-то хмырь в пиджаке пришел. «Девочки! Вы согласны с группой добровольцев поехать навстречу колонне псковской десантной дивизии? Видите, какая здесь ситуация?! Нужно объяснять солдатам, что вход танков в город – это кровь! Что приказы их командования незаконны, а действительны только распоряжения правительства Российской Федерации!» Мы-то что?.. Надо так надо! С группой добровольцев оно вроде не так страшно, а то как незаконно из пушки долбанут! В общем, посадили к нам еще эту группу – трех мальчиков с фотоаппаратами, загрузили прокламации, три ящика бутербродов – и вперед! На танки! И вот катим мы такие, десять дур, с тремя фотографами, в катафалке с цветами, а страшно! Даже ржать не хочется… Увезли нас черт знает куда, за Лугу! Там местный народ, наверно, обалдел. Представь, целый автобус баб высовывается и орет: «Скажите, здесь танки не проходили?!» Только на заправке узнали, что колонна еще утром прошла. Мы обратно, ее искать…
Слушая Киркин рассказ, Гоша фыркал с явным неудовольствием. То, как они относятся к армии, он только что видел по бетонным надолбам от Казанского до Мариинского, а девчонок на танки – это можно?!
– Мы вылетаем, орем, – продолжала тараторить Кирка. – «Мальчики! Мы вас любим! Приезжайте в Питер! Только не на танках!». Машка с цветами, я с бутербродами, прокламации под мышкой! Эти в своих танках ни черта не понимают, повысовывались из люков: «Эй! Кто такие?.. Что случилось?! Какой Питер?» Мы орем: «Мы из Питера! Мы вас любим! Не надо вам сейчас в Ленинград! Там баррикады!»
– Место, где колонну нашли, указать сможешь? – перебил Барклай.
Гоша поморщился:
– Барклай! Ты с армией воевать собрался?
– Нет. Тут немного помитингуем, а как они придут, все расступимся, чтобы не мешать! Это они сейчас по кустам забились, потому что народ поднялся! Вот помяни мое слово, если в Москве Белый дом возьмут, в Питере на всех крови хватит!
Кирка чуть не задохнулась от возмущения:
– Это моя колонна! Это я за ними целый день по проселкам моталась! И не дам моих танкистов обижать!
Киркин рассказ, воинственность Барклая – всё заводило Гошу, пробуждая к действию:
– Барклай! Митинг будет на Дворцовой? А мы с тобой по крышам на арку главного штаба выйдем?
– Ну, выйдем, и что? Я выходил. Там, правда, ограждение с колючкой, но пройти можно. И выход на крыши удачный есть, только что с того?..
– А давайте мы над Дворцовой российский стяг поднимем?! Только здоровый, метров на десять! Чтобы до самых отмороженных дошло, что после Москвы им еще Питер штурмовать!
Идея была, конечно, заманчивой.
– Только где мы такой флаг возьмем? – поморщился Барклай.
– В магазине!
– Найти ткань, прошить, еще крепёж… до митинга не успеть!
– Не нужно прошивать! Мы ткань по стене пустим, три полотна, по две лаги на карабинах!
– Там не десять… Пожалуй, все двадцать метров будет! А деньги у кого есть? Я, между прочим, только с гор спустился.
Обсуждение технической стороны было быстрым и гладким. Разногласия появились в идейной сфере:
– Я бело-сине-красный триколор поднимать не буду! – уперся Барклай. – Какое это, к черту, знамя России?! Это торговый флаг. Его Керенский государственным делал да Власов! А я ни того, ни другого не уважаю! Российский имперский штандарт – бело-черно-желтый.
– Что?.. Шибко умный?! – кипела в ответ Кирка. – Да кто знает этот бело-черно-желтый?! А бело-сине-красный давно все признают как знамя российской оппозиции!
– Да кто его признаёт? Был флаг торгашей, стал предателей! Твой триколор после Власова уже никто не отмоет!
– А его отмывать и не надо! Он и так красивый! – кричала Кирка. – Не то что твой заупокойно-имперский! Давай выйдем к Мариинскому или на Дворцовую и посчитаем, каких флагов больше?! Вот и увидишь, «кто признаёт!»
Такой поворот дела Гошу совсем не радовал, воодушевление идеей сменилось тревогой за ее реализацию.
– А может, цвета федерации поднять? – робко попробовал он примирить спорщиков, – пару красных да синий?
– Ага!..
– Видела я такого! К Мариинскому с федеративным флагом приперся. Его самого чуть на британский не порвали! Сдурел, что ли?! – накинулись на Гошу и Кирка, и Барклай. – Ты еще «Слава КПСС» напиши!
– Да сами вы сдурели! «Синий, желтый, красный», выбирают чего-то! В магазине выбирать будете! А если там вообще ни черта нет?! Нам крупно повезет, если хоть что-то на какой-то комплект соберем… Вот что достанем, то и поднимем!
На столь веский аргумент возражений не было.
Оставив недовольного Барклая готовить лаги и прощаться с карабинами, ребята понеслись по намеченному маршруту. Бегать им долго не пришлось. Хоть в магазине, как и предвидел Гоша, ни черта не было, запыхавшаяся Кирка накинулась на перепуганную продавщицу, пытаясь вдолбить ей, чего и сколько им нужно.
– Вы, наверное, пройдите к заведующей, – взмолилась бедная женщина.
Заведующая слушала посетителей с широко раскрытыми от удивления глазами. В несколько обалделой задумчивости она извинилась и надолго покинула кабинет.
– Ну что за черт! – бил копытом Гоша. – Времени и так нет! А тут еще эта коза водоплавающая!
Она объявилась минут через десять, уставившись на ребят более осмысленным, но не менее удивленным взглядом.
– Сейчас пройдите во двор, там машина, Саша отвезет вас на оптовую базу. Там уже отмеряют по двадцать метров плотного тика – белый, красный и есть голубой. Он тяжелый, скажете, отвезет куда нужно.
– А платить здесь или на базе? – испугалась Кирка собственного счастья, а главное, что у неё на него не хватит.
– Как-нибудь рассчитаетесь… а пока спасибо вам, ребята!
– Да вам спасибо… – удивленно протянул Гоша, отругав себя за негативные слова о такой женщине.
Многотысячный митинг был уже в разгаре, когда у подножия питерских крыш, в район реки Мойки, выдвинулась новосформированная группа.
Несмотря на удачу с материалом и ударный труд Барклая, пустившего на лаги каркас старой байдарки, только сборка крепежа и подготовка сегментов заняли более часа. Арку главного штаба должно было накрыть полотнище восьмидесяти метров квадратных, общим весом под шестьдесят килограммов.
Глядя на заготовленный Барклаем чехол от байдарки, Гоша издевался:
– Барклай, ты, как баклан, один эту «люльку» потянешь? И через колючку? Давай, вес дели по-умному!
Флаг упаковали по сегментам. И вот цепь в горном порядке поднималась на штурм арки главного штаба: ведущей шла Кирка, с белым сегментом триколора, за ней Гоша – стропы и синий, замыкал проводник Барклай, с крепежом и красным.
Пройдя по крышам квартал и преодолев ограждения комплекса генерального штаба, с «легкой проходимостью» которых Барклай явно погорячился, они вышли над дворцовой площадью. Митинг уже закончился. Большая трибуна опустела, от нее еще тянулась цепь народа и корреспондентов, редеющая толпа таяла, утекая в направлении Невского проспекта.
Кирка кусала губу от досады: опоздали! И хоть до подъема на арку осталось рукой подать – только крыша здания Ленинградского военного округа, боевое настроение группы резко упало.
– Разворачиваемся здесь! – скомандовал Барклай, сбрасывая снаряжение. – Кирка, ставь карабины! Гоша, крепи концы!
Через несколько минут пятиметровая трехцветная «кишка», растянутая по водосливу, крякнув и хлопнув, полетела вниз.
Торжественно сползающее по стене штаба Ленинградского военного округа трехцветное полотнище снизу отозвалось эффектом взрыва вакуумной бомбы. Редеющая толпа хлынула к Ростральной колонне, опрокинув вытекающий на Невский проспект людской поток. Все камеры разом развернулись, ослепив россыпью вспышек.
– Уходим! – скомандовал Барклай, машинально толкнув вперед Кирку.
Гоша будто остолбенел, оглушенный гигантским потоком энергии, с гулом и свистом ударившим снизу. Казалось, если расставить руки, эта волна подхватит и понесет над городом!
В чувство его привели загремевшие карабины. Кто-то из окон пытался сорвать флаг. Гоша очнулся, вспомнив, что он еще не дома!
Покинуть крышу главного штаба прежним путем уже не удалось. У колючки его повязали крепкие ребята в форме.
К своему пребыванию внутри штаба Ленинградского военного округа у Гоши претензий не было. Если не считать, что пришлось провести четыре часа на неудобном стуле, пока не явился человек в черной морской форме.
– Капитан первого ранга Сергеев, офицер государственной безопасности, – представился незнакомец.
Гоша приготовился к чему угодно, а от пережитого состояния эйфории ему было вообще всё пофиг, но этот офицер ему как-то сразу понравился.
Единственной своей задачей Гоша считал не проболтаться и не сдать кого-нибудь. Он и представить не мог, насколько трудно будет отвечать на самые простые вопросы.
– Как вы прошли по крышам? Можете нарисовать? Почему именно по этому крылу? Вы знали маршрут? Как нашли проход через чердак? У вас есть друзья, знакомые в этом районе? Как вы подготовили флаг? В чем несли? Откуда? Когда купили ткань? Где? Там всегда есть ткань в таком ассортименте?
Гоша постоянно сбивался и путался, с ужасом понимая, что в своем единоличном участии он не убедит и младенца! Но Сергеев не давил, лишь улыбался и переходил непринужденно, даже дружески, к следующим вопросам:
– В который раз были на Кавказе? А в других горах? Тренируетесь в городе? Есть места стоянок или базы? А в горах?
Про это было рассказывать куда проще…
Из здания главного штаба его отправили в другое, не столь отдаленное место, где в чистой светлой комнате с санузлом и умывальником он просидел еще черт знает сколько, потому что вслед за изъятыми альпийским ножом для строп, крюками и плоскогубцами здесь его оставили даже без часов и шнурков.
Тем временем кадры наползающих на дворцовую площадь полотнищ обогнули весь мир. Флаг провисел всего несколько минут, но этого штабу Ленинградского военного округа хватило, чтобы догнать по популярности Пентагон. Как не без ехидства заметил один из иностранных обозревателей: «Стал первым официальным зданием России, где российский триколор можно увидеть не только из окон, но и на крыше!»
С победой демократии освободили и Гошу. Из последнего места отсидки – в районном отделении милиции – его забрала тетка. Его только предупредили о необходимости не покидать место жительства «вследствие возможных вызовов для дачи показаний».
Гоша был счастлив. Лишь тетка всю дорогу ворчала:
– Вот опять! Никто в милиции не сидит, только ему одному надо!
Вскоре вся группа была снова в сборе.
– И что там было? – колотило от любопытства Кирку.
– Ничего! В штабе с гэбешником пообщался, и всё, – честно признался Гоша. – Только возили с места на место.
– Ну а говорили чего?
– Говорили, дело откроют, за незаконное проникновение на особо охраняемый объект в террористических целях, за экстремизм, вооруженное нападение… у меня твой нож изъяли и крюки.
– Да хрен с ними, крюками! – взорвался Барклай. – Ты чего на крыше торчал?! Сказано – уходим, значит уходим!
– А вы чего сбежали?! – огрызнулся Гоша. – Наш флаг так на площади бабахнул! Мы же его реально на весь мир подняли! Подумаешь, отсидели бы за демократию пару дней…
– Во-первых, не подняли, а спустили! – сплюнул Барклай, всем своим видом выражая крайнее неудовольствие и презрение. – Во-вторых, славы захотелось? На сцену иди! Что на крыше-то, как придурку, руками махать?! Да чтобы я еще раз с таким идиотом куда-нибудь пошел… Про нас спрашивали?..
– Не сказал я про вас ничего, был на крыше один – и всё! И потом, какая теперь разница? Разуй глаза – наши победили! Наш флаг везде развешивают, ГКЧП скинули, Горбачёва вернули, демократы у власти! А между прочим, они нам кое-чем обязаны! Да может, нас еще наградят!
– Ага, тебя наградят, – ухмыльнулся Барклай, – орденом с крышку люка! А если узнаю, что ты меня или Кирку сдал, я тебе лично морду набью!
Сомневаться в этом у Гоши не было никаких оснований.
Несмотря на обиду, Гоша тяжело переживал этот разрыв. Он долго обдумывал, как доказать Барклаю, что тот неправ. И очень обрадовался, когда бойкий женский голос в телефонной трубке из Ленсовета сообщил, что его приглашают быть представленным принцу Эдинбургскому! Который с потомками рода Романовых неофициально посещает Петербург. Голос говорил, что члены императорской фамилии, к которым относится и сам принц Эдинбургский, впечатлены его смелой акцией, пожелали встретиться без посторонних и официальных лиц, и через три часа он должен быть на Петровской набережной.
– А можно, я не один приду? Я же не один флаг поднимал!
В трубке пообещали согласовать этот вопрос на месте.
Гоша бросился вызванивать Кирку. Барклаю он звонить не собирался.
На Петровской его с примчавшейся Киркой провели в роскошный дворец с пышной белой лестницей и множеством не менее роскошных позолоченных залов. В том, где их оставила дама из Ленсовета, бродили еще с десяток человек, да за дверью, в которую шмыгнула дама, дурачились два пацана: долговязый, повзрослей, в коричневом пиджаке, разыгрывал бой на шпагах с другим, полненьким, помладше.
На Гошу с Киркой никто не обращал внимания, и пронырливая Кирка, пользуясь этим, разнюхала всё, что можно.
– Вон этот длинный, в коричневом пиджаке, и есть принц Эдинбургский, – шептала она Гоше собранную информацию, – а вон та, за дверью, с мрачным взглядом, сейчас у Романовых самая главная! Она ему, кажется, тетка… а вот эта, с которой та, что нас встречала, разговаривает, – это их гид! Она им их бывшую собственность показывает! Этот дворец до революции тоже Романовым принадлежал, – тараторила Кирка, – представляешь?!
Впрочем, Гоша ее не слушал: от окружающего великолепия у него скрутило живот.
Вскоре дама зычным голосом объявила, чтобы все с фотоаппаратами и камерами покинули помещение, и принялась вместе с гидом строить Гошу с Киркой посреди зала в шеренгу. После громогласного объявления к ним подошел приосанившийся и повзрослевший принц. Гоша не без удивления отметил, что, похоже, они ровесники. Больше никого из Романовых не представляли.
Гид зачитала обращение:
– «Для миллионов людей во всем мире поднятое вами знамя стало символом конца коммунистической эпохи России! А для всех русских людей за рубежом – надеждой на ее возрождение!»
Затем принц шагнул к Кирке (Гоша видел, как та подпрыгнула, будто коснулась горячего чайника) и к нему.
– Поздравляю, – пожал руку принц, – и желаю всегда оставаться с Россией!
На этом церемония закончилась.
Кирка была в восторге. Выйдя на набережную, Гоша уже устал от всех, кому Кирка похвастает знакомством с настоящим принцем!
Настроение Гоши было не таким радужным.
– О чем вы там болтали? И чего ты дергалась? – мрачно спросил он, скорее из вежливости, чем из любопытства.
– Так я же не знала, что он мне будет руку целовать! Мне раньше никогда рук не целовали! Тем более принцы! Я ее теперь неделю мыть не буду! – трещала Кирка. – А ты чего такой мрачный?
– Да что это за прием? – вздохнул Гоша. – Поставили и выставили… хоть бы подарили чего или…
– А что ты ждал? Шубу с барского плеча? Золотой портсигар в алмазах? Или орден с крышку люка? – издевалась Кирка.
– Да нет, зачем мне орден? Я согласен на медаль, – вздохнул Гоша, с грустью вспоминая с какими надеждами он ехал на Петровскую набережную. По дороге он подготовил целую речь, обращенную не столько к принцу, сколько к Барклаю, он хотел перед камерами рассказать всему миру о нем и Кирке и очень надеялся, что сегодняшний день станет днем их примирения!
– Они даже всех фотографов выставили! Значит, и фотографий твоего принца у тебя не будет, – ворчал он. – Да и вообще, могли бы на что и разориться! Барклай Отечеству восемь карабинов со стропами не пожалел! Тоже, знаешь ли, не копейки, а уж Романовым-то сам Бог велел!
Мнение Гоши об этом не изменилось, даже когда Кирка принесла газету с заметкой об их чествовании. Заметка называлась «Герои России».
Следующее напоминание об августе 1991-го тоже нагрянуло с телефонного звонка. Только теперь Гошу разыскивала тетка: сообщить, что у него обыск, и чтобы он срочно мчался домой.
Здесь его ждали четверо мужчин в штатском, разворошенная комната и сложенные на столе вещи, по которым требовались его пояснения. В основном это были карты Северного Кавказа, на которых «горники» отмечают пройденные маршруты, – с разметкой перевалов и записями по привязке к местности. Здесь же был путеводитель туристических маршрутов, подробное описание чечено-ингушских долин со схемами хребтов, дорогами, тропами и кратким описанием населенных пунктов, очень ценный и подробный сборник перевалов Приэльбрусья и еще несколько довольно полезных книг. По ним пояснения заключались лишь в дате и месте приобретения.
Трудней было объяснить наличие дробовика, который Гоша смастерил еще в детстве из отличной толстостенной трубки и пружины с бойком от ригельного замка. В его дворе у каждого мальчишки лежал такой же.
Объяснять это взрослым людям было как-то странно. Каждый первоклашка знал, что хороший дробовик – это тот, который выстрелит с трех спичек и выдержит заряд в пять коробков! Раньше они всем двором ходили стрелять крыс.
Еще хуже дела обстояли с гранулами, заинтересовавшими людей в штатском. Это была всего лишь прессованная толченая сера от спичек: заряды для дробовика. Просто обычная спичечная сера требует слишком сильного сжатия для детонации, повысить детонацию можно бертолетовой солью, которую местная детвора успешно добывала из размоченных пистонов. Гоша обрабатывал ею прессованные заряды, которые теперь тут и лежали, очень похожие на тол. Причем поверить, что эти гранулы – простая сера, запрессованная на этом самом столе, а не нечто привнесенное извне, людям в штатском оказалось совсем сложно. Гоше пришлось даже самому отыскать «машинку» из трубки и двух гвоздей для запрессовки серы.
«У них что, в детстве во дворе серу не прессовали?!» – злился он, видя, с каким глубоким и искренним изумлением разглядывают и упаковывают они каждую гранулу. Изумлять их еще больше теорией детонации у него никакого желания не было, тем более что книжка «Юному фокуснику», где всё это очень доступно прописано, их не заинтересовала.
– Ну, собирайся! – вздохнул, видимо, главный из людей в штатском, когда все «объясненное» Гошино имущество со стола было упаковано в приличных размеров мешок.
– Мне с вами ехать?
– Да я вообще не понимаю, как ты до сих пор на свободе! – заявил тот.
И Гоша вновь отправился проторенным маршрутом с тем же спокойствием и безразличием, с каким в свое время спускался с крыши главного штаба. Конечно, он понимал и уровень угрозы, и шаткость положения, была и досада, что погорел на такой детской ерунде, но теперь это касалось только его, а ему скрывать было нечего. Было даже любопытно – как всё это можно связать с августом 1991-го?
В отличие от обаятельного капитана первого ранга Сергеева новый следователь не вызывал безусловных симпатий. Грубое, мясистое лицо с небольшими круглыми глазками, мощная атлетическая фигура – вот первое, что бросалось в глаза. Еще, пожалуй, не очень опрятная безрукавка, несколько диссонирующая с дресс-кодом этого заведения.
Он сразу выказал Гоше уважение, даже предложил обращаться к нему «просто Николай». Впрочем, Гоше, долго прождавшему допроса, было не до фамильярностей, а ход беседы поражал всё больше и больше.
Сразу удивило отсутствие как дробовика, так и интереса Николая к этой теме. Зато с большим вниманием тот изучал исчирканные карандашом схемы чечено-ингушских хребтов и карту двухгодичной давности – с маршрутом до грузинского поселка Мазери. Тогда они три дня блуждали по хребту, и Гоша отмечал для себя всё, чтобы потом знать, куда не соваться.
Говорить с Николаем было легко: чувствовалось, что он знаком с горами не понаслышке. Особенно тщательно он расспрашивал о верхнем Баксане и перевалах в районе ледника Джайлык.
Еще сильнее Гошу поразили другие вопросы: «Что вы слышали о чеченских родственниках гражданина Барклаева?» и «Как давно вы знаете Киру Иванову?»
Ему официально вручили подписку о невыезде, предупредив о немедленном взятии под стражу в случае ее нарушения или отказа сотрудничать со следствием. На вопрос, в чем его все-таки обвиняют и что ему грозит, Николай с глубоким сожалением и даже сочувствием предположил, что, судя по материалам дела, с учетом изъятого оружия Гоше грозит не менее семи лет.
– Это же полный идиотизм! Бред! Кому сказать, не поверят! – изливал тот душу Кирке. – Страны такой уже нет! Флаг наш уже государственный! А дело есть!
– В чем тебя все-таки обвиняют? – недоумевала Кирка.
– Экстремизм, изготовление оружия и взрывчатых веществ, и сильно подозреваю, этим не кончится!
Барклай пришел сразу, как узнал о Гошиной беде. Пришел буднично, без церемоний, будто и не было года размолвки между ними.
– Ну что, «герои России»? Как выкручиваться собираетесь?
Гоша был готов обнять его и покаяться, признать, что был дураком, что вел себя как сопливый пацан… но встретил Барклая столь же сдержанно и просто, с радостью протянув ему руку.
– Да… Целый год прошел, и вот. Злопамятные, сволочи!
– Не злопамятные они! – ответил крепким рукопожатием Барклай. – Они просто злые, и память у них хорошая! Слушай, – с ходу приступил он к изложению своего проекта, – есть у меня человек, не из последних у Малышева! Давай через него это твое «следствие» прощупаем? Черт возьми! Нынче отмазать ствол в ментовке триста баксов стоит! Ну не из-за дробовика же семь лет сидеть! В крайнем случае, улики потеряют. Малышевские такие проблемы решают, за бабки, конечно.
– А я считаю, надо общественность поднимать! – с жаром вступилась Кирка. – Ведь Гоша реально герой! Как они смогут посадить героя России?! Да я во все газеты напишу! Я всех на уши поставлю! – кипятилась Кирка.
Гоша только пожимал плечами. Перспектива загреметь на нары его вовсе не радовала, но решать проблемы с органами через бандитов он считал сомнительным, как сомневался и в значимости своей персоны для общественного мнения. И потом, он не воспринимал органы как нечто отдельное от власти, а эту власть он не боялся, он считал, что должен ей намного меньше, чем она ему.
– Я в Ленсовет пойду, найду ту, что нас принцу Эдинбургскому представляла! – сообщил он о своем решении. – И еще, Барклай… Литературу горную, карты по Кавказу спрячь, меня в органах о твоей чеченской родне спрашивали!
– Моей чеченской родне?! – Глаза Барклая выкатились, как два полтинника. – Это, может, по линии сестры отца? – задумался он. – Мама говорила, они поссорились и двадцать лет не разговаривали.
Отыскав контактный телефон, Гоша изложил свои проблемы даме из Ленсовета, немало ее удивив.
Вскоре дама вновь вела его по дворцовой лестнице, только теперь Мариинского дворца. Интерьеры здесь были скромней, чем на Петровской. Разглядывая пилястры и резное дерево залов, Гоша вспоминал колючую проволоку и бетон баррикад, странно было изнутри видеть то, что они защищали. Гошу вели в комитет по защите законности и правопорядка.
Встретили его здесь довольно бурно. Мужчина в бордовом галстуке и распахнутом пиджаке долго не мог отойти от хохота, утираясь салфеткой.
– Они что? По КГБ затосковали? – всхлипывал он. – Так здесь им не Союз! Ах, тоска-матушка! Надо, надо их на место ставить!
Гоша был словно на эстраде: в кабинет заходили веселые люди, и всем хотелось этот «анекдот» услышать именно от него!
– Этих комитетчиков надо бы на комиссию вызвать. Думаю, этот факт мы вынесем и на заседание Думы, пусть глава МВД отчитается! Я знаю, откуда ветер дует! Кто там воду мутит… Хорошо бы полную проверку деятельности МВД провести. Нет, ну послушайте, КГБ вспомнили! Делают что хотят! Идите, молодой человек, спокойно, никакого срока не будет, мы вас в обиду не дадим! – заверил мужик в пиджаке. – А по решению вопроса мы вас в ближайшие дни на комиссию пригласим!
Гоша остался очень доволен посещением Ленсовета.
Тем временем Кирка развила кипучую деятельность. Она носилась с пачками конвертов и кипами газет, рассылая воззвания, куда только можно.
«Граждане! Герою, повесившему 19.08.91 г. российский триколор на здание генерального штаба, сегодня за это грозит семь лет тюрьмы!»
И нельзя сказать, чтобы общественность не реагировала – больше всего отзывов приходило в «Сороку», здесь обсуждение растянулось аж на несколько полос! Только Кирку это совсем не радовало. Общественность выражала сомненье, что «наша система правосудия достигла такого уровня беспристрастности и человеколюбия», предлагая просто «повесить на том же месте самого Гошу», причем сидеть или висеть, по мнению общественности, он должен был в довольно многочисленной компании.
От сознания бессилия и несправедливости Кирка плакала в подушку, стараясь не показывать Гоше ни слёз, ни заметок.
– Ну что ты хочешь? – успокаивал ее Барклай. – Мне уже и самому стыдно, что я там был!
– А может, ты был прав? – всхлипывала Кирка. – Может, мы действительно не тот флаг подняли? Может, «имперский» надо было поднимать?
– Да какая разница? – нежно похлопывал ее по спине Барклай.
Не внес ясности и звонок из Ленсовета.
– Конечно, мы решим ваш вопрос, – утверждала дама, – но это вопрос не городского уровня, с ним нужно выходить на федерацию!
– Как «выходить»? – не понял Гоша.
– Поедете в Москву! – сообщила дама.
– Как я поеду, я же под подпиской?
– Какая подписка?! Вы выдвигаетесь комиссией по защите законности и правопорядка делегатом на съезд народного фронта!
– Какой съезд?! – ошалел Гоша.
– Съезд демократических сил, посвященный годовщине победы над ГКЧП! Там будут все значимые деятели демократического движения, и будет возможность поднять наш вопрос.
Питерская делегация была не очень многочисленной и состояла не только из петербуржцев. Так, Гошиным соседом по номеру в гостинице стал какой-то священнослужитель не то из Колпино, не то Тихвина, он там в 91-м вывел на улицу против ГКЧП пять человек. Мужчина зрелый, полный и страшно нудный.
Делегация выглядела разношерстной, был парень моложе Гоши, черт знает чем прославившийся, но уж больно сексуально озабоченный. Всю дорогу он набивался в друзья, и, слава богу, на месте растворился в коридорах гостиницы «Россия» так, что лишь изредка мелькал тенью в рекреациях или на крыше, подглядывая в окна.
Гостиница «Россия» была очень большая и очень скучная. Съезд, посвященный годовщине демократической революции, собравший демократическую элиту страны, проходил в специально арендованном здании кинотеатра. Основной повесткой было предотвращение угрозы коммунистического реванша.
В кулуарах, между пламенных выступлений известных личностей, одна из руководителей питерской делегации, невысокая сухонькая дама в зеленом пиджаке, активно занималась Гошиным делом, устраивая встречи с видными общественно-политическими деятелями. Эти встречи немало озадачили Гошу.
– Не может этого быть! – утверждал один из координаторов народного фронта. – Указом президента Российской Федерации все дела по событиям августа 1991 года прекращены! Все обвиняемые амнистированы!
Сначала Гоша думал, что непонятно объясняет.
– Вы, молодой человек, слышите, что я вам говорю? – сурово ставил на место маститый политик. – Любое уголовное дело по событиям августа тысяча девятьсот девяносто первого года незаконно! Хотя, если спросите меня, я считаю это неправильным! Коммунисты должны отвечать за свои преступления!
– И чего же вы хотите, молодой человек? – ознакомившись с перечнем статей, по которым обвиняют Гошу, удивлялся известный правозащитник. – Видите ли, нам еще только предстоит научиться жить по законам демократии, а демократия – это в первую очередь ответственность! Не надо пытаться спрятаться за демократию! Учиться жить по законам демократии – значит учиться отвечать за свои поступки!
К третьему дню Гоша уже не понимал, что он и все эти люди здесь делают.
Ему, как свидетелю этого исторического события, съезд запомнился не выступлениями политиков, и даже не личными встречами с государственными деятелями, а тем, что организаторы никак не могли разобраться, где деньги, выделенные Ленсоветом на содержание питерской делегации? Где финансирование принимающей стороны? А Гошу постоянно третировала консьержка, требуя оплатить проживание.
Гоше это надоело, он оплатил и стал врагом всего руководства делегации. В гостинице оказался только один ресторан, и тот не обслуживал незаявленных клиентов. Гулять по столице под «подпиской о невыезде» совсем не хотелось. И Гоша приходил в ресторан наблюдать за пробегающими мимо официантами, размышляя, чего же он не понимает в столичной жизни?
Приходившего два дня смотреть на еду парня пожалела пожилая уборщица, накормив его в закутке при кухне. Эта женщина была, пожалуй, единственным адекватным человеком, которого Гоша увидел в Москве. Что же касается целей съезда и задач демократического движения, этого он сгорающей от любопытства Кирке подробно растолковать не мог. При всем их панибратстве при ней так выражаться было не принято.
– Ну, понимаешь… – подбирал он приличные выражения для рассказа о съезде, – вот представь себе ноль. Так это очень большой ноль!
– Ты же с кем-то в Москве разговаривал? – выжимала информацию Кирка.
– Там не с кем разговаривать! – терпеливо пояснял Гоша. – Там говорить могут, а слышать – нет! Слышательный аппарат у них атрофирован!
В очередной раз придя за отметкой на подписке о невыезде, Гоша угодил на прием к новому следователю. Тот встретил его сияющей радушной улыбкой. Третий следователь был молод, безупречно и аккуратно одет, рубашка в мелкую полоску элегантно сбрасывала тень излишнего официоза.
– Очень приятно! Рад с вами познакомиться! – произнес он приятным мягким голосом.
«Надо же, – думалось Гоше, – до чего милые и обаятельные люди работают в конторе! И чего же их так хочется взорвать к чертовой матери со всей этой конторой?! Один черт в изготовлении взрывчатки обвиняют! Хоть буду знать, за что сижу…»
– Следствие по вашему делу практически закончено, – известил он Гошу. – Мне хотелось лично познакомиться и прояснить некоторые моменты…
– Вы же понимаете, что всё это «дело» незаконно? И по законодательным актам 1991 года, – хмыкнул съездивший в Москву Гоша, – и по указу президента Российской Федерации?!
– Но эти акты касаются только дел, связанных с политическим преследованием, а в вашем деле я ничего политического не вижу, тут сплошная уголовщина, – приятным и искренним тоном отвечал оппонент. – Конечно, последнее слово скажет суд. И на следующем этапе у вас будет возможность ознакомиться с материалами дела, но должен предупредить, что состав суда в подобных случаях формируется особым порядком, а «института присяжных» в нашей стране пока нет.
Приятный следователь казался Гоше все менее и менее приятным, и, видимо, это слишком явно проступило на его лице.
– Вы же понимаете, что иной задачи, кроме соблюдения законов и интересов государства, у нас нет?
– Того государства, по законам которого меня задержали, уже нет.
– В «том» государстве ваша судьба решилась бы намного быстрей и куда проще.
– Так значит, не зря я поднялся на крышу главного штаба?
– Если звезды получают, значит, это кому-нибудь нужно… – протянул следователь с улыбкой после недолгой паузы. – Времена меняются, люди остаются! Но вы напрасно думаете, что ваши интересы расходятся с интересами государства! – тем же милым, бархатным тоном продолжил он. – Государству нужно, чтобы такие молодые, инициативные люди, однажды оступившись, не пополняли ряды закоренелых преступников. В конце концов, нам с вами и строить это государство, и каким мы его построим, таким оно и будет!
– И чего же конкретно хочет от меня государство?
– Двадцать тысяч долларов, – не меняя ни интонации, ни улыбки, продолжил тот. – Не стану скрывать: не все заинтересованы доводить ваше дело до суда, поэтому, собственно говоря, мы и ведем с вами этот разговор.
«Двадцать тысяч долларов!» – выйдя из конторы, Гоша прижался спиной к стене и стал глубоко дышать, как делал в горах, когда с трясучкой подкатывала паника.
Он почувствовал себя на «ложном перевале»: будто, оставив группу, он ушел на разведку в непроходимый район, который надо покинуть. И необходим трезвый ум и выдержка, ведь только ему решать – продолжать движение по гребню или уходить на лавиноопасный склон, потому что пути назад уже нет! Просто их восхождение затянулось, и куда опасней оказалась тропа, идущая от подножия питерских крыш…
Юрий Виткин
Родился 17 августа 1968 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
Образование получил в области биотехнологии и экономики производства.
В начале 80-х посещал ленинградские литературные объединения с участием российских писателей Анатолия Наймана и Виктора Сосноры. Потом долгое время не писал, и лишь в 2020 году вернулось желание творчества.
За менее чем год написано около 120 стихотворений, многие из них опубликованы в альманахах и сборниках «Артелен», «Литера», «Кологод», ART-LITERA, в различных интернет-изданиях. В этом же году стал дипломантом VI Международного литературного конкурса LITER-RM. RU и Litera Nova в номинации «Поэзия». Состоит в Союзе писателей Северной Америки.
Более четверти века живет в Гамбурге (Германия). Предприниматель, активно работает с государственными и частными программами заказов от РФ. Досуг посвящает изучению литературы, искусства и истории, путешествиям, любит классическую и джазовую музыку.
Сванетия
Посвящается моему другу Федерико В.
…И дым Отечества нам сладок и приятен!
А. Грибоедов
Ю. Визбор
- …Я сердце оставил в Фанских горах…
- Теперь бессердечный хожу по равнинам,
- И в тихих беседах и в шумных пирах
- Я молча мечтаю о синих вершинах.
- Тихие, тихие реки,
- Снежные, снежные горы…
- Время застыло навеки,
- Стихли былые раздоры!
- Где в облаках и в туманах
- Эхо взывает к ответу,
- Видятся дальние страны,
- Слышатся чьи-то приветы…
- Блещут росою долины,
- Инеем лес серебрится.
- Слышатся в кличе орлином
- Гимны Тамаре-царице!
- Тихие, тихие реки,
- Снежные, снежные горы…
- Стихли давно разговоры,
- Стихли восторги, укоры…
- Это Сванетии слезы —
- Льдинки замерзшей вендетты[3],
- Стихли проклятья, угрозы
- В призрачных башнях к рассвету…
- Кони расседланы, бродят
- В улочках воспоминаний,
- Там, где Высоцкий Володя
- С Мишей дружил Хергиани[4].
- И, приведя в беспорядок
- Чувства и мысли, всё застит
- Дым от Отечества: сладок,
- Смене времен неподвластен…
- Путь из Местий в Ушгули
- На иноходце беспечном,
- Где наверху распахнула
- Шхара[5] объятья навстречу.
- В древних рисунках наскальных
- Образы прошлого с нами!..
- Точно в обряде венчальном
- Снега союз с облаками!
- К морю торопятся реки,
- Дочери горного края…
- С ними прощаясь навеки,
- Сердце в горах оставляю.
- Тихие, тихие реки,
- Снежные, снежные горы…
- Время застыло навеки,
- Стихли былые раздоры…
Январский ангел
- Январь и пляж,
- Казалось, несовместны —
- Как гений и злодейство
- Меж собой…
- Тот мальчик в валенках
- И с санками, ровесник,
- Остался в детстве
- И с иной судьбой…
- Январь и пальмы —
- Есть ли в том причуда?
- Ветра и солнце,
- Привкус брызг волны…
- Розовощекий мальчик
- Машет мне оттуда:
- Лопатка, варежки
- С подтяжками штаны…
- Январь, январь…
- Мечты, собранья, планы.
- Летим к экватору
- И жаждем тишины…
- Пустыни, горы,
- Пальмы и лианы,
- Вино, веселье!
- И в тревоге сны…
- Снежинки, снег
- Над городом из детства…
- Джем-сейшн
- Саксофонов-фонарей.
- И ангел варежкой
- Мне машет по-соседски,
- В ушанке спрятав
- Нимб своих кудрей.
Антивиртуально-новогоднее
- Забыв в разменной суете
- Кто рядом – те или не те,
- Строчит рассылок пулемет
- В сетях ночами напролет.
- Давно в шкафах колоды карт,
- Застолий шумных стих азарт!..
- Давно закрылись казино,
- И спать, дружок, пора давно!
- Пуста бутылка на столе,
- Рассвет дырявит брешь во мгле…
- Но нет! Строчит, строчит коммёнт
- Двухпальцевый ангажемент!
- И всё быстрее время вспять…
- Устали близкие страдать,
- Сильней азарта не найти —
- Жить в виртуальной соцсети:
- Поздравить каждый день в году,
- Пофлиртовать с собой в бреду,
- На аватарки лайки слать,
- Не зная пол, «делить кровать»!
- Альбомы слать семьи в эфир,
- Родных улыбок эликсир
- В соцсети лить для всех подряд
- (Авось минует злобный взгляд!..)
- …Я помню с детства: Дед Мороз,
- Sankt Nikolaus и Христос
- Реальней, ближе и родней,
- Чем виртуальный мир страстей.
- И буду верить я в друзей
- Реальных, тех из соцсетей,
- Что так же видят, как и я.
- Важнее всех – моя семья!..
Крещенская молитва
- И там, где Иоанн Тебя крестил,
- Проходит очень странная граница[6]…
- Тебя молю я на исходе сил:
- Заставь скорей людей остановиться
- И жертвы приносить божкам пустым,
- Мир разделять на праведных и ложных!
- Осмыслят пусть немедля, неотложно
- Ту заповедь Твою, где «не судим…»
- Не дай врагу в нас злобу поселить
- По принципу: дели людей и властвуй!
- Не оборви надежды робкой нить!
- Не допусти познать нам узы рабства!
- Не дай нарушить праведный закон
- О чести, игнорировать злорадство,
- Традиций святость чтить, где б Вавилон
- Не подменял бы истины о братстве…
- Не дай нам заблудиться в пустоте,
- Опаивая будни сладким ядом,
- Не дай убить в угоду суете
- Святое право собственного взгляда!
- Всевышний Боже, в этот славный День
- Смыв грязь с себя и слезы тленной жизни,
- Избавь от тех, кто превращает в тлен
- Желанья, волю, правит чести тризну[7]!
- Крести нас Правдой, всех конфессий Бог!
- Как дар душе, Ты дал свободы право
- И «даждь нам днесь», чтоб всякий грешный смог
- Любить других, дружить и мыслить здраво!
Служенье муз
(Шуточное)
А. С. Пушкин, «19 октября»
- …Служенье муз не терпит суеты;
- Прекрасное должно быть величаво:
- Но юность нам советует лукаво,
- И шумные нас радуют мечты…
- Опомнимся – но поздно! и уныло
- Глядим назад, следов не видя там…
- Отдав всего себя служенью муз,
- Мой друг поймал случайно в свой картуз
- Одну со струнным инструментом, в неглиже,
- И в банку поместил на стеллаже…
- Она жужжит, как муха, по ночам,
- Но друг привык к подобным мелочам —
- Туман он напускает над строкой
- И музу укоряет зло: «На кой?.!»
- Итак, начнем-с: «Фонарь аллеи снов…»
- (Нет! Мало здесь тумана для ослов!)
- Зачеркнуто. «Окно в проеме снов…»
- (Блин! Есть туман, но нету нужных слов!)
- Начнем-ка вновь! «Разбитое окно,
- Сквозняк»… Но нет, опять не то кино!
- Герой устал и отошел ко сну,
- Забыв про музу в баночном плену,
- Заснул тревожно (ну к чему, скажи,
- Он покупал недавно стеллажи?)…
- Упал стеллаж, и банка вместе с ним,
- Как будто под веленьем колдовским.
- Свободна муза вновь, но не спешит
- Поэта бросить. Крыльями шуршит.
- Улыбка хорошеет на лице,
- И зреет мысль весомая в конце,
- Что вам покажется логичной на досуге:
- Помочь страдальцу за его потуги…
- Она – к столу! О Муза провокаций!
- Строка опять полна ассоциаций,
- Рождаются стихи легко и пылко,
- И пишет весь «Фейсбук» под их копирку!..
- Итак, поэт, учись кумекать:
- «Ночь, улица, фонарь, аптека,
- Бессмысленный и тусклый свет…»
- Вот так, Поэт – «исхода нет»!
- Ловить меня! И не спросясь?!
- Мораль: служи, не суетясь!
Была зима
(Пародия)
Юрий Левитанский
- «…Была зима, как снежный перевал,
- с дымком жилья, затерянным в провале.
- Но я в ту пору не подозревал,
- что я застрял на этом перевале…
- …и можно было с легкою душой
- перечеркнуть написанное ране,
- переписать строку или главу,
- которая лишь сдавленно звучала,
- перемарать постылый черновик,
- и даже сжечь, и все начать сначала».
- Была зима. Он знал который год,
- Что всё на свете (в целом!) повторимо,
- Что люди, судьбы, жизни – всё незримо
- Растает в дымке, как весною лед…
- Но он писал, застряв на перевале…
- Лавиной памяти, загородившей путь,
- Был остановлен, чтоб начать сначала
- Искать, пока не выяснится суть
- Того, что ищет он в своем сознанье!..
- И сотни раз перечеркнув сюжет,
- Сгорая в топке времени, Поэт
- Оставил поиск Слова в завещанье…
Когда нам пишется…
- Когда нам пишется? Не знаю…
- Когда мы в Болдинской глуши?
- Когда любовь свою теряем,
- Транжиря времени гроши?..
- Конечно, значимость эпохи,
- Событий жизненный урок,
- Дары небес, прозрений крохи —
- Всё важно в написанье строк!
- Всё перечислить невозможно,
- Да и не нужно. Позабыв
- Печаль, сомненья, осторожность,
- Творим, дыханье затаив…
- Но часто видим: всё напрасно!
- Не то рождается… И вот
- Сгорает в пламени прекрасном
- Пожухлых строк ушедший год…
- Мы знаем, многое не спето
- И не рассказано, увы…
- За годом год, за летом лето
- И зной обид, и снег молвы.
- Вот пишем – и не замечаем
- Рассветов, прошлое губя,
- Дождей осенних, красок мая,
- Любви потерянной, себя…
- Зачем так жить?! Нужны ли эти
- Стихи, что истиной грешат?
- Взрослеют дети незаметно,
- И годы мимо нас спешат.
- С чего мне пишется?.. Не знаю!
- (И в этом я не одинок!)
- Но из глубин души взывает
- Ко мне отчетливый звонок —
- Звонок из прошлого, из детства,
- Из той реальности иной,
- Из тишины, что по соседству
- Жила с болтливой суетой.
- И ты спешишь скорей ответить:
- «Как там дела?.. Погода?.. Май?!»
- И вспоминаешь всё на свете,
- И выдыхаешь лишь: «Пускай!»
- Пускай летят года, как птицы.
- Я сердцем годы ворошу.
- …Всплывают звуки, тени, лица
- Друзей из прошлого…
- Пишу!..
Красные дорожки
- По красным по дорожкам[8]
- Летит велосипед.
- Мне холодно немножко,
- Но счастьем я согрет:
- На нас взирают косо,
- Но связка хороша —
- Вращаются колеса,
- Искрит моя душа.
- Слегка устал с годами
- Мой друг велосипед[9].
- (Кого считал друзьями,
- Хихикают вослед…)
- Со мной – родная Муза!
- Сильней педали жму
- И знаю: не в обузу
- Я ей, и потому
- Опять в душе спокоен,
- Свободен от забот,
- И верный друг настроен
- К движению вперед.
- Роятся в мыслях планы,
- И сердце вторит им,
- Но помню я о главном —
- О тех, кем я любим!
- И воздух словно пьется:
- Нет суеты вокруг,
- И, верен мне, несется
- Мой двухколесный друг.
- Леса, луга и пашни
- Летят навстречу мне,
- А сплетни, склоки, шашни
- Остались в стороне!
- И в сумерках весенних,
- И в птичьих голосах
- Как добрый знак спасенья —
- Луны лик в небесах.
- Печально смотрят кошки
- На этот талый свет…
- По красным по дорожкам
- Летит велосипед…
- Нас дом встречает сонно,
- Замкнулся мыслей ход…
- И одухотворенно
- Стоим мы у ворот…
«Глаза. Проникающий голос…»
Посвящается некоему И. Б., по-прежнему неизведанному, но возведенному в ранг народного…
И. Бродский
- Потому что искусство поэзии требует слов,
- я – один из глухих, облысевших, угрюмых послов…
- Глаза. Проникающий голос,
- Что тихо читает свое,
- Картавинкой мягкой расколот
- Дней разум, ночей бытие…
- Как будто, избавясь от муки,
- Искрят его строчек миры:
- Бредут пилигримы на звуки
- Изящной словесной игры.
- Построены строчки в бессмертно —
- Почетный надежд караул,
- Меня очищают от скверны,
- Давая конкретный посул…
- И бьется в виске его голос,
- Пульсируя ритмом без слов.
- Заполнена прошлого полость
- Слезами и горечью снов…
- …Тот голос тревожный о Млечном
- Пути – далеко не святом,
- Сколь вечном, настолько беспечном,
- Но с верой во «всё, что потом»…
Два берега высохшей реки
(Юмористическая зарисовка)
- Два берега многоэтажных
- На реку глядят свысока.
- Но статус их в списках пейзажных
- «Размыла» всё та же река…
- И мерили взглядом друг друга:
- Мол, ты не из нашего круга!..
- Но, крутости стен вопреки, —
- …осыпались в русло реки!
Как случилось?
- Как случилось такое,
- Что вдали от Тебя
- Я не знаю покоя,
- Грусть свою теребя?..
- Как случилось такое,
- Что в разлуке дорог
- Отделилось родное
- Пеленой из тревог?..
- Как могло получиться
- Выбрать странствий билет?..
- Неизвестные лица,
- Незнакомый рассвет.
- Как случилось, простите,
- Что в скитаньях, в мольбе,
- Оборвали мы нити
- К нам пришитой судьбе?..
- От себя нет исхода,
- Не проложен маршрут,
- И нейтральные воды
- От судьбы не спасут!..
- Я вернусь! И с порога
- Прошепчу, что неправ!
- И, смягчаясь немного,
- Поумерю свой нрав,
- Растворюсь непременно
- Я в улыбке Твоей,
- Доказав себе бренность
- Всех путей и затей!
Клавиши
Посвящается пьесе для одного актера «Последний монолог Novecento (1900-й)» итальянского драматурга Алессандро Барикко, 1994 г.
- Ты играешь за Бога! Бог нем и глух,
- Что касается просьб быть лучшим…
- На свете не может быть лучших двух
- На «Титанике» затонувшем…
- Сан-Франциско, Рио, Нью-Йорк, Каир —
- Как череда клавиш
- Белых и черных… – бескрайний мир,
- Который уже не исправишь…
- Забыть диссонанс голосов и гул
- И, тишине внимая,
- Зачем-то верить в судьбы посул,
- Не достигая края!
- Мы играем по нотам музыку,
- А кто-то играет иное…
- Невозможно верить в союзников,
- Если на сцене двое!..
- Где Твой секрет, где боли порог?
- Гул затих, и свет рамп погас…
- Сыграть по нотам ты так и не смог…
- Бог и Ты… и язык ваш – джаз!
Сначала
- В закате солнца растворялись звуки.
- Дрожала гладь воды, блестела вяло…
- И, забывая прежние разлуки,
- Я произнес: «Давай начнем сначала!»
- Мы ехали на юг. Луна мельчала,
- Обид былых растапливая льдины,
- Переспросила ты меня: «Сначала?
- А может, все же лучше с середины?»
- Светили в небе звезды вхолостую,
- И ты, поправив белые одежды,
- Шепнула: «Помни истину простую:
- Начало – продолжение надежды…»
Belle Epoque
- К не знающим подвоха
- От эйфории чувств
- Прекрасная эпоха
- Летит, полна безумств…
- А может, это юность?
- Играет в жилах кровь…
- Беспечная бравурность
- Удачи греет вновь…
- А нынче в суматохе
- Никто не скажет нам:
- Печалиться так плохо
- По прожитым годам…
- И вместо слёз и вздохов
- Впитать от жизни всё,
- Не путая эпоху
- С фортуны колесом.
- Понять сегодня важно:
- Лишь мудрость – капитал…
- И миг уже наш каждый
- Эпохой целой стал!
Пора наслаждения жизнью
- Выкинуть ненужное в корзину,
- Нужное щелчком отправить в печь,
- Выбрать золотую середину
- И урок из прошлого извлечь:
- Сгинет старый мусор безвозвратно,
- Что сгорит – зажжет в глазах искру,
- И тогда откроется внезапно
- Истина, когда себе не врут!
- В этом мире незатейливых затей
- Слышен гул шагов…
- Где в плену былых бессмысленных страстей
- Путь его Голгоф.
- Голова его трещит от пустоты
- Собственных речей,
- И немеет всё от страха красоты
- Праведно-ничьей!..
- Да, он знает про бессмертие свое
- На конце иглы:
- Обломалось, затупилось острие
- Шалостей былых…
- И живет он, словно тыщу лет подряд,
- Этот день один,
- Кровью смочен будет шутовской наряд
- Следствием причин.
- Маршируют месяца за рядом ряд —
- Полк сутулых спин,
- Где любви своей обманываться рад
- Дуэлянт один…
- Повторяются событий имена,
- Подвиги, грехи,
- И бессмысленно ворует тишина
- У него стихи.
Извлечение из лечения
- Извлекать из квадрата корень,
- Извлекать из корня настой,
- Никому и ни в чем не вторя,
- Отвергая ответ простой!..
- В извлечении нет исхода,
- Где ты формуле сам не рад!
- Счастье жизни – в нем год от года
- Видишь чисел неспешный ряд!..
- Нет, к чему в себе ковыряться,
- Когда вроде всё на плаву:
- Мир оваций и декораций,
- Презентаций, снов наяву?!
- Кто по правилам упрощения
- Проживает прекрасно жизнь,
- Тот находит себе лечение
- От претензий и укоризн…
- Будь сто раз я того же мнения, —
- Вновь и вновь, сам себе не рад,
- Извлечением из лечения
- Извлекаю себя назад!..
Алла Григоренко
Родилась и живёт в Белгороде. В школьные годы занималась спортом, увлекалась поэзией, сотрудничала с областной молодёжной газетой.
После окончания школы поступила в Воронежский государственный университет, окончила факультет журналистики.
Работала в областной газете «Ленинская смена», на радио, в районной газете, Белгородской областной политической газете «Власть и народ», Российском информационно-аналитическом еженедельнике «Экономическая газета „Приват-аукцион“».
Стихи автора публиковались в периодических изданиях. В 2001 году вышел сборник её стихов «Не ОЧенЬ просто», в 2003-м – книга о её творчестве «Презентация сборника стихов Аллы Григоренко „Не ОЧенЬ просто“», в 2020 году – сборник прозы «Полинкины приколы».
Незастёгнута
- …Как распахнулась кофточка —
- И голая, без лифчика,
- Торчит душа, трепещется
- И поражает всех!
- И в холод незастёгнута,
- Живу-брожу озябшая.
- Ищу тепла —
- но солнце жжёт,
- А остужает снег.
- Хрущу в суставах
- пальцами,
- Мозги ночами мучаю.
- Так разомнусь —
- что, может быть,
- Возьму и застегнусь?
- И в лифчик, и под кофточку
- Упаковать бы душу мне!
- …Умчится ночь. Прибудет день —
- И я в него вернусь,
- Где будут все приличные,
- На все крючки застёгнуты,
- Меня учить, открытую,
- Закрытости своей.
- Ну что ты тут поделаешь!
- И в радости, и в горести
- Душа моя привольница,
- Крючки уже не сходятся
- На вздыбленной
- на ней!
«Ты в дверь стучишься, за которой – ночь…»
- Ты в дверь стучишься, за которой – ночь.
- Где целый мир – из звёзд, луны и тайны,
- Где страсть и чувственность стремятся превозмочь
- Восторга вздох, а также взгляд печальный…
- Там сонм загадок в бликах дальних звёзд,
- Глазами не найдёшь на них ответа.
- Не смолвят тайну ни Медведицы, ни Пёс…
- Возникнет мысль – слова исчезнут где-то.
- Душа, одна страдалица душа,
- Она же и служанка, и царица,
- Там правит бал, то медля, то спеша
- Подняться ввысь, а то во тьму спуститься.
- Но всё же ты решаешься войти
- (Открытой дверь держа на всякий случай)…
- Средь дальних звёзд ищи глаза мои
- И сердца своего биенье слушай.
- Ведь гость, пришедший наобум сюда
- В такую негу – в середине лета
- Без страсти, без восторга, – если «да»,
- Прости меня, он – как мертвец из склепа.
- Холодных фонарей не зажигай,
- Не то их свет нарушит бликов трепет.
- И лучше уж тотчас скажи «прощай»,
- Когда поймёшь, что лишь ошибся дверью.
«Листопадною порою…»
- Листопадною порою
- Мысли спутал мне октябрь.
- Ночь пришла. Глаза закрою.
- А проснусь – уже ноябрь.
- Станет даль светлей немножко,
- И дожди – полегче лить.
- Будет красную дорожку
- Осень в зиму мне стелить.
- Не спеша иди, подумай, —
- Скучно я себе ворчу…
- Буду нежной! Буду грубой!
- Притворюсь, какой хочу!
- Каблуком пронзаю лихо
- Красных листьев полотно.
- И слетает шалью иго
- Всех придумок до одной.
- В день войду я светло-нежный
- Новой белою зимой…
- Чист природы лист, как прежде.
- Для стихов других – и мой!
Луна
- Через незримый тюль луна мне светит.
- На звёздных простынях
- меня качает ночь.
- Не спится мне… Я знаю, кто в ответе
- За непокой, за вздох,
- за боль… и разум прочь!
- А та, что в темноте, —
- не ангел милый,
- Хотя была при ней зимою рождена…
- Ночная тишина
- дарует силы,
- И душу бередит, зовёт меня луна!
- Себя не узнаю
- под властью этой.
- Мне кажется в ночи,
- что я вольна
- взлететь!
- Познать себя – чертовку
- и поэта,
- И кто ещё там я
- на самом деле есть…
- Бушует страсть моя —
- луна на троне!
- Не поднимать глаза
- мной позабыт обет…
- Безумна ночь моя!
- А сердце стонет.
- И бездыханна я —
- уже пришёл рассвет…
Миражи
- И вот разлиты по бокалам
- Игривость, смех, кокетство, блажь.
- В шампанском, будто под накалом,
- Искринок тьма входила в раж…
- И было чоканье презвонким,
- И запах в ожиданье вверг.
- Но за стеклом хрустально-тонким
- Так пузырьки летели вверх!
- Был их восторг неподражаем.
- Я улыбалась – мнилось мне,
- Что я чаруюсь миражами
- Внутри бокала. Да и вне…
- В шампанском тикали секунды,
- И вдумчив взгляд мой был, и глуп.
- Произнесла: ну что ж, ликуй ты!
- Мираж моих коснётся губ…
«Снова заперта я с одиночеством…»
- Снова заперта я с одиночеством,
- От двери потерялись ключи.
- Целоваться до чёртиков хочется!
- Губы ловят тепло от свечи…
- Губы дрожью своей услаждаются —
- Я их чувствую, вздохи тая.
- Обману себя, если обманется:
- Соблазню одиночество я!
- …Тщетно мысли свои заморочила —
- Поцелуя сорвать не могу:
- Не целует меня одиночество.
- Просто… нет у родимого губ.
Руслан Гулькович
Родился 3 марта 1972 года в г. Кишинёве, учился и профессионально занимался спортом. Выступал за юношескую сборную Молдавской ССР по гандболу. В 1990 году был призван в армию, службу проходил в специальном подразделении пограничных войск КГБ СССР.
В 1994-м переехал в Ярославскую область, в том же году поступил на службу в МВД РФ. До 2009-го служил в подразделении по борьбе с организованной преступностью УВД Ярославской области. Неоднократно участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе.
Руслан Болеславович – член Российского и Интернационального союзов писателей, участник многих российских поэтических конкурсов. В свет вышли две книги «Тебе, Россия» и «Непокоренные» – в серии «Бессмертный полк». Скоро выходит из печати книга «Вера в прозе и стихах».
Учитель: цикл «Непокоренные»
- Войны дороги неизвестны,
- Поступки наши как порог.
- Судьбу нам надо встретить честно,
- Чтоб упрекнуть никто не мог!
- Он шел проселочной дорогой…
- Куда ему теперь идти?
- Случилось так, что видел много,
- Душе покоя не найти.
- …Фашисты въехали в село
- Спокойно, словно на параде,
- Их видел в школьное окно,
- И страх застыл в том самом взгляде.
- Три дня, как началась война.
- Еще все были по домам,
- Не ждали их средь бела дня…
- Куда бежать? Кругом капкан.
- А он – директор сельской школы,
- Детей немецкому учил,
- Еще не стар, уже не молод,
- Жену с детишками любил.
- Он прятал школьный реквизит,
- Когда увидел их в окно,
- От страха понял, что дрожит,
- Бежать до дома – далеко.
- Фашисты весь народ согнали
- И забирали живность, скот,
- Дома зачем-то поджигали,
- Смеялись дико в полный рот.
- Жену и двух своих девчат
- Он среди жителей увидел,
- От страха зубы так стучат!
- Себя за страх возненавидел…
- «Что делать, Боже? Как мне быть?
- Быть может, всех сейчас отпустят?
- Иль к немцам, что ли выходить?
- За то, что прятался, не спустят…
- Захар Ильич, наш председатель,
- Он власть, заступится за всех,
- А вон и Фёдор, мой приятель…
- Их бьют двоих под жуткий смех,
- Вон тетя Глаша подбежала,
- Солдат пытаясь растолкать.
- Толпа фашистов хохотала,
- А офицер давай стрелять!
- Он разрядил в них всю обойму,
- Лежать оставил всех троих.
- Что делать мне, я не пойму…»
- И крик селян на время стих,
- Лишь дети плакали, кричали,
- От страха жались к матерям.
- Фашисты с двух сторон стреляли
- Кто вверх, кто рядом по ногам.
- Дверь школы медленно открылась,
- Он робко вышел на порог.
- Стрельба и смех вдруг прекратились,
- А он стоял, не чуя ног…
К нему быстро подошли два немецких солдата и, несколько раз ударив прикладами карабинов, погнали к толпе односельчан. Проходя мимо немецкого офицера, он, посмотрев на него, сказал:
– State! Was machst du?! (что означало: «Стойте! Что вы делаете?!»)
– Stehen! Zu mir! (Стоять! Ко мне!) – скомандовал офицер.
Его подвели, и немецкий офицер стволом пистолета приподнял его подбородок. Он посмотрел на офицера и увидел этот наглый, надменный взгляд победителя, перед которым все должны ползать, а не ходить.
– Du kennst die Deutsche Sprache? Das ist gut! Du bist wer?
«Ты знаешь немецкий? Это хорошо! Ты кто такой?» – перевел он для себя вопросы офицера.
– Ich bin Deutschlehrer (Я учитель немецкого), – ответил он.
– Das ist gut! Du wirst dieses Schwein übersetzen! (Это хорошо! Будешь переводить этим свиньям!) – понял он слова офицера.
В ответ он только утвердительно кивнул головой. В это время к офицеру подошел солдат, и они стали разговаривать, что-то обсуждая.
Учитель смотрел на тела застреленных – председателя, бабки Глаши и столяра Федора. Офицер стал ругаться в ответ на известия, о которых доложил солдат. Учитель прислушался и понял, что немцы получили приказ остаться в этом селе до подхода полка тылового обеспечения. Солдат доложил, что расстрелять жителей можно будет за селом, у большого оврага. Офицер ответил, что мужчин надобно расстрелять сейчас, а женщин позже.
Услышав их разговор, он не удержался и сказал, глядя на офицера:
– Sie sind Intellekuelle Nation! Wie können Sie? Das sind keine Soldaten, sondern gewöhnliche Menschen! (Вы ведь интеллигентная нация! Как вы можете? Это же не солдаты, а простые люди!)
– Wir sind Nation der Herren! Sie sind eine Nation von Sklaven! Ich sage und Stiefel küssen warden! – высокомерно ответил офицер. (Мы – нация господ! Вы – нация рабов! Я скажу, и сапоги целовать будете!)
– Wir werden nicht! (He будем!) – ответил учитель и посмотрел на односельчан.
– Was?! Du wirst zuerst küssen! (Что?! Ты первый будешь целовать!) – закричал немецкий офицер и жестом руки подозвал к себе солдата. Он негромко объяснил что-то солдату и показал рукой на сельчан, а потом на учителя. Солдаты стали выводить из толпы мужчин и мальчишек от двенадцати-четырнадцати лет. Четырех мужчин возрастом от сорока до шестидесяти лет отвели в сторону и поставили у стены школы. Учитель посмотрел на офицера и солдат, а потом на мужчин.
В это время к одному из мужчин подбежала девочка лет десяти с криком: «Папа! Папа!» и обняла его за пояс. Женщина подбежала забрать девочку, но солдаты ее не пустили и грубо толкнули обратно в толпу.
– Lass das Mӓdchen da! Lass es mit ihnen sein! Warten Sie auf das Team! (Девочку оставьте там! Пусть вместе с ними будет! Ждите команды!) – крикнул офицер и, посмотрев на учителя пальцем указал на свой сапог…
- Селяне быстро расходились
- Он на коленях все стоял,
- Фашисты в смехе заходились,
- Дочь подошла, ее обнял.
- Потом с женой, с детьми за руки,
- Побрел он медленно домой,
- А дома выл душевной мукой,
- «Ну кто я стал теперь такой?
- Все осуждают, это точно,
- Фашисту ноги целовал!
- А тот хвалил еще нарочно,
- Свиньей, паскуда, называл…»
- Жена обняла: – Не волнуйся,
- Односельчане все поймут!
- В ответ он грустно усмехнулся:
- – Они лишь взглядами сожгут!
- Хотелось плакать и кричать,
- Он был унижен и раздавлен:
- «А, труса грязная печать!»
- Им приговор себе объявлен.
- Он взял стакан и самогоном
- Облéгчил боль свою слегка.
- Жена сказала строгим тоном:
- – Ты спас всех нас наверняка!
- Они бы нас поубивали,
- Село сожгли бы все дотла!
- Поверь, спасать бы нас не стали!
- Где наша армия была?!
- – Пойми ты, Зоя: я учитель!
- Что скажут дети обо мне?!
- Села что скажет каждый житель,
- Коль ползал там, при немчуре!
- – Те, кто не ползал, там остались,
- Уже холодные, поди…
- Односельчане все боялись!
- Ты спас всех, что ни говори!
- – А мне как жить?! Душа рыдает!
- Сапог немецкий целовал!
- – Да тьфу ты! Каждый понимает,
- Что ты село и нас спасал!
- Он успокоился немного,
- И самогон его свалил.
- …Прошло три дня – и у порога
- Фашист стоит. Он дверь открыл,
- Пошел за ним в комендатуру.
- Его тот встретил офицер,
- Он поздоровался с ним сдуру,
- Тот был лицом и зол, и сер.
- Они прошли по коридору
- И в кабинет потом вошли,
- Картина, что открылась взору,
- Кричала: все с ума сошли!..
…На полу кабинета, у стены, лежали два подростка. В одном он с трудом узнал своего ученика Витю Седова. Лицо у мальчика было разбито, и дышал он через стоны.
– О Бог мой! Что случилось?! – бросился к нему учитель.
Но немецкий офицер успел схватить его за плечо и крикнул:
– Stehen! (Стоять!)
– Боже, что случилось?! Это же дети! – воскликнул он, обернувшись к офицеру, но понял, что его речь непонятна и переспросил уже по-немецки.
– A, diese russische Schweine fünf Motorrader verbrannt! Zwei Karabinen und drei Granaten gestohlen! – ответил офицер, что в переводе означало: «Эти русские свиньи сожгли пять мотоциклов! Украли два карабина и три гранаты!»
– Sie sind Kinder! Das kannst du nicht! (Они дети! Так нельзя!) – возразил учитель.
– Kinder?! Nein! Das sind Saboteure! (Дети?! Нет! Это диверсанты!) – кричал немецкий офицер.
Учитель подошел к лежащему подростку и, присев, потрогал его за плечо.
– Витя, Витя! Родители знают, что ты здесь? Они знают, что вы сделали? Кто второй мальчик? – легко тормоша его, спрашивал он.
– Иван Матвеич… помогите, помогите… – почти шепотом отозвался Витя.
– Кто второй мальчик?..
– Это Костя… – сплевывая кровь, с трудом ответил Витя.
– Какой Костя? Червяков?!
– Да… – пробормотал подросток и потерял сознание.
– Боже мой, Костя?! Червяков! Костя! – присел учитель рядом со вторым подростком. Он не узнал этого избитого мальчика, который частенько приходил играть с его дочками. С семьей Червяковых они были соседями, с общим забором.
Он гладил мальчика по голове, повторяя:
– Костя… Костя! Родители знают? Боже, что вы наделали…
– Дядя Ваня, помогите, – шепотом просил подросток.
В это время в кабинет зашли два солдата и стали говорить с офицером. Из их разговора учитель понял, что семьи этих мальчиков уже доставили в комендатуру, и жителей сгоняют к школе.
Офицер жестом показал ему подойти, а солдатам кивнул на подростков. Мальчиков грубо подняли и, держа за плечи, потащили в коридор и к выходу. Фашист и учитель последовали следом.
Жители села стояли у школы в окружении солдат, а семьи мальчишек стояли отдельно, у большого деревянного забора. Когда они вышли из комендатуры, солдаты уже подтащили подростков к их родным. Матери кричали и вытирали кровь с лиц и голов своих сыновей…
В семье Червяковых, кроме Кости, который полулежал, опираясь на забор, было еще двое детей. Мать гладила сына по голове, а отец держал на руках самого младшего, трехлетнего Колю, и за руку пятилетнюю Ирочку. У Седовых кроме Вити был еще четырехлетний Миша, который испуганно прятался за отцом и плакал, пока мать вытирала платком лицо старшего брата.
Офицер отдал команду, и трое солдат встали перед семьями, направив на них автоматы.
– Herr Offizier ich bitte Sie, aufzuhören! (Господин офицер, я прошу вас, остановитесь!) – закричал учитель, быстро подойдя к нему.
– Weswegen? (Почему?) – спросил, усмехаясь, офицер.
– Das sind Leute, da sind Kinder! (Это же люди, там дети!)
– Das sind Feinde! Sie werden erschossen! – громко отвечал офицер, что означало: «Это враги! Они будут расстреляны!»
– Иван! Иван! Детей спаси! Детей! – кричал учителю Николай Червяков, глава семьи.
Односельчане кричали, ругая фашистов матом. Женщины и дети плакали.
– Herr Offizier, Kinder, lassen Sie die Kinder nehmen! Ich bin ihr Verwandter! (Господин офицер, детей, разрешите детей себе заберу! Я их родственник!) – просил учитель.
– Nur zwei! (Только двоих!) – зло выкрикнул офицер.
– А как же остальные? – спросил он и посмотрел на офицера. По взгляду сообразил, что его не поняли и спросил по-немецки: – Was ist mit den anderen?
– Sie haben drei Minuten! (У вас три минуты!) – рявкнул офицер и глянул на часы.
Учитель быстро подошел к семье Червяковых и, посмотрев на отца, с трудом выдавил:
– Кого-то одного…
– Ваня, как одного?! Хотя бы малышей! – вскрикнул отец.
– Иван! Нашего возьми! Ваня! – голосили мать с отцом Седовы.
– Ваня, я прошу, малышей возьми! Они тебе разрешат, Ваня! – умолял старший Червяков.
– Одного! Больше нельзя! Одного, понимаешь?! – крикнул он в ответ.
Червяков передал ему с рук маленького Колю и, опустив голову зарыдал, прижимая к ногам дочку.
Учитель взял ребенка и пошел к Седовым.
– Дядя Ваня, меня возьмите! – громко попросила пятилетняя Ирочка.
Он обернулся и посмотрев на малышку, чуть не завыл от безысходности. Потом отвернулся и опустил голову, прижавшись лбом в плечо маленького Коли, которого держал на руках. Подойдя к Седовым, уже едва сдерживая слезы, промолвил:
– Давайте Мишу!
Родители плача, поцеловали ребенка и подтолкнули его к учителю. Он взял его за руку и, отвернувшись, повел подальше от этого места.
Идя с детьми, учитель не давал им оборачиваться… Буквально через две минуты три длинные очереди заглушили людские крики…
Его догнала плачущая жена с дочками.
– Идите домой! – передав ей детей, крикнул учитель.
А сам побежал в лес, где, упав на траву, в голос разрыдался…
- Он пил три дня. Боль не утихла,
- Не мог он справиться с собой,
- И самогона нет уж литра,
- Душа срывается на вой.
- Жена хлопотами спасалась
- Два сына у нее теперь.
- А на него смотреть боялась:
- Он всё стонал в своей мольбе…
- В один из дней собрал котомку,
- Жене сказал: – Меня не жди!
- – Куда собрался в путь-дорожку?
- Что значит это, мне скажи!..
- – Не бойся, по лесу пройдусь…
- Кто спросит – скажешь, за грибами.
- Два дня, и к вечеру вернусь,
- Пока хозяйствуйте тут сами!
- Он шел проселочной дорогой.
- Куда ему еще идти?
- Он за неделю видел много,
- Душе покоя не найти.
- Тропой в болото, вышел к балке,
- Нашел сторожку лесника
- Еда и снасти для рыбалки,
- С полкилометра есть река.
- «Фашист сюда дойти не сможет,
- Семью смогу перевезти.
- Ох, жажда мести душу гложет!
- Шалаш бы надо возвести…»
…Он смог соорудить два небольших шалаша, сложил в одном из них взятое с собой: два ножа, веревку, спички, мыло, бутылку керосина и четыре банки сливового варенья.
«Ну вот и хорошо… Пора возвращаться. Остальные вещи и продукты с собой принесем. На первое время должно хватить, а там глядишь, и война закончится…» – рассуждал он, собираясь в обратный путь.
Дорога домой через лес и болото заняла сутки. Грязный и усталый, он ввалился в дом.
– Ты где пропадал? – бросилась к нему жена.
– Устал я, Зоя, очень устал! Согрей воды помыться.
– Ты где был, Ваня?.. Я боюсь… Согрею сейчас, только скажи: что ты делал? Где был?
– Зоя, я всё тебе расскажу, только позже. Помоюсь, отдохну и расскажу…
– Ваня, тебя дед Матвей искал. У него там что-то стряслось, – помогая ему раздеться, говорила жена.
– Давно искал?
– Так днем еще! Ты есть будешь?
– Сначала вымоюсь…
Уложив детей спать, жена полила ему из ведра и накрыла на стол. Выпив полстакана самогона, он закусил жареной картошкой и солеными огурцами. Посмотрев на жену, учитель сказал:
– Зоя, нам придется уходить в лес. Так что надо потихоньку готовиться… Запастись продуктами, ну и всем необходимым.
– Ты думаешь, так лучше будет? А дети, Ваня, они-то в лесу как?..
– Уж лучше в лесу, но живые! Или ты думаешь, фашисты пощадят кого? А захотят тебя как бабу – мне что, плакать да смотреть предлагаешь?!
– Не знаю… Страшно, Ваня! А как найдут нас, что будет?
– Уйдем туда, за болото, где избушка лесника. Там не отыщут! Да и, думаю, всё это ненадолго, война месяца через два-три закончится… Надеюсь, наши к ноябрю вернутся и выкинут фашистов из деревни.
– Дай Бог! Дай Бог! А когда пойдем-то, Ваня?
– Дней через пять, наверное. Надо подготовиться и подумать, когда лучше…
В это время в окно постучали.
– Кто там еще так поздно?! – насторожившись, спросил он.
– А… дед Матвей опять! – ответила жена.
– Пойду выйду, поговорю с ним!
- …– Ну, что случилось, дед Матвей?
- – Иван, прошу тебя, спасай!
- Идем к фашистам побыстрей
- И заберут меня пускай!
- – Да, объясни, прошу я, толком!
- Что вдруг случилось?.. Что стряслось?!
- – Я выть готов от боли волком,
- И вот: ружье мне взять пришлось!
- – Зачем ружье?! И что случилось,
- Ты мне расскажешь, наконец?
- – Беда такая приключилась,
- Она у них! Совсем птенец…
- Забрали Нинку! Там, у них!
- В комендатуре, целый день!
- Хотел поднять я всех своих
- «Сдурел, – сказали, – старый пень?»
- Боятся все… вот я к тебе,
- Спаси кровиночку мою!
- – Ты что прикажешь делать мне?
- Ее к тебе как приведу?!
- – Так объясни им, мол, на ихнем:
- Пятнадцать лет, дитё совсем!
- А если нет, то наших кликнем,
- И смерть тогда им будет всем!
- – Ты, дед Матвей, сдурел, гляжу я:
- Война неделю как идет.
- Фашист, паскуда, торжествуя,
- Бои за Минск уже ведет!
- – Неужто… Минск?! Ох, ох, беда!
- Так что же делать мне, Иван?
- Пропала внучка навсегда?!
- Ее врагу я не отдам!
- Вот, взял ружье, перестреляю!
- – Успеешь многих застрелить?
- – Хоть одного! Ну, я не знаю…
- А что ж, лишь плакать да грозить?
- – Ружье оставь! Пойдешь со мною.
- Просить их буду, убеждать…
- Но чужды мы для них душою:
- Для них забава – нам страдать!..
…Он забежал в дом и вполголоса, чтоб не разбудить детей, сказал:
– Зоя, я со стариком схожу…
– А что случилось? – встревожилась жена.
– Беда, у них, Зоя… Нинку фашисты забрали и держат у себя.
– А ты что можешь сделать? Страшно, Вань… Как бы боком не вышло.
– Ничего, Зоя, я попробую с немцами поговорить. Может, удастся… может, отпустят.
– Ой, боюсь я, Ваня!
– Ничего, ничего, не бойся. Мы быстро… попробуем упросить! – приобняв жену, ответил он и, поцеловав ее, вышел.
Идя по ночной деревне вместе с дедом Матвеем к школе, где размещалась комендатура, учитель размышлял: «Хорошо, придем… А дальше? Что дальше? Давить на то, что они культурная нация? Не смогу. После всего, что они творили, язык не повернется… Да и какая они культурная нация, к черту! Убийцы! Душегубы! Так, спокойно… Надо как-то их уговорить. Девочка же ничего не сделала… Ладно, буду смотреть по обстоятельствам!»
– Иван, слышишь, что говорю? – дед Матвей выжидающе смотрел на него.
– Что?..
– Они там гуляют. Ну, это… пьянствуют! Праздник у них какой, что ли…
– Ладно, дед, поглядим!
Во всех окнах школы горел свет, около входа группа немецких солдат горланили веселую песню. Трое из них держали стаканы, а один наливал им самогон из большой бутылки.
– Ты, дед Матвей, обожди меня здесь!
– Ага, Ваня, ага!
Учитель подошел к дверям, но никто из охраны его не остановил и ни о чем не спросил. Идя по школьному коридору школы, он то и дело натыкался на пьяных немецких солдат. В нескольких классах он видел последствия попойки: разбросанные консервные банки, остатки еды на партах и спящих на полу фашистов.
Он постучался и, спросив по-немецки разрешения, вошел в кабинет коменданта. На письменном столе стояли открытые консервы, лежала неровно отрезанная буханка хлеба, сало, овощи с деревенских огородов и большая бутылка самогона. «Культурная нация… Да просто свиньи!» – успел подумать он.
– Und der Lehrer! Sind Sie hier um uns zum Sieg zu gratulieren? (А, учитель! Вы пришли поздравить нас с победой?) – встретил его старший офицер.
– Господин офицер, вы сильно пьяны. Я и не слыхал еще о победе. Я пришел с просьбой… – ответил учитель.
– Гельмут, он еще не слышал, что мы победили! – наливая себе в стакан самогон, крикнул майор.
Из смежного маленького кабинета, шатаясь и застегивая форменные галифе, вышел второй офицер. Он довольно улыбался, бросив на стул портупею с кобурой.
– Господин майор, надо налить этой русской свинье, чтоб он выпил за нашу победу!
– Да, это правильно! – Офицер налил в стакан самогону и протянув ему, продолжил: – Пейте, учитель! Ваша армия бежит так быстро, что ее не догнать. Война скоро закончится в Москве!
Но учитель не взял стакан, а быстро прошел в смежный кабинет. Замерев в дверном проеме, он закричал:
– Звери! Как вы могли?! Она же еще ребенок! Изверги!
Обернувшись, посмотрел на фашистов и осознал, что его не поняли. Он тут же перевел свои слова.
– Du russisches Schwein! (Ax, ты русская свинья!) – крикнул младший офицер и дважды ударил его по лицу.
– Helmut, hör auf! (Гельмут, хватит, довольно!) – остановил его майор.
Учитель сплюнул кровь из разбитой губы и с яростью посмотрел на фашистов. Внутри всё кипело от ненависти. Майор медленно подошел к нему и выплеснул самогон в лицо.
– Du kannst noch mal den Ton erhöher! Ich erschiese dich und deine Familie! – сказал майор, и учитель испугался, потому что это означало: «Скотина, если ты еще раз повысишь тон, я расстреляю и тебя, и твою семью!».
Он вытер рукой лицо и в знак согласия кивнул головой. В то же мгновение схватил со стола нож и с силой ударил майора в живот. Резко, не выпуская ножа из руки, так же наотмашь ударил второго офицера. Тот схватился за горло и повалился на стол…
Майор стонал, стоя на коленях и держась за живот. Учитель сделал шаг к нему, и фашист поднял голову. В его глазах читался страх и удивление. Руки, которыми он зажимал рану, были в крови.
– Ты же учитель… Свинья. Жаль, что не расстрелял тебя, – сквозь стоны негромко говорил майор, протягивая руку к кобуре.
– Ах, ты, гад! – ответил он и, схватив со стола бутыль с самогоном, ударил им фашиста по голове. От удара бутыль разбилась и самогон хлынул на голову офицера. Майор вскинул руки вверх и рухнул на пол. Из раны на голове заструилась кровь.
Учитель взял ключи со стола и закрыл дверь. В это время из смежного кабинета, держась за стену, вышла Нина и негромко произнесла:
– Дядя Ваня, помогите…
Он не успел подхватить девочку, и она упала…
- …Поднял он девочку: – Идем!
- Тебя я к деду отведу…
- По коридору с ней прошел,
- Уже решив свою судьбу.
- У немцев пьянка и веселье:
- «Советы в панике бегут!
- Тут не война, а развлеченье,
- В Москве сапог немецкий ждут!»
- Им только молча улыбался
- И Нину вывел на порог.
- Потом уже себе признался:
- «Я это сделал! Значит, смог!»
- Дед внучке ринулся навстречу,
- Ее обнял и зарыдал…
- – Да, дед Матвей, недобрый вечер.
- И я чертовски так устал!
- Вы уходите, я вернусь,
- Иначе хватятся враги.
- Теперь я смерти не боюсь,
- И всё решил. А ты беги!
- И всем скажи, чтоб убегали.
- Прошу, моим ты помоги
- Жена ведь справится едва ли…
- Всех к Волчьей балке уводи!
- – Постой! Зачем же возвращаться,
- Коль ты охальников уговорил?..
- – Эх, некогда мне было объясняться!
- Я их обоих там… убил.
- Дед рот рукой себе закрыл,
- И головою покачал.
- «Прости!» – глазами говорил:
- Он всё, что будет, понимал…
- – А потому поторопись,
- Пока им будет не до вас!
- С моими за меня простись,
- О них лишь думаю сейчас…
- Дед с внучкой уходили быстро,
- А он вернулся в кабинет.
- Взгляд бросил на тела фашистов,
- Присел. «Назад дороги нет!»
- Взял пистолеты и обоймы:
- «Еще бы знать, как заряжать…
- Сидел и думал он спокойно.
- Да, это страшно: умирать…»
- Он полчаса всё не решался,
- Крутя в руках тот пистолет.
- С родными мысленно прощался,
- И в миг последний – снова… нет!
- То «вальтер» брал, то «парабеллум»,
- К груди примерил и к виску.
- Не знал, куда надежней целить,
- Не мог унять дрожь и тоску…
- Вдруг тихо стало в коридоре.
- «Должно быть, все поулеглись.
- Война с вином обычно в ссоре
- Коль выпил, смерти берегись».
- Но вот в дверь постучали нервно,
- И он со стула враз вскочил.
- То вдруг хватились офицеров…
- Учитель тот же нож схватил.
- «А может, лучше сделать выстрел?
- Ножом, пожалуй, не смогу…
- Вы только, изверги, приблизьтесь
- Глаза закрою и воткну!»
- Пока стучали, сомневался,
- Менял оружие в руках.
- И дверь открыть он не решался,
- На ватных чуть держась ногах…
- Ключ осторожно повернул
- И тут же сделал шаг назад.
- А пьяный немец дверь толкнул
- И выпучил свои глаза.
- Он в кабинет вошел, ругаясь,
- Бутылку бросил, закричал,
- И за грудки без сил хватая,
- Проклятья только посылал.
- И он, превозмогая слабость,
- Прижал, на горло надавил…
- Нет, выхода не оставалось
- Учитель в гада нож вонзил.
- Сталь плоть разрезала мгновенно!
- Фашист от боли захрипел.
- Ослабла хватка постепенно,
- По стенке на пол он осел…
Переступив через тело, учитель быстро закрыл за собой дверь. «Что теперь? Этот уже третий. Что дальше? Пожар? Может, устроить пожар? Да, многие пьяные спят, стоит поджечь здание…» – размышлял он, сгребая в большую кучу всякие бумаги. Засунул за ремень два пистолета и выглянул в коридор.
– Пока никого нет, успею! – сказал сам себе и, присев, чиркнул спичкой. Бумага быстро разгоралась, захватывая деревянный пол. Разлитый самогон помогал огню…
Учитель вышел в коридор и оставил открытой дверь. В последний момент он решил выйти из школы и бежать. Идя к выходу, увидел на крыльце двух немецких солдат, которые курили за пьяной болтовней. Когда до них осталось несколько шагов, на темной улице закричали по-немецки:
– Пожар! Кабинет коменданта горит!
Учитель остановился, два солдата направились в его сторону. Выхватив один пистолет, он стал стрелять. Один из фашистов вздрогнул и сразу упал, а второй побежал на улицу, но на пороге присел и повалился на крыльцо. Половину коридора заволокло дымом. С улицы на крыльцо забегали немцы, и один из них несколько раз выстрелил в сторону учителя.
Он побежал по коридору в другую часть здания, где не было огня и дыма. Дверь одного из классов открылась, и ему навстречу, медленно одеваясь, вышли три солдата. Было видно: они не понимают, что происходит.
С расстояния не более двух метров учитель стал стрелять. Фашисты кричали и один за другим падали. Рядом с ним в стену ударялись пули. Он подобрал автомат одного из убитых солдат и, быстро забежав в класс, закрыл дверь. Выключив свет, встал у простенка между окнами.
В дверь стали тарабанить и стрелять. Учитель бросил пистолет, в котором закончились патроны, и вытащил из-за пояса второй. Ответив в сторону двери тремя выстрелами, он стал разбираться с автоматом, положив «вальтер» на парту.
– Черт возьми, как из него стрелять? Железяка хренова! Почему не стреляет?! – говорил он сам себе, нажимая спусковой крючок и крутя автомат в руках. Случайно передернув затвор, нажал на спуск, и короткая очередь ударила в пол.
– Ага! Есть! Заработал! – обрадовался он и тут же дал длинную очередь по двери.
Стучать перестали, но через пару минут в окна тоже ударила автоматная очередь. Стекла разлетелись в мгновение, и учитель, упав на пол, повалил две парты, спрятавшись за ними.
В темноту класса с улицы ударили узкие лучи фонарей. К окнам подошли немецкие солдаты, которые светили вовнутрь и старались рассмотреть стрелка среди беспорядочно расставленных парт и перевернутого книжного шкафа. В тонких полосках света было видно, что через щели двери класс наполняется дымом.
Учитель направил ствол автомата на ближайшее окно, и как только луч от фонаря упал рядом с ним, вскочил и с криком стал стрелять. Немецкий солдат вскрикнул, и свет пропал…
В то же мгновение улица ожила вспышками автоматных очередей. Казалось, от этого свинцового дождя не было спасения, но учитель сумел перевернуть еще одну парту и упасть в углу, сбоку от окна. Класс всё больше наполнялся дымом, и становилось труднее дышать…
- Когда сражения идут,
- Жизнь единичная не в счет,
- За грань десятками шагнут,
- Порой полкáми небо ждет.
- Но каждый твердо понимает:
- Война заставит выбирать,
- И каждый сам определяет,
- Как будет жить и воевать.
- …А он, от дыма задыхаясь,
- Стрелял уж вовсе невпопад.
- Но ненависть вела святая
- Дороги не было назад…
- И из окна он, в ночь стреляя,
- Кричал врагам: – Вся жизнь к чертям!
- Им по-немецки добавляя:
- – Война у каждого своя!..
- А сколько их, таких безвестных,
- Вели с врагом свою войну,
- Нам все герои неизвестны.
- Народ геройски спас страну!
Ханох Дашевский
Родился в Риге. Образование получил в Латвийском университете.
Участвовал в еврейском национальном движении, являлся одним из руководителей нелегального литературно-художественного семинара «Рижские чтения по иудаике».
В Израиле живет с 1988 года.
Поэт, прозаик, переводчик, публицист. Член Союза русскоязычных писателей Израиля (СРПИ), Международного Союза писателей Иерусалима, Международной Гильдии писателей (Германия), Интернационального Союза писателей (Москва), Союза писателей XXI века (Москва), Литературного объединения «Столица» (Иерусалим).
Автор шести книг поэтических переводов, а также романов «Сертификат» и «Долина костей», вошедших в дилогию «Дыхание жизни». Лауреат премий – СРПИ им. Давида Самойлова и «Русское литературное слово», номинант на премию Российской Гильдии мастеров перевода.
Песнь расставанья и любви
(Стихи из трилогии «Дыхание жизни» – книги о роковых событиях середины XX века, романе о мужестве и отчаянии, предательстве и героизме)
«Когда мерцает желтый лик луны…»
- Когда мерцает желтый лик луны,
- И распускает ночь над миром крылья,
- Когда сияньем небеса полны
- От звездного ночного изобилья,
- Прильни ко мне в молчании Земли,
- И обними, как только ты умеешь!
- Какие горы высятся вдали,
- К которым ты приблизиться не смеешь?
- Какая непонятная тоска
- Тебя насквозь, как лезвие, пронзила?
- Вот на твоем плече моя рука —
- Ее не сбросит никакая сила.
- А над тобою – свет высоких звезд,
- И лунный диск, таинственно манящий.
- Любовь моя, взойди на тонкий мост
- В неведомую бездну уходящий.
«Нет ничего печальнее любви…»
- Нет ничего печальнее любви,
- Когда она приходит слишком поздно.
- Забудь меня и, как цветок, живи:
- С луной играй под крышей неба звездной.
- А я уйду. И унесу с собой
- Твои глаза в предутреннем тумане.
- И будет этот сумрак голубой
- Напоминать о незакрытой ране.
- Сойдутся дождевые облака,
- И в день ненастья, в грустный день осенний
- Увижу я тебя издалека,
- Но не смогу обнять твои колени.
«Настанет утро, и взойдет звезда…»
- Настанет утро, и взойдет звезда
- Над лесом, где безмолвие царит,
- И всё пространство инея и льда
- Она мерцаньем тусклым озарит.
- И побредет унылая толпа,
- Скользя по снегу из последних сил,
- И встанет там, безгласна и слепа,
- Где ангел смерти крылья распустил.
- И раздеваться будут, словно в зной,
- И обрести наследный свой удел
- Они пойдут, сверкая белизной
- Еще живых, ещё дрожащих тел.
- И после них не запоет певец
- Пернатый в этом проклятом лесу,
- И если солнце выйдет наконец —
- То лишь собрать кровавую росу.
- Ребенок, мать за руку теребя,
- Через секунду с нею рухнет в ров.
- Любимая! Сегодня и тебя
- Я вижу на развалинах миров.
- Я вижу, как идешь по снегу ты,
- Далекая и чуждая всему,
- И прижимаешь мертвые цветы
- К еще живому сердцу своему.
- Я не могу помочь тебе никак,
- Не перейду невидимый порог.
- Один, всего один неверный шаг —
- И бездна раскрывается у ног.
- И ты уходишь. Время истекло.
- Мы ничего не можем изменить:
- Ведь прошлое разбито, как стекло,
- И не связать разорванную нить.
- Проснутся сосны в утренней смоле,
- Появится и не исчезнет свет —
- И только брызги крови на земле
- Останутся, как брошенный букет!
«В тот день, когда погас твой взгляд…»
- В тот день, когда погас твой взгляд,
- Над потускневшим морем встал
- Тревожный скомканный закат
- И солнце сплющил, как овал.
- И я за сумрачной стеной
- Не видел полосу зари.
- И ночь стелилась надо мной,
- Не зажигая фонари.
- И о тебе ни слова мне
- Латунный месяц не принес,
- А сам в подзвездной глубине
- Он только ширился и рос.
- Я думал – ты ушла туда,
- Где запах поля, запах трав.
- Не знал я, что стряслась беда,
- Сосуды жизни разорвав.
- Как будто сотни колесниц
- Остановились на бегу.
- И капли слез из-под ресниц
- Расплылись кровью на снегу.
- И ты в преддверии могил
- Ловила взглядом окоём,
- Но отблеск смерти заклеймил
- Его железом и огнем.
- Не оживут букеты роз,
- Не обратится время вспять,
- И окровавленных волос
- Не загорится снова прядь.
- И этих стройных белых ног,
- Которых легче в мире нет,
- На суете земных дорог
- Не отпечатается след.
- И только свет прошедших дней
- Мерцать, как дальняя звезда,
- Останется в душе моей
- И не померкнет никогда.
Дыхание жизни
(Отрывок из романа)
Михаэль лежал на снегу, подстелив под себя несколько хвойных веток. Исходные позиции батальон занял ночью, но уже рассветало, и начала атаки можно было ждать с минуты на минуту.
Четыре месяца прошло с последнего боя, в котором он участвовал и был ранен. Тогда, в августе, война шла в эстонских лесах и на улицах Таллина – мощеных камнем, пропахших дымом и порохом, – а сейчас стоял декабрь, и впереди простиралось, насколько хватало глаз, заснеженное подмосковное поле.
Но изменился не только пейзаж. В судьбе Михаэля тоже произошли изменения.
Переправившись под бомбами на старом буксире через Ладогу, Михаэль еще десять дней добирался до Горького. Несмотря на то, что у него имелось предписание, очумевшие и измотанные железнодорожники не обращали на бумажку никакого внимания, солдатские эшелоны шли в противоположном направлении, и оставались только обычные поезда, набитые эвакуированными и просто бегущими подальше от приближающейся линии фронта гражданскими людьми. Попасть в такой поезд было почти невозможно, а если все-таки удавалось, приходилось стоять.
А кроме того, надо было не перепутать направление. Карты у Михаэля не было, он плохо представлял себе, где находится пункт назначения, и всё же ему повезло. В Вологде, куда Михаэля привез товарный состав, ему удалось забраться в тамбур и каким-то чудом попасть в вагон идущего до Костромы, переполненного до отказа поезда. И стоять бы Михаэлю всю оставшуюся дорогу, если бы какая-то круглолицая девушка в платке, из-под которого выбивалась светлая прядь, не притянула его к себе и не усадила, вынудив слегка потесниться своего пожилого соседа, хотя двигаться было некуда.
Так он оказался на нижней полке, вплотную ощущая молодое женское тело и сгорая от смущения. В Риге у него не было подруг, даже с одноклассницами по гимназии общение было мимолетным, хотя Михаэль не раз ловил заинтересованные девичьи взгляды. Не зная, с чего начать разговор, он молчал, и где-то через полчаса, видимо, потеряв надежду, что парень откроет рот, девушка заговорила сама:
– Меня Клавдией зовут. Клава, значит. А тебя как?
Михаэль успел убедиться, что странное для русских произношение его имени вызывает вопросы, и постарался их избежать.
– Михаил.
– Михаил… – повторила Клава. – Стало быть, Миша. Ты откуда, солдатик? Вроде как в другую сторону от войны едешь?
У нее было непривычное «окающее» произношение.
– Я уже воевал, – не вдаваясь в подробности, ответил Михаэль. – Под Таллином. Был ранен, получил отпуск. Сейчас еду в Горький, потом – снова на фронт.
Он понимал, что в неимоверной тесноте вагона нужно говорить о себе как можно меньше.
– Ну а сам-то? Сам откуда будешь?
– Из Латвии… Из Риги.
Михаэль отвечал односложно. К ним уже прислушивались. Какой-то мужик, примостившийся на верхней полке, даже свесил голову вниз.
– Из Латвии? – переспросила Клава. – Тогда понятно. По разговору твоему. Говоришь вроде правильно, да как-то не по-нашему. Значит, латыш?
Михаэль сделал неопределенный жест. В такой обстановке, среди случайных людей, он не мог и не хотел откровенничать.
Клава поняла это по-своему. Она перестала донимать Михаэля расспросами и стала рассказывать о себе. Сама она из Вологды. Отец и брат воюют, а до войны оба на одном заводе работали. Матери нет, а с мачехой она не ладит, потому и едет к сестре. Тоже в Горький – стало быть, им по пути. Сестра ее, Лиза, на «Красном Сормове» работает, в сборочном цеху. И Клава там работать собирается.
Сормово! Михаэль уже слышал это название…
– Друг у меня, моряк. Вместе воевали под Таллином. Так он тоже на этом заводе работал.
– А где он сейчас?
– В Кронштадте.
– Правда? И мой жених где-то там. На фронте, под Ленинградом.
Михаэль не знал, почему его кольнуло упоминание о женихе. Неужели эта разговорчивая девица ему нравится?..
А Клавдия тем временем спохватилась.
– Господи! Ты же голодный! Сейчас покормлю.
Это было как нельзя более кстати. Михаэль умирал от голода. Последнюю банку полученных в Кронштадте консервов он съел еще утром, и у него оставался только хлеб – меньше полбуханки. Его надо было растянуть до конца пути… И тут появляется Клава с корзинкой. А в ней – домашняя снедь. Не захочешь – поверишь в чудеса.
Нужно было есть неторопливо, зная себе цену, как подобает бывалому бойцу, но от голода сводило челюсти. Неторопливо не получалось. Содержимое корзинки таяло, и Михаэль спохватился лишь тогда, когда понял: еще немного, и у Клавдии не останется ничего. Виновато посмотрев на девушку, он протянул ей корзинку.
– Извини! Совсем о тебе забыл.
Но Клава не расстроилась.
– Ты пока ешь. В Кострому приедем – раздобудем чего-нибудь. Есть у меня еще еда, да не могу ее трогать. Сестричке везу. Она, бедная, с ребеночком мыкается. Муж-то ее без вести пропал. А ей говорят: пропал – значит, в плен сдался. По этой причине и помощь ей, как жене фронтовика, не положена, – серьезно и с горечью заключила Клава.
Она хотела еще что-то сказать, но относительная тишина, установившаяся в ночном вагоне, была нарушена какой-то возней. В проходе появился мужской силуэт. Не обращая внимания на узлы, чемоданы и ноги пассажиров, мужчина пробрался внутрь. Прижав к стенке сидевшую у окна на противоположной полке женщину, он втиснулся рядом с ней. Женщина пыталась протестовать, но наглый тип ткнул ее в плечо.
– Заткнись, толстуха!
И принялся бесцеремонно разглядывать Михаэля и Клаву. Увидев в руках парня корзинку с едой, новоявленный сосед осклабился:
– Эй, рыжий! А много не будет? Поделился бы по-христиански.
– Это с тобой-то делиться? – ответила за Михаэля Клава. – Ты и так с центнер весом. Обойдешься, не похудеешь…
Нахал и в самом деле был таких габаритов, что не мог вместиться полностью и сидел полубоком.
– Да уж покрепче твоего шпингалета! А с этим делом у него как?.. Помощь не нужна? А то я завсегда готовый!
– Ты бы лучше на фронте себя показал! – вспыхнула Клава. – Там люди головы кладут, а такой матёрый детина в тылу ошивается!
– А у меня от войны освобождение. Я по здоровью к армии непригодный, – ухмыльнулся непрошеный собеседник. – Ну так как? Хочешь фартового мужика? У тебя таких точно не было, – и перегнувшись, положил ладонь на колено Клавы. Михаэля он игнорировал, как видно, сразу решив, что тот не опасен.
Дело принимало плохой оборот. Нужно было что-то предпринимать, но Михаэль не решался. Ему легче было вместе со всеми идти в бой, чем оказаться со злом один на один. Он и боксом стал заниматься из-за того, что не хватало ему уверенности в себе.
Клаве удалось сбросить ёрзавшую по колену ладонь, но негодяй навис над ней, пытаясь поцеловать в губы. Вокруг реагировали по-разному. Одни возмущались, другие делали вид, что происходящее их не касается. Мужчина на верхней полке даже отвернулся к стене, всем видом показывая, чтобы на него не рассчитывали.
Михаэль понял: если он сейчас, сию минуту не вмешается, в нем не только разочаруется Клава, но и сам он будет презирать и ненавидеть себя. Только не тянуть. Как говорил Юрис в Эстонии: «Прикладом действуй, штыком… да хоть палкой!». Главное – действовать.
Палки под рукой не было, но ненавистный живот был перед глазами. От удара в солнечное сплетение здоровяк переломился, хватая ртом воздух, а Михаэль, схватив за руку Клаву, бросился в проход, спотыкаясь и задевая людей. За спиной они слышали голос, сквозь матерную брань обещавший оторвать Михаэлю ноги.
Неожиданно поезд замедлил ход. Показалась большая станция, и парень с девушкой спрыгнули на перрон. Выскочил и преследователь, бросившись за ними. Обернувшись, Клава увидела в его руке нож и закричала:
– Помогите! Милиция!
Человек с ножом настигал, но милиционер уже бежал к ним, на ходу расстегивая кобуру. Преследователь остановился, изображая страх, а сам сжимал нож, лезвие которого прятал в рукаве пиджака. Это видели Михаэль и Клава, но не видел молодой неопытный милиционер. Выстрелив в воздух, он подбежал к бандиту, и почти сразу же упал на спину, широко раскинув руки.
Вокруг не было никого. Все теснившиеся на перроне люди бросились к подошедшему поезду, надеясь попасть в вагоны. Убийца рванул в противоположную сторону, но оттуда уже бежали на выстрел солдаты военного патруля во главе с офицером. Михаэль увидел летящий в его сторону предмет, но лишь тогда всё понял, когда начальник патруля подобрал лежавший у его ног окровавленный нож.
Бандит, как ни в чем не бывало, кивнув на Михаэля, прокричал офицеру:
– Товарищ лейтенант! Это он убил!
В ту же секунду патруль скрутил растерявшегося от неожиданности Михаэля. Клава ахнула.
– А вы кто будете, девушка? – спросил лейтенант. – Вы что, были с ним?
– Да не убивал он, товарищ офицер! – закричала Клава. – У него и ножа-то не было! Вот этот убил, здоровый. А нож подбросил. Он бандит!..
Но убийца, державшийся уверенно и спокойно, только рассмеялся.
– Да врет она, дура малохольная. Этот рыжий ее охмурил. Он вообще не русский. Вы бы документы его липовые проверили. Заслали его к нам, не иначе…
– Проверим, – пообещал лейтенант. – И твои заодно. Ведите их в отделение.
Старший лейтенант милиции Рагозин находился в должности две недели. Оставшись хромым после ранения в ногу под Лугой, он был комиссован и прямо из госпиталя направлен на узловую станцию начальником милиции. Людей не хватало, времени на их подготовку не было, и бывший строевик-пехотинец очень смутно представлял себе, что и как он должен делать.
В распоряжении Рагозина находились двое: старшина Иван Иванович (солидный пятидесятилетний мужчина, единственный кадровый милиционер) и молоденький сержант, полчаса тому назад убитый таким же, как он, молодым, но подозрительным типом в солдатской форме по имени Михаэль Гольдштейн. Так было обозначено в документах.
В том, что убил именно Гольдштейн, Рагозин сомневался мало. Воевал он в стрелковом корпусе, сформированном из подразделений довоенной латвийской армии, а попал туда Рагозин, потому что большинство солдат и офицеров корпуса – латышей – дезертировали. Он ничего не знал ни о латвийской рабочей гвардии, ни о латышских добровольцах в Эстонии, но был уверен, что латышам доверять нельзя. А парень – латыш. Вот и убил. Что тут неясного?
– По законам военного времени мы тебя без суда расстреляем, – без злобы, но твердо сказал старший лейтенант, – и разбираться не станем. Не до разборок сейчас. У тебя что написано? Гольдштейн Михаэль, боец латышского стрелкового полка. А на самом деле какой ты боец? Ты – латышский фашист, убивший советского милиционера. Повидал я ваших на фронте… Враги. На моих глазах целый корпус дезертировал.
– Но ведь я не латыш, – дрожащим голосом стал оправдываться Михаэль, понимая, что расстрел на месте – не шутка, и что начальник именно так и поступит. – Я еврей. Только родился в Латвии. Зачем мне милиционера убивать? Нас самих фашисты убивают…
– Вот-вот. Родился в Латвии – значит, своим помогаешь, – никак не отреагировав на еврейское происхождение Михаэля и не дослушав, сказал Рагозин. – Пробираешься в советский тыл. Зачем? Для диверсии?
– Там же сказано, в документах: «после ранения направляется в Горький, в формируемую Латышскую стрелковую дивизию».
– Товарищ милиционер, – вмешалась находившаяся в комнате Клава, – да говорю же я вам: не убивал он!.. Тот бандюга убил. Я ж всё видела… Вы лучше его проверьте.
– Им старшина занимается. Тебя саму еще не проверили.
– Но он же гнался за нами!
– Потому и гнался, что дружка твоего заподозрил. Значит так, гражданка. Разговаривать с тобой некогда. Вот тебе бумага, и пиши всё как было… Ну что там, Иван Иванович? – спросил Рагозин входившего старшину. – Выяснил?
– Да вроде как в порядке бумаги… только, сдается, это лицо я уже где-то видел. А где – не припомню пока.