И. П. Павлов – первый нобелевский лауреат России. Том 2. Павлов без ретуши бесплатное чтение
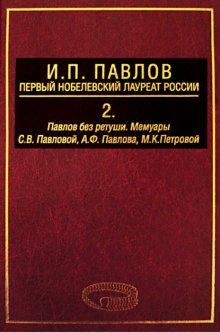
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ им. И.П. ПАВЛОВА
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-КВАРТИРА И.П. ПАВЛОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АРХИВА РАН
Серия изданий по истории Нобелевского движения, как социального феномена XX века
Издание осуществлено при финансовой поддержке Издательского Дома «Нобелевские лекции»
Иван Петрович Павлов
I.P. Pavlov – the First Nobel Prize Winner in Russia. V. 2. Pavlov without Retouching (Reminiscences of S.V. Pavlova, A.F. Pavlov, M.K. Petrova) / Comments by
A.D. Nozdrachev, E.L. Poliakov, E.A. Kosmachevskaya, L.I. Gromova, K.N. Zelenin. St.Petersburg, «Humanistica», 2004. – 816 pp.
It’s well known, that the most complete biographies of I. P. Pavlov were written in honour of the 100th anniversary of his birth (1949). Realities of that historical period required that biographies to describe Pavlov as a unique, sinless, correct and even obeying law person, as a standard formed exclusively on the Russian background. Today some things look different. This edition presents uncensored reminiscences of his most familiar persons – his wife S.V. Pavlova, unpublished memories of his second nephew A.F. Pavlov who was living in Pavlov’s family for four years, and memoirs of his close collaborator M.K. Petrova. Many of detailed comments and the first time published photographs are included.
For a wide range of readers interested in memories and history of physiology and medicine.
Ответственный за выпуск профессор А. И. Мелу а
© А.Д. Ноздрачев, Е.Л. Поляков, Э.А. Космачевская, Л.И. Громова, К.Н. Зеленин, 2004
© Изд-во «Гуманистика», 2004
Предисловие
Название этой книги, как и ее направленность, не явились случайным капризом авторов, они возникли после долгих колебаний, раздумий, взвешиваний. Книгу в первую очередь следует рассматривать как результат стремления показать, каким был в реальной жизни академик Иван Петрович Павлов, отступив от официального портрета нашего великого соотечественника, созданного в отнюдь не лучший для объективного суждения период. Такое стремление совпало с тем временем, когда в наших руках оказались подлинные, не подвергавшиеся какому-либо вмешательству редакторов-цензоров, хранившиеся многие годы в архивах и даже специальных архивах, рукописи воспоминаний самых близких Ивану Петровичу людей: жены – Серафимы Васильевны, двоюродного племянника – Александра Федоровича Павлова и ученицы, коллеги, сподвижника в делах научных – Марии Капитоновны Петровой.
Особенность этих мемуаров состоит в том, что они отражают личные восприятия и впечатления, очень мало или практически совсем не отдаленные от описываемых событий, что представляет для истории почти такую же значимость, как и официальные документы. Конечно, следует непременно иметь в виду и учитывать субъективность оценки, а также эмоциональную окрашенность многих жизненных моментов и ситуаций, что более всего ощущается при прочтении воспоминаний М. К. Петровой.
Вместе с тем воспоминания, как ни один официальный документ, содержат и ряд своеобразных черт, неповторимых подробностей, относящихся ко многим фактам и событиям. Они создают многогранный образ гениального физиолога, искателя истины, страстного исследователя, прямого и принципиального во всех своих делах и поступках, простого, сердечного и внимательного человека, обладавшего к тому же неукротимым темпераментом и страстностью в научном поиске и увлечениях.
Уместно сказать, что еще при жизни Ивана Петровича на страницах газет и журналов, в книгах, различных отечественных и зарубежных изданиях многие пытались дать анализ его творчества. Особенно серьезно подошли к этому сотрудники Института экспериментальной медицины (ПЭМ), выпустившие к 75-летию Ивана Петровича специальный сборник, в котором освещался непосредственно стиль работы юбиляра, приводились воспоминания коллег о работе с ним.
Поток публикаций нарастал и достиг своего апогея к 1949 году, когда в нашей стране и за рубежом широко отмечалось 100-летие со дня рождения Павлова. К личным воспоминаниям добавились произведения, освещающие историю основных этапов развития павловского учения, его значение для физиологии, медицины, психологии и многих других теоретических и практических дисциплин.
В процессе подготовки к юбилею, еще в 1947 году, специальным распоряжением Президиума АН СССР была создана Комиссия под председательством академика Л. А. Орбели, в задачу которой входили сосредоточение, учет, систематизация материалов, касающихся жизни и деятельности Павлова. В силу ряда объективных причин работа Комиссии постепенно заглохла, и сбор воспоминаний возобновился по инициативе академика К. М. Быкова лишь в 1956–1957 годах. Происходило это уже не в ПЭМ, а в Институте физиологии им. И. П. Павлова АН СССР.
Однако и этот организационный всплеск тоже оказался не очень долгим. Приведение в порядок накопленного годами богатейшего материала о жизни и творчестве Ивана Петровича активизировалось вновь лишь при создании в 1964 году академиком В. Н. Черниговским самостоятельной структуры – Отделения физиологии АН СССР. Реальным толчком возобновления интереса к воспоминаниям и материалам о Павлове в этот раз послужила кончина его дочери Веры Ивановны и связанная с этим передача в Архив Академии наук хранившихся у нее печатных, а также рукописных материалов и документов, связанных с жизнью отца.
Позже для возобновления деятельности по сбору и обработке документального наследия Павлова Президиумом Академии наук была создана новая авторитетная Комиссия во главе с В. Н. Черниговским, бывшим тогда академиком-секретарем Отделения физиологии АН СССР. Комиссия вскоре приступила к подготовке издания опубликованных и хранящихся в разных архивах неопубликованных воспоминаний об Иване Петровиче. Помимо того, часть воспоминаний была написана здравствовавшими тогда учениками и соратниками Павлова (П. К. Анохиным, Д. А Бирюковым, В. И. Воячеком, Г. А. Васильевым, А. О. Долиным, Г. П. Конради, Корнелией Кеннон, Е. С. Павловой). Итогом этой кропотливой работы, проводившейся непосредственно H. М. Гуреевой, Е. С. Кулябко и В. Л. Меркуловым, явилось издание большой монографии «И. И. Павлов в воспоминаниях современников» (Л., 1967. – 384 с.).
Но вернемся к настоящему изданию. Первыми из публикуемых в нем материалов по справедливости поставлены воспоминания жены Ивана Петровича Серафимы Васильевны Павловой (урожд. Карчевской). Родилась она в Керчи 20 марта 1859 года в семье военного врача Василия Авдеевича Карчев-ского, служившего на Черноморском флоте. Отец умер рано (по неточным данным в 1865 году, в возрасте приблизительно 55 лет). Мать – Серафима Андреевна Карчевская (урожд. Космина) – происходила из древнего дворянского рода, окончила институт и работала преподавателем в гимназии.
В семье Карчевских было пятеро детей: Евгения, Раиса, Таисия (Ася), Серафима (дома ее в отличие от матери звали Саррой) и Сергей. После смерти отца семья была вынуждена переехать из Керчи в Бердянск, где матери предложили место начальницы гимназии. Старшие сестры уже имели к тому времени высшее образование и так же как мать стали учителями. Все они, в том числе и младшая Серафима, давали частные уроки.
Окончив гимназию с золотой медалью, Серафима Карчевская в 1877 году уехала в Петербург и поступила на Женские педагогические курсы, по окончании которых в 1880 году получила диплом педагога-математика. В мае 1881 года она вышла замуж за И. П. Павлова, с которым прожила более 50 лет. В семье родились пятеро детей: Владимир (1882–1883), Владимир (1884–1954), Вера (1890–1964), Виктор (1892–1919), Всеволод (1893–1935).
Свои воспоминания Серафима Васильевна Павлова начала писать весной 1919 года, чтобы хоть как-то отвлечься от горьких переживаний в связи с потерей любимого сына Виктора, скончавшегося в январе того же года от сыпного тифа. Иван Петрович одобрял это ее занятие, и она не раз читала вслух ему свои заметки. Серафима Васильевна и после смерти мужа продолжала писать мемуары, читала их в августе 1936 года художнику М. В. Нестерову, отдыхавшему в доме Павловых в Колтушах, и закончила свои воспоминания, по-видимому, не позднее 1938 года (точной даты не обнаружено). В мае 1942 года в одном из писем к Нестерову Серафима Васильевна, как вспоминает сам Михаил Васильевич, просила «разузнать, не найдется ли в Москве желающих издать ее «Записки» – воспоминания, охватывающие более пятидесяти лет с того времени, когда она была на Бестужевских курсах[1], а Иван Петрович – студентом Медико-хирургической академии, затем их жениховство и долгую, интересную последующую жизнь их вместе…».
Впервые воспоминания С. В. Павловой были опубликованы в 1946 году в журнале «Новый мир» (№ 3, С. 97—144) в обработке профессора В. С. Галкина, одного из учеников И. П. Павлова. Эта единственная до сих пор публикация была далеко не полной (1/3 текста не была опубликована), с соответствующими тому времени цензурными изъятиями и без каких бы то ни было примечаний. В приведенном в нашей книге варианте авторский текст воспроизведен без купюр, кроме того, он дополнен подробными комментариями и иллюстрациями.
Первая часть воспоминаний (132 стр.) Серафимы Васильевны содержит подробности о ее детских годах, проведенных в родительском доме. Они не имеют прямого отношения к совместной жизни с И. П. Павловым и поэтому не были включены ни в первую, ни в настоящую публикации.
Даже если судить лишь по мемуарам самой Серафимы Васильевны, можно составить мнение, что жена Ивана Петровича, несомненно, была далеко не ординарным человеком. Она принадлежала к числу лучших представителей того поколения петербургских курсисток, перед которыми был вполне определенный набор будущих дорог: уйти в революцию (этот путь она отвергла с самого начала), посвятить себя науке (тяги к этому она не ощущала) или пойти в народ (она была близка к этому, полагая не без определенных оснований, что ее призвание – путь сельской учительницы). Выбор жизненной стези Серафимы Васильевны во многом определили встречи с Достоевским, описание которых принадлежит к числу лучших страниц ее воспоминаний (оно, несомненно, не будет обойдено вниманием специалистов, изучающих творчество и личность гениального писателя, ибо привносит дополнительные штрихи в его многогранный и сложный портрет). Эти встречи привели ее к идее служения человечеству через призму православной религиозной идеи. Серафима Васильевна преобразовала эту общую идею в конкретную практическую форму. Она чувствовала, как никто другой, что любящий ее Иван Петрович Павлов обладает всеми задатками истинного гения с выраженными качествами пассионария. В итоге служение человечеству приняло для нее конкретную форму – посвятить себя обеспечению расцвета этой личности для пользы людей.
Таким образом, Серафима Васильевна полностью отдала свою жизнь, незаурядные способности и интеллект служению высоким идеалам своего избранника и видела свою участь в поддержании того, что судьба предначертала выполнить ее великому мужу. Она сознательно пожертвовала личными интересами во имя семьи. К этому следует добавить, что Павлов был не прост, а порой и труден в повседневной жизни. Постоянно сконцентрированный на мыслях о научной работе, он мало вникал в бытовые мелочи повседневной жизни. Тем больше славы его жене!
Для понимания характера Серафимы Васильевны важно отметить, что она сразу же так организовала семейную жизнь, что Иван Петрович мог целиком отдаться научной работе.
Один из его близких учеников и сотрудников, хорошо знавший жизнь семьи Павловых в конце XIX – начале XX века, Б. П. Бабкин (1877–1950), вспоминал слова Серафимы Васильевны о том, что она потребовала от будущего мужа строгого выполнения трех вещей: никогда и ни в какой форме не принимать алкоголь, никогда не играть в карты и встречаться с друзьями только по субботам, а посещать театры или концерты лишь по воскресеньям. Мы знаем, что Павлов строго следовал этим правилам всю жизнь, если не считать карточной игры, которая была организована так, что успешно способствовала его творческой деятельности, против чего жена не имела ни малейших возражений.
Скончалась С. В. Павлова 31 марта 1947 года в Ленинграде в возрасте 88 лет. Похоронена она на Литераторских мостках Волкова кладбища рядом с могилой мужа.
Еще одни мемуары, вошедшие в настоящее издание, принадлежат Александру Федоровичу Павлову – сыну старшего двоюродного брата Ивана Петровича, Федора Ивановича Павлова. Родился Александр Федорович в 70-е годы (около 1874 года) XIX столетия. С 1887 по 1893 год учился в Рязанской духовной семинарии, затем с 1893 по 1897 год – в Московской духовной академии. По ее окончании стал работать в канцелярии Синода в Петербурге и с этого момента вплоть до женитьбы в 1901 году, жил в семье И. П. Павлова. Его супружеская жизнь продолжалась недолго, в 1910 году брак распался. Единственный сын Владимир Александрович стал полковником, инженером артиллерийских войск. В 1899 году по совету И. П. Павлова Александр Федорович перешел на работу в Отдел по отчуждению имуществ для нужд транспорта канцелярии Министерства путей сообщения. После Октябрьской революции 1917 года и ликвидации Министерства путей сообщения работал в Народном комиссариате путей сообщения, проживая с 1918 года в Москве. Скончался А. Ф. Павлов в 1956 году.
Мемуары Александра Федоровича касаются преимущественно периода его жизни в семье Павловых (1897–1901), а также коротких встреч с Иваном Петровичем до того в Рязани и в последующие годы в Ленинграде и Москве. Воспоминания написаны с большим теплом, любовью и юмором, проникнуты глубоким уважением к своему дяде – выдающемуся ученому и замечательному человеку.
Полный текст рукописи Александра Федоровича под названием «Воспоминания об академике Иване Петровиче Павлове» хранится в Музее-усадьбе И. П. Павлова в Рязани (основной фонд, документ 103/3369), машинописная копия – в Мемориальном музее-квартире академика И. П. Павлова в Санкт-Петербурге. Рукопись никогда прежде не публиковалась, хотя использовалась многими авторами как источник сведений при написании книг об Иване Петровиче Павлове, и выдержки из ее текста не раз цитировались в различных изданиях.
Настоящая публикация впервые дает возможность читателям познакомиться с полным объемом написанных Александром Федоровичем мемуаров.
Наконец, третьи из приводимых в книге воспоминаний принадлежат Марии Капитоновне Петровой – женщине необыкновенной судьбы, проведшей рядом с Иваном Петровичем без малого четверть века при ежедневном общении, проведении экспериментов, поисках истины в создании учения о высшей нервной деятельности.
Мария Капитоновна родилась 25 марта 1874 года в Тифлисе в семье военного священника. Среднее образование получила сначала в Тифлисской, а потом в Санкт-Петербургской гимназиях. В 1901 году она поступила в Женский медицинский институт в Петербурге, который окончила в 1908 году со степенью лекаря с отличием. Затем работала у профессора Г. А. Смирнова в госпитальной терапевтической клинике института, где в 1911 году сдала докторантский экзамен.
Одновременно с 1910 года она состояла на службе в городской Петропавловской больнице, в том же году стала членом Общества русских врачей в Санкт-Петербурге.
С января 1912 года М. К. Петрова стала работать у И. П. Павлова в физиологической лаборатории Военно-медицинской академии. В 1914 году защитила диссертацию на степень доктора медицины. Тогда же перешла в ПЭМ, всецело посвятив свою жизнь научным исследованиям в области физиологии под руководством Ивана Петровича.
В 1935 году она была избрана заведующей кафедрой физиологии и патофизиологии высшей нервной деятельности Ленинградского института для усовершенствования врачей (ГИДУВ), оставаясь на этом посту до 1941 года.
В 1936 году, после смерти Павлова, исследовательская деятельность Марии Капитоновны сосредоточилась, по предложению Л. А. Орбели, в Физиологическом институте АН СССР, где она и проработала до конца своих дней.
Умерла М. К. Петрова 14 мая 1948 года, похоронена, как и И. П. Павлов, на Литераторских мостках Волкова кладбища.
Еще при жизни Ивана Петровича у Марии Капитоновны зародилась мысль оставить о нем и его окружении подробные воспоминания.
Толчком к тому послужила книга А. М. Евлахова о Л. Н. Толстом. «Ее я прочитала в Колтушах вместе с Иваном Петровичем, – писала позже сама Мария Капитоновна, – и она поразила меня своим контрастом между обоими гениальными людьми – Л. Н. Толстым и И. П. Павловым. Л. Н. Толстой был гениальный художник, в юности мечтавший о славе, не любивший Шекспира и даже враждебно к нему относившийся, мало уделявший внимания своей семье. Иван Петрович Павлов, гениальный мыслитель (абсолютно не художник), о личной славе никогда не мечтал, он хотел только своими трудами ученого способствовать благу человека, благу горячо любимой родины. Шекспир же был его любимым писателем. Он был очень внимателен и заботлив к своей семье. Мне тогда уже хотелось написать всю правду об этом удивительном человеке, страстно преданном своему делу, больше всего в жизни любившем свою науку, свою физиологию» (Петрова М. К. Из воспоминаний // И. П. Павлов в воспоминаниях современников. Л., 1967. – С. 176).
И вот теперь, взяв в руки настоящую книгу, читатель может подробно познакомиться с уникальнейшими материалами, которых не коснулась рука цензора, оригинальным текстом воспоминаний без каких бы то ни было купюр. Эти материалы свидетельствуют о том, какой Мария Капитоновна видела обстановку, в которой проходили многие известные события научной физиологической жизни, каким представал в этой ситуации Иван Петрович, о его восприятии, реакциях, поведении в разных условиях и в разные периоды жизни, об отношении к людям, привычках, оценках происходящих событий.
Уместно обратиться к истории рукописи, о которой идет речь, рукописи, которая полностью нигде, никогда, никем не публиковалась да и фактически долгое время была просто недоступной, даже профессионалам. Рукопись свою М. К. Петрова назвала «Воспоминания об академике И. П. Павлове (моя исповедь)». «Воспоминания» были начаты спустя четыре месяца после кончины И. П. Павлова, в июле 1936 года, и закончены в сентябре 1945 года уже после войны, пережив вместе с Марией Капитоновной все тяготы 900-дневной ленинградской блокады. За год до смерти, в 1947 году, Мария Капитоновна передала семь толстых рукописных тетрадей вместе с машинописной копией в рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде на посмертное хранение.
Вполне понятно, что такая рукопись не могла не привлечь внимания властей предержащих, тем более что касалась она многих сторон жизни Павлова, о которых положено было знать только «узкому кругу ограниченных людей». Одним из них оказался и В. М. Андрианов, с 1949 года первый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии, в 1950—53 годах – обкома партии. Разумеется, пакет Марии Капитоновны вскоре попал в горком ВКП (б). В документе под грифом «секретно» от 1 декабря 1949 года, адресованном секретарю ЦК ВКП (б) Г. М. Маленкову, Андрианов сообщал о наличии пакета и испрашивал указаний о дальнейшей судьбе рукописи. При этом он не преминул добавить, что Петрова «свыше 25 лет была в интимных отношениях с Павловым».
Далее письмо Андрианова поступило еще к одному секретарю ЦК – М. А. Суслову, ведавшему идеологией. Последний направил рукопись на экспертизу в отдел науки ЦК, где «эксперты» Ю. А. Жданов и В. С. Кружков в записке от 15 апреля 1950 года, адресованной одновременно обоим секретарям ЦК – и Маленкову, и Суслову, не сочли возможным обнародовать материалы «Воспоминаний». Дословно это сформулировано так: «Учитывая, что в воспоминаниях М. К. Петровой много места уделено ее интимным отношениям с академиком Павловым, не считали бы целесообразным их публиковать. Просим Ваших указаний…» [Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ) Ф. 17. Оп. 132. Ед. хр. 172. Л. 5–6.]. Указания последовали незамедлительно. Уже в ноябре 1950 года, согласно резолюции Суслова, рукопись была направлена в Центральный партийный архив (ныне РЦХИДНИ) в отдел пропаганды и агитации, где и хранилась под грифом «секретно».
В 1990-х годах, когда стали доступными многие, в том числе и секретные, партийные материалы интерес историков науки к «Воспоминаниям» М. К. Петровой вновь пробудился и вскоре принес несколько новых публикаций. Первой из них оказалась статья Н. А. Григорьян в «Вестнике Российской академии наук» (1995. – Т. 65. – № 11. – С. 1916–1023) и ее же монография «Иван Петрович Павлов. 1849–1936. Ученый. Гражданин. Гуманист. К 150-летию со дня рождения» (М., 1999. —312 с.), тогда же с фрагментом материалов М. К. Петровой в журнале «Природа» (1999. – № 8. – С. 59–71) выступила еще одна москвичка Н. В. Успенская. Между тем многое из того, чего больше всего боялись партийные функционеры, и здесь также ушло в отточие.
И прежде всего оказалась совершенно нетронутой освещением та тяжелая атмосфера, которая царила во Всесоюзном институте экспериментальной медицины (ВИЭМ) после смерти Павлова: борьба за руководство школой, лидерство в развитии павловских идей, направление дальнейшего движения павловской мысли и т. д. Все это ярко, с конкретными примерами и персонами, подробно описано в «Воспоминаниях» Петровой. После смерти Павлова Мария Капитоновна продолжала работу у его преемника – Л. А. Орбели и оказалась, таким образом, не только в самом центре круговорота «разборок» сотрудников – претендентов в борьбе за лидерство в продолжении «дела Павлова», но еще и под их ударами.
Заметим, кстати, что во многом именно та атмосфера и ее основные фигуранты и привели отечественную физиологию к печальной памяти так называемой «Павловской» сессии 1950 года, отбросившей, подобно лысенков-ской ВАСХНИЛовской сессии 1948 года, нашу науку на многие десятилетия назад. В рукописи можно без особых поисков подробно познакомиться не только с главными «героями» этого позорного события, но и с подручными, выполнявшими черновую работу.
Н. В. Успенская в очерке «Поздняя любовь. Пролог к исповеди М. К. Петровой» («Природа», 1999) пишет следующее: «Рассказывая о творчестве Павлова, физиолог Л. И. Чилингарян провела впечатляющую параллель. Она напомнила рассказ очевидца, будто Пастернак как-то сказал, что советская власть насаждала Маяковского, как когда-то Николай I – картошку. Нечто похожее после знаменитой так называемой «павловской» сессии произошло и с Павловым. Даже хорошее, если его навязывают насильно, может вызывать отторжение. Хрестоматийный образ очень правильного Ивана Петровича, «друга советской власти», мысли и работы которого не подлежат никакой коррекции, стал приобретать плакатные очертания.
Теперь многое видится иначе. Известны дерзкие выпады Павлова против правителей, которым он не спускал ничего, как бы ни «окучивал» старика Бухарин, как бы ни «заботилась» о нем власть, строя напоказ отличные лаборатории, субсидируя заграничные командировки и т. п., Павлов оставался в оппозиции. Но многослойная лакировка, которой подвергался его портрет, размывается не сразу…». Воспоминания Марии Капитоновны как нельзя лучше убирают эти фальшивые политические наслоения и очеловечивают застывшее изображение Ивана Петровича.
Нельзя пройти мимо большого раздела жизни послепавловского ПЭМ и его лабораторий во время Отечественной войны и, особенно, жутких дней блокады, когда, несмотря ни на что, Мария Капитоновна продолжала вести научную работу. Некоторые из этих блокадных дней даже отмечены датами: «Уже 1 апреля [1942], а я все еще жива…». Конечно, выжить без надежды было невозможно. И здесь, в этой части воспоминаний, как, впрочем, и на протяжении всей рукописи, Мария Капитоновна рефреном проводит идею о том, что именно отчетливо выраженный «рефлекс цели», правильность избранного пути, беззаветное служение своему делу являются той реальной основой, которая составляет и определяет поведение личности, позволяет ей выжить в самых невероятных условиях.
Хотя происходила Мария Капитоновна из семьи священнослужителя, и муж ее, в свою очередь, также имел духовный сан, сама она, как пишет в «Воспоминаниях», в Бога не верила. И тем не менее в те тяжкие годы войны, как и многим гражданам Советского Союза, ей пришлось уверовать в отца всех времен и народов Сталина и постоянно обращать к нему свои многочисленные молитвы. Особенно тогда, когда Отечественная война близилась к концу, и все с трепетом ждали великого дня Победы. Сейчас это для молодого поколения становится непонятным, но что было, то было. История не подлежит исправлению.
Что же касается уже упоминавшегося выше мнения сотрудников отдела науки ЦК Жданова и Кружкова, полагавших, что в рукописи воспоминаний М. К. Петровой много места уделено ее интимным отношениям с Павловым, то возникшая на склоне лет привязанность академика к своей умелой, увлеченной помощнице, обладавшей не только привлекательной внешностью, но и талантом экспериментатора, вполне естественна и заслуживает уважительного отношения. Возникшая на склоне лет поздняя любовь – явление в истории хорошо известное. Обоюдная симпатия и привязанность Ивана Петровича и Марии Капитоновны не составляли никакого секрета для близких и окружающих. Да и сами они не делали из этого никакой тайны.
В начальной части рукописи «Воспоминаний» Мария Капитоновна говорит: «Когда я решила писать свои мемуары (по просьбе многих), где главным действующим лицом должен быть Иван Петрович, я сообщила ему об этом, сказав, что буду писать о нем как о человеке все, что знаю об его личной жизни, и буду писать всю правду о нас обоих, только правду. На это мое заявление с его стороны не последовало никакой отрицательной реакции, никакого даже малейшего неудовольствия, а как будто даже наоборот, удовлетворение. Этот человек, всегда правдивый, не боялся правды о себе. Спустя некоторое время, подумав, он сказал как бы вскользь, что вообще не склонен сознательно кому-либо причинять боль и просил меня, чтобы написанные мною воспоминания сделались бы общим достоянием лишь после смерти его жены, на что я ему прибавила: и моей (так как записки эти выйдут в свет только после моей смерти и будут переданы в двух экземплярах в надежные руки, чтобы по тем или иным причинам не были искажены кем-либо).
«Заодно опишите и себя, – сказал он, – вы были отличная мать и воспитательница и так хорошо совмещали материнство с любимым, важным научным делом. Ваша жизнь, ваша материнская любовь и страстная, исключительная преданность науке должны служить примером для других».
Но осуществить свое решение, правдиво описать нашу совместную как личную, так и научную жизнь удалось мне лишь после его смерти».
Познакомившись с напечатанной в настоящем издании рукописью, читатель несомненно почувствует, что страницы воспоминаний Марии Капитоновны, как, впрочем, и Серафимы Васильевны, и Александра Федоровича постоянно отражают истинные чувства и живую жизнь непосредственных участников событий. К тому же мемуары жены и племянника И. П. Павлова дополнены нами достаточно подробными комментариями, уточняющими некоторые отдельные детали описываемых событий и дающими более полное представление о действующих лицах, упомянутых в тексте.
К воспоминаниям М. К. Петровой мы решили ограничиться только примечаниями, включающими расшифровку аббревиатур фамилий и краткую характеристику описываемых ею персонажей.
Все мемуары богато иллюстрированы, большая часть фотографий предоставлена Мемориальным музеем-квартирой И. П. Павлова в Санкт-Петербурге, некоторые из них публикуются впервые.
Приводимые воспоминания дают широкую картину жизни Петербурга— Петрограда – Ленинграда на протяжении семидесяти лет: с конца 70-х годов XIX века до середины 40-х годов XX века.
Записки Серафимы Васильевны в основном посвящены жизни Петербурга конца XIX – начала XX века, а воспоминания Александра Федоровича служат дополнением к ним. Павлов и его невеста (а затем жена) вместе со всем культурным Петербургом переживали такие заметные события в жизни города, как смерть Достоевского, убийство Александра II, нашумевшую выставку картины Куинджи «Ночь на Днепре», неизбрание Менделеева в Академию наук…. Перед читателем проходят Гончаров, Мусоргский, Достоевский, Тургенев и другие выдающиеся люди того времени. Но в целом мемуары Серафимы Васильевны вместе в записками Александра Федоровича в большей мере посвящены личной, семейной жизни Павловых.
Напротив, воспоминания Марии Капитоновны в основном характеризуют деятельность Павлова в его рабочей обстановке, в лаборатории в ходе экспериментов, в общении с сотрудниками, коллегами и учениками. Они по преимуществу охватывают совсем другой исторический период, чем записки Серафимы Васильевны, а именно эпоху Петрограда с Первой мировой войной, революцией и событиями Гражданской войны, а затем ленинградский период, включая и драматические события после смерти Павлова, связанные с тягостным временем репрессий, и далее трагическое и героическое время блокады Ленинграда.
Таким образом, публикуемые мемуары несомненно дополняют друг друга и дают живой портрет гениального ученого в разные периоды его жизни и в разных обстоятельствах.
Составители издания и комментаторы его материалов полагают, что публикация приведенных здесь малоизвестных ранее сведений явится своеобразным памятником нашему великому соотечественнику И. П. Павлову – первому российскому лауреату Нобелевской премии.
А. Д. Ноздрачев, Е. Л. Поляков, Э. А. Космачевская, Л. И. Громова, К. Н. Зеленин
Серафима Васильевна Павлова
Из воспоминаний
Текст печатается по машинописному варианту рукописи С.В. Павловой, хранящемуся в Мемориальном музее-квартире И. П. Павлова в Санкт-Петербурге (Научно-вспомогательный фонд, № 1).
Рукопись состоит из трех частей: «Детство и юность», «Студенческие годы (1877–1880)», «Замужняя жизнь (1881–1936)», включает 453 страницы машинописного текста и имеет оглавление. Первая часть воспоминаний (123 стр.) содержит подробности детских лет жизни Серафимы Васильевны, проведенных в родительском доме, не имеет непосредственного отношения к И. П. Павлову и поэтому не включена в настоящую публикацию. Авторский текст второй и третьей частей «Воспоминаний» сохранен полностью, внесены лишь некоторые исправления пунктуации в соответствии с современными правилами.
Основной текст данной главы набран гарнитурой Times, ранее не публиковавшиеся фрагменты текста «Воспоминаний» набраны гарнитурой Helen-Cond (у которой буквы более узкие, без засечек). Воспоминания, письма к невесте и автобиография Ивана Петровича набраны курсивом.
Студенческие годы (1877–1880)
Самым прекрасным счастьем мыслящего человека является достижение достижимого и спокойное преклонение перед недостижимым
Петербург
Молодой девушкой, много работавшей, но никогда не покидавшей родной семьи, приехала я на курсы в Петербург. Надо сказать, что, зарабатывая на свою жизнь с 12 лет, я была самостоятельной. Поездка в столицу одной и без всяких средств меня нисколько не страшила. Имела я всегда уроки у себя в провинции с постоянно успешными результатами, почему бы мне не иметь их и на курсах? Так думая, я поехала.
Приезд в Петербург не ознаменовался для меня особенно сильными впечатлениями. Во-первых, я видала массу фотографий этого города и слыхала много рассказов о нем от учениц. Во-вторых, приехала в осеннюю погоду. Небо было цвета помоев. Все виделось сквозь серую грязную сетку, лица были непозволительно угрюмы и озабочены. Не встречалось ни одного! лица со спокойной радостной улыбкой, к чему мы так привыкли на юге. Поразила меня только красавица Нева.
Сарра Карчевская. 1877 г.
Может быть, этому угрюмому впечатлению способствовало еще также мое полное безденежье.
Платить в гостинице мне было трудно, и я очень обрадовалась, когда одна из моих одноклассниц, имевшая большую комнату на Сергиевской, приехала и тотчас же перевезла меня к себе. С ней я прожила до тех пор, пока не нашла себе сожительницу – молодую девочку лет 16–17, только что окончившую симферопольскую гимназию, с которой мы дружно и весело прожили весь первый год.
Денежные дела я устроила просто – заложила золотую медаль и шубу. Квартиру же мы искали с приключениями.
Устроились мы сначала в Столярном переулке у одной вдовы с обедом за очень дешевую цену. Оказалось же, что хозяйка кормила нас курами с червяками, отмывая кур в уксусе.
Каждый раз, когда мы возвращались с лекций (у нас лекции были от 5 до 9 часов вечера), встречал нас пьяный городовой с гармошкой и приговаривал:
– Чтой-то барышни каждый вечер тут ходите, и каждый вечер только смущаете?
От таких «смущений» мы перебрались на другую квартиру. В поисках нового пристанища попали мы к одной очень благообразной и чистенькой старушке, предложившей нам светлую и уютную комнату со всеми удобствами и даже с кисейными занавесками на окнах. Мы были очарованы. Отдавала она нам эту комнату за 13 рублей в месяц. Прежде чем дать задаток, я спросила, нельзя ли дверь в другую комнату, которая была заперта, заставить платяным шкафом. Хозяйка на это возразила:
– Никак невозможно: эта дверь ведет в комнату других жильцов.
– Что же, – воскликнули мы, – наша комната будет проходная?
– Да, через вас будут ходить только два приказчика, люди они молодые, благородные, хорошо одетые, а кроватки ваши я завешу простынкой и для этого протяну через комнату веревочку.
Мы расхохотались и сказали, что никак не можем согласиться. Уступала она нам комнату за 10 рублей с самоваром утром и вечером и соблазняла выгодным знакомством с приказчиками.
– Вот и мне они принесут то платочек, то чулочки, а для вас, молодых, наверно, еще больше постараются.
Понятно, что мы со смехом отказались от такого приятного и выгодного соседства.
У меня были рваные чулки, у моей сожительницы – рваные сапожки, мы обе соблазняли друг друга и весело смеялись, словом, мы все же отлично прожили первый год нашего проживания в столице.
Постепенно жизнь наладилась, хотя я и опоздала к началу занятий, но встретила весьма доброжелательное отношение со стороны начальства, благодаря золотой медали, с которой окончила гимназию. Я была принята на педагогические курсы1.
Беда была в одном: я не могла найти уроков. С большим трудом получила, наконец, урок далеко от моей квартиры. Нужно было ежедневно заниматься за 15 рублей в месяц. Вот на эти деньги я и прожила целый год, так как родные мои, не желавшие моего пребывания среди передовой молодежи, не помогали мне. Был у меня в Петербурге крестный. Но от него я ничего не принимала.
За ученье я заплатила, заложив шубу. Зато проходила целую зиму в драповой кофточке и без галош (мои украли в театре), а зима в тот год была лютая. Билеты в театр – самые дешевые – покупала на деньги от продажи букинистам моих наградных книг. Конечно, за них получала я немного. Шесть рублей платила за комнату, пятьдесят копеек прислуге. Оставалось восемь рублей на баню, прачку и еду. Что же? Я не только не похудела, но даже не побледнела.
Крестный Павел Петрович (адмирал П. П. Семенюта)
Мать моя очень недоброжелательно и даже со страхом смотрела на мою затею – поездку в Петербург, так же, как и все нежно любившие меня сестры и их мужья2. Желая, чтобы я имела близкого человека на чужбине, мать просила меня зайти к моему крестному отцу, товарищу покойного папы по службе в Черноморском флоте.
В день отъезда не оказалось моего метрического свидетельства, и мать решительно объявила, что вышлет его на имя Павла Петровича – моего крестного. Я была страшно недовольна. Однако билет был взят, ждать было некогда, и я поехала.
Впоследствии глубока была моя благодарность предусмотрительной матери за знакомство с таким редким, умным и добрым человеком. Он, действительно, стал мне близким, как отец родной. С ним я делила и горе, и радость в течение всех трех лет моего учения.
В один из свободных дней отправилась я впервые к Павлу Петровичу. Была принята им, как родная и получила приглашение обедать по субботам.
Серафима Андреевна Карчевская мать С. В. Павловой. На обороте фотографии подпись: «Моей милой, дорогой Сарре от горячо любящей ее матери. 8 сентября»
В этот день у доброго холостяка собирались дети его приятелей. Были это все мальчики, обучавшиеся в разных закрытых заведениях: лицеисты, правоведы, моряки и кадеты. Из девиц я была одна. Крестный требовал от своих мальчиков хороших манер, всегда честного отчета о протекшей неделе и рыцарского отношения к женщине. Понятно поэтому, что они благоговейно внимали моим речам и выполняли все мои желания и просьбы: брали билеты в театр (конечно, на мои деньги), доставали книги, переписывали мои заметки. Некоторые пробовали как-то дарить мне цветы и конфеты, но я, не желая обидеть тех, кто не мог ничего купить, наотрез отказалась принимать какие бы то ни было дары.
Павел Петрович Семенюта крестный отец С. В. Павловой
Мой крестный отец был председателем военно-морского суда. Он был большим приятелем покойного отца, часто бывал у нас в доме и вместе с другими офицерами Черноморского флота ухаживал за моей матерью.
Василий Авдссвич Карчевский отец С. В. Павловой
Припоминаю наш первый разговор в Петербурге. В самых теплых и дружеских выражениях высказал он свое мнение о моем покойном отце. Говорил, что отец за безграничную доброту и веселый нрав был общим любимцем всех, служивших в Черноморском флоте. Уютный домик моих родителей вообще охотно посещался. Там часто бывал незабвенный учитель Черноморского флота знаменитый адмирал Лазарев3. Бывали и остальные члены этой прославившей себя кампании, как, например, Нахимов4. Он всегда ходил в эполетах, в картузе, при кортике и с книгой, заткнутой за пояс на читаемой странице. Наряжался он так постоянно, даже во время войны, чтобы по ошибке не убили кого другого вместо него.
Говорил крестный и про маму:
– Должен сказать, что мы все были влюблены в вашу мать и ухаживали за ней. За многими ухаживал я в своей жизни, но мало кого из них вспоминаю я с таким удовольствием, как вашу мать. Она как живая стоит перед глазами. Голова убрана редкостными косами. Розовое барежевое платье с открытой шеей и короткими рукавами, а на шее бриллиантовый крестик на узенькой черной бархатной ленточке с концами до самого подола. Это было тогда в большой моде и называлось «следуйте за мной». Вот мы и следовали за нашей прекрасной докторшей!
После знакомства со мной крестный проезжал как-то через Ростов-на-Дону. Во время остановки поезда, у моей сестры и у отца моей приятельницы Киечки – Авдотьи Михайловны Прокопович, он прославлял мое благоразумие в лестных для меня и сильных выражениях, и рекомендовал отцу отпустить Авдотью Михайловну под моим попечением на курсы.
Студенческая жизнь
Моя жизнь с компаньонкой по комнате протекала очень дружно, несмотря на несходство наших характеров. Правда, обе были чрезвычайно веселого нрава и хохотали по каждому пустяку, но, кроме того, обе были прилежны и настойчивы, много и дружно работали по предметам своего курса. Время же отдыха проводили весело и горячо спорили обо всем прочитанном и переживаемом. Вскоре после того, как мы стали жить вместе, у нас начинала собираться молодежь. Многие были нам даже незнакомы, и большинство из них я больше в жизни не встречала.
Сарра Карчевская. 1871 г.
Раз один студент-медик сказал мне:
– Мы много беседовали о вас, Карчевская, и решили, что вы должны поступить на медицинские курсы, а не заниматься отсталой педагогикой.
– Кто же это решил, – сказала я, смеясь, – знайте, я никому не позволю решать мои личные дела!
– Я ждал подобного ответа, судя по вашей характеристике, сделанной вашими одноклассниками. И это особенно заставляет меня настаивать на перемене вашего плана.
Целый вечер прошел в переливании из пустого в порожнее на эту тему. Ушел он ни с чем, обиженный своим поражением.
Вот однажды заспорили мы с подругой для удовольствия спорить, как правильнее говорить: вкус или скус, вострый или острый и т. д. Спор был очень оживленный, я побеждала, доказывая, что надо говорить «вострый» и, по нашему выражению, загнала свою противницу в клетку.
Как раз во время этого спора пришли к нам в гости четыре знакомых студента. Я замахала на них руками:
– Садитесь и молчите, вы увидите, как я ее снова загоню в клетку.
Моя противница усиленно просила прекратить наше словопрение. Я не согласилась и в конце концов заставила ее признать, что следует говорить «скус», а не «вкус».
Такие споры бывали у нас очень часто. Запутываясь в своих объяснениях, приходилось подчас признавать, что следует писать «характер», а не «характер» и т. п. Этим мы развлекали иной раз друг друга, ввиду отсутствия иных увеселений.
Мсье Лео, английский консул
Посещал нас, между прочим, еще один студент-путеец, мой знакомый по гимназии. Он был простоват и забавлял нас немудреными анекдотами, вроде следующих: «Почему говорят досвиДАНИЯ, а не досвиАНГЛИЯ» и т. п. Когда он приходил, мы не отворяли ему дверь до тех пор, пока на наш вопрос: «Кто там», он не отвечал «Это же я», тогда дверь со смехом отворялась, и целый вечер проходил в веселой болтовне, конечно, если у нас не было спешных и неотложных занятий.
Была у моей компаньонки знакомая консерваторка. Консерваторка эта приехала в Петербург лет 19–20. Заходила она вначале к нам частенько, была недурненькая, хорошо одевалась. Вот однажды она сказала:
– Приехала я сюда, чтобы сделать карьеру. Я безумно люблю красивую жизнь: блестящие туалеты, роскошную обстановку, выезды, приемы. А мой дядя, правильнее сказать мой отец, ксендз, дает мне только 50 рублей в месяц, да подарки в праздники. С этим далеко не уедешь!
Мы ужаснулись:
– Да вы богачка!
– Сколько же имеете вы? Я считаю, напротив, богатыми вас: вы всегда веселы, всегда хохочете!
– Да разве веселье приходит только с богатством, мы веселимся своей молодостью, наша работа нам по душе. Богатство и все, о чем вы мечтаете, я могла получить, не уезжая из своего города, да вот не пожелала и нисколько об этом не жалею.
– Я не могу вас понять. Если у меня нет красивого туалета, я совершенно печальна и никуда не могу показаться.
– Да перестаньте вы думать о таких пустяках, и вам будет также весело, как и нам, хотя у нас нет туалетов, кроме одного поношенного черного платья!
– Никогда не поверю, вы кокетничаете вашей простотой.
Когда же мы открыли ей свои сундучки (у нас не было даже шкафа), то повергли ее в недоумение. После этого разговора она начала ходить к нам реже и реже и, наконец, совсем перестала.
Не все мы веселились, бывало нам и грустно.
Наступили Рождественские праздники и первые, которые я проводила вне дома. Курсы закрылись на две недели. Сидим мы и с печальными минами перебираем, какие теперь дома вкусные вещи.
Вдруг приходит горничная и передает мне повестку на посылку в 6 фунтов. Стараемся отгадать, что это. Сожительница уверяет, что это рождественские платья, а я же выражаю надежду, что мне высылают из дома теплые чулки и т. п.
Только на другой день могли мы получить посылку. На почту отправились вместе. Когда я увидела, что отправитель мсье Лео5, то сразу решила, что это конфеты. Чуть не бегом вернулась домой, и, о радость, конфеты, да еще какие, шоколадные, засахаренные фрукты, одним словом, самые мои любимые.
Сожительница вскричала:
– Ну, не милашка ли ваш Ле, я бы его расцеловала.
Я присоединилась к ее мнению.
Долго мы с ней хохотали, уплетая чудесный подарок, и обсуждали благодарственный ответ за внимание и подношение.
Студенческие нравы в кружке
Благодаря подругам по гимназии, я вскоре попала в передовой кружок. С жадностью слушала я горячие речи о народном благе, о необходимости поднятия народного образования и непременно наряду с этим о борьбе с правительством. Приглядывалась я, прислушивалась, но сама не бралась говорить среди руководителей.
Много говорилось о нашем равноправии. Это мне не нравилось после рыцарского почтения ко мне в молодой компании у крестного. Не нравилось мне это еще и потому, что почти все мужчины установили весьма грубые отношения к нам, молодым девочкам.
Так, например, одна медичка называлась у нас «всеобщей». Когда я попросила одного из членов кружка – Орловского – объяснить мне, что это значит, то он сказал, чтобы я спросила курсистку – нашу красавицу Дроздову, бывшую уже на втором курсе. Дроздова объяснила:
– Какая ты наивная, Южанка (так звали меня в кружке, где у всех были прозвища), она просто переходит от одного мужа к другому!
Это меня страшно возмутило, и я отстранилась от этой медички, весьма миленькой девицы.
Вскоре один из руководителей – Волгин – препротивный, толстый, уже плешивый, с маленькими глазками, толстыми губами, с гнилыми зубами, вздумал во время разговора обнять меня! Со всего размаху я закатила ему пощечину и воскликнула:
– Помни – языком болтай, а рукам волю не давай!
Он начал говорить о том, что я о себе много воображаю, что Вера с моего курса стала без всяких фокусов его гражданской женой, что он найдет себе получше меня.
Много я навидалась, как пользовались нашей неопытностью и нашим желанием быть передовыми и вполне равноправными с мужчинами.
На меня все это повлияло так, что я стала проповедовать женское с в е р х п р а в и е.
Мое отношение к членам кружка доставило мне если не дружбу, то расположение Дроздовой, чем я была весьма довольна. Вот однажды Дроздова спрашивает меня:
– Вы живете одна?
– Нет, с подругой.
– Так приходите ко мне, мне надо поговорить с вами по личному делу.
– Хорошо, приду.
Пошла я к Дроздовой.
– Я полюбила вас, и вы мне нравитесь, особенно ваша проповедь сверхправия.
– Спасибо, это мне лестно.
– Будете говорить мне правду.
– Обещаю.
– Вы очень интересуетесь Орловским?
– Как и многими другими, не больше. Я с ним весело болтаю.
– И только – только?
– Решительно только.
– И сердце ваше не затронуто?
– О, нисколько!
– Вы знаете, за вас он избил Волгина.
– Слышала. Да этого негодяя за многих надо было избить.
Надо сказать, что в кружке был молодой Орловский, только что окончивший Институт путей сообщения. Он был недурен: блондин, с ясными ласковыми голубыми глазами, кудрявый, румяный, всегда с хорошей улыбкой, всегда веселый, остроумный. Мы с ним много болтали и частенько хохотали до слез, так как я была веселого нрава и большая болтушка. Кроме этой болтовни и одного его стихотворения, поднесенного мне и осмеянного мною ко всеобщей потехе, между нами ничего не было. [Он как-то пришел за мной в Казанский собор, туда я заходила по дороге с курсов (они были на Гороховой улице рядом с училищем глухонемых) и поверяла нашей заступнице свои радости и горести. Вот он и написал по этому поводу стихи, я думала, что своими стихами он желает высмеять мою религиозность, и жестоко отчитала его.]
Но, продолжая наш разговор с Дроздовой:
– Вас поразил мой допрос?
– Признаться, да.
– Так знайте, я всей душой люблю его, люблю давно, еще в Гимназии я полюбила его и ради него поехала сюда, хотя могла ехать за границу: у меня есть средства. Оставьте мне его, не увлекайте, если вы его не любите! Только по-моему нельзя знать его и не любить. Никогда я бы не посещала кружок, если бы не он. Вот я и подумала, что и вы тоже ради него ходите на эти бестолковые разговоры, где пользуются нами как даровыми кусками! Разве не жалко рыженькую девчонку, которая гордится, что такая дрянь, как Вышерский, пользуется ее безграничной любовью и радуется, что она его гражданская жена. А «всеобщая»? Я дрожала за вас, когда вы появились в этой компании, юная, милая и веселая. Мне понравилось, что вы приглядывались, не болтали высокомерно с чужих слов и хорошо отожгли Волгина. Вы не пропадете! Теперь я боюсь за юную Уфу, привел ее земляк, а сам перестал ходить, будем вместе беречь ее.
Крепко пожала мне руку красавица и поблагодарила за откровенность. После этого я стала по возможности избегать веселого Орловского. Он же не отставал от меня и подносил мне чудные стихотворения как свои произведения. Оказалось, что все это стихотворения Тютчева. Мой поклонник переписывал стихи крупного поэта, надеясь на мое невежество и зная мою любовь к поэзии.
Жизнь шла своим чередом. Учились. Сдавали экзамены. Весной катались в свободное время на лодках, слушали в кружке лекции приятелей Желябова6, мечтали послушать его самого, хотя бы посмотреть на ученого Кибальчича7.
Кончились экзамены. Я собиралась ехать домой к себе. Многие же кружковцы поехали в какую-то деревню за Волгой для работы, вернее, для пропаганды среди народа. Провожали в эту поездку Верочку с Вышерским и еще кого-то. Мы были поражены, увидев детку Уфу с Волгиным. Остановившись около нас, как бы хвастаясь своим успехом, Волгин проговорил:
– Завтра в пять часов на Финляндском вокзале, поедем за город обедать!
Мы с Дроздовой сделали вид, что не обратили никакого внимания на его слова и только молча переглянулись. Выходя с вокзала, мы подхватили Уфу и спросили:
– Где ваша тетя?
Уфа жила у властной и состоятельной тетки под строгим присмотром.
– Заболела и уехала в Друскеники. Вот сдам последний экзамен у Страннолюбского8 и поеду к ней. А пока что живу с экономкой и наконец-то наслаждаюсь свободой. Экзамен только через два дня, я к нему готова и завтра обедаю с Волгиным за городом, – с гордостью добавила нам милая наивная девочка.
– Завтра утром вы держите экзамен, а в 3 часа едете к тетке – властно сказала Дроздова. – Вас проэкзаменует Страннолюбский со вторым курсом. Я берусь это устроить, а Южанка возьмет вам билет и предупредит об отъезде вашу экономку.
– А как же обед с Волгиным? – плачевно сказала девочка.
– С этим негодяем вам стыдно ехать одной, это очень неприлично.
Девочка покорилась, выдержала экзамен и в 3 часа уехала, Волгин был взбешен и поклялся, что на будущий год Уфа будет его гражданской женой.
– Этот негодяй, сказала Дроздова, – наверно, узнал, что Уфа со средствами, и желает выгодно жениться. Ведь он только и думает о своей утробе, сам он бездельник и выезжает на проповедях, ловя на громкие фразы молодых несведущих людей. Вы поверьте, он только говорит о гражданском браке, а сам мечтает о законном, чтобы получить состояние жены. Но я этого не допущу! Хоть и не люблю я таких важных барынь, как тетка Уфы, поеду к ней и расскажу всю правду.
Я должна была последний раз обедать у крестного, чтобы проститься со всем его пансионом. Иду домой отдыхать. Навстречу Орловский, предлагает не терять на редкость чудный день и поехать в Таврический сад:
– Там погуляем, поболтаем. Ведь вы завтра уже уезжаете домой. А я так надеялся провести с вами лето на Волге.
– Да ведь с вами поедет Дроздова.
– Я только для вас записался в компанию.
Гуляли мы, весело болтали, сели на траву и закусили пирожками с мясом, а потом чудными конфетами.
Стала я собираться домой, чтобы не опоздать к обеду. Тогда он решился, наконец, и сказал:
– Приглашая вас сюда, я хотел откровенно, без помехи поговорить с вами. Я люблю вас, люблю так сильно, так крепко, что мечтаю служить подножьем ваших ножек. Он схватил и поцеловал мой грязный пыльный сапог.
– Вы высмеяли мое первое стихотворение, но если бы вы видели, как после вашего ухода я бросился на ваше место и целовал следы ваши! Я горячо и пламенно молился вашей царице небесной и обещал быть верующим, если вы меня полюбите. Я знаю, что ничем не заслужил вашей любви, но верьте мне, никто и никогда не будет любить вас так, как я. Вы думаете, что я пустой болтун, я серьезный работник, я отлично кончил курс, я хорошо знаю три языка. Я получаю из своего имения в год тысячу рублей, но могу свободно иметь 3 тысячи из дому, а сколько я смогу заработать для вас! Может, вы желаете богатой жизни? Вы говорите, что мечтаете путешествовать? Клянусь, исполнять вашу волю будет мое счастье.
– А Дроздова? – сказала я.
– Дроздову я люблю, как сестру. Знаю, что она красивее вас! Может быть даже умнее, и любит меня всей душой. Но мне не надо никого, кроме вас. Я вижу по вашему лицу, – говорил он сквозь слезы, – что вы не любите меня, но дайте мне хотя бы надежду, дайте обещание поближе узнать меня и только тогда дать решительный ответ. Посмотрите, что за день, что за радость кругом, а вы не хотите порадовать меня надеждой!
И он запел своим чудным голосом:
- Не говори ни «да», ни «нет»,
- Будь равнодушна, как бывало,
- И на решительный ответ
- Накинь густое покрывало.
– Хорошо, – сказала я, жалея его всей душой, так как никакой нежности к нему не чувствовала.
– Тогда закрепим наш договор поцелуем, одним единственным поцелуем!
– Ну вот, это не годится. Это походит на ухаживание Волгина, – сказала я, смеясь.
– Что делать! Удовольствуюсь поцелуем вашей дорогой маленькой ручки. Завтра буду вас провожать.
Раиса Васильевна Карчевская (в замужестве Хмельницкая) – сестра С. В. Павловой
Простилась я с птенцами моего крестного и с ним самим. Дома уложила свой скудный багаж. Устала, а заснуть никак не могла. Жаль мне было, бесконечно жаль веселого и сердечного Орловского.
Утром мы простились со многими навсегда. Я поехала домой к моим нежно любимым сестрам, матери и брату.
Опять дома
Вся семья была очень рада моему приезду. Мы превесело провели время за первым обедом. Все были довольны и каждый по-своему стремился меня побаловать.
Евстигней Никифорович Хмельницкий – муж Раисы Васильевны
Вот после обеда уселись мы с любимой сестрой Раечкой на диванчике в детской, она обняла меня и сказала:
– Ты все время писала веселые письма? Ну а как было на деле?
– Что же сказать, по правде было холодно и голодно!
– А ты все смеялась?
– Да, смеялась, потому что не хотела, чтобы меня жалели. Но, Рая, верь мне, что после того, как я взяла на себя труд бывать на всех экзаменах нашей гимназии (при Педагогических курсах была гимназия для многих практических занятий) и записать все любимые вопросы экзаменаторов, я уверена, что на будущий год буду жить хорошо и иметь много уроков.
Вскоре по приезде я отправилась к своему любимому учителю. Боже мой, боже мой, какую перемену я в нем нашла! Обрюзгшее лицо и вместо приятного нежного баритона – какие-то хриплые звуки.
Обрадовался он мне сильно. Схватил за обе руки и приблизил:
– Хотел бы спеть, но не могу, а только скажу вам – и он прочел лермонтовский «Утес».
– Что же, тучка, спалила свои крылышки?
– Тяжело пережила тучка последнее слово, слышанное ею от вас: поздно. А теперь от чистого сердца она должна сказать со своей стороны: поздно! – и упали слезы на мои руки…
Поговорили о моих занятиях, о том, что интересовало молодое поколение, в конце концов он сказал:
– Может, на будущий год и это меня не будет интересовать. Чтобы не расплакаться, я быстро простилась и ушла.
Второй курс
На второй год приехала я в Петербург вместе со своим старым и горячо любимым другом – моей ненаглядной Киечкой, с которой я и прожила до окончания курсов. К моему сожалению, она поступила на только что открывшиеся Бестужевские курсы9, а я не захотела изменять моей педагогике. Это не мешало нам жить душа в душу, как мы прожили два года в Гимназии.
Народу стало к нам ходить пропасть. Мои комнатки сильно пострадали против первого года. Зато было необычайно весело.
Евдокия Михайловна Прокопович (Киечка) – подруга С. В. Павловой
Посещала нас компания технологов, с которыми мы познакомились в вагоне, когда ехали с Киечкой из Ростова-на-Дону, ехать нам было тогда так весело, что нашим весельем наслаждалась вся публика. Сдвинув вещи и потеснившись, нам доставили возможность танцевать в вагоне.
Технологов было 7–8 человек, жили они недалеко от Технологического института. Жили дружно, настоящей коммуной. Вот однажды Кия говорит мне:
– Ты знаешь, что мне дорого твое счастье. Головченко просил меня быть его ходатаем перед тобой. Я нахожу, что он умен, добр и очень покорен тебе, видя в этом свое счастье.
Я сказала, что согласна и полагаюсь на нее, зная, как она желает моего счастья.
С женихом я заговорила прямо:
– Есть у вас средства содержать семью?
– Нет. Я живу на свою стипендию, а потом, я должен за стипендию отслужить там, куда меня отправят.
– Хорошо, – сказала я, – у меня тоже нет ни гроша. В прошлом году я голодала. Теперь решилась жить по-человечески и буду чрезвычайно много работать. Значит надо немного подождать, пока я устрою свои дела. Я человек верующий и без благословения церкви не пойду замуж. Вашему верию или неверию мешать никогда не буду. Вот вы говорите о поцелуях. Но я буду целоваться только со своим мужем. Один поцелуй получите вы от меня в залог будущего.
На таких условиях стала я невестой. Продолжалось дело недолго. Он заболел скоротечной чахоткой, лег в больницу и меньше чем через месяц скончался.
Так и закончилась моя жизнь как невесты.
Из своего кружка я увидела Дроздову, и осенью мы отправились с ней к тетке Уфы, важной барыне. Она приняла нас весьма холодно. Выслушала подробный рассказ и гордо заявила:
– Это подтверждает мое мнение о теперешней молодежи. Мне очень приятно, что вы являетесь исключением. Опасаться вам нечего: моя племянница больше не будет учиться, так как выходит замуж через месяц, потом с мужем они едут в Италию, а оттуда к нему на родину. Еще раз благодарю вас и буду довольна видеть у себя: это отвлечет вас от разных увлечений и приключений.
Больше мы никогда ее не видели, а с Уфой простились на курсах, куда она зашла перед своим отъездом. Раз она написала из Италии о своем счастье. Мы же ей как-то не собрались ответить, тем знакомство с ней и кончилось.
Еще читала я письма Верочки, которая была так счастлива весной при отъезде за Волгу. Писала Вера, что, когда она забеременела, то при первых признаках беременности супруг стал к ней относиться грубо, когда же родился ребенок, он заявил, что не давал обязательства содержать детский приют и что ей стыдно сидеть у него на шее! Бедная наивная девушка была убита горем, любя всей душой своего грубого идола. Долго мы ей помогали в складчину.
Дроздова вскоре уехала за границу. Она зашла ко мне перед своим отъездом и сказала:
– Это наше последнее свидание. Я исполняю обещание, данное покойному Орловскому.
– Как покойному?
– Вы загнали его в деревню, в эту дыру, где он изводил меня разговорами о вас, о ваших, якобы, совершенствах. Умер он, любуясь вашей фотографией, и я по обещанию положила ее ему на грудь. Боже, как я ненавижу вас. Что это с вашей стороны – непростительное кокетство или равнодушие?
– Верьте, верьте, полное равнодушие. И я не умею играть любовью.
– Так помните его слова, он поручил мне вам сказать: многие ее будут любить, у нее какой-то магнит, но никто и никогда не будет ее любить так сильно и беззаветно, как я.
Дроздова подала мне руку и ушла. О ней я больше ничего не знаю.
Тяжело мне было пережить эту печальную историю, в которой я была совсем не виновата.
Мне пришлось увидеть несколько таких грустных историй. Вспоминаю одного знакомого студента, искавшего свидания со мной только ради того, чтобы говорить о любви к той молодой консерваторке, о которой я уже рассказывала, он любил ее горячо еще со школьной скамьи. Он был красив, умен, но она увлеклась другим и относилась к нему, как я к покойному Орловскому, он же к ней относился, как Дроздова к Орловскому.
Узнав, что его идеал уехал с богачом, он решил умереть и отдал свою жизнь на политическое убийство, хотя сам ненавидел политику и никогда ею не занимался.
Что это? Почему иногда достойные люди не могут найти себе взаимности и погибают? Как часто встречаются такие супружества: жена красавица, умная, любящая, а муж бегает за каждой юбкой и совершенно не ценит свое сокровище. С другой стороны: умный, любящий, дельный муж, не знающий другого желания, как баловать свою жену, находя в этом свое счастье, а та изменяет ему с каждым пошляком. Почему?
Компания братьев Павловых
Посещал нас часто брат Киечки, красивый весельчак, студент-медик. Как-то он заявил:
– Ну, Дунечка, я приведу к тебе не жениха, а конфетку.
Мы занимали очень большую, но полутемную комнату на углу Гороховой и Загородного проспекта. Наши кровати стояли в задней части комнаты за выступом и шкафом. Передняя часть представляла очень хорошо меблированную столовую и кабинет. Квартира была покойная, так как жила в ней только старуха-хозяйка с пожилыми дочерьми-служащими, да мы.
Федор Михайлович и Евдокия Михайловна Прокоповичи
Страдала я в это время малярией. Во время припадка я всегда гуляла до полного утомления, а после ложилась спать, закутавшись своей шубой.
Вот один раз во время такого сна разбудил меня сильный хохот, за столом сидела большая компания, а Киечка угощала всех чаем. Поразил меня чей-то смех, совершенно детский, закатистый. Я подумала, что только чистая душа может так смеяться.
Это смеялся Иван Петрович Павлов.
Познакомиться с новыми людьми мне не захотелось. Все вскоре ушли.