Крестовые походы бесплатное чтение
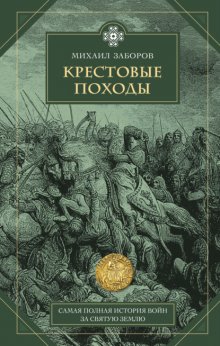
В оформлении обложки использована гравюра Густава Доре «Битва при Арсуфе»
© Заборов М.А., наследники, 2022
© ООО «Издательство «Яуза», 2022
© ООО «Издательство «Эксмо», 2022
Обнажив мечи (предисловие)
- Мечи обнажив, рыскают франки по городу.
- Они никого не щадят, даже тех, о пощаде кто молит…
- Падал неверных народ под ударами их, как
- Падают желуди с дуба гнилые, когда
- Ветви его трясут.
В таких стихах, откровенных и грубо натуралистических, явно проникнутых враждебностью к «народу неверных», рассказывает средневековый историк – со слов очевидцев – о жестокостях, которые крестоносцы чинили в Иерусалиме, взятом ими летом 1099 г.
Кем же были эти «франки», обнажившие тогда мечи против «неверных»? Во имя каких целей проявляли они свою жестокость и неумолимость? Что за идеалы их воодушевляли? Соответствовали ли этим идеалам практические результаты войн «франков» в Восточном Средиземноморье, продолжавшихся и после захвата Иерусалима – на протяжении почти двух столетий?
Дать ответ на все эти и многие другие вопросы, которые неизбежно встают перед каждым, интересующимся взаимоотношениями Запада и Востока в феодальную эпоху, – значит рассказать историю так называемых Крестовых походов.
А нужно ли это делать? Разве не говорится о Крестовых походах в школьных и университетских учебниках? Да и зачем воскрешать перед взорами нынешнего поколения, живущего в век освоения космоса и полетов на Луну, в век электронно-счетных машин и атомоходов, те далекие времена, когда разум человечества только начинал пробуждаться, а души и сердца людей почти целиком находились в плену религиозных чувств? Ведь это такое давнее прошлое! Крестовые походы навсегда канули в Лету, скажет, вероятно, иной читатель, и потому вряд ли имеет смысл вспоминать о них, да еще с большими подробностями…
Подобного рода суждения, как они ни привлекательны на первый взгляд для тех, кто лишен исторической любознательности и старается всячески оправдать ее отсутствие, совершенно неверны. Можно было бы привести много различных доказательств ошибочности нигилистического или полунигилистического отношения к эпопее Крестовых походов. Ограничимся хотя бы самыми элементарными соображениями, лежащими в одной плоскости: Крестовые походы и современная действительность.
Хотя Крестовые походы на Восток принадлежат давно минувшим дням, однако и до сих пор в нашем лексиконе бытуют выражения «крестовый поход», «крестоносцы». Они применяются не только в прямом, историческом, но и в переносном значении, как метафора, как образ, как символ. Зачастую в них вкладывается самый разный смысл – в зависимости от того, кто, когда и для чего их употребляет. В повседневном обиходе (например, в научной, художественной, политико-пропагандистской литературе) с ними связывается прежде всего представление о крайнем религиозном исступлении – фанатизме, некогда породившем невероятные жестокости и послужившем причиной бессмысленного кровопролития и гибели огромной массы людей на Востоке и в Европе. Слепая вера заставляет фанатиков, писал знаменитый вольнодумец XVIII в. священник Жан Мелье, защищать свою религию даже с опасностью для собственной жизни. Поэтому «они все время преследуют друг друга с огнем и мечом… нет такого зверства и жестокости, к которым они не прибегали бы друг против друга под прекрасным и благовидным предлогом защиты воображаемой истины своей религии». Эти слова, написанные более чем два с половиной века назад, относятся ко всем религиозным войнам, включая и Крестовые походы.
Кроме того, в своем образном значении понятия «Крестовый поход» и «крестоносцы» отождествляются обычно с действиями фанатичных ратоборцев любых реакционных, вовсе не обязательно религиозных идей.
Весной 1974 г. в Португалии произошла революция. Реакционеры, стараясь задушить ее, стали спешно сколачивать «операционные команды защиты западной цивилизации». Эти банды наемников попытались развернуть, как писала коммунистическая печать, своеобразный «крестовый поход» против португальского народа, освободившегося от фашистской тирании.
«Крестоносец из Ширензее» – так была озаглавлена опубликованная в апреле 1976 г. в одной из наших центральных газет корреспонденция, в которой рассказывалось о западногерманском газетном короле Цезаре Шпрингере, бросившем всю мощь своих миллиардов в пропагандистский Крестовый поход против разрядки международной напряженности. «Организуя сегодня Крестовые походы средств массовой информации против Советского Союза и социалистического содружества, – отмечал видный ученый-обществовед К.И. Зародов, – буржуазия адресуется не только к народам стран социализма, но и к населению собственных стран».
В августе 1977 г. Всеобщий союз студентов Египта осудил происки реакционных сил, поднявших голову в стране. В заявлении, напечатанном газетой «Аль-Ахбар», было сказано, что реакционеры «в трудные для нашего народа дни развернули Крестовый поход против завоеваний июльской революции 1952 г., которые они пытаются перечеркнуть и предать забвению».
«Крестовым походом «ястребов» назвал американский журналист Гарри Фримен кампанию клеветы против миролюбивой внешней политики Советского Союза, развязанную в США противниками международной разрядки (вроде сенатора Генри Джексона и профсоюзного босса Джорджа Мини) летом 1977 г., накануне белградской встречи представителей государств, подписавших в 1975 г. соглашение в Хельсинки. Аналогичным образом определил словесные атаки заокеанских антикоммунистов на СССР ассистент Чикагского университета Ч. Липсон, специалист по международным отношениям: употребляемые при этом «формулировки нравственного крестового похода, – предостерегающе заявил он 19 августа 1978 г. в газете “Нэйшн”, – могут причинить различные неприятности США».
«Альянс крестоносцев», – гласил заголовок заметки в «Правде», сообщавшей в конце ноября 1977 г. о том, как линия политического поведения ультрареакционных лидеров христианско-демократической партии в ФРГ сомкнулась с политическим курсом южноафриканских расистов и чилийской военно-фашистской хунты. Практически, писал автор заметки, присланной из Бонна, те и другие – участники «альянса крестоносцев» против свободы в демократии. «Крестовый поход НАТО в Африке» – в таких словах характеризовала в июне 1978 г. французская печать усилившееся тогда вооруженное вмешательство натовских стран в политическую жизнь Черного континента.
Выражение «крестовый поход» прочно вошло и в язык международной дипломатии. «Тем, кто призывает к организации крестового похода против Страны Советов, следовало бы не забывать, чем заканчивались подобные походы против нашей страны в прошлом. Исторический опыт уже показал несостоятельность подобных расчетов», – указывалось в ноте МИДа СССР, врученной посольству КНР 19 мая 1977 г. для передачи правительству КНР (в связи с принявшей широкие масштабы враждебной Советскому Союзу кампанией китайской пропаганды).
Это лишь несколько примеров исторических метафор, к которым прибегают, чтобы ярче оттенить реакционный характер деятельности особенно упорствующих, яростных врагов мира и социализма, современных крестоносцев, будь то расисты-куклуксклановцы («крестоносцы в белых балахонах»), антисоветчики из американского общества «Крестовый поход за свободу» или собравшиеся в июне 1978 г. в Брайтоне представители военщины и деловых кругов многих капиталистических стран, призвавшие к созданию международного объединения «Синий крест за свободу», призванного субсидировать антикоммунистические акции.
Подчас, впрочем, приходится встречаться и с другим, прямо противоположным осмыслением «крестоносных понятий», когда они обозначают благое, доброе, справедливое общественное дело. Правда, в нашем словаре такое словоупотребление – редчайшее исключение, да и то давно уже сделавшееся достоянием истории. Так, в 1918 г., во время Гражданской войны, по призыву большевиков были организованы продовольственные отряды, в чью задачу входило изъятие хлебных излишков, припрятанных кулаками, и распределение зерна среди голодающих рабочих и сельской бедноты. В связи со смелыми действиями одного из таких продотрядов, созданных в Тамбовской губернии, в «Правде» была напечатана статья «Крестовый поход»: под Крестовым походом имелись в виду революционные акции отважных продотрядовцев, которые, защищая дело социалистической революции, не щадили своей жизни в борьбе с деревенскими мироедами. В дальнейшем, когда историки-марксисты глубже разобрались в истинной сути средневековых рыцарских войн на Востоке, слова «Крестовый поход» у нас перестали применяться в положительном смысле.
Однако в политической публицистике и в художественной литературе Западной Европы и США Крестовые походы продолжали и поныне продолжают истолковываться чаще всего именно как пример бескорыстного, отмеченного искренним воодушевлением служения вполне достойным целям. Иной раз даже прогрессивно настроенные писатели и художники прибегают в своих произведениях к образам и сравнениям, навеянным как раз такого рода устоявшимися представлениями (восходящими к временам романтизма – к началу XIX в.).
Главный герой романа всемирно известного писателя Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол», американский демократ, боец интернациональной бригады Роберт Джордан, плечом к плечу с испанскими республиканцами героически сражавшийся против фашистов (дело происходит во время национально-революционной войны в Испании 1936–1939 гг.), по словам писателя, чувствовал себя участником Крестового похода. «Это единственно подходящее слово, – пишет Хемингуэй, раскрывая переживания своего героя перед схваткой с врагом, – хотя оно до того истаскано и затрепано, что истинный смысл его уже давно стерся». И далее он передает душевное состояние бойца-интербригадовца в таких выражениях: Роберт Джордан «испытывал то чувство, которого ждал и не испытал в день первого причастия. Это было чувство долга, принятое на себя перед всеми угнетенными мира, чувство, о котором так же неловко и трудно говорить, как о религиозном экстазе, и вместе с тем такое же подлинное, как то, которое испытываешь, когда слушаешь Баха или когда стоишь посреди Шартрского или Леонского собора и смотришь, как падает свет сквозь огромные витражи, или когда глядишь на полотна Мантеньи, и Греко, и Брейгеля в Прадо. Оно определяло твое место в чем-то, во что ты верил безоговорочно и безоглядно и чему ты обязан был ощущением братской близости со всеми теми, кто участвовал в нем так же, как и ты. Это было нечто совсем не знакомое тебе раньше, но теперь ты узнал его, и оно вместе с теми причинами, которые его породили, стало для тебя таким важным, что даже твоя смерть теперь не имеет значения; и если ты стараешься избежать смерти, то лишь для того, чтобы она не помешала исполнению твоего долга».
Как видим, Хемингуэй иносказательно уподобляет чувства Роберта Джордана переживаниям «борцов за христианскую веру», насмерть бившихся со своими врагами во имя религиозного обета – спасения палестинских святынь.
У замечательного немецкого поэта-антифашиста Бертольда Брехта есть исполненное трагизма стихотворение «Детский Крестовый поход». Оно было написано вскоре после того, как гитлеровские орды залили кровью Европу. Одной из первых подверглась фашистскому нашествию Польша.
- В Польше в тридцать девятом
- Кровавая битва прошла,
- В руины дома превращая,
- Деревни сжигая дотла.
- Сестра потеряла брата,
- Жена перестала ждать,
- Ребенок не мог средь развалин
- Родителей отыскать.
Поэт рассказывает страшную легенду о том, как с разных концов растоптанной фашистским сапогом многострадальной польской земли собрались дети-сироты, как они, составив отряд в полсотни человек, двинулись куда глаза глядят, лишь бы избавиться от ужасов обрушившегося на них бедствия – войны:
- Они, уходя, мечтают
- Дойти до отчизны такой,
- Где страхи ночные забыты,
- Где вместо войны – покой.
Всех их («тут были католик, нацист, протестант») объединили общее горе и единое стремление: спастись от голода, холода, пуль, снарядов и танков, обрести кров над головой, хлеб и мир. Они брели сквозь пургу, от одного «расстрелянного хутора» к другому, хороня погибающих в дороге товарищей:
- Ищут землю, где нет войны никогда,
- Где мир поселился вечный,
- Все дальше бредут они, и череда
- Становится бесконечной.
В конце концов замерзшие и изголодавшиеся дети погибают, не найдя «родины и дороги»…
Стихотворение Брехта звучит гневным и горьким протестом против фашистского варварства и сопутствующей ему войны. Автор символически называет участников похода «крестоносцами». Это сравнение подсказано ему историческими воспоминаниями: когда-то, в Средние века, действительно происходили «детские Крестовые походы»: дети из Франции и Германии, отчаявшись от нужды и голода, отправлялись вместе со взрослыми «спасать» Святую землю от мусульман, надеясь, по внушению церкви, найти там, на далеком Востоке, лучшую долю. Как и те, малыши-«крестоносцы» 1939 г. тоже держали путь на юг; как и те, отроки-«крестоносцы» 1939 г. пали жертвами войны, они нашли в своем походе не спасение, но гибель.
Так или иначе Крестовый поход здесь – понятие, равнозначное чему-то спасительному, овеянному мечтой об избавлении от тягот. Созданные фантазией поэта трагические образы детей, устремляющихся в Билгорай, где нет кровопролития и ужасов голода, обрели новую жизнь на родине Брехта. Летом 1976 г. в Берлине, на выставке детского искусства, среди других экспонатов демонстрировалась выразительная скульптурная группа, вылепленная руками учеников одной из школ Германской Демократической Республики: «Крестовый поход детей (по Брехту)».
Когда свыше тридцати лет назад разразилась холодная война, одним из видных борцов за мир выступил знаменитый виолончелист и композитор каталонец Пабло Казальс. Он написал ораторию на рождественские стихи каталонского поэта Жоана Алаведры и с этой ораторией стал разъезжать по столицам разных стран. Впоследствии он рассказывал американскому писателю Альберту Кану: «В этой музыке я искал средство заставить людей задуматься о тех страданиях, которые терпит человечество, о грозной опасности ядерной войны, о том, что счастье на земле достижимо – стоит лишь всем по-братски объединиться в мирном труде». Свои концертные турне того времени Казальс в воспоминаниях называет «Крестовым походом во имя мира», походом, в котором единственным оружием ему служила музыка. Таким образом, в этом случае формула «Крестовый поход» тоже употреблена в качестве символа благородного деяния, имевшего своей целью достижение высшего блага – мира.
И все же, как правило, прогрессивным писателям, ученым, деятелям культуры нашего времени такие ассоциации чужды. Напротив, историки, публицисты, политики, находящиеся на службе у господствующих классов Запада и угождающие реакционным иерархам католической церкви, нередко до сего дня стремятся вкладывать в понятия «Крестовый поход» и «крестоносцы» позитивное содержание. Участники священных войн христианства превращаются под их пером в эталон благородства, выступают воплощением преданности высоким идеалам, образцом самопожертвования, героизма и бескорыстия, якобы обусловленных искренней религиозной верой.
Обоснованны ли попытки оправдать и тем более возвеличить исторические Крестовые походы, изобразить их достославным подвигом западного христианства, подвигом, будто бы оказавшим неоценимую услугу мировой цивилизации? Или это заблуждение, а может быть, даже сознательный обман, придуманный ради прославления завоевателей, прикрывавших свою корысть знаком креста? И не был ли прав великий атеист XVIII в. Поль Гольбах, когда в своем «Карманном богословии» иронически писал: «Крестовые походы – святые походы, организованные по приказу пап с целью освободить Европу от множества набожных мерзавцев, которые, чтобы получить от неба прощение преступлений, совершенных ими у себя на родине, отважно шли совершать новые в чужие края»?
Уже для того хотя бы, чтобы правильно понять действительное положение вещей, необходимо разобраться в событиях многосотлетней давности. Канув в Лету, Крестовые походы не ушли целиком лишь в прошлое: они тесно, пусть и опосредствованно, связаны с современностью, в особенности с идеологическим и политическим противоборством, происходящим на мировой арене. Этим во многом объясняются и не остывающий интерес – как у нас, так и за рубежом – к религиозным войнам Средневековья, и существующие до сих пор несогласия между историками в понимании Крестовых походов, и многочисленные попытки каждый раз заново освещать их историю с учетом новейших достижений исторического знания. Не случайно в последние годы труды на эту тему появились в большом числе и в социалистических, и в капиталистических, и в развивающихся странах. История Крестовых походов живо занимает умы не только в Европе и в США: о ней пишут и в Азии, и в Африке, и даже… в Австралии. И пишут не ради одного только удовлетворения научной любознательности.
История Крестовых походов, поскольку их непосредственной целью являлись Сирия, Палестина, Египет, издавна манила к себе наряду с учеными также политиков, дипломатов и разведчиков империалистических держав, всех тех, кто верой и правдой помогал монополиям удерживать в колониальном ярме народы ближневосточных стран. Небезынтересно, к примеру, что в бытность свою студентом Оксфорда знаменитый впоследствии английский разведчик Т. Лоуренс, всю жизнь прикидывавшийся «другом арабов», сочинил дипломную работу «Влияние Крестовых походов на средневековую военную архитектуру Европы». Для того чтобы подготовить этот диплом, его автор, специализировавшийся по археологии, побывал в Сирии, где изучил все замки крестоносцев, вернее, сохранившиеся от них руины.
Таким образом, в разработке истории Крестовых походов наука тесно переплетается с политикой. Вот почему в трудах буржуазных исследователей, столь богатых фактами, встречается так много искаженных представлений о той странице средневековой жизни, которая вошла в историю под названием «Крестовые походы».
Предлагаемая вниманию читателя книга не претендует на полноту изложения фактов: для этого она слишком мала. Ее задача – раскрыть в общих чертах события «священных войн» и таким образом помочь уяснению их подлинного характера и истинной сущности.
1. Возникновение крестовых походов
Крестовые походы на Восток длились без малого двести лет – с конца XI до последней трети XIII в. Это были войны главным образом рыцарства. Свое название они получили оттого, что их участники, снаряжаясь воевать против мусульман (турок и арабов), прикрепляли к одежде – на грудь или плечи – красного цвета матерчатый знак креста, символизировавший религиозные побуждения, цели и намерения воинов: освободить от власти иноверцев Палестину, в представлениях христиан – Святую землю, ибо там, согласно евангельским рассказам, родился, жил и был распят на кресте Иисус Христос, основатель христианской религии.
При этом понятие «Крестовый поход» современникам было вовсе не ведомо. В Средние века такая война обозначалась другими терминами – peregrinatio (странствование), expeditio (поход), iter in Terram sanctam (путь в Святую землю), «заморское странствование», «путь по стезе Господней». Формула «Крестовый поход» родилась уже на рубеже Нового времени. Во Франции, видимо, первым ее употребил придворный историк Людовика XIV – Луи Мэмбур, прямо назвавший свой труд на эту тему «История Крестовых походов» (1675 г.); в Германии, как полагают, выражение «Крестовый поход» идет от знаменитого просветителя Ф. Лессинга.
Правильно ли, однако, думать, что Крестовые походы в самом деле всегда и для всех имели только те цели, которые в них провозглашались? А если нет, то в чем же подлинные причины беспрецедентного – по размаху и продолжительности – конфликта средневекового Запада с Востоком? Чем были обусловлены агрессивные устремления феодалов Западной Европы в конце XI в.? Какую роль сыграли в тогдашней ситуации христианская религия, владевшая там умами и душами, и католическая церковь, являвшаяся интернациональным центром феодальной системы? Как складывались взаимоотношения католического Запада, с одной стороны, и православного и мусульманского Востока – с другой? Рассмотрение этих трех групп вопросов в их внутренней связи позволит нам понять исторические предпосылки и глубинные истоки «священных войн» европейского рыцарства на Востоке.
1.1. Смутные времена
В XI в. в странах Западной Европы окончательно утвердился феодально-крепостнический строй. В то же время стали появляться и расти города, а вместе с ними начали постепенно развиваться и крепнуть торговые сношения – не только между городом и ближайшей к нему сельской местностью, но и в более широком масштабе: между западноевропейскими (в особенности южнофранцузскими и итальянскими) купцами и купцами таких средиземноморских стран, как Византия, Египет, Сирия. Натуральное хозяйство, которое прежде целиком определяло экономический облик деревенского Запада, теперь мало-помалу отступает. В жизнь феодального общества – и крепостного крестьянства, и рыцарства, жившего плодами его труда, – все более властно вторгаются деньги. В связи с этим изменились уровень и структура практических потребностей обоих классов. Раньше феодалы довольствовались натуральным оброком и барщиной крепостных-сервов. С появлением городов, с развитием торговли аппетиты феодальных сеньоров выросли: они сделались требовательнее – с каждым годом увеличивали поборы, кое-где уже вводили денежные платежи вместо натуральных оброков, что было крайне обременительно для крестьян. При взимании повинностей феодалы чинили полный произвол. И без того жившее в бедности крепостное крестьянство в значительной своей части едва не переступало грани нищеты.
Немаловажным фактором обнищания деревни служили беспрестанные внутренние войны, которые повсюду велись в Х–XI вв. на Западе. В то время страны Европы зачастую становились жертвой неурожаев, всякого рода стихийных бедствий. Голод принимал временами невероятные размеры. Дело доходило до людоедства; о случаях, когда поедали тела мертвецов, упоминает, например, монах-хронист Радульф Глабер. Особенно частым гостем деревни голод стал в конце столетия – в ту тяжелую пору, которую историки назвали «семь тощих лет». Они непосредственно предшествовали Крестовым походам. Из года в год в хрониках и анналах скупо перечисляются приблизительно одни и те же сведения. 1089 г. монах Сигберт из Жамблу называет «чумным»: эпидемия «огненной чумы» (спорынной болезни), возникавшей обычно в неурожайные годы, принесла мучительную смерть многим жителям Лотарингии, а многих других превратила в калек. В том же году в Северной Германии и в Брабанте разразились землетрясения: местами реки вышли из берегов, о чем сообщалось в анналах монастыря Св. Якова и в других хрониках. Сигберт из Жамблу сетовал на увеличение в 1090 г. бесплодия почвы и выражал опасения по поводу «постепенно надвигающегося голода». Немецкий хронист Эккехард из Ауры писал о страшной болезни, которая поразила и людей, и скот в 1092 г. Причинами ее были голод, нехватка продуктов питания и кормов, явившиеся результатом неурожая, в свою очередь вызванного весенними холодами. 1 апреля выпал снег; мороз и лед, по словам Бернольда Сен-Блезского, были словно зимой. В 1093 г. – бури и непогода в Англии: весной – наводнение, зимой – колючий мороз; все посевы вымерзли. В том году в Германии был собран низкий урожай. Немцы голодали.
Рассказывая о достопримечательных событиях 1094 г., многие хронисты отмечали массовую смертность как следствие повальной эпидемии, охватившей разные страны. В Регенсбурге за 12 недель скончалось 8,5 тыс. жителей; в некоем селении за шесть недель умерло 1,5 тыс., в другом – 400 человек. Из Германии эпидемия перекинулась во Францию, Бургундию и Италию. Обильные осадки снова нанесли сильный урон урожаю. В нидерландских землях наводнения продолжались с октября 1094-го по апрель 1095 г. В Южной Франции и отчасти в Германии голод было затих, но в Северной Франции и в Англии разразился с новой силой. Нормандский монах-хронист Ордерик Виталий (писавший, правда, уже в XII в., но опиравшийся на свидетельства очевидцев, многочисленные документы и житийную литературу более раннего времени) сообщает, что «страшная засуха сожгла траву на лугах; она истребила жатву и овощи и потому произвела ужасный голод»; в 1095 г. «Нормандия и Франция были отягощены великой смертностью, опустошившей множество домов, а крайний голод довел бедствия до последних пределов».
Почти все современные хронисты говорят о большой нужде, царившей на Западе из-за неурожаев, стихийных бедствий, истребительных эпидемий, падежа скота.
Феодальный же гнет все более усиливался. Он вызывал законное возмущение крестьян. Подчас измученные нуждой и голодом земледельцы поджигали и опустошали имения, расправлялись с наиболее ненавистными сеньорами. Чаще, однако, стихийный протест крепостной деревни принимал пассивные формы. Иногда крестьяне целыми селами снимались с насиженных мест и уходили куда глаза глядят. Бегство крестьян – массовое явление в XI в. О нем повествуют грамоты, хроники, жития святых и прочие литературные памятники. Крестьяне искали в бегстве спасения от поборов и вымогательств, от разбойничьих нападений феодальных банд, от лютого голода и гибельных эпидемий. Вместе с тем усилились различные проявления религиозного аскетизма, тяга к уходу в монастыри, к отшельничеству, особенно на протяжении «семи тощих лет», когда по странам Европы распространился настоящий «дух подвижничества». Эта черта общественной психологии низов весьма важна для понимания причин Крестовых походов, она во многом объясняет восприимчивость широких масс к идее религиозного подвига.
Рост религиозных настроений в деревне порождался невыносимыми условиями жизни сервов. Забитые нуждой, придавленные личной зависимостью от сеньора, они были принижены и своей умственной темнотой. Ее всемерно поддерживали католические священнослужители, требовавшие от крестьян долготерпения и покорности господам, внушавшие страх перед геенной огненной. По учению христианства, адские муки ожидали на «том свете» людей строптивых и не послушных властям. Находясь в плену религиозных взглядов, прививавшихся ему с детских лет, темный и невежественный землепашец, который свыкся с нуждой и ничего не видел дальше собственной хибарки, воспринимал социальные и стихийные бедствия сквозь призму своего примитивного мировоззрения. Неурожай, голод, «огненная чума», унесшая в могилу его жену и детей, – все это представлялось ему карой небесной, ниспосланной свыше за неведомые грехи. Отсюда поневоле и возникала мысль, вернее, смутное чувство, что, быть может, избавиться от страданий повседневности нельзя иначе, кроме как умилостивив разгневавшегося Бога. Каким же образом? Прежде всего, совершив какой-либо из ряда вон выходящий, героический – но именно в религиозном смысле – подвиг во «искупление грехов», приняв мученичество за веру!
Так жажда освобождения от гнета сеньора, стремление сбросить цепи серважа и выбиться из нужды получали в утомленном житейскими невзгодами мозгу крестьянина превратное, искаженное отражение, выливаясь в страстное желание религиозного подвига.
Экономические сдвиги, как уже было сказано, коснулись и господствующего класса. Возможности удовлетворить новые потребности за счет сервов были крайне ограниченными, и феодалы встали на путь земельных захватов. По всякому, самому ничтожному поводу они затевали бесконечные междоусобицы – файды. Для успешного ведения войн сеньору приходилось содержать множество вассалов-рыцарей, обязанных ему военной службой. За службу нужно было вознаграждать поместьем. Свободные же земли на Западе иссякли. Вот почему многие воинственно настроенные сеньоры заходили в тупик: где приобрести поместья и крепостных, откуда получить средства, которые крепостные были уже не в состоянии предоставить, несмотря на всяческие ухищрения господ?
Положение осложнялось еще и тем, что поместья мелких и средних владельцев все чаще становились добычей магнатов, обычно захватывавших эти поместья во время файд. В итоге на Западе образовалась обширная прослойка безземельных рыцарей. Этому способствовал также установившийся порядок наследования феодов – майорат (от слова major – старший): владения сеньора после его смерти не дробились между сыновьями, а целиком переходили к старшему из них. Остальные же наследовали только движимость – коней, доспехи, оружие, одежду. В семьях феодалов появилось немало обделенных землей младших сыновей – они подчас получали иронические, но вполне соответствовавшие их реальному положению прозвища, становившиеся затем фамильными: «безземельный», «неимущий», «голяк». Заветным стремлением этих отпрысков знати сделалось приобретение поместий. Наиболее доступным способом поправить свои дела рыцари, естественно, считали вооруженное насилие. Поодиночке и шайками принялись они рыскать по соседским и отдаленным землям, нападали на деревни, забирали у крестьян все, что попадалось. Не брезговали рыцари и разбоем на проезжих дорогах. Иные замки стали настоящими разбойничьими гнездами, приютом рыцарских банд. Подчас эти банды осмеливались совершать набеги и на крупные поместья; самой соблазнительной приманкой были богатые владения церквей и аббатств (монастырей).
Насилия оскудевшего рыцарства довершали разорение крестьянства, но вместе с тем наносили ущерб церковно-монастырскому землевладению, менее обеспеченному вооруженной охраной. Внутри господствующего класса происходила борьба, и это внушало правящим верхам феодального общества на Западе беспокойство, заставляя искать какой-то выход из создавшихся затруднений. Неурожаи, голодовки, эпидемии, массовое бегство крестьян, а подчас и их восстания («мятежи», по выражению хронистов) и ко всему – бандитизм рыцарской вольницы, конфликты феодалов и феодальных группировок между собой…
В Европе складывалась тревожная обстановка смутного времени: общественная жизнь приобретала все менее устойчивый характер. «Смуты и бранная тревога, – писал несколько позднее об этих десятилетиях Ордерик Виталий, – волновали почти всю вселенную [Запад отождествлялся в его уме со всем миром! – М. З.]; смертные безжалостно наносили друг другу величайшие бедствия убийствами и грабежами. Злоба во всех видах дошла до крайних пределов и причиняла тем, кто был исполнен ею, бесчисленные беды».
Насущные интересы феодалов как класса выдвигали перед ними неотложную задачу: изыскать такой способ решения возникших проблем, который позволил бы удовлетворить их собственные возросшие потребности в землях, в подневольной рабочей силе, в деньгах и богатствах всякого рода, избавил бы крупных сеньоров от бесчинств рыцарской мелкоты, а рыцарство – от участи «голяков» и «безземельных» и упрочил бы в то же время устои существующей системы. Задача эта, конечно, не осознавалась кем-либо именно в таком, четко осмысленном виде; она выступала как практическая необходимость, возникая по тому или иному конкретному поводу, но в общем становилась все более настоятельной.
Наиболее дальновидной в феодальном обществе оказалась католическая церковь, взявшаяся вызволить господствующий класс из надвинувшихся на него бед.
1.2. Клюни и рыцарская агрессия
Церковь была в те времена богатой собственницей полей, лугов, садов и жестоко эксплуатировала принадлежавших ей крепостных. Кроме того, со всех землепашцев – как собственных, так и чужих – церковники регулярно взыскивали еще общую подать – десятину. Являясь сама крупным феодальным землевладельцем, церковь служила – в этом и заключалась ее социальная функция – духовным оплотом всего класса феодалов. Проповедуя христианское учение, по которому земные порядки установлены от Бога, а потому не подлежат изменению, требуя от тружеников безропотного повиновения сеньорам, обещая смиренным посмертное блаженство в раю, бунтовщикам же грозя вечными пытками в преисподней, церковнослужители помогали феодалам держать в узде хлебопашцев и мастеровых. Церковь всегда и во всем отстаивала интересы крепостников – и в области идеологии, и в сфере политики.
Когда в Х–XI вв. сервы повсеместно стали подниматься против сеньоров или уходить в бега, а бесчинства рыцарской вольницы причиняли все более ощутимый ущерб монахам и клирикам, церковь всерьез встревожилась – прежде всего за судьбу собственных владений. Чтобы оградить их от двойной опасности (со стороны низов и рыцарства), монастыри, экономически наиболее мощные церковные учреждения, еще в Х в. взялись за различные преобразования. Укрепить материальные и моральные позиции церкви, усовершенствовать ее организацию, увеличить ее силы, поднять ее престиж – таков был общий смысл этих преобразований.
Церковно-реформаторское движение того времени вошло в историю под названием клюнийского: почин его принадлежал бургундскому аббатству Клюни. Клюнийцы стремились создать централизованное церковное устройство и потому способствовали возвышению папской власти, длительное время переживавшей упадок. Среди осуществленных ими реформ выделяется одна: запреты военных действий – как на длительные сроки («Божий мир»), так и на короткое время («Божье перемирие»), например с вечера субботы до утра понедельника. Эта мера, обращенная против разбоев рыцарской мелкоты и феодальных усобиц, особого эффекта не возымела. Тогда церковь принялась нащупывать другие пути, которые, по мнению ее руководителей, могли бы уберечь верхние слои феодалов от неистовства «безземельных» и «голяков» и вместе с тем ублаготворить феодальную голытьбу, утолить ее жажду поместий и богатств. Конечно, сами «поиски» представляли собой спонтанный процесс, в котором участвовали и знатные феодалы, и простые рыцари. В каждом отдельном случае они преследовали свои ближайшие, непосредственные цели, вовсе не задумываясь о каких-то крупномасштабных проблемах социально-политического характера. Тем не менее их действия, диктовавшиеся сиюминутными побуждениями, словно прокладывали дорогу, в перспективе ведущую к отысканию кардинального решения общезначимой для всех феодалов задачи. Большая роль принадлежала тут папству, постепенно укреплявшему свои позиции.
Картина подготовки событий, сигнал к которым позднее дал папский клич «На Восток!», была сложной и многомерной. Существенное место здесь занимают паломничества из стран Запада в Палестину, в ее религиозный центр – Иерусалим. Это старинное установление христианства, появившееся в IV в. и в последующие столетия в общем малозаметное, в XI в. развернулось с огромной силой. Паломничества в Иерусалим становились все более многолюдными. Они учащались и приобретали массовый характер. По словам Радульфа Глабера, повидавшего многих паломников и наслышанного о других, в Иерусалим «шли бесчисленные толпы со всех концов света. Никогда не поверили бы прежде, – добавляет хронист, – что это место привлечет к себе такое изумительное скопление народа».
Паломничества, или пилигримства, т. е. благочестивые странствования, получили столь широкое распространение, что это отразилось и на всей системе духовных ценностей феодального общества, в первую очередь на представлениях о святости, имевших большое значение в феодальной идеологии. Паломничества становились как бы обязательной частью подвижничества, а хождение в Иерусалим – непременным штрихом биографии любого героя житийной (агиографической) литературы. Тот, кто хотел закрепить за собой репутацию безгрешного «бедняка Христова», отправлялся в Иерусалим, дабы – таково было, во всяком случае, обыденное понимание этого акта – почтить находившиеся там испокон веков христианские святыни, помолиться в церкви Гроба Господня, благоговейно осмотреть все места, где некогда ступала нога евангельского богочеловека. Обычай паломничества так тесно связывался в воззрениях эпохи с практикой жизненного поведения святых подвижников, что жития нередко приписывали путешествие в Иерусалим даже и тем лицам, «сподобившимся» прослыть святыми, которые никогда в Палестине не бывали. Иногда в житии упоминалось просто о намерении какого-либо святого идти в Иерусалим, осуществить которое помешали те или иные неожиданные обстоятельства. Намерение само по себе как бы характеризовало готовность к высшему подвигу благочестия.
Словом, странствование в Святую землю превращалось в канон житийного повествования, в его неотъемлемый и едва ли не центральный эпизод. Собственно говоря, именно такое странствование и знаменовало окончательное «обращение» обыкновенного человека в святого. Паломничество как бы выступало кульминационным пунктом восхождения к вершинам такой жизни, которая целиком посвящена потусторонним заботам. Оно сделалось наиболее важным признаком того, что человек разорвал с суетным миром, стало символом приобщения к безгрешности и «чистоте», наверняка обеспечивавшим небесное спасение. Странствования в края, где некогда творил чудеса Иисус Христос и где хранились многочисленные реликвии его жизни и смерти, рассматривались церковью в качестве важной заслуги перед Богом. Молитве в Святой земле приписывался особый эффект. Все это придавало Иерусалиму большую притягательную силу.
Благочестивые путешествия туда явились существенным фактором возникновения Крестовых походов. Во многом благодаря паломничествам в Западной Европе установилась насыщенная настроениями отрешенности от мирских благ, покаяния и искупления грехов атмосфера религиозного подвижничества, происхождение которой коренилось, как мы видели, в нестабильности всей социальной обстановки на Западе, порождавшей (в первую очередь в низах, а отчасти и среди представителей господствующего класса) ощущение неустроенности и стремление вырваться из житейских невзгод хотя бы на путях, открывавшихся религией. Паломничества существенно облегчили папству выбор и определение направления рыцарской агрессии, на котором могли бы сойтись противоречивые чаяния самых различных категорий феодалов.
По социальному составу своих участников паломничества были довольно пестрым движением. Радульф Глабер писал: «Сначала отправлялся туда [в Иерусалим. – М. З.] простой народ, потом состоятельные люди». Хронист сообщает о случаях паломничества и «могущественных королей», и графов, и маркизов, и прелатов. Реальные цели паломников тоже были неодинаковыми, хотя им самим паломничество представлялось сугубо религиозным предприятием. У выходцев из деревенских и городских низов дух подвижничества был, как мы знаем, религиозно окрашенным выражением освободительных чаяний. В глазах сеньоров религиозные соображения тоже имели известный вес, но больше всего к заморскому путешествию их побуждали мирские мотивы – желание приобрести на Востоке предметы роскоши, повидать новые места, избавиться хотя бы на время от монотонности деревенской жизни с ее буднями – охотой, пирушками, хозяйственными делами. Недаром, рассказывая об одном таком знатном пилигриме, бургундце Лиутбальде Отюнском, совершившем странствование в сопровождении большого числа людей, хронист подчеркивает, что пилигрим этот «предпринял свое путешествие в Иерусалим не из тщеславия, как многие другие, которые идут, чтобы по возвращении похваляться этим».
Действительно, важным стимулом для лиц указанного круга служили причины престижного порядка. Это в равной мере относится и к высшим церковным иерархам – епископам и аббатам, и к светским сеньорам. Орлеанский епископ Одальрик, побывав в Иерусалиме, приобрел за фунт золота драгоценную лампаду у тамошнего патриарха. «Он принес ее в Орлеан для украшения своей церкви, где она приносила много пользы больным», – пишет Радульф Глабер. Иначе говоря, покупка была использована епископом для повышения престижа его храма. Герцог Роберт I Нормандский (дьявол), отправившийся на Восток в 1035 г., перед началом паломничества заставил крупных вассалов клятвенно признать своим наследником внебрачного сына – Вильгельма (впоследствии – Завоевателя). Таким образом, в данном случае паломничество послужило удобным предлогом для достижения конкретной политической цели. Знатные пилигримы во время странствования раздавали всякого рода драгоценности, которые брали с собой для этой надобности. Подобные раздачи считались у знати верным средством укрепления своего влияния на простой народ, церковь же поощряла их как богоугодное деяние.
К крупным сеньорам присоединялись обычно толпы рыцарей. В 1065 г. из Германии двинулось в паломничество около семи (или двенадцати) тысяч человек. «Безземельные» и «неимущие» искали за морем возможности поправить свое положение, а иные из них и замолить преступления, совершенные дома. То обстоятельство, что рыцари разоряли у себя на родине храмы и монастыри, не мешало им быть религиозными людьми. Они воспринимали христианские догмы по-своему, приспосабливая их к привычным для феодалов понятиям. Бог рисовался им верховным сюзереном: он щедро вознаграждает своих земных вассалов за верную службу, прощает грехи, дарует вечное блаженство в раю. Спасение души – вопрос, который интересовал темных рыцарей не менее живо, чем крепостных. Рыцари, как правило, тщательно соблюдали церковный ритуал, если даже, по меткому наблюдению одного историка, «христианская этика оказывала на них весьма слабое влияние».
Все это объясняет широкое участие рыцарства в паломничествах. Они получили полное одобрение клюнийцев. Монастырская братия всемерно содействовала им на практике: клюнийцы построили вдоль дорог гостиницы для пилигримов, сами собирали последних в отряды, с особым рвением помогая снаряжать и отправлять в паломничества людей, проживавших по соседству с клюнийскими обителями. Таким способом удалялись прочь элементы, представлявшие угрозу церковным владениям. Для убийц паломничество, с легкой руки клюнийцев, сделалось часто практиковавшимся, почти традиционным, способом «очищения от смертного греха».
Паломническое движение идейно и практически подготовило Крестовые походы: оно способствовало разрастанию религиозно-подвижнических настроений, познакомило европейцев с дорогами на Восток, с положением в восточных странах, а главное – распалило у феодалов неутолимую жажду овладения заморскими землями.
Наряду с паломничествами почву для широкой феодальной экспансии на Восток готовили войны, развернувшиеся в XI в. на самом Западе и частью тоже происходившие под религиозными знаменами. Французское рыцарство, например, включилось в борьбу за отвоевание территорий, ранее захваченных арабами в Испании, – Реконкисту. В 1063–1064 гг. за Пиренеи отправились рыцари герцогства Аквитанского и графства Тулузского – они нанесли противнику поражение в битве при Барбастро. Затем в Испанию предпринимались все новые и новые походы. В начале 1070-х годов туда двинулось рыцарское ополчение во главе с графом Эболи де Руси. Во взятии у арабов Толедо в 1085 г. кастильским королем Альфонсом VI Храбрым участвовали не только французские, но и немецкие рыцари. После того как в 1086 г. арабы-альморавиды разбили христианские войска в бою при Залакке, во Франции в 1087 г. составилось сильное феодальное ополчение. Его возглавляли герцог Гуго I Бургундский и граф Раймунд Тулузский, будущий предводитель провансальских отрядов в Первом крестовом походе. В действиях этого ополчения принимал участие и другой сеньор, который несколько лет спустя отправится сражаться за Иерусалим, – виконт Мелюнский Гийом Шарпантье.
Мелких и крупных феодальных хищников манила к себе не только Испания. С 1016 г. потомки скандинавских викингов (норманнов), еще в начале Х в. овладевших Нормандией, – нормандцы – устремляются на завоевание плодородных областей Южной Италии. После ожесточенной борьбы с арабами и Византией они основывают здесь ряд феодальных княжеств. В 1061–1072 гг. нормандцы завладели и Сицилией. В 1066 г. опустошительному набегу их воинственных дружин подверглась Англия. А в 1073 г. норманнский авантюрист Руссель де Байэль, находившийся до того на службе у Византии, обосновался со своими воинами в самом центре Малой Азии. Здесь возникло норманнское княжество – прообраз того, которое южноитальянские норманны[1] создадут в Сирии четверть века спустя. Правда, княжество Русселя де Байэля продержалось лишь около года: в результате измены своего соплеменника этот князек попал в руки византийского военачальника Алексея Комнина (впоследствии – императора), и норманнское государство в Малой Азии прекратило свою недолгую жизнь, но сама попытка его создания симптоматична.
Весь XI век заполнен разбойничьими предприятиями рыцарских ватаг. Где бы ни вспыхивала война, всегда находилось множество охотников взяться за меч в надежде на легкую добычу. Эти завоевательные движения также привлекали к себе внимание церкви. Клюнийцы всячески побуждали французских сеньоров и рыцарей к участию в испанской Реконкисте; папство, в свою очередь, одобрило эти походы. В Реконкисте папы увидели средство, при помощи которого можно и поднять престиж апостольского престола, и отослать рыцарство на окраину Западной Европы, указав беспокойным воителям новое поле брани: ведь благодаря этому поместья светской и церковной знати, хотя бы отчасти, избавлялись от опасности разбойничьих налетов рыцарской вольницы!
Чтобы разжечь воинственно-религиозный пыл рыцарей во Франции, римская курия постаралась окружить участников испанских походов ореолом мученичества за веру. Клюнийцы, успевшие проникнуть на Пиренейский полуостров и устроить там свои монастыри, провозгласили войны с мусульманами в Испании священными. Папа Александр II, благословивший поход 1063–1064 гг., объявил, что церковь отпускает грехи каждому, кто пойдет сражаться в Испании за дело креста, и даже прикомандировал к южнофранцузским рыцарям, собиравшимся туда, своего легата. Активность апостольского престола в Реконкисте не осталась не замеченной современниками: любопытно, что арабский хронист Ибн Хайан, рассказывая о битве при Барбастро, называет предводителя христианского войска «начальником рыцарства Рима». Папа Григорий VII, дабы побудить французов к такому же походу, разрешил им в 1073 г. владеть землями, которые будут отняты христианским оружием у «неверных», – правда, при одном условии: если французские рыцари признают верховную власть римского первосвященника над отвоеванными территориями. Ведь Испания, по словам Григория VII, якобы с древних времен повиновалась св. Петру.
Этот папа тоже заблаговременно отпустил грехи всем, кто падет в боях за веру.
Войны французского рыцарства в Испании были как бы «крестовыми походами до Крестовых походов» – по лозунгам, по оформлению, по содержанию. Поход короля Альфонса VI Кастильского против арабов на Толедо К. Маркс в «Хронологических выписках» назвал «прелюдией Первого крестового похода».
Завоевательные предприятия нормандцев в Южной Италии и Сицилии хотя и не сразу, но тоже были поддержаны папством, использовавшим их в своих политических целях. Предводитель нормандских завоевателей Роберт Гискар, став герцогом Апулии и Калабрии, в 1059 г. признал папу римского своим сюзереном: он обязался платить ему ежегодную дань, предоставить военную подмогу и защищать неприкосновенность его престола от покушений германских императоров. Папство санкционировало нападение герцога в 1061 г. на Сицилию, которая была затем отнята нормандцами у арабов. Оказало папство содействие и нормандским рыцарям Вильгельма Незаконнорожденного, завоевавшим в 1066 г. Англию. Во всем этом явственно проступает единая политическая линия римской курии: организация и всяческое поощрение рыцарской агрессии на периферии Западной Европы, особенно в Средиземноморье.
При этом Рим благословлял не только рыцарские захваты. Уже в войнах нормандцев за Сицилию принял участие флот североитальянского торгового города Пизы, совершивший в 1063 г. рейд против Палермо. В дальнейшем купечество и других приморских городов Италии включается в борьбу за вытеснение арабов из бассейна Средиземного моря. Папство оказало полную поддержку этим инициативам горожан. Когда в 1087 г. соединенный флот Пизы, Амальфи и Генуи ворвался в гавань Медью в Северной Африке и католические воины захватили город сарацин (арабов), папа Виктор III освятил его разграбление. В знак своей особой милости он выслал пиратам знамя св. Петра и отпустил им грехи. Пизанцы отблагодарили апостольский престол, вложив средства, добытые грабежом Медьи, в сооружение у себя еще одного храма, который в честь достославной победы назвали церковью Св. Сикста (захват Медьи совпал с праздником этого святого). Морское предприятие в Северной Африке было тесно связано с ведшейся тогда же войной рыцарства против испанских альморавидов (пизанцы и позднее, в 1092 г., помогали Альфонсу VI Кастильскому воевать с маврами в Валенсии).
Таким образом, одной из непосредственных предпосылок Крестовых походов на Восток послужили церковные реформы XI в.; они создали папству непререкаемый авторитет и заставили феодальный мир внимательно прислушиваться к голосу римского первосвященника.
К концу XI в. стало, однако, очевидным, что методы, взятые на вооружение и церковью, и светскими феодалами для обеспечения своих интересов, малоэффективны. Французов в Испании постигли неудачи: местные христианские феодалы не желали отдавать своим союзникам ни земель, ни богатств. Конфликты с испанцами – а последние порой даже блокировались с арабскими князьками[2] – обрекали на провал проекты как французской знати, так и папства в Испании, да и арабы там стойко сопротивлялись. Но именно к этому времени начала вырисовываться новая цель, к которой глава церкви направит вскоре помыслы воинственных феодалов. Выбор самой цели и средств к ее достижению предопределила международная обстановка.
В последней трети XI в. нити европейской политики все больше стягивались в римскую курию. Она становилась тем центром, который один только и мог объединить распыленные силы феодального Запада. Ведь королевская власть там была еще очень слабой. Со времени понтификата (правления) Григория VII (1073–1085) папство, стремясь упрочить положение, достигнутое главным образом в результате успехов клюнийского движения, все настойчивее изъявляет поэтому притязания на главенство не только в христианской церкви, но и над светскими государями. Григорий VII в своем знаменитом «Диктате папы» открыто заявил: римский престол вправе распоряжаться коронами, назначать и смещать епископов, герцогов, королей, императоров; всякая власть действительна лишь постольку, поскольку она исходит от главы церкви, вице-доминуса, представителя Всевышнего на земле. Григорий VII выработал план полного подчинения всех христианских государств римской курии. Были приняты и практические меры к тому, чтобы реализовать эту теократическую (от греческого слова, означающего «боговластие») программу – программу создания общеевропейской, или, по тогдашней терминологии, универсальной, т. е. всемирной, монархии во главе с папством и принудить всех христианских королей к ленной присяге апостольскому престолу. Эта политика, однако, встретила отпор многих государей, в особенности германских императоров, борьба с которыми, протекая с переменным для Рима успехом, продолжалась и при преемниках Григория VII.
Стремления римских пап к созданию универсальной теократии в Европе – яркий показатель того, какое значение приобрели там в XI в. Римско-католическая церковь и ее руководящий центр – Папская курия. Будучи богатейшим феодальным учреждением, церковь была кровно заинтересована в укреплении феодального режима. Вот почему папство возымело намерение сплотить под своей верховной властью разрозненные силы феодалов, чтобы тем самым упрочить позиции феодального землевладения перед лицом грозивших ему смут.
Неотъемлемой частью теократической программы папства явилась идея ликвидации самостоятельности восточной, греко-православной церкви, окончательно отделившейся от римско-католической в 1054 г. Как раз в связи с этими попытками и возникли первые наброски проекта завоевательного похода против мусульманского Востока.
1.3. Византия, Запад и сельджуки
Византия – наследница Римской империи – давно уже растеряла многие из своих прежних владений на Востоке. Все менее прочными становились позиции Константинополя в Малой Азии. Наиболее грозным для Византийского государства оказалось нашествие тюркских кочевников – сельджуков (их название происходит от имени полулегендарного предводителя Сельджука, объединившего во второй половине Х в. огузские племена Средней Азии). В правление султана Алп-Арслана (1063–1072) сельджуки вторглись в византийские области Армении, ввязались в войны с Грузией и все шире проникали в малоазиатские провинции Византии – Каппадокию и Фригию.
Император Роман IV Диоген (1068–1071) попробовал было положить конец продвижению сельджуков. Византийские войска предприняли против них две успешные кампании. С Алп-Арсланом удалось заключить перемирие, но затем Роман IV внезапно двинул на противника еще одну, чуть ли не 300-тысячную армию – самую крупную из всех, снаряжавшихся им до того. Его разномастное войско состояло в основном из наемников и внутренне было рыхлым, слабым, ненадежным. Накануне генеральной схватки тюркские отряды переметнулись на сторону своих единоплеменников. Измена гнездилась и в среде самих византийских военачальников.
19 августа 1071 г. к северу от озера Ван (Армения), неподалеку от города-крепости Маназкерта (по-гречески Манцикерт), произошло гигантское по тем временам сражение. Войско империи потерпело сокрушительное поражение от сельджуков, которые применили многократно испытанную ими ранее тактическую уловку: отступив для виду, они заманили византийцев, а затем, неожиданно повернув обратно, произвели бурный натиск конницей на врага. Армия Романа IV была почти полностью уничтожена. Сам император, чего никогда еще не случалось в истории Византии, попал в плен и был повержен к ногам султана-победителя. Последний вскоре отпустил знатного пленника, но результат катастрофы при Маназкерте оказался плачевным для империи – она утратила свои богатые владения в Малой Азии. Между 1078 и 1081 гг. сельджуки утвердились и в ее западных областях: Византия едва сумела удержать за собой немногие города на берегу Пропонтиды (Мраморного моря). Из окон императорского дворца в Константинополе теперь видны были горы на востоке, которые уже не принадлежали некогда могущественному василевсу (византийскому императору).
Византия переживала полнейшую анархию. Различные группировки феодальной знати, столичной и провинциальной, бесконечно препирались друг с другом и всевозможными интригами добивались увеличения своих привилегий и власти. На армию, пополнявшуюся преимущественно наемниками, полагаться было почти невозможно. В казне постоянно недоставало денег: с тех пор как свободные крестьяне сделались крепостными (париками), стал иссякать главный источник налоговых поступлений. Византия чем дальше, тем сильнее подвергалась дроблению на полусамостоятельные в политическом отношении феодальные владения. Воинские отряды могущественных провинциальных землевладельцев – вот от кого зависела теперь сила империи! Само поражение при Маназкерте явилось прежде всего плодом междоусобиц аристократии: иные ее представители готовы были (именно так и произошло в 1071 г.) на открытую измену, лишь бы удержать и умножить свои привилегии. Когда султан отпустил Романа IV из плена, в империи разразилась настоящая война феодальных клик; экс-император был вынужден сдаться на милость врага, который, взяв его в плен, выжег глаза бывшему василевсу.
Трудностями Византии, обессилевшей в войнах с сельджуками и во внутренних неурядицах, не преминул воспользоваться римский папа Григорий VII для того, чтобы поставить греческую церковь в зависимость от апостольского престола, а в дальнейшем подчинить ему и саму Византию. Это значительно расширило бы материальные ресурсы Римско-католической церкви и облегчило бы папству выполнение его универсалистско-теократической программы на Западе.
Вначале Григорий VII прибег к дипломатическим мерам: летом 1073 г. он вступил в переговоры с василевсом Михаилом VII Дукой. Нужно, заявил папа в послании императору, возобновить древнее согласие между римской и константинопольской церквями. Однако притязания Рима встретили отпор в Константинополе. Тогда-то у папы и родилась мысль добиться поставленных целей вооруженным путем: организовать военный поход рыцарства на Восток под предлогом защиты христианской веры и оказания помощи православным грекам против мусульман-сельджуков. В виду многочисленного западного войска василевс наверняка поведет себя уступчивее, а там – кому ведомо, как обернется эта затея, коль скоро она окажется успешной? Иерусалим не столь уж далек от Константинополя!
В 1074 г. папа обратился с посланием к графу Гийому I Бургундскому, к германскому императору Генриху IV, впоследствии ставшему его заклятым врагом, к маркграфине Матильде Тосканской и, наконец, «ко всем верным св. Петра», призвав их выручить Восточную церковь из беды и для этого принять участие в войне на Востоке. Григорий VII не скупился на обещания небесных наград тем, кто согласится воевать с «неверными». «Бейтесь смело, – увещевал папа католиков в своих посланиях, – дабы снискать в небесах славу, которая превзойдет все наши ожидания. Вам представляется случай малым трудом приобрести вечное блаженство».
Григорий VII придавал серьезное значение затевавшемуся им предприятию. В своих письмах он неоднократно повторял, что собирается самолично встать во главе войска западных христиан и отправиться за море. Такой проект не мог не вызвать благоприятный отклик у «голяков» и «безземельных», которые с одобрения папства уже до того выступали под религиозным знаменем против арабов. «Я верю, – писал папа Матильде Тосканской, – что в этом деле нам окажут содействие многие рыцари».
Разумеется, лозунги защиты христианской веры от поганых (язычников) представляли собой лишь маскировку: намерения Рима не имели ничего общего со спасением христианства, о чем папу никто и не просил. Вообще религиозные интересы, которые Григорий VII столь настойчиво выпячивал на передний план в своих посланиях, в глазах этого церковного политика никогда не играли первенствующей роли. Если того требовали политические интересы Рима, папа не находил нужным настаивать на каких-либо принципиальных различиях между христианством и исламом: в 1076 г. в письме к князьку алжирского города Бужи аль-Насиру Григорий заявил даже, что «мы и вы веруем в одного Бога, хотя и разными способами».
Подлинный смысл проекта войны с сельджуками был иной: вернуть греческую церковь в лоно римской, расширить сферу влияния католицизма, насильственно включив Византию в орбиту папского воздействия, и овладеть богатствами грекоправославной церкви.
Благочестивые призывы папы, по сути, предвосхищали лозунги будущего Крестового похода. Вероятно, эти призывы встретили понимание у рыцарства. Во всяком случае, сам папа в конце 1074 г. уверял германского императора Генриха IV, что ему, папе, удалось уже собрать армию из 50 тыс. итальянцев и французов для заморского предприятия против язычников. Папу поддерживали, в частности, некоторые феодальные магнаты Южной Франции, такие как Гийом Бургундский и Раймунд Тулузский.
Однако Григорий VII не сумел провести в жизнь свои замыслы. Начавшаяся борьба с германской империей надолго отвлекла его внимание от Византии. Тем не менее он и в дальнейшем еще не раз обращался к мысли о возвращении греческой церкви в «лоно матери». Когда в 1080 г. Роберт Гискар напал на итальянские владения Византии, Григорий VII благословил его на эту войну. Папа потребовал, чтобы духовенство Южной Италии призвало местных рыцарей к участию в походе нормандского вождя, обещая за это прощение грехов. После того как в 1081 г. нормандцы вторглись на Балканский полуостров, захватили морскую крепость Драч в Эпире и проникли в глубь страны, Григорий VII поздравил Роберта Гискара с победой, не забыв напомнить, что тот обязан ею покровительству св. Петра. И хотя в последующие годы Григорий VII был полностью поглощен противоборством с Генрихом IV, одно несомненно: подготовка большой рыцарской войны «в защиту Византии», проводившаяся папой в 1070-х годах, послужила важным исходным пунктом созревшего позднее плана организации завоевательного похода на Восток.
Задуманное Григорием VII дело получило дальнейшее развитие у ближайших преемников этого папы. Обстановка, сложившаяся в последние десятилетия XI в. в странах Восточного Средиземноморья, благоприятствовала осуществлению замыслов папства. Одновременно с Малой Азией сельджуки завоевывали Сирию и Палестину. В 1070 г. в их руки перешли Дамаск, Халеб и другие сирийские города, а в 1071 г. – центр трех религий, в том числе и христианства, Иерусалим, находившийся до того под властью египетского халифата Фатимидов (более или менее прочно сельджуки утвердились в городе лишь к концу 1070-х годов). В 1084 г. сельджуки овладели Антиохией, отняв ее у Византии. В правление Мелик-шаха (1072–1092) большая часть нынешних Сирии, Ливана, Иордании, Израиля вошла в состав сельджукских владений.
Завоевания сельджуков простирались, таким образом, на обширную территорию. Однако тюрки не создали централизованного государства. Сельджукская держава существовала только номинально. Фактически это было слабо спаянное объединение множества полусамостоятельных уделов. Наиболее значительным из них являлся Румский султанат, образовавшийся в 1077 г. в Малой Азии, с центром сперва в Никее, затем в Конье (Иконии). Султаны претендовали на наследство Византийской империи, поэтому и называли свое государство Румским, т. е. Ромейским: ведь ромеями (римлянами) именовали себя византийцы. Султаны переняли и эту терминологию, и соответствующие притязания. После 1092 г. сельджукское государство вовсе распалось. Вспыхнули раздоры крупных и мелких владетелей, Малая Азия сделалась ареной непрекращавшихся войн.
Много позднее, уже после того, как развернулось крестоносное движение, западные хронисты в оправдание его измыслили различные легенды о гонениях, которым сельджуки якобы подвергали христиан в восточных странах, о поругании язычниками христианских святынь и в особенности о преследованиях паломников, направлявшихся в Иерусалим. Европейские историки XVIII–XIX вв., прежде всего католические, подхватили эти легенды, разукрасили их всевозможными подробностями. Авторы многочисленных «Историй Крестовых походов» рисовали ситуацию примерно в одинаковых чертах: сельджуки создали угрозу для христианства, а потому для ее отражения потребовалось военное вмешательство католиков. Предводительство последними взял на себя римский папа. Отсюда и возникли Крестовые походы. Иными словами, объясняя происхождение войн западных христиан, эти историки переместили центр тяжести событий, вызвавших Крестовые походы, на Восток: с их точки зрения, все упиралось в сельджукские завоевания, в первую очередь Иерусалима – колыбели христианства.
«Халифы Фатимиды, поселившиеся недавно по берегам Нила, сделались новыми обладателями Иудеи. Под их управлением положение христиан было сносным до тех пор, пока не стал халифом Гакем, о жестоком фанатизме и яростном безумии которого сообщает история. Герберт, архиепископ Равенский, сделавшийся папой под именем Сильвестра II, видел бедствия христиан во время своего путешествия в Иерусалим. Письмо этого прелата (986 г.), в котором Иерусалим сам оплакивает свои несчастья и взывает к состраданию своих детей, возбудило волнение в Европе… Летописцы того времени, описывая бедствия Святой земли, сообщают, что все религиозные церемонии были запрещены и большая часть церквей превращены в конюшни; храм Святого Гроба также подвергся опустошению. Христиане принуждены были удалиться из Иерусалима».
Такого рода представления о ближайших причинах Крестовых походов распространены на Западе и поныне. И сегодня там выходит немало книг, в которых история крестоносных войн неизменно начинается с описания того, какие преграды будто бы воздвигали сельджуки на пути благочестивых пилигримов и как трудно приходилось паломникам в Святой земле. Подобное объяснение событий решительно не соответствует фактам, засвидетельствованным средневековыми христианскими источниками.
Сельджукам совсем не была свойственна фанатическая религиозная нетерпимость. Конечно, их завоевания сопровождались гибелью и страданиями людей, разрушениями, всем тем, что сопутствует любым войнам. Однако к христианской религии это не имело касательства. По отношению к иноверцам сельджуки проводили ту лояльную политику, которая установилась еще во времена арабского владычества. Ведь в соответствии с учением Мухаммеда, основателя ислама, христиане, подобно иудеям, – это тоже правоверные, но только отклонившиеся от Писания: они же веруют в Единого Бога. Если язычников, по предписаниям Корана, следует либо убивать, либо силою обращать в мусульманство, то к христианам и иудеям, как к заблудшим, надлежит выказывать терпимость. Действительно, в странах, подпадавших когда-либо ранее под господство мусульманских завоевателей, нововведения притеснительного свойства обычно сводились к установлению поголовной подати, или хараджа: он распространялся на всех жителей, независимо от вероисповедания. Остальное завоеватели оставляли, как правило, в неизменном виде: в какой-то мере сохранялся даже прежний государственный аппарат, должности в котором могли занимать и христиане, и иудеи, имевшие возможность беспрепятственно отправлять свои религиозные обряды. Сельджуки продолжали эту традицию терпимости и не ставили никаких серьезных преград христианам в их религиозных делах.
Мало того, для приверженцев христианских исповеданий, преобладавших в Малой Азии, Сирии, Палестине (православные, монофизиты, несториане, грегориане и др.), сельджукское завоевание даже означало в некотором роде благо: они избавлялись от религиозных и фискальных притеснений византийской церкви. Именно так освещают положение армянский летописец Матфей Эдесский (умер в 1144 г.), автор «Всемирной хроники» Михаил Сириец (1126–1196), анонимная «История патриархов Александрийских» и другие сочинения восточных авторов-христиан.
Сами жители восточносредиземноморских стран, принадлежавшие к различным христианским толкам, никогда не искали ни на Западе, ни в Византии защиты от приписываемых сельджукам религиозных преследований. Паломники, как и раньше, могли посещать Иерусалим; их религиозные чувства не подвергались оскорблениям со стороны сельджукских правителей. Разумеется, паломникам приходилось быть начеку: в Палестине они как-никак попадали во вражеские пределы. Недаром пилигримства мало-помалу принимали вооруженный характер. Однако сельджуков нисколько не занимали религиозные интересы пилигримов, их поклонение христианским святыням в Иерусалиме, Вифлееме и прочих святых местах. Завоеватели взимали, впрочем, с паломников определенную мзду за посещение святого града, но ведь точно так же и в Константинополе паломники должны были уплачивать налог византийским властям.
В Иерусалиме по-прежнему продолжали функционировать две гостиницы, построенные и содержавшиеся на деньги итальянского торгового города Амальфи. И главная святыня – архитектурное сооружение в одном из иерусалимских храмов, которое христиане именовали «Святым Гробом» (согласно евангельскому преданию, тело Иисуса Христа было тайно положено его учеником Иосифом из Аримафеи в гробницу, высеченную в скале и заваленную затем камнем), – находилась в полной сохранности. Правда, пилигримам пришлось переменить сухопутный маршрут на морской, так как тревожная военная обстановка в Малой Азии затрудняла путешествия в Иерусалим по суше, но это обстоятельство опять-таки не имело ничего общего с религиозными гонениями.
Россказни о страданиях восточных христиан при сельджуках и о препятствиях, чинимых ими паломникам, в значительной мере представляют собой досужие выдумки более поздних – отчасти византийских, главным же образом западных и восточных – писателей-церковников вроде Гийома Тирского (1130–1186). Они зачастую умышленно сеяли слухи о всякого рода злодеяниях сельджуков против христианства, делая это в чисто пропагандистских, как мы сказали бы теперь, целях – для того, чтобы молва об угрозе христианским святыням, созданной «неверными», содействовала притоку новых воинских сил с Запада. Такие же слухи распространялись из папского Рима. Папы пользовались слабой осведомленностью Западной Европы о том, что, собственно, происходило на Востоке, и, будучи к тому же сами мало знакомы с положением в заморских землях, занимались, по существу, дезинформацией католического мира. Современный нам французский историк-востоковед К. Каэн замечает, что Рим выдавал катастрофу, постигшую Византию, за катастрофу, якобы переживаемую вообще восточным христианством.
На самом деле сельджукское завоевание если и послужило предлогом к подготовке войны Запада против Востока якобы во имя религиозных целей, то лишь постольку, поскольку оно нанесло удар Византии, давно являвшейся объектом вожделений Римской курии. Дальнейшее распространение сельджукских завоеваний в 70–80-е годов XI в. в Передней Азии и происходившее одновременно с ним раздробление державы Мелик-шаха не только открыли перед папством возможность добиваться практического воплощения своих старых планов, направленных против Византии, но и позволили значительно расширить экспансионистские устремления курии, пустив в ход заведомую ложь об угрозе христианству в целом, будто бы нависшей с Востока.
В полной мере проекты Григория VII воскресил и существенно дополнил его второй преемник – Урбан II (1088–1099), француз по происхождению. Согласно его предначертаниям, все Восточное Средиземноморье должно было перейти под владычество Римско-католической церкви и ее верных слуг – западных рыцарей. Урбан II вместе с тем гораздо детальнее и продуманнее обставил свои проекты религиозными аксессуарами. Решить эту задачу ему помогло опять-таки трудное положение, в котором оказалась Византия в 80-х – начале 90-х годов XI в.
Нормандцы, предводительствуемые Робертом Гискаром, продолжали захваты в европейских провинциях империи, наводя страх на Константинополь. Новый василевс, Алексей Комнин (1081–1118), применив и силу оружия, и средства хитроумной византийской дипломатии, устранил было нормандскую опасность, но в это же время тучи стали сгущаться на севере и на востоке Византии. Против нее восстали страдавшие от поборов императорских чиновников славянские поселенцы придунайской Болгарии. Они призвали на помощь кочевников-печенегов. В 1088 г. печенеги нанесли Алексею Комнину тяжкое поражение при Силистре; кочевники разрушили Адрианополь и Филиппополь, дошли до стен самой столицы. Сельджукский эмир Чаха, обосновавшийся на западе Малой Азии и на некоторых островах Эгейского моря, снарядил флот против византийской столицы. Чаха завязал переговоры с печенегами о совместных действиях. Был выработан общий план наступления печенегов и сельджуков на Константинополь.
Казалось, для Византии настали последние дни. И вот тут-то папство, как и полтора десятка лет назад, снова предприняло попытку оказать на нее нажим. Послы Урбана II, отправленные в Константинополь в начале 1088 г., сделали императору представление по поводу того, что в его государстве якобы принуждают латинян (католиков) отправлять церковную службу по грекоправославному обряду. Алексей I ответил папе в примирительном тоне и даже согласился для видимости на уступки Риму. Был определен срок созыва в Константинополе церковного собора, на котором, как предполагалось, будут урегулированы спорные догматические и обрядовые расхождения обеих церквей. Снова завязались переговоры об унии. Правящие верхи Византии, по крайней мере на словах, изъявляли готовность к богословскому компромиссу и устранению распрей Рима с Константинополем: натиск печенегов и сельджуков буквально захлестнул Византию, и, зажатый в кольце врагов, Алексей I искал союзников.
В 1090–1091 гг., когда, по словам византийского историка Анны Комнины (дочери Алексея I), «дела империи на море и на суше были в весьма тяжелом положении», византийский император обратился с посланиями к государям и князьям Запада: Византия просила военной подмоги. Были направлены послы и к папе римскому, на которого Алексей Комнин тоже возлагал надежды. Нужно было во что бы то ни стало пополнить войско империи. Запад и до этого поставлял немало наемников в греческую армию: в ней служили нормандцы, скандинавы, англосаксы. Теперь Константинополь особенно нуждался в воинах, и Рим мог бы оказать Византии важную помощь в привлечении наемных дружин. Этим объясняется кажущаяся уступчивость греческого правительства в переговорах с папством об унии. Тем не менее целиком полагаться на Римскую курию василевс не собирался: ее притязания на главенство были давно и хорошо известны в Константинополе.
Ведя переговоры с папой о церковной унии и соблазняя западных сеньоров перспективой грабежа восточных стран, византийское правительство принимало и другие, более верные, меры для прорыва сельджукско-печенежского окружения. Против печенегов были брошены новые союзники империи – половцы. 29 апреля в битве на берегу речки Мавропотам (приток Марицы) огромное войско печенегов оказалось наголову разгромленным: флот эмира Чахи не успел прийти им на выручку и, как потом распевали обрадованные победители, насмехаясь над побежденными, «из-за одного дня не пришлось скифам увидеть мая». Вскоре Византии удалось избавиться и от эмира Чахи. Алексей I натравил на него никейского султана Кылыч-Арслана I (1092–1107), который умертвил Чаху во время пира. Так, действуя то военной силой, то интригами и подкупом, Алексей I в конце концов избавился от опасностей, грозивших Константинополю. Византия вернула под свою власть ряд прибрежных городов в Пропонтиде, острова Хиос, Самос, Лесбос. Сельджуки были потеснены. Теперь заигрывать с Римом было не для чего. Переговоры об унии зашли в тупик. К досаде Урбана II, Византия практически не приняла его предложения. Намечавшийся собор тоже не состоялся, религиозные разногласия остались неурегулированными.
Однако обращение за подмогой на Запад, сделанное в критический для Византии момент, не прошло бесследно. Восток с его большими торговыми городами, более развитой в экономическом отношении, чем Запад, в основном все же деревенский, казался оскудевшему рыцарству и честолюбивым феодальным магнатам источником великих сокровищ. Рассказы паломников, возвращавшихся из Иерусалима и Константинополя, рисовали воображению великолепные храмы и дворцы восточных городов, чудеса роскоши, в которой купались византийские и арабские богачи. Об этих чудесах складывались легенды, которые бродячие певцы-сказители разносили по рыцарским замкам. И вот теперь столь лакомая добыча уплывала в руки сельджуков!
В особенности это тревожило нормандцев, утвердившихся на юге Италии и на островах Средиземного моря. Уже десятки лет они были непосредственно связаны с Византией – и в качестве пиратов-торговцев, и в качестве наемников-воинов. Кто мог лучше их оценить богатства Константинополя?
Участь Византии внушала беспокойство и многим другим князьям и рыцарям на Западе, которые ждали лишь случая, чтобы кинуться на богатства Греческой империи. Ведь сиятельным баронам и маркграфам, герцогам и виконтам, мало сведущим в географии, весь Восток представлялся землей византийского самодержца. Нельзя было допустить, чтобы она досталась нехристям-сельджукам!
Папство, преследуя свои цели, сознательно или бессознательно учитывало общие интересы западных феодалов: оно не упускало из виду завоевательные тенденции, все более усиливавшиеся среди рыцарей и магнатов. Обстановка, сложившаяся к началу 1090-х годов, явилась как нельзя более подходящей для того, чтобы пустить в ход те пружины, которые курия пробовала привести в действие двадцать лет назад.
Атмосфера на Западе становилась все накаленнее. Тяготы крестьян за «семь тощих лет» достигли предела, и возмущение низов год от года нарастало. Рыцарская вольница разбойничала все разнузданнее. Неуверенность в завтрашнем дне сильнее и сильнее охватывала сеньоров – как церковных, так и светских. Обращение Византии за подмогой в такой ситуации пришлось как нельзя вовремя. Дорога на Восток была проложена паломниками. Овладеть восточными странами – так думали в феодальных замках – будет легко. Надежду на это рождала анархия, царившая в раздробившемся на уделы сельджукском государстве. Сельджукские правители не только грызлись друг с другом, но и соперничали с арабскими государями. Кроме того, в городах Сирии в последние десятилетия XI в. развернулось движение за автономию, против владычества египетских халифов Фатимидской династии: этим движением были охвачены, в частности, Тир и Триполи, которые даже добивались поддержки у сельджуков. Сельджуки, со своей стороны, воспользовались удобным предлогом, чтобы захватить Сайду. Только в 1089 г. египетский халиф сумел вернуть власть над Тиром и другими отпавшими городами. В Тире вспыхнули, однако, новые возмущения. В 1094 г. фатимидское войско, двинувшись на север, осадило этот крупный портовый город и, взяв его приступом три года спустя, жестоко разграбило.
Конечно, многие детали политически неустойчивого положения в странах Восточного Средиземноморья не были известны на Западе, но общее представление о неблагополучии в тех краях формировали и вести, приносимые паломниками, и сообщения возвращавшихся с Востока купцов, и дипломатические донесения, которые стекались в Римскую курию. Поэтому, когда Византия попросила у западных князей и папы подмоги, эти просьбы не заставили рыцарей тянуть с ответом. Они были восприняты как прямой призыв к развертыванию похода на Восток во спасение Византии.
Однако сами феодалы были слишком разрозненны, чтобы предпринять организованные действия столь крупного, по сути европейского масштаба. Требовалось вмешательство той силы, которая, как мы видели, являлась главным выразителем классовых интересов западных феодалов, – католической церкви и ее главы. Это вмешательство не замедлило последовать. Убедившись в бесплодности стараний осуществить унию дипломатическими средствами, Урбан II встал на путь Григория VII. Он гальванизировал его планы вооруженного натиска на Византию под видом оказания ей подмоги против «неверных». Папа учитывал агрессивные настроения феодальных владетелей на Западе и старался извлечь из всего этого максимальную выгоду для католической церкви. Стечение обстоятельств предоставляло удобный случай реализовать при поддержке рыцарства давние экспансионистские замыслы Римской курии, сделать важный шаг для создания всемирной теократической державы. Папство решило использовать создавшуюся в международных отношениях обстановку и, удовлетворив за чужой счет назревшие нужды западных феодалов, достичь своих собственных политических целей.