Цеховик. Книга 1. Отрицание бесплатное чтение
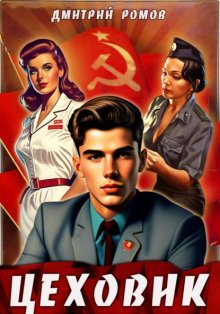
Дмитрий Ромов
Цеховик. Книга 1. Отрицание.
Пролог
– Товарищ подполковник, ну что, начинаем? – спрашивает собровец.
Не терпится ему, торопыге… Но начинать действительно пора. Сколько ни тяни, а идти туда придётся. Эх, Женька-Женька, будем тебя паковать…
Я уже открываю рот, чтобы отдать команду, но в кармане звонит мобильный.
– Кто там ещё, – ворчу я, но сам радуюсь в душе, что ещё немного оттяну момент, когда мне придётся арестовать школьного товарища.
Звонит жена.
– Да, Катя, слушаю тебя.
– Егор, – начинает она тревожно-трагическим голосом.
Да чтоб тебя, зачем я ответил только! Опять вынос мозга. Что ж ты мне нервы-то мотаешь! Ну не нравлюсь я тебе, уходи. Сколько можно пережёвывать одно и то же! Я на работе вообще-то…
Она говорит и говорит, что-то о том, как устала, что терпеть меня просто невыносимо и что она тоже живой человек, а я заставляю её чувствовать себя ненужной, пустой, бездушной и ещё какой-то.
Я и не слушаю, вспоминаю, как мы с Женькой Суриковым ходили на борьбу, как девчонок на дискотеке клеили, как дурачились и прогуливали биологию. Но с тех пор много лет прошло, мы и не виделись почти все эти годы.
Теперь он заместитель мэра, а я зам начальника управления экономической безопасности… Так уж сложилось. Ладно, надо идти, а то операцию сорву. Ребята вон уже косо смотрят.
– Катя, я не могу говорить. Давай дома обсудим, ладно?
– У тебя никогда нет на меня врем…
Я отключаю телефон и оглядываю своих орлов. Зачем столько народу, чтобы взять чиновника? Задерживаю взгляд на одном бойце. Он словно на шарнирах, не может стоять спокойно. Чего это он так нервничает? В первый раз, что ли? Ну, ничего, попривыкнет.
– Понятые готовы? – спрашиваю я.
Знаю ведь, что все готовы и раз сто проинструктированы.
– Ну что, хлопцы, работаем!
Погнали! Работаем мы технично. Забегаем в здание горадминистрации. Два собровца блокируют охранников. Мы бегом поднимаемся по лестнице и влетаем в просторную приёмную. У секретарши глаза на лоб лезут, но она и слова не успевает сказать.
Дверь распахивается и несколько бойцов в масках и снаряжении врываются в кабинет заместителя мэра.
– Телефоны в сторону! Руки на стол! Сидеть на месте!
Ну и всё такое, обычные оперативные действия. Я захожу последним, коротко скомандовав:
– Понятых давайте.
Женька молодец, не дёргается как заяц, не покрывается потом, только бледнеет. Наш коммерс с меченными купюрами и тот выглядит хуже. Достаю удостоверение:
– Подполковник Добров, управление экономической безопасности.
Но он и так знает, кто я. Дурак! Прямо в кабинете берёт, ничего не боится. Он смотрит мне в глаза. Без страха смотрит, даже свысока немного, мол, что же ты, Егорка, старых друзей сдаёшь…
Опера тоже представляются, и я киваю старшему из них. Он сразу понимает и продолжает процедуру за меня:
– Назовите, пожалуйста, ваше имя и должность.
– Евгений Семёнович Суриков, заместитель главы городской администрации, – говорит он спокойно.
– Это ваш портфель?
– Нет, не мой. Вот, товарищ принёс, – указывает он рукой на коммерса.
– Руки положите на стол. А почему портфель рядом с вами лежит?
– Невоспитанный товарищ, на стол свои вещи положил. У него и спрашивайте.
– Вы знаете, что внутри?
– Понятия не имею.
– Откройте, пожалуйста, портфель.
– Пусть сам открывает, зачем я буду свои отпечатки оставлять?
Опер натягивает резиновые перчатки и открывает портфель.
– Портфель лежит на столе, рядом с подозреваемым, – говорит он на камеру и расстёгивает замок. – Внутри находится пластиковый пакет. Что в пакете, Евгений Семёнович?
– Не знаю, – говорит Женька. – Это не моё.
Опер вываливает содержимое пакета на стол. Это шесть пухлых пачек пятитысячных. Три ляма. Силён, мля. Опер комментирует всё, что делает. Он раскладывает найденные деньги на столе, светит на них синей лампой, показывая светящиеся надписи «взятка», диктует номера купюр. Всё это длится бесконечно долго.
– Это провокация, – спокойно и с улыбочкой даже говорит Женька. – Я требую, чтобы мне был предоставлен адвокат.
– Будет-будет, Евгений Семёнович, попозже только, после проведения оперативных мероприятий.
Хорошо держится, не знает правда, что в кабинете велась съёмка и все разговоры и действия записаны. Я достаю сигарету и закуриваю. Хреново как-то. Ненавижу такие моменты и себя ненавижу, и Женьку тоже. Такие моменты – это когда надо выбирать между личным отношением и законом.
– Здесь нельзя курить, – говорит он отстранённо, просто констатируя факт.
Нельзя, знаю. Взятки тоже брать нельзя…
Мы идём по коридорам. Все встречные прижимаются к стенам, пропуская нас и с любопытством глядят на заместителя мэра. Я попросил вести его без наручников. Куда он денется? И так позору вон сколько, а если бы ещё в браслетах шёл… Я затем и поехал на задержание, чтобы хоть как-то углы сгладить.
Выходим из мэрии. Идём спокойно, расслабленно даже. Наши микроавтобусы стоят прямо перед входом. Хорошо хоть зевак нет, один только залётный журналист с камерой, неизвестно откуда взявшийся. Собственно, ясно откуда. Льют инфу мои соколы, продают журналюгам. Вычислю кто, шкуру с живого спущу.
– Евгений Семёнович, Евгений Семёнович! Что вам инкриминируют?
– Уберите постороннего! – приказываю я.
Двое орлов начинают оттеснять журналиста, но он не успокаивается:
– Вы признаёте вину или это политический заказ? Кто заинтересован в вашем смещении? Связано ли это с вашим конфликтом с губернатором?!
Вот же, язык без костей! Как он успевает всё это выкрикнуть всего за пару секунд? Происходит небольшая заминка. Пока журналиста оттесняют в сторону, Женька на несколько мгновений остаётся без присмотра, и этого оказывается достаточно, чтобы сделать то, что ему точно никак нельзя делать.
Он толкает отвлёкшегося собровца и кидается в сторону. Ну, спортсмен хренов, форма у него до сих пор хорошая, несмотря на сидячую бюрократическую работу. Он моментально ускоряется и бежит к углу здания.
Ну что ты творишь, Женёк, знаешь же, что никуда не денешься от нас, только положение своё усугубишь! Ох, дурак! Да остановись ты!
– Жека! – кричу я.
Да чтоб тебя! Краем глаза я замечаю, как собровец, стоящий рядом со мной поднимает руку.
– Отставить! – ору я, что есть сил.
И одновременно с моим криком раздаётся глухой хлопок.
– Не стрелять! – всё ещё кричу я, но уже знаю, что поздно и теперь ничего нельзя поправить.
Как в замедленном фильме, Женька дёргается и выгибается назад. Его тело по инерции продолжает лететь вперёд, но только уже без жизненной силы, в один миг лишившись внутреннего стержня. Я вижу, как он медленно падает, раскинув руки, как со всего маху рушится в свежий пушистый и нестерпимо белый снег и, дёрнувшись пару раз, замирает.
Все звуки разом исчезают и только жуткий, воющий свист, как тогда, после контузии, заполняет голову. Я бегу к Женьке, а мир вокруг превращается в мутный и неразличимый рисунок.
– Жека, – шепчу я, пытаясь перевернуть его на спину.
Подбегают ребята, помогают мне, что-то говорят, кричат, но я не слушаю, всматриваюсь в его лицо. На губах ещё пузырится красная пена, но застывшие глаза неподвижны и устремлены в низкое серое небо.
– Кто стрелял?! Кто, б***, стрелял, вашу мать?! – ору я.
Я бегу к машине. Тот нервный собровец переминается с ноги на ногу. В прорези балаклавы видно, как бегают глаза, а со лба стекают струйки пота.
– Сдать оружие! Под суд у меня пойдёшь, сучий потрох!
Я не выдерживаю и заряжаю ему прямой в челюсть. Он пропускает удар, даже не пытаясь защищаться. Журналист, сука, оставленный без внимания, упоённо снимает всё происходящее. Обнаглев, он подходит к нам вплотную. Я выбиваю камеру у него из рук и остервенело топчу ногами.
– В собачатник его!
Его запихивают в машину, а ко мне подходит командир собровцев.
– Егор Дмитрич, это… Степанов у нас только из командировки, не в себе малость.
– Из какой ещё командировки?!
– Ну, – он понижает голос и пытается шёпотом объяснить, откуда здесь взялся этот Степанов…
– А какого хера он у вас в строю, а не в дурке?!
– Ну, это… там ситуация…
Да срать мне на ваши ситуации! Женьку, б*, кто оживит?
.
Полкан ревёт так, что стёкла дрожат.
– Добров! Ты какого хера попёрся на задержание?! Тебя это вообще не касалось!
– Хотел проконтролировать, чтобы всё чётко прошло, всё-таки высокопоставленное должностное лицо.
– Охрененно, б*, проконтролировал! Почему велел наручники не надевать?!
– Задержанный не представлял угрозы. Его журналист спровоцировал.
– Что ты мне голову морочишь! Знаю я, что он твой одноклассник. А с журналистом этим ты вообще обделался. Нас теперь полгода трепать будут. Не нас, а меня, конкретно. Устану булки раздвигать. Ты хоть понимаешь, что сейчас будет?
– В общих чертах, товарищ полковник.
– В общих чертах! В постовые, б*, пойдёшь! И я с тобой за компанию. Это ж надо, заместителя мэра застрелить! Пиши, б*, рапорт! И готовься плотно сотрудничать с беспекой. Если не сядешь, я, б*, удивлюсь очень сильно. Табельное оружие сдай. Отстранён ты, короче. Дуй домой, чтоб тебя здесь не видели. Стервятники летят уже. Всё ясно?
– Так точно.
– Убирайся с глаз.
.
Да пошли вы все! Я подхожу к машине, своей старенькой раздолабнной «Камрюхе». Её всю снегом замело, стоит как сугроб. На заднем стекле какой-то умник вывел пальцем: «на мне ездит честный мент». Остряки, мля.
Я озираюсь. Рядом с крылечком стоит несколько человек. Курят. Все смотрят на меня, лыбятся. Чего ждёте, что стирать начну? Да плевать мне. Сажусь и жму по газам. Доигрался, честный мент? Да похер. Мне стыдиться нечего. Домой не поеду. К Жанке! Тепла и ласки, вот что мне надо. Да, тепла и ласки. Хочу просто ни о чём не думать, только об её жарком податливом теле. Всё, что нам надо, это любовь.
– Жанна, ты дома? – кричу я в мобилу.
– Да, – немного удивлённо отзывается она.
– Готовься, сейчас буду. Десять минут!
– Приезжай, дорогой, я тебя всегда жду.
Её голос журчит, как ручеёк, и я оживаю. Десять минут длятся, как десять часов… Вот и её дом. Я бегом поднимаюсь на третий этаж и нетерпеливо звоню в дверь.
– Егорушка!
– Привет, милая.
Я обнимаю её и утопаю в горячей волне любви. Вот почему так? Стоит ей обнять меня, поцеловать, пошептать на ухо и вся мерзость жизни отступает.
– Я скучала. Ты почему так долго не приходил?
– Эх, Жанна-Жанна, дела были. Дела, так их и разэдак. Но я тоже скучал.
– Останешься на ночь?
– Посмотрим.
Я прохожу на кухню и достаю из шкафа начатую бутылку виски. Я сам её туда и поставил. Наливаю половину стакана, отпиваю и иду в комнату, сажусь в мягкое кресло. Интерьер у Жанны ретро, вся мебель из семидесятых. В детстве, я помню, у нас дома также было. Такая же стенка, диван и ковёр на стене. Жанне всё это досталось вместе с квартирой от бабки.
Я делаю большой глоток и прислушиваюсь к себе. По груди разливается тепло, скатываясь к желудку. Жанна закуривает и, чуть распахнув халат подходит. Соблазнительница. Она опускается ко мне на колени и обнимает одной рукой.
– Ну, что мы будем делать, мой сладкий?
Любовь, Жанна, мы будем делать любовь, если не хотим, чтобы я сошёл с ума. Исступлённо, самозабвенно, как дикие звери, не оставляя никаких мыслей, мы будем делать любовь.
– Что с тобой сегодня, Егорка? – шепчет она на ухо.
Этот её шёпот заводит меня похлеще любой виагры.
– А что со мной?
– На себя не похож. Ты что, с женой поговорил?
Я отстраняю её от себя и внимательно вглядываюсь в лицо.
– О чём я с ней поговорил?
– О нас…
– В смысле?
– Ну, ты же обещал рассказать ей о нас, – её голос становится прохладнее.
– Когда я обещал? Да и зачем?
– Зачем?! – Жанна встаёт с моих колен. – То есть ты и не собирался? Выходит, тебя всё устраивает?!
– Жанна, меня устраиваешь ты, и зачем нам втягивать мою жену?
– Затем, – говорит она уже довольно резко, – что я не хочу всю жизнь клевать лишь крошки с чужого стола.
– Какие крошки! Ты же знаешь, я с ней уже давно не сплю!
– А почему тогда ты её не бросишь? Ты с ней не спишь, но живёшь в одном доме, а со мной ты спишь, но прячешь меня ото всех, как что-то постыдное. Я не хочу чувствовать себя шлюхой! Разве это непонятно? Я хочу, чтобы мы жили вместе! Я не прошу жениться на мне, но мы должны быть действительно вместе.
Твою мать! Обязательно эту бодягу заводить именно сегодня? Всё ведь тысячу раз уже обсуждали! Я встаю и наливаю себе ещё виски. Выпиваю двумя большими глотками.
– Ладно, Жанна, поговорим об этом в другой раз.
– Нет, я не хочу в другой, я хочу прямо сейчас. Мне надоело быть не пойми кем, я уже не девчонка-малолетка, чтобы твою лапшу глотать.
– Мне уже пора, милая, – вздыхаю я. – Увидимся потом.
– Да что же ты за мужик! – восклицает она и я чувствую, ещё чуть-чуть и расплачется.
Нет, этого мне точно не надо.
– Жанна, не расстраивайся, – говорю я примирительно и иду в прихожую. – Давай завтра всё обсудим, хорошо?
Она не отвечает и даже не смотрит на меня. Плевать! На всё плевать! Я выскакиваю за дверь и несусь по лестнице вниз. Запрыгиваю в машину и мчусь домой. Там меня встречает Боб, мой стаффи, стаффордширский бультерьер. Вот, у кого никогда не бывает ко мне претензий!Привет, привет, мой мальчик.
Он крутится вокруг меня, повизгивает, улыбается, зевает и хрипит.
– Да, да, скучал по мне, скучал. Ну всё-всё, тихо, сейчас я тебя покормлю.
– Где уже накатить-то успел? – скрипит жена, появляясь в прихожей. – Время ещё детское, а он уже готовый, вон за версту разит.
Я стараюсь не обращать на неё внимания. Глупя баба, что с неё возьмёшь.
– На жену никогда времени нет, а вискарика махануть, это всегда пожалуйста. Алкаш.
– Кать, отстань ты от меня, ладно? Женька Суриков умер.
– А у тебя вечно то умирает кто-то, то рождается. На всех время есть, только не на собственную жену!
Да твою ж мать! Вы сговорились все что ли?!
Я прохожу на кухню и насыпаю корм Бобу.
– Ах ты мой Бобик, жри, жри, малыш. Проголодался? Никто тебя не покормит без папочки.
Достаю из холодильника ветчину, яйца и делаю себе яичницу. Больше есть нечего. В прихожей раздаётся звонок и собака уносится туда. Кого ещё принесло? Оттуда несётся шум, лай и щебетание. Дашка. Хотел бы я порадоваться её приходу.
– А папа дома? – слышу её голос.
Дома я, дома. Давай, присоединяйся к гарпиям, клюющим мою печень.
– Па-ап! Привет! Ты поговорил?
– О чём?
– Ну ты что, забыл? Да, ладно, знаю я твои приколы. Разыгрываешь меня?
Нет, не разыгрываю. Надо было поговорить с начальником, чтобы он мне выписал премию и ещё занять у него баблишка, чтобы моя девятнадцатилетняя дочь смогла поехать в Шерегеш со своей тусовкой богатых мажоров. А если она не поедет, то какой-то там хрен с горы ждать её не станет и трахнет другую девку, а не мою дочь. А это пипец как хреново. Ну это так, в двух словах. Драма всей жизни.
– Даш, у меня неприятности. Мне не то что премию, как бы вообще не уволили, понимаешь?
– Пап, ну ты что, правда что ли? Я же тебе всё объяснила, а ты… Нет, ты действительно не понимаешь? У меня же всё серьёзно.
– Даша, ты меня слышишь вообще?
– Блин, для Жанночки своей тебе ничего не жалко, а дочери родной поездку зажал!
– Что?!
– Да то! Думаешь, я не знаю про шашни твои? У меня Ирка с ней в одном подъезде живёт. Сто раз тебя видела. Город-то маленький. Пап, давай так, ты мне оплатишь поездку, а я маме ничего не скажу, так и быть.
– Чего ты маме не скажешь? – заходит на кухню жена. – Ну-ка говори быстро!
– Так, ладно. Вы тут пообщайтесь, а я пойду собаку выведу.
Я встаю из-за стола, так и не притронувшись к яичнице. Ничего, съем на улице что-нибудь.
– Ну пап! Ну пожалуйста!
– Бобби, гулять!
Он уже заглотил свою пайку и теперь готов покорять соседние дворы. Я прицепляю поводок, и мы выходим на улицу. Снег мохнатыми хлопьями заметает всю грязь и нечисть. Во валит, прямо как в хрустальном шаре… Вечер просто сказочный…
Я веду Боба в сквер неподалёку от дома, там Ашот делает зачётную шаурму. Жалко, не наливает только. Я беру куриную и спускаю Боба с поводка, пусть побегает. Он весело лает, дуреет от снега, хватает снежинки пастью. Как-то незаметно наступает вечер, становится темно. Я сгребаю с лавки снег и сажусь, впиваясь зубами в лаваш с мясом.
Как я докатился до всего этого… Как можно было так засрать свою жизнь, что единственная радость – это собака и шаурма? Где моя дорожка свернула не туда, что я оказался там, где сейчас нахожусь? Я качаю головой, вспоминая свои юные мечты и планы. Да, если бы я вдруг вернулся назад на жене своей точно бы не женился второй раз. Хотя, она ведь не всегда такой была. Может, это из-за меня она так изменилась?
Мои размышления прерывает собачий лай. Боб!
– Боб! Ко мне!
Куда там! Кошку он что ли увидел? Я бросаю шаурму и бегу за ним. Пожрать не судьба сегодня.
– Боб!
На дорогу, дурак, не беги!
– Боб!
Я выскакиваю вслед за ним на дорогу и вдруг всё теряет смысл. Вообще всё. Я вижу два ярких луча, приближающиеся ко мне слишком быстро, чтобы можно было среагировать. Маршрутка. Носятся, как угорелые, успеваю подумать я. Как угорелые… Бум! Брызги и темнота…
1. Парк советского периода
– Эй, парень, ты совсем что ли!
Чья-то крепкая рука дёргает меня за ворот и буквально срывает с дороги в тот самый момент, когда сигналя, скрипя и отдуваясь, там, где я только что стоял, тормозит старый грузовик, гружёный лесом. Раздаётся скрежет и шипение, несёт бензиновым перегаром и валят клубы пара и дыма.
Охренеть! Я даже поначалу не обращаю внимания на матерящегося водителя, глядя на лупатого зелёного монстра. Ничего себе, бегает до сих пор, да вон ещё груз какой прёт. Это ж «Колхида», чудо советского автопрома. Он в своё-то время выглядел, как инопланетянин, а сейчас вообще кажется невозможным и нереальным.
– Откуда такой раритет? – кричу я водителю.
А с голосом-то что? Сорвал что ли?
– Тебе жить надоело, олень, мля?! Я те щас рога поотшибаю, нах! – орёт он, высунувшись в окно и выдавая многоэтажную матерную тираду.
Водила выглядит подстать своему агрегату, будто их обоих перекинуло из прошлого. На нём фуфайка и солдатская шапка без кокарды. Морда у него красная, широкая и небритая.
– Проезжай давай, разорался тут! – кричит мой спаситель, и я поворачиваюсь, чтобы посмотреть на его.
Передо мной стоит парень лет тридцати пяти, в кожаной лётной куртке и лыжной шапочке. В детстве такие носили. Тёмно-зелёный орнамент, маленький помпончик на макушке. Чехословацкая, что ли. У нас в школе физрук в такой ходил. Выглядит, парняга как пугало, если честно.
– Ты чего на дорогу-то выскочил? – беззлобно спрашивает он. – Совсем ума нет?
– Да, чёт тупанул, ломанулся за собакой, даже мысли не было, что дорога. Собака убежала, вот я за ней и дёрнул.
– Тупанул? – переспрашивает он.
– Ага, затупил, даже не ёкнуло ничего. Спасибо тебе. Сейчас бы от этой «Колхиды» меня отскребали.
– Хм… А что за собака? Я тут не видал вроде.
– Да, стаффи, коричневый такой, шоколадный. Кошку, наверное погнал, дурак.
– Что за стаффи? – хмурится он. – Я что-то про такую породу даже не слыхал.
– Стаффордширский бультерьер. Видел «Большой куш»? Вот такая, как в фильме.
– Нет не видал и породу не знаю.
Куда уж тебе. Я машу рукой.
– Ладно, хрен с ним. Сам домой прибежит. Такое уж бывало пару раз. Я вон там живу, за тем домом, – показываю я рукой и… опаньки… – А где шаурмячечная? Не понял.
– Кто?
– Ашот, кто ещё! Охренеть! Я вот только что, пять минут назад шаурму брал. Чё за хня?
– Странный ты какой-то, пацан, – с сомнением смотрит на меня этот парняга. – Ты в какой школе учишься?
Чего? Блин, дебил какой-то…
– В школе милиции, мля. Ты чего гонишь-то?
Выглядит он, надо сказать ошарашенно, будто чудо чудное увидел.
– А почему не в форме тогда? – не унимается он.
Он что, прикалывается, я не пойму?
– Слышь, мужик, ладно. Давай, не хворай, пошёл я.
– Да подожди, – не сдаётся он. – Я просто подумал, может ты из шестьдесят второй, тут же рядом.
– Из какой ещё шестьдесят второй?
– Из школы, – пожимает он плечами.
– А может ты из этих, из голубков? – прищуриваюсь я.
– Чего? – хлопает он глазами.
Тьфу. Я поворачиваюсь и иду туда, где пять минут назад купил шаурму.
– Я просто физрук новый, буду там работать после каникул. Вот, подумал, что ты из наших, – увязывается он за мной.
– Из каких ещё ваших? Ты берега что ли попутал? Слышь, ты уверен, что тебе с детьми можно работать? Может тебе там проверку зарядить?
– Ты во-первых, поуважительней, не тыкай, а во-вторых…
– Давай-ка ты иди отсюда, пока я наряд не вызвал. Ты понял? Физрук, твою мать.
Он отстаёт. Городской сумасшедший. Дохрена их развелось что-то. Ладно, спасибо что спас. Я подхожу туда, где была точка Ашота и с удивлением осматриваю место. Никаких признаков того, что здесь стояла торговая палатка. Какого хрена!
Так, что происходит? Ну, допустим торговую точку ликвидировали. Но как так быстро? И почему следов нет? Типа уже снегом запорошило? Я удивлённо озираюсь. А это что за хрень на мне? Это что, куртка на меху? А что за брюки уродские?! Ботинки вообще ахтунг! Крокодилы. Так может это со мной что-то не так?
Я стою и, стараясь не подавать виду, верчу головой. Почему лавочки другие, где Ашот? И куда делись вывески с домов? Улица тонет в сумерках, нет ни гирлянд, ни названий магазинов, будто свет в районе вырубили. Я кручусь на месте, вообще не врубаясь в происходящее. А люди… Это что за одежда на них… Я разглядываю редких прохожих, будто выползших из далёкого совка.
Должно быть, выгляжу я довольно дико, потому что физрук, стоящий чуть в стороне и по-прежнему наблюдающий за мной, снова подходит ближе.
– У тебя точно всё нормально? – спрашивает он и я чувствую в его голосе скрытую угрозу. – Что-то мне кажется, тебя наркологу надо показать. Нам на курсе рассказывали про такие ситуации.
Да что он прилепился ко мне? А может… а может, это он? Может это он всё подстроил? Нет, одному такое не под силу. Это какой-то проект, развлекательное шоу! Точно! Назад в СССР! Бляха, похоже, да. Только мне ваше шоу в хэ не упёрлось. Вот же сучонок приставучий. Ну ладно, я тебя сейчас на раз-два расколю, мля. Не знаешь на кого нарвался.
– Слышь, парень, – говорю я как можно более спокойно. – Ты меня наркологом не пугай, я подполковник МВД, понял?
Ага, видать дошло, на кого наехал. Глаза у него становятся круглыми, по пятаку.
– Да ладно, ты не парься я вас сразу раскусил, это типа как в кино, да? Как там оно называлось, «Парк советского периода», что ли? Где тут у вас съёмочная группа, скрытая камера ваша, а? Неплохо придумали, шельмецы. А собаку тоже вы приманили? Ну, блин, артисты. А как вы меня переодели-то? В шаурму что ль снотворного сыпанули? Не загипнотизировали же? Чего смотришь? Выкупил я тебя, физрук.
– А ну-ка, – решительно говорит он и хватает меня за руку. – Пойдём со мной.
– Эй-эй, ты поаккуратней, так и огрести можно. Руки-то убери, сказал, артист хренов.
Но он и не думает, уверенно тянет меня из сквера.
– Сейчас милиция с тобой разберётся, кто ты и чего ты наглотался.
– Э, слышь, ты остынь, говорю.
Я резко останавливаюсь и дёргаю руку. Но физрук, похоже, только с виду дохлый. Вцепился как бульдог. Он делает шаг назад и пытается заломить мне руку. Фигасе! Да ты братец натурально попутал. Я в один миг выкручиваюсь и теперь уже сам ломаю ему руку. Ну, в один миг это преувеличение. Делаю я это совсем не так технично, как следовало бы. Видать месяц, что я не ходил на тренировки, в моём возрасте уже много. Форма совсем не та. И куртка эта ещё…
– Э, ты чё, пацан… – завывает от боли физрук, – ты ж руку мне сломаешь.
– Да, сломаю, сука, говори, мля, где съёмочная группа! Пацан… Какой я тебе пацан! Объясняй давай, что за подстава. Тихо сейчас, понял? Я тебя отпускаю, и ты спокойно мне всё рассказываешь. Ты меня понял, физрук-на?
Тот в ответ часто кивает, вроде как нормально вкуривает, но как только я ослабляю хватку, он буквально отскакивает в сторону и тут же даёт дёру.
– Наркоман! – зло бросает он. – Я сейчас милицию вызову!
– Вызывай, – говорю я и машу на него рукой, как на нечто совершенно бесполезное.
Толку с него не будет, это уже ясно. Ладно, попробую сам разобраться. Сыщик я или кто? Надо пройтись немного, осмотреться. Ну-ка, пойду в «Трэвел Клаб» загляну. Я перехожу через дорогу и иду к кафешке, она вон там, за углом.
Заворачиваю за угол и… охренеть. Нет, ну надо же, а натурально как… Блин, да как они это сделали! Там, где сейчас находится кафе «Трэвел Клаб», раньше был хлебный магазин. Ну как раньше, прям прилично раньше, когда я ещё в школу ходил. Мы с бабушкой сюда приезжали иногда за тортом.
Потом, после перестройки там чего только не было, и «Хопёр-Инвест», и пивная, и банк, а сейчас кафешка с классными пирожными. Мы сюда с дочкой раньше ходили… Пока она не превратилась… ну неважно.
Короче, это отвал башки. Может у меня крыша поехала? Как такое возможно? Ведь всё прям один в один и вон надпись процарапана «Секс Пиздолс», по-русски, через букву «з». Мы тогда и не слышали их сроду, но знали, что есть такие. Панки. У Лёхи Васина плакат был, брат привёз из Польши.
Я останавливаюсь напротив тусклой витрины, оформленной в стиле семидесятых, хлеборобы, трактора, снопы пшеницы. Хлеб – наше богатство. Ага, точно. Засовываю руки в карманы куртки. В правом что-то есть, какая-то бумажка. Ух-ты! Чирик что ли? Красненькая. Ничего себе, целое состояние…
Ну ладно, раз такое дело, зайду. Посмотрим, чем торгуют. Если я сплю, вкус не почувствую. А если почувствую, значит аттракцион, розыгрыш.
Я захожу внутрь и вдыхаю тёплый запах. Такое подделать невозможно. Как в детство попал. Немножко деревенский аромат свежего хлеба. Почему-то сейчас в булочных так не пахнет. И выбор сейчас намного больше, и хлеб вкусный, не то, что те белые кирпичи «Пшеничного» за двадцать вроде копеек, а запаха такого нет…
Кстати, про белый кирпич. Если он свежий, горячий, корочка была очень вкусной, хрустящей. Пока несёшь до дома всю сгрызёшь, но вообще-то хлеб был так себе, сероватый, с кислинкой, будто и не из пшеницы. А вот сайка или плетёная хала, да ещё и с молочком, эх… счастье. Ну посмотрим, что тут нам приготовили организаторы «игры в кальмара».
Глаза разбегаются и хочется попробовать всего. Я решаю взять коржик, бублик, плетёнку, пирожное «картошка» за двадцать две копейки, и кулёк ирисок «Кис-Кис». Деньжата имеются.
Это, конечно, не московское изобилие, а сибирская аскетичная действительность, вернее прошлое, но всё равно отлично. Ещё пряников мятных, без глазури. Я сладкое, если честно, не так, чтобы очень, мне бы лучше чего покрепче, так что беру чисто в ознакомительных целях. Посмотрим, что тут к чему.
Продавщица взвешивает и пишет на клочке серой бумаги какие-то закорючки. Я подхожу к кассе и протягиваю шифровку.
– Рубль десять, – говорит кассирша.
– И пакет ещё, пробейте, пожалуйста, – говорю я, протягивая десятку.
– Чего? – спрашивает она с недовольным видом.
Глаза её из-под век, размалёванных яркими бирюзовыми тенями смотрят с недружелюбной насторожённостью. Большой, негнущийся от крахмала чепец, венчает голову, как корона. Толстые красные губы переспрашивают:
– Какой пакет?
– Обычный, барышня, хлеб сложить, – отвечаю я.
– Генерал, тебе пакет, – хохочет тётка в синем халате, приближаясь к кассе. – Люб, это он тебя клеит так. Понравилась видать. Барышня!
Неожиданно Люба, дородная, лет тридцати пяти, видавшая виды баба, тоже улыбается:
– Иди давай, булки ешь, нахалёнок. Пакет ему. Ишь ты…
Я подхожу к прилавку, подаю чек и передо мной появляется богатство моего советского детства. Блин, как это взять-то всё.
– На, держи, – вдруг слышу я за спиной, – барышня твоя привет шлёт.
Я оборачиваюсь и вижу весёлое лицо женщины в синем халате. Она протягивает мне старую и заскорузлую сетку-авоську. У нас дома с такими сроду никто не ходил, стрёмно было, но сейчас она оказывается очень кстати. Символ эпохи, мля.
– Спасибо, Любонька, век не забуду! – весело говорю я, чем вызываю смех всех присутствующих дам.
Я как Семён Семёныч Горбунков, пистолета только не хватает. Сетка-авоська, хлеб, пряники в бумажном кульке, свёрнутом продавщицей, ириски в таком же, но поменьше, коржик, бублик. Ещё бутылку молока с широким горлышком и крышечкой из фольги надо купить. Или треугольную пирамидку, правда пирамидки вечно мокрые были. Протекали пирамидки эти.
Как-то больно это всё натурально. Кто режиссёр шоу? Да и что за шоу такое? А может я в коме или в дурке и это всё мои грёзы? Ладно, разберёмся…
В этот момент по спине пробегает неприятный холодок. Я вдруг обращаю внимание на свои руки. Что это за тонкие пальцы с обкусанными ногтями? Я кладу авоську на прилавок, поднимаю руки, верчу их перед глазами и ничего понять не могу. Не мои руки. Какого хрена? Я наклоняюсь… И ноги не мои. Всё не моё! Нет, это явно не шоу. Точно не шоу. И подсыпали мне не снотворного. Точняк.
Кто? Ашот, ясен пень. Вот сука! Но он не сам, сто процентов не сам. Заставили. Да, у него глаза бегали. Чего подсыпали? Кислоты? А кому это надо? И зачем? Чтобы что? Ну, Кудряшкин из налоговой рад был бы меня на тот свет отправить, но на такое не пошёл бы… Кравец грозил, но он закрыт уже… Так, думай-думай…
Кому надо меня в трип отправлять? Передоза явно не будет… А может, потому что не доел шаурму? Значит меня Боб спас… Блин! Это Трегубов, сука, точно он! Больше некому. Хочет меня скомпрометировать, типа Добров же наркоман, вы сами посмотрите! А ещё и с Женькой Суриковым обделался! Однозначно. Вот же ты гнида!
Так, надо срочно домой бежать, пока не накрыли.
– Эй, парень, ты куда?! – несётся мне в спину, но я выскакиваю из магазина.
Быстренько домой, пока не сцапали. Ну, Трегубов, готовься, сука! Материалы на тебя завтра же пойдут! Я быстро осматриваюсь и замечаю пацана лет четырнадцати. Он смотрит на меня не отрывая глаз. На нём драповое пальто с чужого плеча, а на голове куцая кроличья шапка.
Интересно, это глюк или он реальный?
– Ты заколёб, чушок, ждать тебя. Принёс? – зло выпаливает он.
Нормальный разговорчик. Я внимательно всматриваюсь в этого мальчишку. Из-под шапки выбиваются соломенные волосы, чумазое лицо, глаза серые, но в них такая злоба, мне аж не по себе становится.
– Ты чир принёс? – продолжает он.
– Какой чир?
– Ты чё, щегол, – тихо говорит он и делает шаг ко мне. – Ты борзой или на голову слабый? Давай сюда червонец. Тебе Каха глаз на жопу натянет и моргать заставит.
Очень хочется отвесить ему поджопник, но меня, возможно уже ведут. «Полицейский в состоянии наркотического опьянения избил подростка». Отличный заголовок, правда?
Я ничего не отвечаю и прохожу мимо паренька. Тут явная подстава.
– Кабздец тебе, понял? – бросает он мне вслед.
Блин, я даже не уверен, есть ли он на самом деле или это меня так штырит. Странно, но никакого головокружения или ещё чего-то такого я не чувствую. Ладно. Скорей домой, там уж разбираться буду.
Я проношусь мимо кукольного театра. Металлического декора, всех этих чиполлин и вишенок на театре нет. Странно. Ай, ладно. Может реконструкцию затеяли. Проскочу мимо гаражей, чтобы путь сократить. Во дворе стоит старый «Москвичок», «копейка» и «Рафик». Блин-блин-блин, кончится это или нет?
Ныряю в длинный гаражный ряд. Здесь проезда нет и горлышко заужено, выезжают и заезжают с другой стороны. Я заворачиваю за железную будку и двигаю дальше. От снега и огней светло, почти как днём. Вдруг слышу за собой торопливые шаги. Сука, наркоконтроль уже? Осёл! Я же карманы не все проверил! Наверняка дурь подкинули.
– Слышь-слышь, пацан, подожди. Ты куда торопишься? – раздаётся голос.
Меня обгоняет щуплый парнишка лет шестнадцати и преграждает дорогу. На нём несуразная куртка и спортивная шапка-петушок. Что за республика ШКИД? За ним подходят ещё двое парней постарше. Все они явно не пионерского склада, да и возраста тоже. И с ними я вижу того мальчишку, что требовал от меня чирик.
– Не здороваешься. Не узнал что ли? – продолжает тот, что стоит передо мной. – Чё Трыне деньги не отдал? Передумал?
У него перебит нос, зуба не хватает, ухо сломано, глаза бегают. Прям реальный образ из глубин подсознания. Чуть преувеличенный даже.
– Да ты не ссы, чё ты. Красненькую отдашь и всё, считай в расчёте. Давай лучше сейчас, завтра уже на трёху дороже будет.
– Ну вы клоуны, конечно, – пытаюсь я говорить непринуждённо и даже улыбаюсь, – вы сбавьте обороты. Дышите глубже. Спутали вы меня с кем-то, ребятки, обознались видать.
Блин, ну что за хрень, что за наезд такой нелепый? Я их в принципе одной левой раскидаю за минуту. Или это тоже против меня вывернут?
– Чё за гнилой базар, я не понял? Чё смешного, а? – приступает он чуть ближе.
При этом он делает короткие ложные выпады, чуть дёргается в мою сторону, вроде как наносит удар, типа на испуг берёт. Детский сад, честное слово.
– Ты, чё, щегол, в отказ пошёл? Ты не всосал, чё те Каха заяснил? Ты кого клоуном назвал, а?
Имя Каха вдруг кажется знакомым, начинает в голове становиться объёмнее и яснее. Был такой хулиган во времена детства. Только он старше был, прям мужик взрослый. Сколотил группировку из малолеток, школьников дербанил, шапки с прохожих срывал, толкал дурь даже, вроде бы. Но могу ошибиться. Он и пивников тряс, мне кажется. Рэкет устроил. Только он точно старше был, а этот вон сам почти школьник, лет восемнадцать максимум. И Каха – это не имя, а кличка, от фамилии. Точно. Каховский.
Каха, тощий и высокий парняга с золотым зубом и маленьким шрамом под глазом, делает шаг ко мне, вставая справа от первого шныря. Шрам от ножа, похоже. Вокруг глаз тёмные круги, да и сами глаза тёмные, мутные, будто он обдолбанный. Он единственный из компании одет прилично, вернее даже вызывающе модно. На нём расстёгнутая дублёнка, длинный шарф, ондатровая шапка, остальные одеты гораздо проще, даже бедно.
– Хрусты где? – спрашивает он и вынимает руку из кармана куртки. – Где мой чир?
На его пальцах поблёскивают кольца кастета. Делириум расцветает новыми подробностями.
– Ты же Егор, да? – продолжает Каха. – Мы ж тебя знаем, спрашивали за тебя у людей серьёзных. Нормальный, говорят, пацан, не чухан. Или чухан, а? Ну а если ты нормальный пацан, чё ты жопой крутишь, как баба? Чё? Чё ты тянешь-то?
Он говорит это чуть наклонив голову и не глядя мне в глаза. И кастет поправляет, вроде как поигрывает.
– А ты Каховский, да? – спокойно так и всё ещё с усмешкой отвечаю я вопросом. – Мы тебя тоже знаем, спрашивали у людей серьёзных. Говорят, поедешь по этапу скоро.
– А ты чё, мусор? – вскидывает он голову и поднимает глаза, в которых вспыхивает злоба. – Мусорок? Стучишь легашам, да? Чё ты тянешь, а? Чё ты хочешь, мусор? Ты чушка, ты понял? Щегол-на. Я тебя урою-на! Чё ты тянешь?
Каждый вопрос он подкрепляет вопросительно-угрожающим кивком головы, подаваясь вперёд. И с каждым кивком подступает чуть ближе. Кажется, он сам себя пытается завести и разогнать.
Я оказываюсь прижатым к гаражу. Передо мной два юных отмороженных гопника, ещё один чуть в сторонке, а малолетнего Трыни почему-то нет, я не заметил, куда он делся. Старею, мля…
Вдруг зрачки Кахи едва заметно расширяются, и он дёргается вперёд, резко выбрасывая руку. Все мои чувства обостряются и я, как в замедленном фильме, вижу кулак, увенчанный блестящим, сияющим кастетом, мчащим ко мне по широкой дуге.
2. Я – не я
Я реагирую моментально. Левой отбиваю руку с кастетом а правой наношу короткий и сокрушительный удар в нос, и тут же локтем бью в лицо второго чувака. У него и так уже всё там переломано, хуже не будет.
Вообще-то удар получается совсем не сокрушительным. Слабый удар. Все мои удары слабые. Не пойму, что за хня. Похоже, чем-то меня всё-таки накачали. Реакция вроде бы острая, я всё контролирую, даже быстрее, чем обычно, а вот тело будто чужое, отвечает очень плохо. И больно вообще-то. Хрень какая-то…
Нужно потренироваться. Давай, иди сюда, малыш. Третий хулиган (смешное слово, да?) с криком бросается на меня, как бык на красную тряпку. Вот дебил. Я спокойно делаю шаг в сторону и направляю его прямо в железную дверь гаража.
Вечерний звон! Бом! А Каха-то уже на ногах. Он слегка пошатывается и трясёт головой. Шапка валяется в снегу, а из носа тянутся две тонкие струйки. Да ладно, чего ты изображаешь убитого бойца? Я же кое-как тебе врезал. Поднимается и щербатый, сплёвывая в снег густую красную жижу. Из его носа тоже текут два тёмных ручейка. Ну извини, старик, ты сам виноват.
В руке его блестит длинная финка. Ого, ставки повышаются. Он делает выпад, я выгибаюсь, отшатываюсь и лечу прямёхонько под удар Кахи. Он пытается догнать меня левой, но я умудряюсь согнуться, и его кулак проносится надо мной, зато я бью его под дых, вкладывая всю свою ярость.
С учётом моего нынешнего состояния получается несмертельно. Впрочем, дублёнка расстёгнута, так что в принципе нормально получается. Каха складывается пополам и как рыба хватает ртом воздух, а его подручный, тем временем, снова пытается дотянуться до меня своим жалом.
Ну, уж это вряд ли. Не с тем ты связался, засранец. Я ставлю элементарный блок, делаю шаг навстречу и захватываю его руку, дёргая на себя. Получается криво, но, всё равно, он теряет равновесие и летит в мои дружеские объятия. Я резко разворачиваю его, крутанув за голову, подсекаю и выламываю руку, с удовлетворением слыша хруст и дикий вопль.
А не надо с острыми предметами играть, небезопасно это. Каха налитыми кровью глазами осматривает поле боя. Он ещё не начал дышать нормально и всё ещё крючится от боли. Неженка. Ну что, вопрос исчерпан или ещё есть, что обсудить? Смотри, какой упёртый. Ещё что ли желаешь?
Он широко размахивается, желая вложить в удар всю свою силушку, но я не собираюсь дожидаться результата и бью снизу в подбородок. Ххек. Коротко и ясно. Клацают зубы и Каха красиво падает назад, впечатываясь затылком в ледяную корку, а я вою от боли. Руке, по ходу, трындец.
В этот момент надо мной мелькает тень. Это ещё что?! Я резко оборачиваюсь и замечаю Трыню, стоящего на крыше гаража и посылающего мне в голову кирпич. Прежде чем отключиться я успеваю подставить руку, защищая голову…
Или не успеваю…
Следующее, что я вижу – это белизна, белая ровная поверхность. Потолок, догадываюсь я… Во рту сухо и горько. Голова раскалывается. Вот же сучонок… Кирпичом! Ну, попадёшься ты мне, Трыня…
Так, похоже, всё произошедшее мне не привиделось. И ясно, что это никакая не игра. А что тогда? Какого хрена здесь происходит?
Дотрагиваюсь до лба рукой. Бинт. Ну да, понятно… На локтевом сгибе, с внутренней стороны что-то мешает, колет. Капельница. Медленно поворачиваю голову. Больно, но не смертельно, терпеть можно. Стена, покрашенная бежевой масляной краской. Сельская что ли больница?
Лежу какое-то время глядя в стену, а потом потихонечку поворачиваю голову в другую сторону и вижу мужика в трусах и майке, сидящего на кровати в полутора метрах от меня. Он смотрит в упор, перехватывая мой взгляд.
– Жив, курилка? – спрашивает он хриплым скрипучим голосом. – Очухался?
Я не спешу отвечать, внимательно его рассматривая. Сухой, жилистый, лет сорока, с суровым лицом и синими от татуировок плечами. На груди тоже имеются, звёзды что ли? Не понятно пока… Рука загипсована и висит на перевязи.
– Вроде того, – пытаюсь сказать я, едва ворочая языком.
– Ну-ну, – хмыкает он. – Мамаша твоя больно убивалась.
– Это вряд ли, – мычу я.
Водички бы, хоть глоточек… Я откидываю одеяло, с большим трудом приподнимаюсь и медленно сажусь на кровати, спуская ноги. Ядрён батон. Сотряс по ходу. Мужик прям мысли читает. Встаёт, подходит к тумбочке и наливает в гранёный стакан воды из графина.
Фактурка киношная, совок, как он есть. И что об этом всём думать-то? Я жадно пью. Спасибо, добрый человек. Отдаю стакан и слегка киваю. Это я зря. В голову будто гвоздь раскалённый вгоняют.
– Что, болит? – хрипит он, как киношный мафиози.
– Есть маленько, – отвечаю я уже более членораздельно, а сам не могу отвести взгляд от своих коленей.
Какого хрена?! Ничего не закончилось, не вернулось на место, не нормализовалось. Это не мои ноги, вообще не мои! Тощие, голые, как у мальчишки… или даже девчонки. У меня крыша съехала, видать, капитально. Шиза в натуре.
– А мамка-то твоя хорошая, все глаза выплакала над тобой, пока ты тут в грёзах пребывал. Точно тебе говорю.
– Умерла она, – машинально отвечаю я, – давно уже…
Мужик только крякает.
– Где туалет, дядя? – спрашиваю я, поднимая глаза.
– Так вон утку тебе принесли. Ссы здесь типа.
– Не, в туалет пойду.
– Смотри-ка, герой. Жопа с дырой. В тебя ж вон трубку воткнули. С капельницей попрёшься?
Я протягиваю руку к тумбочке и беру моточек бинта, лежащий на металлическом поддончике, отматываю, отрываю кусок, сворачивая тампон и, выдернув толстую иглу, прилепленную пластырем, с силой его прижимаю и сгибаю руку в локте. Блин, больно…
– А ты прям Джеймс Бонд. Слыхал про такого?
Я не отвечаю и медленно встаю, держась за железную спинку кровати. Голова немного кружится. Ничего, не смертельно. Не впервой… Делаю пару шагов. Норм, идти можно, не упаду.
– Где? – снова спрашиваю я.
– Из палаты налево и до конца по коридору. Недалеко тут. Ты это, халат вон накинь.
Я беру наброшенный на спинку кровати застиранный байковый халат блёкло-коричневого цвета и накидываю на плечи. Идти действительно недалеко. В коридоре оказывается пусто, если не считать больного в таком же халате в противоположном конце. Я медленно бреду вдоль стены, покрашенной масляной краской. Пахнет больницей и хлоркой. Это уже из туалета. Хоть бы было зеркало, иначе и идти не стоило.
Есть. Над умывальником. Оно маленькое и мутное, но мне хватит. Я подхожу, стараясь пока не смотреть в него. Останавливаюсь, опираясь о раковину и только потом медленно поднимаю взгляд.
Замотанная бинтом голова, чёрные круги под глазами и бледная, аж зелёная кожа. Но даже несмотря на всю эту «маскировку», мне совершенно ясно, лицо не моё… Ошибки нет, это не я. Из зеркала на меня смотрит мальчишка лет семнадцати, и я никогда его раньше не видел. Приехали…
Твою ж мать…
Это вообще как понимать?! Может, я в дурке? Но у мужика вроде рука сломана, и на шизика он не похож… Надо думать, шизик здесь не он, а я… Понаблюдав несколько минут за своим отражением, отхожу в сторону. Рожа моя не возвращается, как не три глаза, и лучше не становится. Срань…
Подхожу к унитазу. Мля. Прибор не мой и надо его рукой доставать… Ай плевать, рука тоже не моя…
Выхожу из туалета и медленно иду обратно, к своей палате. Прохожу половину пути, когда до меня доносится крик.
– Брагин! Что ты вытворяешь! Немедленно в постель!
Ну Брагин да и Брагин, я-то здесь причём? Иду себе дальше. Но вид медсестры, летящей ко мне и её не то перепуганное, не то разъярённое лицо, даёт понять, что именно я как раз и причём. Я останавливаюсь и на всякий случай оборачиваюсь, чтобы убедиться, что за моей спиной не спрятался какой-нибудь Брагин.
Но в длинном коридоре сейчас я единственный пациент.
– Ну вот видите, у него точно голова не в порядке, – сердито произносит она, оборачиваясь назад. – Говорю же вам, не время ещё его допрашивать.
– Ничего, я попробую, – отвечает ей капитан в милицейской (в милицейской, Карл!) форме, едва поспевающий следом за ней.
– Ну-ка, давайте его под руки возьмём! – приказывает медсестра.
И они действительно подхватывают меня под руки и тащат в палату. Значит Брагин – это я. Любопытная хрень здесь происходит.
– Скажите, – говорю я, – а мне какие обезболивающие дают? Может, это от них?
– Вот я скажу главврачу, что ты творишь, он тебе пропишет обезболивающие! – сердито отвечает медсестра. – Такие, что неделю спать будешь, не просыпаясь. Смотрите на него, герой! На улице хулиганит и в больнице решил отличиться. Орёл!
Меня укладывают в постель и медсестра снова вводит мне иглу в вену. А ничего так. Сестричка, в смысле. Лет двадцать пять, наверное, девчонка ещё. Волосы рыжие, конопушки на носу и скулах, голубые глаза и пухленькие губки. Она от усердия прикусывает нижнюю, занимаясь капельницей.
Эх, где мои семнадцать лет! Так вообще-то вот они… Как раз семнадцать и есть наверное. Сестра возится, склонившись надо мной, а я беззастенчиво разглядываю сочные округлости, рвущиеся из выреза её халата.
– А вас как зовут? – спрашиваю я.
– Татьяна Михайловна, – отвечает она и выпрямляется. – Так, всё. Готово. Больше чтобы не вставал. Ясно?
– А если в туалет?
– Вон судно под кроватью.
– Так я сам не справлюсь.
– Справишься, коль припрёт, – строго бросает она. – Товарищ милиционер, сами видите, малость не в уме хулиган ваш. Так что давайте, максимально десять минут, а то с меня доктор шкуру спустит.
Хулиган? А вот тут поподробнее, пожалуйста. Они мне что, превышение необходимых мер обороны хотят предложить? Ага, сейчас прям.
Конопатая Татьяна Михайловна выходит из палаты, талантливо крутя задом, так что все трое присутствующих мужиков по достоинству оценивают её мастерство.
– Товарищ, – обращается мент к моему соседу по палате, – вы бы не могли нас оставить на десять минут?
– Извиняй, командир, – хрипит тот в ответ, – слыхал, что Татьяна Михайловна сказала? Нельзя нам, на режиме мы. Ты если что поможешь утку подержать, а то, чувствую, приспичит мне сейчас?
Стебётся мужик, сто процентов. У него ж вроде только рука сломана. Капитан ничего не отвечает и только губы поджимает. Он берёт фанерный стул на металлических ножках и, придвинув к моей кровати, опускается на него.
– Так, ну давай, несовершеннолетний преступник, поговорим.
У капитана уставшее несвежее лицо с неопрятными усами подковой и потухший взгляд. Он кряжистый, с большими руками, похожий на работягу.
– Какой я преступник? – недовольно реагирую я.
– Вот ты и расскажи. Давай по порядку. Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения.
Он достаёт из кожаного планшета лист бумаги и ручку. Чего ему сказать-то? Что я подполковник Добров? Почему-то мне кажется, что он не поверит.
– Говорить трудно, товарищ капитан, – отвечаю я, тяжело сглатывая. – Вы же и так знаете…
– Знаю-знаю, порядок такой. Ладно. Брагин Егор Андреевич, двадцать пятого января шестьдесят третьего. Так?
– Угу, – мычу я.
Надо запомнить. Только сейчас-то какой год?
– Вчера, семнадцатого декабря тысяча девятьсот семьдесят девятого года, в восемнадцать часов в гаражном массиве между улицами Весенняя и 50 лет Октября напал на гражданина Каховского Андрея Константиновича, нанёс ему телесные повреждения и отнял пятнадцать рублей.
– А чё не сто пятнадцать? – выдыхаю я. – Это что за новости?
– А так же нанёс телесные повреждения ещё двум несовершеннолетним гражданам, воспитанникам детского дома, между прочим. Подтверждаешь?
– Вы рожи-то этих граждан видели? – спрашиваю я. – Не кажется странным, что я один на четверых напал?
– На троих.
– Четвёртый с гаража кирпичом припечатал.
– Так подтверждаешь или нет, Брагин? Я тебе советую сейчас во всём признаться и вернуть деньги пострадавшему. На учёт в инспекцию по делам несовершеннолетних ты, считай по-любому встал. Но можешь и на малолетку загреметь. Сечёшь?
– И что надо сделать, чтоб не загреметь? – спрашиваю я.
Даже интересно, что за хренотень такая?
– Вернуть деньги, извиниться и написать чистосердечное. Больше ничего не могу посоветовать.
– Вообще-то, товарищ капитан, всё не так было, – говорю я спокойно. – Я шёл между гаражей, а ко мне подошёл ваш Каховский и трое его подельников. Потребовали десять рублей. Я отказался. Они на меня напали. Один из них пытался нанести удар холодным оружием, а самый мелкий убежал и залез на гараж. Я отбивался от троих, а тот, что убежал, кинул в меня кирпич с крыши. Как вам такая версия?
Капитан хмыкает и подождав пару секунд, говорит:
– Брагин, ты можешь, конечно настаивать на своей версии, но я тебе сразу говорю, во внимание её никто принимать не станет. Во-первых, ваш физрук сказал, что ты был не в себе, то ли пьяный то ли на наркотиках. А во-вторых, кто ты и кто Каховский? Сам-то подумай.
– Во-первых, вот он я. Берите кровь, делайте анализы на наркологию. Чего впустую воздух сотрясать? Во-вторых, и кто же такой этот ваш Каховский? Преступник, и уже не малолетний, между прочим. Так? Организатор группировки. Сейчас они школьников щиплют, а завтра будут шапки с людей срывать, а потом и дурью барыжить.
– Чего? – кривится милиционер. – Дурь – это то, что у тебя в голове.
– Вы кстати не представились и документ мне не показали, – продолжаю я.
– Грамотный больно? Ну и поедешь в колонию, раз грамотный. Там с такими, как ты знаешь что делают? Извинись перед Каховским и отделаешься лёгким испугом. С учёта тебя снимут после восемнадцатилетия. И всё, будешь чистый и свободный.
– Да кто такой этот ваш Каховский? – снова спрашиваю я.
– Сынок второго секретаря обкома, – отвечает мой сосед по палате. – Он с генералом милицейским вась-вась.
Ах, вот оно что… Ну, ясно всё с тобой, капитан.
– Так значит, чистый и свободный? – повторяю я, чувствуя, как к горлу подступает злость. – Да я таких, как ты, знаешь сколько повидал? У этих орлов детдомовских всё на рожах написано, вся история. Стопудово они у тебя на учёте стоят, тут и к бабке не ходи. А ты мне чё впариваешь? Агитируешь за советскую власть? Слышь, дяденька милиционер, а ты не оборотень в погонах? В третье управление КГБ давно заглядывал? Так я тебе могу помочь совесть очистить.
Капитан вскакивает.
– Ты, Брагин, за языком-то следи, – говорит он не то с недоумением, не то с испугом. – Я понимаю, ты головой ударился. Но оскорбление при исполнении…
– Выкормыш Щёлоковский, – цежу я сквозь зубы.
– А ну повтори!
– Иди, показалось тебе, – говорю я и отворачиваюсь к стене. Не хочу смотреть, как он изображает из себя большого и могучего начальника.
–Не ожидал от сопляка отпор получить? – посмеивается мой сосед. – Иди, капитан, иди. Парень по состоянию здоровья не может на вопросы отвечать, не помнит ничего. Потом придёшь, когда выздоровеет.
– Я тебя предупредил. Решай сам, Брагин, – зло говорит капитан. – Надеюсь, мозги у тебя на место встанут.
Он выходит хлопнув дверью так, что рифлёное стекло в ней ещё долго дребезжит.
– Слышь, Егор, – говорит сосед, – лихо ты его.
Я не отвечаю.
– Серьёзный ты, как я вижу. Я кстати Юрий Платонович. А ты вроде как Егор, так что ли?
– Похоже на то, Юрий Платонович, – поворачиваю я голову.
– Гляжу парень ты интересный, только не пойму зачем милиционеру всё рассказывать взялся. Им же вообще верить нельзя.
Я тяжело смотрю на него. Что за зверинец, честное слово! Один питомец лучше другого.
– А ты, Юрий Платоныч, человек авторитетный похоже.
– Ух, ты! Взгляд-то какой. Волчонок прям. Авторитет, сынок, годами зарабатывается, десятилетиями. Так что ты полегче на поворотах. Не с ментом базаришь.
– Понятно.
– Ну и хорошо, раз понятно. Я тебе вот что скажу. Собственные проблемы самому решать надо, а не на посторонних надеяться. Усёк?
Дедушка мой приговаривал: «Усёк, Васёк?». Интересно, если сейчас действительно восьмидесятый год, значит он живой ещё. И родители тоже. Хм, ну и дела… Или, если у меня крыша поехала, то я их не и узнаю сейчас? Или они теперь Брагины, а не Добровы?
– А олимпиада закончилась уже? – спрашиваю я.
Юрий Платонович довольно долго не отвечает, а потом говорит:
– Не похоже, что ты комедию ломаешь. Не помнишь что ли?
– Тут помню, тут не помню, – отвечаю я цитатой из «Джентльменов удачи».
– Ну-ну, – хмыкает сосед. – Остряк, значит. Не начиналась ещё. Летняя она. А Каха твой тоже здесь лежит. Через одну палату отсюда. Вот тебе и возможность всё урегулировать без ментов. Усёк, Васёк?
А вот это интересно. Неужели действительно нас в одно отделение положили? Ну а что, с другой стороны, подумаешь, пацаны подрались. Может им ещё охрану у палаты выставить?
– Охраны нет у палаты? – спрашиваю я.
Сосед хмыкает:
– Слышь, а может ты с Марса прилетел, малой? Или детективов начитался?
– Ну и хорошо, что нет. Это я так, на всякий случай. Пошли, дядя Юра, покажешь. Поговорю я с Кахой вашим.
– Не наш он, а твой. Но показать могу. Самому интересно посмотреть, что делать будешь. Но только не сейчас, после отбоя.
– После отбоя сестра спалит скорее. Тихо будет, каждый звук слышно, а сейчас смогу незаметно проскользнуть. Народ там же ходит по коридору.
– Ну пошли, коли не шутишь, – говорит он, поднимаясь с постели.
Я снова повторяю манипуляцию с бинтом, вытаскивая иглу, и встаю на ноги. Голова по-прежнему шумит, но боль постепенно отступает.
– Юрий Платоныч, постоишь на вассаре? – спрашиваю я.
– Ага, раскатал ты губу, я смотрю. Борзый, далеко пойдёшь…
– Если не остановят?
Он снова хмыкает.
Я выглядываю в коридор и вижу гораздо более оживлённую картинку, чем до этого. Несколько больных в халатах стоят у окна, санитар везёт каталку, слышны громкие голоса, наверное врачей. Сосед выходит и двигается в противоположную от туалета сторону.
Через одну дверь от нас он останавливается и наблюдает, как я ковыляю вдоль стеночки.
– Здесь, – показывает он на приоткрытую дверь.
Я резко её распахиваю и захожу внутрь. В палате всего один человек, я этого и ожидал. Каховский. Он узнаёт меня сразу и в его глазах загорается злой огонёк. Я несколько секунд ничего не говорю и молча его рассматриваю. Голова его замотана, как и у меня, морда синяя. Всё-таки неплохо я ему приложил.
– Здорово, Каха, – говорю я мрачно и делаю шаг в его сторону.
3. Где мои семнадцать лет?
– Чего хотел? – зло выплёвывает Каха и косится на Юрия Платоновича. – Извиняться публично придётся. И полтинник сверху положишь ещё. Ясно?
– Публично? Так вон я свидетеля привёл для публичности. Недостаточно тебе? – хмыкаю я.
– Пошёл на х**, – шипит он.
– Ого, а ты смелый, – качаю я головой. – И дерзкий. Может, ты Бэтмен, а?
– Я тебя… – хочет он сказать ещё что-то явно очень грубое, но такой возможности я ему не даю.
Мне надо вопрос закрыть быстро и эффективно. Тут и так не пойми что творится, не хватало ещё, чтобы инспектора по делам несовершеннолетних мне мозг выносили.
Я делаю быстрый рывок, стараясь не обращать внимания на резкую боль в голове, и ставлю колено на горло этому уроду, заодно прижимая его левую руку с подключённой к ней капельницей.
Каха хрипит, пытается отбиваться свободной правой рукой, но я её перехватываю и заламываю кисть. Если бы не сдавленное горло, он бы завыл на всю больницу.
– Слушай сюда, брателло, – говорю я спокойным, немного даже зловещим голосом. – Вот ту штуковину, на которую ты меня послал, я тебе отрежу. Вот этой самой рукой.
Я несколько раз поворачиваю перед его лицом свободную руку, с растопыренными пальцами опухшими после вчерашнего.
– Отрежу и забью тебе в глотку. Ты понимаешь, что я говорю? Мигни, если понимаешь.
Но он даже мигнуть сейчас не может. Я чуть ослабляю нажим.
– Адрес я твой знаю, – продолжаю я, – и батя твой тебя не спасёт. Улавливаешь суть? Может, он меня и прижмёт потом, может даже на малолетку отправит, только тебе уже всё равно будет. Ты понял? А теперь, если понял, зажмурь глаза. Если не понял, я повторю, не переживай, у меня времени пресс.
Глаза его, вмиг покрасневшие, налившиеся кровью, отчаянно зажмуриваются.
– Молодец, – подбадриваю я. – Заяву свою заберёшь, скажешь, перепутал всё, вот и написал ерунду какую-то. Помутнение разума. Короче, сам реши, что сказать, мне по барабану, но чтоб меня больше не дёргали. Всосал?
Каха снова бешено моргает.
– Красава.
Я выпускаю его руку и убираю колено. Он сразу хватается за горло и хрипло порывисто дышит. На локтевом сгибе виднеется кровоподтёк.
– Ладно, – говорю я примирительно. – Нормально поговорили в итоге. Ты не обижайся, ладно? Ты же не хочешь, чтоб тебя обиженным называли, правда же? Давай, выздоравливай поскорее. Я от чистого сердца, честно. Только это, в порядке компенсации, полтинник подготовь. До выписки, завтра значит. Оке?
Он хрипит и ничего не отвечает. Да я и не жду ответа, просто поворачиваюсь и выхожу из палаты.
– А ты резкий, – с удивлением говорит мой сосед, когда мы незамеченными возвращаемся к себе. – Что за жаргон только, не просёк я.
– Жаргон… – хмыкаю я. – Я, Юрий Платонович, человек будущего! Мне в обыденной действительности тесно, понимаешь? Даже лексически тесно. Тебе вот сколько лет?
– Ну, сорок, – говорит он вроде как бы с лёгким вызовом.
– Сорокет значит, а мне в душе полтос, прикинь? Да ещё и с хвостиком. Старик я. И, ещё прикинь, дядя Юра, я снова в совке. Вот он родной, милый сердцу совочек! Второй секретарь обкома говоришь? Плевать мне на него! Управа на любого найдётся. У нас самая справедливая страна в мире! Самая лучшая и самая сильная. Это я тебе со знанием дела вполне авторитетно заявляю! Сохранить бы её на века, вот бы круто было!
– Занятный ты кент, Егорка, – качает он головой. – Совок, говоришь? Это ты неплохо сказанул. И с оборотнем тоже красиво получилось. Нравишься ты мне, хоть и мутный ты кадр. Вот смотрю я на тебя и раскусить не могу, кто ж ты такой… По жизни, как говорят социально близкие элементы.
– Со мной-то, как раз, ясно всё. Мент я, дядя Юра, мент. А вот ты кто? Я чёт тоже не пойму. Всё боди в картинках, но на вора повадками не похож, хотя человек авторитетный, не скрываешь.
– Мент, говоришь? – игнорирует он мои вопросы. – Ну и как там в будущем твоём ментовском?
– Хреново в будущем моём. Власть денег, волчий оскал капитализма, союз развален, технологическое отставание, откаты, экономические преступления, зарплата дрянь, интриги, жена и дочь дуры. Достало всё, но дух не сломлен.
– Да ты политический, – хрипит он и начинает хохотать.
В этот момент заходит медсестра.
– Так, – произносит она строгим голосом, – это что у нас здесь за веселье? Брагин! Что опять с капельницей?!
– Танюш, – отвечаю я, обаятельно улыбаясь. – Повернулся во сне, и иголка выскочила.
– Какая я тебе Танюша! – грозно хмурится она. – Ну-ка! Руку сюда, живо!
– Ты только понежней, ладно? А то вон вся вена уже в дырках.
– Нет, вы гляньте на него! Понежней!
Она снова наклоняется надо мной выставляя свои пленительные прелести. Я разумеется, охотно ими любуюсь, пытаясь представить без покрова халата. Может я, конечно, и поехал умом, а всё происходящее вокруг меня лишь плод воображения, но натуральность и правдоподобность у этого плода просто потрясающие.
Тело моё, к примеру, моментально и очень остро реагирует на то, что подрагивает перед моими глазами. Реагирует так, как если бы мне действительно было семнадцать лет и в жилах текла не кровь, а чистый тестостерон.
– Ты куда пялишься?! – багровеет медсестра.
– Тань, ну ты просто прелесть, честное слово, – говорю я с отеческой интонацией и даже на мгновенье забываю, где и в каких обстоятельствах нахожусь. – Эх, было бы мне лет двадцать пять сейчас…
Я мечтательно закрываю глаза, имея в виду, что был бы я помоложе…
– Будет когда-нибудь, если доживёшь, – отвечает она, будто бы даже смягчаясь. – Но если ещё раз иголку вытащишь, и до завтрашнего дня не дотянешь. Понял меня? Я своими руками тебя задушу.
Я улыбаюсь. Кажется, в моём сумасшествии есть и приятные моменты.
– Только ради этого стоило бы рискнуть. Тань, а у тебя парень есть? – спрашиваю я, чем заставляю её расхохотаться. – Если что, я пока совершенно свободен.
– Ну, Брагин, – говорит она отсмеявшись, – а ты, я смотрю, тот ещё гусь. Там к тебе мать пришла. С врачом сейчас разговаривает. Вот я ей скажу, какой ты больной.
Валяй, говори, мать эта не моя явно, ну да ладно, посмотрим. Медсестра убегает, а Платоныч качает головой:
– Балагур ты, Егор. Но вот что я тебе скажу. Не знаю, что там у тебя с матерью произошло, но я её видел, переживает она за тебя. Сильно переживает. Ты ещё молод, не знаешь, что к чему, но мне поверь, над матерью куражиться – это последнее дело. Так что ты смотри, будь мужчиной, а не обидчивым мальчиком. Понял меня?
Я ничего не отвечаю, а только пристально смотрю ему в глаза. Кто ж он такой, Платоныч этот? На урку не похож, но и на обычного работягу тоже… Ладно, это мы выясним… Попозже.
В палату входит женщина чуть моложе сорока. Миловидная, подтянутая, можно даже сказать красивая. Я бы на такую клюнул. В моём вкусе, чем-то на Жанку мою похожа. Нет, это я так, чисто к слову, безо всякого подтекста. В общем, дама выглядит хорошо. Косметики минимум, кожа чистая, гладкая. Взгляд вот только печальный, прям горе в глазах.
– Егорушка, – говорит она и из глаз её выкатываются слёзы. – Ты как, сынок? Как себя чувствуешь?
Я немного подвисаю. Как-то язык не поворачивается её матерью назвать. Бросаю взгляд на соседа. Он выразительно поднимает брови, типа, ну, чего молчишь, и буравит взглядом так, будто в прицел на меня смотрит.
– Да всё хорошо… мам… ты не волнуйся, – наконец говорю я и неестественно улыбаюсь. – Я даже вставал уже. Мне правда от медсестры влетело, но она тебе уж нажаловалась, наверное.
Мама смахивает с ресниц слёзы, ставит на стул самошитую хозяйственную сумку из плащёвки и садится ко мне на кровать. Она с тревогой смотрит на меня, а я смотрю на сумку. У меня бабушка такие шила. Вот прямо точь-в-точь.
Мама истолковывает мой взгляд по-своему и спохватившись говорит:
– Я тебе передачку принесла.
Она снова встаёт и вытаскивает китайский термос, голубой с крупными розами и алюминиевой кружечкой вместо крышки. У нас дома такой был. Один-в-один… А ещё она достаёт три некрупных апельсина. Я замечаю на них наклейки в виде маленьких чёрных ромбиков. Марокко.
– В термосе бульон куриный и апельсины вот, к новому году выбросили. Завтра мандаринчики тебе принесу. Хочешь?
Честно говоря, меня малость подташнивает, так что бульон я точно не хочу, а вот апельсин можно попытаться…
– Мам, да ты не переживай, здесь знаешь как кормят хорошо, – вру я, даже и не зная, что здесь на самом деле дают.
– Манкой на воде? – спрашивает мама. – Можно подумать я не знаю, что здесь за еда. Тебе поправляться надо, хоть скоро и каникулы, но пролетят не заметишь как. Надо будет в школу, а ты вон…
И она начинает плакать. О, нет! Только не женские слёзы! Сразу жену вспомнил, которая чуть что сразу в рёв. Но тут другое дело, и хоть сердце моё давно загрубело, слёзы матери способны растопить даже его. Сыновьих чувств я к ней не испытываю, но сочувствие мне совсем не чуждо, особенно если вспомнить мою собственную маму.
– Мам, послушай, не надо плакать. У меня может и не сотряс даже. Невропатолог ещё не смотрел. А капельница… это физраствор всего-навсего. Его всем льют, вон и Юрию Платоновичу тоже ставили, а у него видишь, голова в порядке. Знакомься, кстати.
– Здравствуйте, – чуть кивает мама в его сторону. – Анна Никифоровна.
– Большак Юрий Платонович, – мгновенно отзывается тот. – Очень приятно. Хороший парень у вас. Боевой.
Мама кивает и ещё сильнее заливается слезами.
– Мам, если ты из-за милиции, то не бери в голову. Это недоразумение. Ко мне капитан приходил. Перепутали они чего-то, я же защищался. Это на меня хулиганы напали. Не я на них. Вон, у Юрия спроси Платоновича.
Мама с надеждой смотрит на него, а тот крякает и кивает, да мол, так и есть…
– Вы сами слышали? – спрашивает она.
– Да-да, – говорит сосед неохотно, – слышал что-то такое…
Когда мама уходит он сердито выговаривает мне за подставу, а я скармливаю ему бульон. Сам не хочу. А вот апельсин действительно нормально заходит и мне даже как-то лучше становится.
Невропатолог после осмотра сообщает, что жить буду, сотряс есть, но относительно лёгкий, всё-таки руку я успел подставить по ходу. А вот шапка слетела наверное, если судить по заштопанной ране. Ну, как бы там ни было, могло быть намного хуже. Говорит, дней через пять можно будет выписываться, а через пару недель идти в школу. Ну, или на нары, как там закрутится.
И хоть этот мир прекрасного прошлого всё ещё представляется мне вымышленным, думаю, свыкаться с ним гораздо приятнее в условиях домашнего уюта, чем в казённом доме да ещё и с отмороженными малолетками.
Невропатолог ставит мне ретроградную амнезию. Это даже неплохо в моём нынешнем положении. Вопросы о прошлом Егора Брагина я старательно обхожу, но врач попадается въедливый и быстро выводит меня на чистую воду. В принципе, теперь есть железная отмазка, почему я не помню одноклассников и закон Ома.
Мне ставят капельницы и дают таблетки. Анальгин, диуретики, ноотропные типа пирацетама, седативные, витамины… Короче целый букет. «Букет Абхазии», – говорит Платоныч. Он, как выяснилось, здесь не только из-за руки. У него что-то с позвоночником. Сам он об этом особо не распространяется, ну я и не пристаю.
Сплю от лекарств целыми днями. Не бунтую, употребляю, всё что дают. Восстанавливаюсь, короче. За два дня до выписки просыпаюсь ночью, чтобы идти в туалет, из-за мочегонных это уже норма. Ходить мне больше не запрещают, повязки на обритой под ноль голове уже нет, но швы ещё не сняли.
Выхожу в коридор и иду себе налево по коридору. Делаю дело и возвращаюсь. Сегодня ночью дежурит Таня. Она сидит на посту за своим столом в другом конце коридора. Лампа на столе включена, а сама она, похоже, спит. Голова лежит на руках.
Я решаю подойти и вдруг вижу, что плечи её дрожат. Она что, плачет?
– Танюша, – зову я её тихонько.
Она быстро поднимает голову и, бросив на меня короткий взгляд, отворачивается.
– Брагин, – говорит она, – ты чего здесь шатаешься?
– Танечка, ты чего? Что случилось у тебя?
– Иди отсюда, – бросает она и жалобно всхлипывает. – Ходите-ходите… Одного только и надо. Кобели…
И она вдруг начинает горько плакать, снова уронив голову на руки.
– Танюша, ну что ты… Ну, не надо…
Я в таких случаях теряюсь всегда, совершенно не представляя, что тут можно сказать. Повторяю только «Танюша» да «Танюша» и глажу по спине. А потом наклоняюсь, приобнимаю и целую в макушку, зарывшись в её душистые золотые кудри.
– Тань, да он ногтя на твоём мизинце не стоит, а ты плачешь из-за этого ничтожества.
Она поднимает заплаканное лицо и внимательно смотрит на меня.
– Откуда ты знаешь? – жалобно спрашивает она.
– Да такая как ты раз в тысячу лет рождается. Он тебя на руках носить должен, пылинки сдувать, а не бегать за чужими юбками.
Она вдруг быстро притягивает меня к себе и крепко целует. Ого! Ничего себе!
– Пойдём! – восклицает она, резко вставая из-за стола.
Хватает меня за руку и тянет за собой. Она затаскивает меня в рентген-кабинет и запирает дверь.
– Иди… Иди сюда, – произносит она хриплым шёпотом, расстёгивая пуговицы на халате.
Ох, Таня, да ты огонь просто…
Действительно огонь. Дикая и необузданная. Кровь с молоком! А как я всё ощущаю! Такой яркости, такого пожара я уж лет тридцать не испытывал. Я чувствую себя как Джек Николсон в том фильме, где он в волка превращается. У него все чувства обостряются, как у дикого животного.
Вот так и я сейчас… будто зверь, неистовый и неутомимый. Где мои семнадцать лет? Кто там спрашивал? Вот они! Бери и живи! Живи заново, Брагин! Да хоть горшком назови, только дай ещё раз почувствовать энергию молодости! Просто восторг!
Может, ну её на хрен мою старую жизнь со всеми её неудачами и факапами? Всю ту безысходность, мерзкий коньяк и шаурму? Мне бы только Боба моего сюда… Вот, по кому я скучаю… Как ты там, Бобик, с этими глупыми овечками?
Мы выходим из рентген-кабинета под утро. Таня больше не плачет. Она выглядит, как пионервожатая, правда взгляд у неё немного виноватый.
– Егор, – говорит она негромко. – Ты это, забудь, понял? Не было ничего. Приснилось тебе.
– Что ты! – жарко шепчу я. – Да это же лучшее, что было в моей жизни! Такое я точно никогда не забуду. Танюш, я чего только не видал за свой век. Баб, как на духу скажу, каких только не было у меня. Но таких, как ты я не встречал. Да и не встречу никогда. Это ж ясно.
– Дурачок ты, – смеётся она, легко толкая кулачком меня в лоб. – Иди давай, дамский угодник…
Я повинуюсь, но сделав несколько шагов, поворачиваюсь и, соединив указательные и большие пальцы в виде сердца, прикладываю их к груди.
– Я сегодня снова в ночь буду, – хитро улыбается Таня.
Я киваю и иду к себе, но она меня окликает:
– Ой, Брагин, я забыла, тебе письмо тут.
– Письмо? – удивляюсь я.
– Ага, конверт. Тебе велели передать.
– Надо же, а кто?
– Не знаю, мужик какой-то, серьёзный такой, – объясняет она. – Вечером приходил.
– А чего же не отдала? Вдруг это с биржи срочные новости?
– Да иди ты, биржа. Скажи спасибо, что сейчас отдаю.
– Спасибо.
Я беру письмо и иду в палату.
– Ты где пропадал? – спрашивает Платоныч с лёгкой тревогой.
– Да, – машу я рукой.
– Чего «да»? Где был, спрашиваю?
– Блин. С сестричкой болтал.
– Неужели? А на посту-то её не было.
– Ну… мы там… – уклончиво мычу я.
– Ох, и жучара ты, Егорка. Неужели ты правда десятиклассник? «Блин» ещё какой-то придумал. Чего принёс-то?
Я открываю конверт, подписанный карандашом: «Брагину». Достаю из него новогоднюю открытку и нахожу вложенные в неё пять красненьких десяток. Ого!
– Смотри-ка, известие о перемирии, – восклицает Платоныч.
– Думаете, это не мир, а только перемирие?
– Ну а ты бы на его месте успокоился?
– Да у меня психология другая. Я в такой ситуации просто не смог бы оказаться. Я же не шпана, а нормальный советский школьник. Комсомолец, наверное. Только я не помню, у меня посттравматическая амнезия.
– Нормальный советский школьник про совок и слыхом не слыхивал.
– Не знаю, о чём это вы, – криво усмехаюсь я.
– Знаешь или нет, но ухо востро держи. Каховский на тебя зуб теперь имеет. Не сомневайся. При любом удобном случае попытается отомстить.
– Ну, не грохнет же, – беспечно отвечаю я, хотя и сам знаю, что всё сказанное Платонычем чистая правда.
– Надеюсь, – чуть дёргает он головой.
– Слушайте, Юрий Платонович, примите от меня, как знак внимания и дань уважения вот эту десятирублёвую бумажку с дедушкой Лениным.
– А ты, я гляжу, матёрый мафиози. Но, чтобы успеха достичь не жадничай, – назидательно говорит он.
– Блин, ну ладно, берите две. Вы же не на шухере стояли, а арбитром были. Это, наверное, дороже стоит.
– Оставь себе и вот тебе мой совет. Про то, как ты с Каховским обошёлся никому не говори. И сам забудь. Про то, что я там был тоже забудь. Понял?
– Да я уж и не помню, о чём это вы, – демонстрируя покладистость, соглашаюсь я.
– Ну и молодец. Вот тебе, кстати, мой адресок и телефончик. Как выздоровеешь, загляни ко мне.
Он протягивает мне листок бумаги в клеточку.
– Загляну, – обещаю я.
Через два дня меня выписывают. И хоть я чувствую себя вполне сносно, за мной приходит мама. Довольно молодая ещё женщина, по крайней мере, моложе меня, и довольно привлекательная. Ну что же, мама так мама. Хорошо, что пришла, адрес-то я свой домашний не знаю. Амнезия как-никак.
– Нам, конечно, не далеко, но я у начальника выпросила машину, чтобы прямо к дому подъехать. И сегодня на работу уже не пойду. Пятница, к тому же…
Мы садимся в двадцать первую «Волгу». Ничего себе, разве такие ещё есть на предприятиях в восьмидесятом-то году? В детстве мне нравилась двадцать первая. Голубой прозрачный щиток спидометра, кремовый костяной руль, такие же прозрачно-голубые, яркие жизнерадостные солнцезащитные щитки. Ну, и олень на капоте. Мамина машина, правда, без оленя.
– Привет герой, – обращается ко мне чернявый водитель в годах.
– Здравствуйте, – скромно отвечаю я.
– Ну что, можно ехать?
– Да, Амир Каримович, мы готовы, – отвечает мама.
Мы трогаемся и я с интересом смотрю в окно.
– Эх, Егорка, – говорит она. – Повезло, что дежурная была вторая городская. Хорошая больница, вон тебя как быстро на ноги поставили.
Наверное. Повезло. Мы доезжаем за пять минут. Дом оказывается на этой же улице, на пятьдесят лет Октября. Мы выходим из подъезда и поднимаемся на третий этаж. Ну что же, как говорится, дом, милый дом. Что меня там ждёт, интересно?
Мама поворачивает ключ в замке и я слышу жизнерадостный лай. Бобик?
4. Дом, милый дом
Ко мне бросается пёс. И это явно не мой Боб. А что это такое, я даже сразу и понять не могу.
– Ах, ты ж мой… – говорю я, присаживаясь на корточки, – красавчик…
Как зовут-то тебя, чудо природы? Напирать на амнезию при «матери» мне не хочется, чтобы лишний раз её не ранить и не вгонять в депрессию, поэтому я выжидаю, когда она первой назовёт его имя. Собака явно непородистая, похожа… я не знаю, как если бы бульдога скрестили с овчаркой.
Высота в холке мне до колена примерно, шерсть короткая. Тёмно-пёстрый, как у гиены, окрас, с коричневыми подпалинами на груди, хвост прямой, недлинный, полностью чёрный. Башка у него крупная, напоминает чем-то моего Бобика. Не такая длинная, как у овчарки и не такая сплюснутая, как у бульдога, чёрная, как хвост, с серебристыми бровями. Один глаз голубой, как у хаски, а второй медово-янтарный. Кто ж тебя так? Как будто нейросеть постаралась…
Пёс повизгивает от счастья, топчется точно так же, как и мой стаффи, фыркает, пытается что-то сказать, выговаривает за долгое отсутствие.
– Раджа, ну-ка отойди от Егорки.
Вот значит ты кто. Это тебя в честь индийского кино так назвали, типа «Любимый Раджа»? Ну-ну, Радж, ты мне уже нравишься, чувствую, мы подружимся. Пёс встаёт на задние лапы, тянется ко мне, пытаясь лизнуть и вдруг отшатывается, отскакивает в сторону и, взвизгнув, поджимает хвост.
– От тебя ещё больницей пахнет, вот он и не поймёт, вроде ты, а вроде и не ты.
Боюсь, он чего-то другого понять не может, да я и сам многого пока не понимаю. Пока… Хотя, может, и не пойму уже никогда.
– Ну давай, не стой, заходи скорее, – торопит меня мама.
Из узкой и тесной прихожей ведут две двери. Одна, открытая – в комнату, вторая в ванную.
– Я сейчас, в туалет только заскочу, – говорю я.
Санузел совмещённый, ванна, умывальник, унитаз, с бачком под потолком… Стены покрашены голубой масляной краской, бетонный пол – такой же масляной, только тёмно-коричневой. Почти всё свободное место занимает стиральная машинка «Белка» с отжимными валиками.
Мне в детстве нравилось пропускать через эти резиновые валики мокрое бельё… Кажется, можно снова заняться любимым делом. Мда… Достаток так и прёт из всех щелей… Глянув на себя в тусклое зеркало выхожу из ванной.
С кухни уже доносится шипение и звон посуды.
– Егорка, проходи сразу на кухню. Я котлетки подогреваю.
– Ага, – рассеянно бросаю я, – иду…
Иду-иду… Я вхожу в комнату. Ёлка с разноцветными лампочками, стол, сервант с посудой, как у моей бабушки, и книжный шкаф. У стены стоит диван. У меня такой же был, раздвижной. Нужно было тянуть за низ, за деревянную раму. Она выдвигалась вперёд и на неё укладывались подушки, служившие до этого диванной спинкой.
Хороший диван, мне всегда нравился. У моего подушки были зелёные, а у этого тёмно-кирпичные, с чёрными крапинками. Судя по всему, здесь я и сплю. Я приоткрываю горизонтальную дверцу тумбочки и вижу там одеяло и подушку. Всё это мне знакомо…
В углу, около балкона стоит здоровенный телевизор на тоненьких ножках. «Каскад». Да… Я телек уже тысячу лет не смотрю, но, в отсутствие ютубчика даже не знаю, наверное снова приучусь…
Как говорится, пока ждал, когда подключат интернет, перебивался суррогатами развлечений – читал, ходил в кино и гулял в парке…
Я подхожу к книжному шкафу. Радж следует за мной, цокая когтями по крашенному дощатому полу. Держится он настороженно, переживая, судя по всему, когнитивный диссонанс. Ничего, собачка, ты привыкнешь к новому Егору, но привыкнет ли к себе он сам? Это вопрос.
На полочке, прислонённая к книгам, стоит фотография. Мама, я, то есть Егор Брагин и мужчина в военной форме со значками связиста на петлицах. Похож на меня, отец, наверное. И где он сейчас? Погиб при исполнении или ушёл к другой? На присутствие мужика в доме ничего не указывает. Мне на фотке лет десять… Ладно, разберёмся.
– Ну где ты там? – доносится с кухни.
– Иду!
Едой пахнет очень соблазнительно, и я иду на этот запах.
– Садись, остывает же! – по-доброму журит меня мама.
На столе стоит вазочка с квашеной капустой и две тарелки. Я, не заставляя себя упрашивать, падаю на табуретку и хватаю вилку.
– Ты чего? – удивляется моя родительница и даже плечами пожимает.
А чего? Что я сделал или наоборот не сделал?
– Я руки вымыл, – на всякий случай сообщаю я.
Что не так? Вряд ли она ждёт, что я прочту молитву перед едой или процитирую пару фраз из кодекса строителя коммунизма. Но если надо, я могу…
– Ты же всегда у окна сидел, – с тревогой говорит она, боясь, что я от удара по голове всё позабыл, даже такие базовые вещи.
– Я подумал, что это не честно, – выворачиваюсь я. – Тебе же тоже хочется у окошка посидеть, а то я занял лучшее место и не сдвинуть меня. Насладись и ты видом.
Она неуверенно качает головой, но садится на свободное место, а я всё внимание уделяю тому, что лежит на моей тарелке. А на ней я вижу две небольших котлеты и горку картофельного пюре. Посерёдке в ней сделана ямка и там золотится растаявшее сливочное масло. Только сейчас я понимаю, насколько голоден и с азартом набрасываюсь на еду.
Ммм… Как же вкусно!
– Ой, я же капусту не полила!
Мама вскакивает и достаёт из шкафа бутылку с подсолнечным маслом. Я даже есть прекращаю, залюбовавшись, густой золотисто-зелёной жидкостью, играющей на свету. Я и забыл, как выглядит настоящее масло. От масла идёт крепкий аромат семечек. Мой отец, мой настоящий отец, обожал это масло и никак не мог найти замены вот этому натуральному советскому. Эх папа, вот бы ты попал сюда вместо меня…
Как же всё это вкусно. Просто восхитительно вкусно. И даже глаза не нужно закрывать, чтобы представить прошлое. Вот оно, доподлинное и натуральное.
– Мама, как ты вкусно готовишь, обалдеть! – произношу я с набитым ртом. – Мишлен отдыхает!
– Чего? – недоверчиво улыбается она. – Оголодал ты просто на больничных харчах. Чего тут вкусного, всё самое обычное. Мишеля какого-то придумал…
Это тебе, милая барышня, обычное, а мне вот совершенно диковинное.
Чай, конечно, так себе, грузинский. Я ожидал увидеть индийский со слоником, но приходится довольствоваться тем, что есть. Зато халва просто тает во рту. Я тут, наверное, очень быстро отожрусь до размера совхозного хряка. Надо держать себя в руках. Но не сейчас, сначала всё перепробую, а уж потом и сяду на диету.
Хотя этому телу ещё очень долго не грозит жирок. И кстати, что касается тела. Надо срочно взяться за его улучшение. А то оно совершенно дохлое, вон ударить даже не мог как следует. Позорник ты, Егор Брагин. Ну ничего, я из тебя сделаю человека. Шварц, наверное, не получится, но силу мы с тобой наберём. Да же, Радж?
Я подмигиваю псу и кидаю ему маленький кусочек хлеба. Он с невозмутимым видом ловит его, хлопнув челюстями, как капканом и неотрывно следит за моими руками – не прилетит ли ещё чего.
– Послушай, Егор, – говорит мама со смущением. – Хочу спросить у тебя кое-что… Но если ты не помнишь, то поговорим когда-нибудь потом.
– Конечно, мам, спрашивай.
– Ты знаешь, я кладу деньги на хозяйство в ту жестяную коробку…
Так, хорошо, буду знать…
– У меня там лежало тридцать семь рублей… А когда… когда с тобой это случилось… Ну, то есть… В общем, я собралась на рынок, тебе чего-нибудь вкусненького купить, а там оказалось только двадцать семь… Я подумала, если бы тебе понадобились деньги ты бы обязательно сказал… И потом, в больнице ты тоже про это ничего не говорил… Наверное, не помнишь…
Радж не выдерживает моего безразличия к своему аппетиту и коротко гавкает. Я отламываю ещё крошечный кусочек хлеба и, макнув в остатки подливки, бросаю ему. Хлопают челюсти и, пёс мгновенно глотает подачку. При этом он продолжает неотрывно смотреть на меня. Что же ты, Егор, как бы говорит он, у родной матери деньги украл? Вот же ты сволочь… я то есть…
– Мам, я помню, – спокойно говорю я, поднимая на неё глаза. – Я не хотел тебе говорить, думал, что успею всё сделать, до того, как ты заметишь.
– Что сделать? – тихо спрашивает она.
Ну зачем, эти огромные, полные слёз глаза! Ну не надо, не люблю я это, говорил же уже… Я встаю из-за стола и иду в прихожую, где во внутреннем кармане пальто лежит пятьдесят восемь с копейками рублей. Достаю десятку, возвращаюсь на кухню и кладу её перед матерью.
– Прости меня. Если бы не эти олухи, ну, если бы они не напали на меня, ты бы ничего и не узнала.
– Да почему?! – начинает кипятиться мама. – Что это значит? Если тебе нужны на что-то деньги ты должен в первую очередь сказать мне, а не таскать втихаря, чтобы я не узнала. Мы же семья, Егор!
– Эх, ну я хотел тебе сюрприз сделать, поэтому и тайна, как ты не понимаешь?
– Какой ещё сюрприз?! Ну?! Говори, всё равно уже сюрприз не удался. Давай, признавайся.
– Да блин…
– Что?! – глаза у мамы становятся огромными, как блюдца. – Что ты сказал?!
– Блин… – пожимаю я недоумённо плечами, мол что такого.
– Какой ещё блин?! Ты совсем уже, матери такое выдать?! Ты что, действительно с хулиганами связался?
– Мам, да это присказка такая, ничего ведь страшного, чего плохого в слове блин? А хулиганы не так говорят, ты уж мне поверь. Просто слово-паразит.
– Вот именно, что паразит! Это эвфемизм, замена бранного слова, несущая смысл того самого… матерка. Ты говоришь, «блин», а подразумеваешь… э-э-э…
– Оладью, – вывожу я её из ступора.
– Чего? – не понимает она.
– Ну, оладушку, чё?
– В общем, чтобы никакой выпечки в речи, понял? Давай, объясняй зачем деньги утащил.
– Да, б… ой, хотел духи тебе купить на день рождения. Французские.
– Какие ещё духи?!
– «Климá» – пожимаю я плечами.
– Зачем?! – изумляется она. – Они целое состояние стоят, гораздо больше, чем десять рублей!
– Сорок, – соглашаюсь я. – Я скопил почти всю сумму.
– То есть как это ты скопил?!
– Ну экономил на карманных, подрабатывал там.
– Где ты подрабатывал?
– Мам, ну, что за допрос. Не крал же я их, и у тебя только на день одолжил, но из-за этих… нехороших редисок… овощи можно употреблять в речи? В общем из-за них всё сорвалось.
Мама хмурится, просвечивая меня рентгеном прищуренных глаз:
– Во-первых, до дня рождения ещё почти месяц, а во-вторых, с чего это такая дикая идея?
– Мам, – вздыхаю я, – ну ты же молодая, красивая женщина. Тебе надо свою личную жизнь устраивать, а ты всю её на меня гробишь, лучшие годы, можно сказать.
У неё дар речи пропадает. Она долго смотрит на меня вновь повлажневшими глазами, а потом встаёт и прижимает мою голову к своей груди. Вернее к животу. Ох, не нужно этих нежностей, очень прошу, не нужно…
– Как ты быстро повзрослел, – шепчет она, – а я даже и не заметила…
– Ай, – вскрикиваю я, – Мам, у меня голова того… не кантовать, ладно? Не забыла?
– Да-да, прости, – разжимает она свои объятия. – Не убирай ничего, я сама потом помою.
Она выходит из кухни и идёт в спальню, а я плетусь за ней. Спальня мной ещё не исследована. Похоже, отец действительно уже давно не с нами и я попал в самую точку. В спальне стоит старинный полированный шифоньер, мамина кровать, а в углу за дверью мой письменный стол.
Всё, как в моём детстве, только жили мы в такой же хрущёвке втроём, так что здесь у меня явный апгрейд в сторону роскоши.
– Мам, я пойду с Раджем погуляю, – говорю я.
– С кем?
– Ну, с Раджой.
– Не ходи, тебе нужен покой, я попозже сама его выведу.
– Да я потихоньку, бегать не буду. Мне свежим воздухом врач велел дышать, а вдруг завтра мороз, так что я лучше сейчас.
Мама ничего не отвечает, переваривая услышанное от меня ранее. Она садится на кровать и, поставив локти на колени, обхватывает руками голову. Я иду на кухню и навожу порядок. Мою посуду, а заодно осваиваюсь, изучая, что тут у нас где. Почему-то мне кажется, что я здесь надолго. Предчувствие, однако.
Пёс ходит за мной и, кажется, его насторожённость постепенно отступает.
– Ну что, Радж Капур, – обращаюсь я к нему, уперев руки в бока, – пойдём гулять?
Услышав знакомое слово, он недоверчиво делает взмах хвостом. Он как бы говорит, до вечера же вроде ещё далеко, точно гулять? Точно-точно. Пойдём, поносишься, энергию выплеснешь.
Мы выходим на большое пространство между домами, так называемую «поляну» и я спускаю Раджа с поводка. Он смотрит на меня почти удивлённо. Ты что, друг, не знаешь вкуса свободы? Беги! Найди какую-нибудь симпатичную девчонку, собачью, разумеется.
– Эй, Бражкин, ты чё своё чудище с поводка спустил? – раздаётся дерзкий голос за спиной.
Я поворачиваюсь и вижу троих пацанов примерно моего возраста. Щёки красные, глаза задорные, пальтишки куцые. Ретро, ёлы-палы. Впрочем, пальтишки не у всех, тот, что стоит впереди прикинут недёшево. Курточка японская, шапочка спортивная, джинсари, и не «Монтана», наверное.
Но вот, что меня беспокоит, я действительно размещаюсь настолько низко на социальной лестнице, что любые придурки могут так со мной разговаривать?
– Чё, язык что ли проглотил? Давай закуй обратно свою смесь бульдога с носорогом. У меня тут сестрёнка малая бегает.
– Сестрёнка может не опасаться, тем более, её чёт не видать, а вот ты шарики свои побереги, чтоб не откусили.
– Чё ты сказал?! – зависает румяный задира, явно не ожидавший от меня такого ответа.
– Э, Брага, тебе чё, детдомовские мозги отшибли?! – вступает второй хулиган.
Нет, определённо, смешное слово. Хулиган.
– Ну сходи во вторую спец, в травматологию да узнай сам у детдомовских, кому чего отшибли, – вполне дружелюбно отвечаю я. Можешь рядом прилечь если чё, решай, только сегодня кировская дежурит, а там хреново лечат, будешь потом ссаться всю жизнь.
– Ты чё, козёл, охамел?!
Охамел? Он действительно так спросил? Мне смешно делается и я даже улыбаюсь:
– Охамел, да, ржунимагу с вас, октябрята. Если чё, у меня справка имеется.
– Ты чёрт что ли? – делает шаг ко мне их заводила, меча громы и молнии. – А? Ты нюх потерял, щегол?
Тут одно из двух, или родаки крутые и имеют доступ к кормушке, или он сам шустрит типа Кахи. Или и то, и другое.
– Ну проверь, дурилка ты картонная, – ухмыляюсь я.
Злит он меня, мажорик этот. Он подаётся ко мне, а я поддев носком ботинка комок снега чуть подбрасываю его и резко пинаю, превращая в искрящуюся снежную пыль, красивую, но очень неприятную, когда она попадает на лицо и за шиворот.
Это моё действие вызывает яростный вой со стороны троицы этих крутых чуваков. Первый, тот что в японской куртке бросается на меня с перекошенным от злости лицом. Эх, отоварил бы я тебя, сердечный, да нельзя мне, на излечении нахожусь.
Он замахивается, но я просто делаю шаг в сторону, уходя от удара. Физподготовкой определённо надо заняться. От удара я, конечно, ухожу, но шапку он мне сбивает и на секунду замирает, заметив швы на моей голове.
– Чего смотришь, мажор, – говорю я. – Ты видишь, мне половину мозга вырезали? Так что я сейчас вас убью и съем. И мне не будет ничего, потому что я зомби. Слыхал про зомби, глупый и неразвитый ты человек?
– Да я тебе сейчас башку твою больную отшибу, ты понял?
– Ну давай, попробуй, – говорю я насмешливо. – На малолетке знаешь что с тобой сделают? Ну-ка, скажи «ку-ка-ре-ку», порепетируй.
Не выдержав такого неприкрытого издевательства, мажор предпринимает новую попытку атаковать. Я делаю ложный выпад, вводя его в заблуждение, и он тушуется, дёргается, теряет инерцию, а я подсекаю, как карася и он со всего маху падает лицом в снег.
В этот момент подбегает мой друг-мутант Раджа и начинает злобно лаять и кидаться на лежащего в снегу и матерящегося, как сапожник мальчика в модной и дефицитной японской куртке.
– Сожри его, Радж! – подначиваю я пса. – Сожри!!!
В этот момент двое других участников этого дворового бандформирования, должно быть поняв, что рискуют прослыть ссыконавтами, вдруг дёргаются в мою сторону и начинают хаотично махать руками.
Радж бросает поверженного врага и обрушивает гнев на наступающих.
– Да вы настоящие берсерки, пацаны, – говорю я. – Смотрите, друг друга не поубивайте.
Я отступаю, не желая ненароком подставить голову под лопасти этой мельницы. И в этот момент раздаётся истошный девчачий вопль:
– Стойте! Прекратите! Милиция!
5. Время всеобщей невинности
Как ни странно, этот крик действует на пацанов отрезвляюще. Они прекращают изображать вентиляторы и оборачиваются на голос. Я тоже оборачиваюсь и вижу бегущую к нам девчонку в коричневой цигейковой шубке и вязаной шапочке.
– Что вы за люди такие! – напускается на моих гонителей строгая румяная барышня. – У одноклассника сотрясение мозга, а вы драться лезете.
Ага, значит одноклассники, ну что же проблемы со статусом у меня действительно существенные.
– Какое сотрясение, Рыбкина, у него мозга-то не было никогда, – ржёт один из двоих, пока мажор поднимается и отряхивает снег.
Радж рычит и не сводит с них глаз.
– Молодец, Раджа, – говорит девчонка. – Будут знать в другой раз, как лезть.
– Рыбкина, тебе чё надо? – щерится на неё мажорный выпендрёжник и, повернувшись ко мне, добавляет. – Брага, ты как баба, в натуре. За тебя вон девки впрягаются. Сам-то ничё не можешь, чмошник.
– Как тебе не стыдно, Ширяев! Вот я отцу про вас точно расскажу, он вас на учёт быстренько оформит. Пошли, Егор, не обращай внимания на придурков.
Ну надо же какая покровительница у меня. Пойдём, Рыбкина. С тобой, как говорится, хоть на край света. Я широко улыбаюсь и подмигиваю парням:
– Ладно, поцики, не скучайте. И это… меня не ищите, я вас сам найду.
– Вопрос не решён. Ясно, Брага? – зло бросает Ширяев.
Какой вопрос? Чего он решать собирается? Эх, не сахар жизнь подростковая. Но ничего, зато драйв какой! Я такого давно не чувствовал.
– Без базара, Ширяй, – отвечаю я. – Обращайся, если что.
– Чё?! – подаётся тот ко мне
– Да ладно, Юрок, остынь, – говорят его дружки, – никуда он от нас не денется.
Рыбкина поднимает мою шапку и тянет за руку:
– Гóра, пошли скорей. Ну их нафиг, дураков этих.
Согласен.
– Радж, – говорю я, – погнали!
Пёс идёт за мной. Соображает, не то что мой Бобик. Рыбкина тянет меня к моему подъезду.
– Ничего себе тебя отделали, – говорит она, поглядывая на мои шрамы.
– До свадьбы заживёт, – беспечно отвечаю я.
– А ты как-то изменился, – пристально смотрит она.
– Ну ещё бы, мужчина куётся в бою.
– Чего он в бою делает? – прыскает она со смеху. – Я думала, он там дерётся.
– Выковывается, – подмигиваю я и рассматриваю её личико.
Нос кнопкой, редкие конопушки, весёлые зеленоватые глазки, румяные щёчки, губки-вишенки. Прелесть просто.
– Чего? – смущается вдруг она.
А я думал её ничем не смутишь.
– Чего смотришь?
– Да вот, залюбовался, – усмехаюсь я.
– Да ну тебя…
Она внезапно краснеет и отворачивается. Мы подходим к подъезду.
– Зайдёшь? – спрашиваю.
– Ага, – кивает Рыбкина. – Зайду. Ты задание сделал или просачковал в больнице?
– Ничего себе просачковал, – возмущаюсь я. – Да я за жизнь свою боролся!
Она заливается смехом. Смешливая какая.
– Мам, у нас гости! – кричу я с порога. – Радж, ну-ка стой. Ко мне. Стой, сказал! Жди!
– Кто там? – доносится из комнаты мамин голос.
– Анна Никифоровна, это я! С наступающим вас! – отзывается моя гостья.
– А, это ты, Наташенька? Проходи. Тебя тоже с наступающим. Хочешь кушать?
Значит Наташа. Хорошо. Пока дамы приветствуют друг друга, я завожу удивлённого Раджа в ванную и протираю ему лапы. Что? Не привык к такому?
Когда вхожу в комнату, до меня долетает обрывок фразы:
– …целые куски из прошлого может не помнить.
Понятно, про меня говорят. Девочка симпатичная и фигурка ладненькая, красоткой будет, не сомневаюсь. Да вот только по малолеткам я не ходок, так что извини, Рыбкина Наталья, пока нам с тобой ничего не светит. Но ты, судя по всему частенько сюда приходишь. Мама вон совсем не удивилась. Для чего? Или почему? Шефство надо мной взяла?
– Ну, Егор, показывай, чего нарешал, – говорит она, увидев меня и уверенно идёт в спальню, к моему письменному столу.
– Ты же слышала, – отвечаю я, следуя за ней. – У меня амнезия. Я даже не помню, где мой письменный стол находится, а ты говоришь.
– Ох, не ври мне, – недоверчиво улыбается она. – Давай, доставай тетрадку.
– По математике что ли?
– Ну, не по русскому же. По алгебре конечно. Ты вообще, решал что-нибудь? Помнишь, на чём остановились? Тангенс суммы, да?
Она по-хозяйски садится за стол и, открыв ящик, достаёт тетрадь.
– Наташ, а ты кем хочешь стать, когда вырастешь? – спрашиваю я.
Она оборачивается и пристально смотрит.
– Что? – развожу я руками.
– Правда не помнишь?
– Милиционером? – отвечаю вопросом на вопрос.
– Пожарником, – насмешливо кривит она губы. – Неужели забыл? Тогда догадывайся.
– А, учительницей, точно!
– Ну вот, значит не всё потеряно и надежда на нормальную оценку на экзамене пока сохраняется. Не стой, тащи табуретку.
– Вот же ты училка, – качаю я головой и иду на кухню.
.
Рыбкина объясняет мне тригонометрические функции, и я быстро врубаюсь. Что-то вспоминается со школы, а что-то просто ложится на молодые свежие мозги, хоть и сотрясённые. Даже ради одного этого стоило улететь в прошлое и помолодеть. Мозг работает чудесно. Я сразу всё запоминаю и схватываю на лету. Вот, что значит юное тело. Мама дорогая!
Моя училка остаётся довольной. В конце занятия я вдруг, подчиняясь порыву, наклоняюсь к ней и чмокаю в щёку. Она в тот же миг вскакивает и, залившись краской, гневно на меня смотрит. Просто испепеляет взглядом.
– Ты обалдел что ли, Брагин? – шепчет она. – Тебе действительно голову отбили? Дурак.
– Ты где Новый Год встречаешь? – спрашиваю я, едва сдерживая смех. – Пойдёшь на площадь Советов гулять?
Она ничего не отвечает и, бросив на меня негодующий взгляд, выходит из спальни.
– До свидания, Анна Никифоровна.
– Уже уходишь, Наташенька? Папе привет передавай. Егор, ты где там? Иди проводи гостью.
В прихожей я пытаюсь подать ей шубу, но она вырывает её из моих рук и, одевается сама, сурово и молчаливо, не глядя на меня. Я с удовольствием наблюдаю, как она обувает фетровые полусапожки, запихивая свои красивые ножки в это чудо текстильной промышленности. «Прощай молодость», называла такие моя бабушка. Интересно, а у Брагина есть какие-то родственники?
– Егорушка, не хочешь прилечь? – спрашивает мама.
– Не, всё нормально, не беспокойся. Я позанимаюсь ещё немного.
– Смотри, не перетрудись. Тебе сейчас нужно больше отдыхать.
– Мам, а мы где Новый Год будем встречать?
– Дома, – удивляется мама. – Где же ещё? В понедельник с работы приду сделаю салатики и курочку. Может соседка зайдёт, тётя Валя. Вот и вся программа. Если хочешь, можешь позвать кого-нибудь. Можешь Наташу пригласить и Серёжу.
– Да ну, они наверное с родителями будут.
– Ты же говорил, что хотел у Серёжки отмечать, что у него все ваши собираются.
– Ах, да, точно… Забыл. Ну вот, как я его приглашу, если у него пати будет?
– Чего будет?
– Ну, тусовка, вечеринка…
– Опять словечки новомодные. Нужно сохранять чистоту языка… – она прислушивается. – Ой, Егорка, сделай радио погромче, песня нравится…
Я подхожу к белой коробочке, висящей на кухонной стене и выкручиваю ручку громкости.
«Ленточка моя финишная, всё пройдёт и ты примешь меня, примешь ты меня нынешнего, нам не жить друг без друга», – поёт Лев Валерьянович Лещенко. Надо же, вот уж кто настоящий символ эпохи…
Когда песня заканчивается, начинает говорить очень серьёзный диктор: «Передаём сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует пятнадцати часам московского времени. Пик-пик-пик-пик-пик-пик… Говорит Москва. В столице пятнадцать часов, в Ашхабаде – семнадцать, в Караганде – восемнадцать, в Красноярске – девятнадцать, в Иркутске – двадцать, в Чите – двадцать один, Хабаровске и Владивостоке – двадцать два, в Южно-Сахалинске – двадцать три часа, в Петропавловске-Камчатском полночь».
Давненько я этого не слышал… Ну что же, надо привыкать… Я возвращаюсь за стол и исследую его содержимое. Самые ценные находки – это модельки машинок с подпружиненными колёсами и открывающимися дверцами. Предел моих мечтаний в своё время. Три-пятьдесят, как сейчас помню.
В моей коллекции оказывается две тачки. Красная «Волга» универсал без водительской двери, и побитый временем «Москвич» четыреста двенадцатый, я думаю. Ещё находится рейсшина для черчения, жестяная коробочка с фигурками индейцев, перочинный нож, швейцарский, настоящее сокровище. Я также нахожу страницу, вырванную из журнала для взрослых. Смешные заросшие дяди и тёти явно немецкого происхождения. Она хранится в конверте, приклеенном снизу к крышке стола. Шпион ты, Брагин.
Больше никаких ценностей не обнаруживаю. Ну, может быть, потом что-то всплывёт. Поужинав и ещё раз погуляв с Раджем, я беру томик Купера и ложусь на диван. По телеку идёт запись вчерашней встречи суперсерии. Играют ЦСКА и Нью-Йорк Рейнджерс. Наши победят пять-два, вернее, уже победили. Знать бы где это возможно, сделал бы ставку.
Я эту игру несколько раз видел, так что ничего нового, но смотреть на чёрно-белом телеке, конечно, прикольно. Аутентично. И что-то в груди ёкает. Но, если честно, ни хоккей, ни Купер сейчас мои мысли особо не занимают. Я наконец задумываюсь, что мне делать.
Можно ли что-то предпринять для возвращения в себя самого и, главное, нужно ли мне это. Честно говоря, не знаю. Я ведь сколько раз говорил себе, что было бы круто снова оказаться в детстве, в классе десятом и со знаниями взрослого человека начать всё с нуля. И вот, пожалуйста, оказался. Правда не самим собой и на несколько лет раньше, чем я настоящий.
Я ведь только в прошлом году родился. Интересно, а я здесь имеюсь? И что будет, если я встречусь с самим собой и своими родителями? Можно бабушку навестить, она наверное уже работает в прокате на Пятьдесят лет Октября… Гоняя эти мысли по кругу, я засыпаю.
Утром встаю рано и делаю растяжку. Особо нагружать тело пока не хочу, а растяжечка норм. И ещё дыхательную гимнастику. Вывожу Раджа, а когда возвращаюсь, встречаю удивлённую маму.
– Ты чего так рано вскочил? – с тревогой спрашивает она. – Тебя же обычно палкой не разбудишь.
– Ну видишь, – улыбаюсь я, – есть в сотрясе и положительные моменты. Мозги на место встали.
– Ой, да ну тебя, Гошка. Давай руки мой, я завтрак приготовила.
На кухне меня ждёт пышный омлет и чёрный хлеб с маслом. Что говорить, масло выше всяких похвал. Я такого вкуса лет сто не чувствовал. Тут, наверное, половине продуктов можно присваивать марку «био» и «органик».
– Мам, я хочу в магаз сгонять.
– Куда?
– Ну, в магазин. Вдруг чего выбросят к празднику. Надо же нам Новый Год встретить радостно. «Голубым огоньком» сыт не будешь.
– Да у нас есть всё необходимое.
– Ну, а я излишеств каких-нибудь поищу.
– Знаешь, давай, не будем деньги просто так разбрасывать, с неба не падают. И откуда замашки такие? Французские, понимаешь, духи ему подавай. Мне и с рижскими нормально.
– Ладно, пойду я. Может увижу чего.
– Нельзя тебе ходить ещё. Падай на диван и читай. Или телевизор посмотри.
– Ой, что там смотреть-то? «Весёлых ребят» только, так это ж вечером. Программа не очень. Пойду я разведаю, что к чему. Платоныча проведаю заодно. А то как он там один без меня?
– Отнеси ему котлеты.
– Да я зайду яблок куплю в «Золотую осень». У меня рублишко завалялся.
– Откуда опять?
– Мам, я у тебя не брал, честное слово.
– На вот, – протягивает она мне зелёненькую трёшку. – На что попало не трать и Платонычу своему купи что-нибудь. Не узнаю я тебя, Егорка. Раньше из дому не выгонишь, а теперь наоборот. Больной и то метёшься куда-то… Взрослеешь, что ли?
В овощном магазине я покупаю два килограмма мандарин. Везёт. Вот что значит приходить в субботу к самому открытию, даже очереди нет. Ещё беру банку персикового сока с мякотью. А себе стакан томатного за десять копеек.
Продавщица наливает гранёный стакан из прозрачного конуса. Здесь же, на прилавке стоит литровая банка с бурой водой и такая же банка с солью. Да, технология та ещё, система мипель, как бабушка говорила, через «м». Вытаскиваю ложку из бурой банки, зачерпываю немного соли, размешиваю её в своём стакане, а ложку возвращаю в банку с водой. Вода становится чуть более тёмной.
Выпиваю. Отлично. Вкус потрясный. В следующий раз куплю мандариновый. Дорогой, но тоже очень вкусный. Просто супер вкусный. После этого иду прямиком в больницу и поднимаюсь в своё отделение. Сегодня должна Таня дежурить.
– Так мужчина, ну-ка выйдете! – слышу я знакомый голос и поворачиваюсь на звук.
Огненная копна волос, халат в обтяжку. Она.
– Танюш, привет, – улыбаюсь я, как Смоктуновский после отсидки в «Берегись автомобиля».
– О! – удивляется она. – Ты чего это здесь делаешь, Егор?
– Соскучился. Смотри, это тебе, – протягиваю я авоську с мандаринами. – С наступающим. Ты Новый Год где встречаешь?
– Здесь, – хмуро отвечает она и принимает подарок.
– Серьёзно что ли?
– Ага, серьёзней некуда.
– Да, блин… Не повезло. Но ты не переживай, я к тебе загляну значит в следующем году. В самом начале. Сразу после полуночи.
– Здесь врач будет дежурный.
– Татьяна, – делаюсь я очень серьёзным. – Не заставляй меня ревновать, ясно?
Она чуть улыбается.
– Нашёлся ревнитель, тоже мне. Как сам-то?
– Плохо без тебя.
– Ты это заканчивай. Давай чтобы без драм, мал ты ещё в любовь-морковь играть.
– Точно мал? Серьёзно? – поднимаю я брови и многозначительно смотрю на неё. Она краснеет.
Ах ты ж моя хорошая. Ну что за время всеобщей невинности.
– Дурак, – смеётся Таня.
Второй раз дураком называют.
– Думаешь, надо подрастить? Вроде ж не жаловалась.
Она закрывает лицо и заливается смехом. Хороша ты, Таня, до чего же хороша. Мы минут пятнадцать болтаем, потом она говорит, что ей нужно идти делать процедуры. Я привлекаю её к себе и целую, но она выскальзывает и испуганно озирается по сторонам.
– Ты чего? Если застукают, знаешь, что будет?
– А может, у меня чувства, – говорю я со смехом. – Я и жениться готов!
– Иди уже, женильщик.
– А сосед мой здесь? – спрашиваю я. – Не выписали ещё?
– Его тридцать первого, в понедельник должны выписать, если всё в порядке будет.
– Пустишь меня к нему на пять минуток?
Она снова с сомненьем оглядывается и, наконец, говорит:
– Ладно. Только тихо, как мышка. Понял? Накинь вон халат, на крючке висит.
Я беру халат и шагаю в палату.
– Юрий Платонович, с наступающим! – бодро говорю я и водружаю на тумбочку сок и несколько мандаринов. Она у него и так вся заставлена продуктами, банками и склянками.
– Ба, какие люди! Захворал что ли, Егор? Или меня навестить пришёл?
– Вас навестить. Думаю, как там Платоныч поживает, скучно ему одному. А у вас, я смотрю передачка дефицитная. Навещал кто?
– Да, коллеги приходили, товарищ Шерлок Холмс. Ну садись. А тебе разве можно выходить из дому? У тебя же постельный режим вроде.
– Ай, – машу я рукой. – Чего бока пролёживать, дел в шапку не соберёшь.
Похоже, он рад моему визиту. Мы немного болтаем, а потом я перехожу к делу, потому что пришёл не просто так. То есть не только затем, чтобы его навестить.
– Вопросик у меня. Даже два. Можно?
– Ну давай.
– Мне бы духи французские купить. Не знаете где?
Я обрисовываю ему ситуацию, рассказывая всё, как было.
– Духи не проблема, – отвечает Большак. – Пятьдесят рябчиков, и они твои. С этим я помогу.
– Так сорок же вроде… – чуть хмурюсь я.
– В Москве, может и сорок, а у нас, как ты говоришь, полтос.
– Понятно. Ну деньги есть, спасибо Кахе. Вот они… Трёшка материна, правда. Но как раз у меня сейчас пятьдесят. Мне, правда, ещё продуктов надо купить к Новому Году.
– А духи когда нужны?
– Примерно через месяц.
– Понятно. Ну, сейчас я деньги с тебя брать не буду. Потом придёшь ко мне и там всё порешаем. А второй вопрос какой?
– Да вот, хотел спросить, может вы знаете, принимает ли кто ставки на хоккей?
– Тотализатор? Серьёзно? Ну, ты меня удивляешь, Егор, правда. Проиграешь же.
– Не, у меня на хоккей чуйка. Но только на международные соревнования.
– Чуйка тебе. Проиграешь все деньги и духи не на что купить будет.
– Не, не проиграю, – говорю я уверенно. – Это верное дело. Я вообще не ошибаюсь. Хотите проверьте. Вот ЦСКА в понедельник канадцам продует. Думаю, со счётом четыре-два или даже четыре-один.
– Ну ладно, доживём до понедельника, как говорится. Вчера смотрел игру?
Я киваю.
– Ясно всё с тобой. Хорошо, я поспрашиваю у людей, может чего подскажут. А ты что покупать-то собираешься? Перед праздником народу везде уйма.
– Зато что-нибудь выбросят наверняка. У нас ведь всегда так. Кто смел, тот и съел. Закон социалистических джунглей.
Большак задумывается на несколько секунд, а потом, продолжая ещё что-то взвешивать, говорит:
– Сделаем так, Егор. Сейчас поедешь на «Южный», найдёшь гастроном «Русское поле», я адрес скажу. Спросишь там Любовь Петровну Гусынину, это директор магазина. А я ей позвоню и предупрежу, чтобы она тебе собрала подарочный набор рублей на… десять… Хорошо? Там без очереди и продукты дефицитные. Согласен?
– Конечно согласен, кто может отказаться от такого предложения!
– Ну и отлично. Запоминай адрес и беги, а я ей звякну. Про тотализатор узнаю и скажу. Позвоню тебе домой.
Блин, придётся десятку выбросить на продукты. Ну ладно, за месяц ещё придумаю что-нибудь…
Я сажусь на автобус и еду на «Южный». Путь неблизкий, зато похоже на автобусную экскурсию в прошлое. Гастроном нахожу быстро. Собственно и искать нечего, он находится прямо у остановки.
Посетителей мало, да и брать нечего. Молоко, хлеб, синие цыплята. Спрашиваю у продавщицы Любовь Петровну. Та ведёт меня в служебное помещение.
– Любовь Петровна, к вам, – говорит продавщица и уходит.
– Здравствуйте, – говорю я входя в кабинет, заставленный коробками и ящиками. – Я от Юрия Платоновича.
– Егор что ли? – спрашивает она с доброй улыбкой.
– Он самый, – киваю я.
– Ну заходи. Сумка есть?
– Вот, – говорю я, доставая из кармана сложенную сумку.
– Не войдёт, – качает она головой. – Ладно держи.
Она подходит к столу, на котором лежат большие бумажные свёртки, и берёт один. Только сейчас замечаю в плохо освещённом углу, прямо на полу на расстеленном брезентовом полотнище целую гору копчёной колбасы. Она прямо навалена кучей. Хмыкаю.
– Идёшь? – оглядывается она.
Я подхожу и получаю в руки тяжёлый бумажный мешок.
– Ну вот, так и понесёшь. Стой.
Она наклоняется и берёт два батона колбасы.
– Сервелат венгерский надо?
– Ну конечно надо, а как же, – улыбаюсь я.
– Вот и молодец. Дают – бери, все знают. Дотащишь?
– Конечно. Любовь Петровна, спасибо вам огромнейшее! Сколько я вам должен?
– А тебе Большак не сказал что ли?
– Сказал.
– Ну а чё ты выкамариваешь, давай, сколько он сказал.
Я ставлю мешок на стол и достаю красненький чирик. Отдаю десятку, даже не представляя, что покупаю. Надеюсь, что-то ценное.
– Юрию Платоновичу привет передавай, – говорит улыбаясь директриса. – Только ты это, давай я тебя через служебный выпущу, пошли.
Я выхожу во двор и тащу добычу к остановке. Кажется, Новый Год будет не по-советски изобильным. Хотя чего это я, у всех праздничный стол обычно полон деликатесов.
Уже подходя к остановке, поднимаясь по накатанной тропке, я чуть поскальзываюсь и из моего мешка вываливается консервная банка и катится в обратную сторону, под горочку. Я поворачиваюсь и замечаю молодую женщину в сером пальто с песцовым воротником и в песцовой же шапке. Она подбирает баночку с синей этикеткой и протягивает мне.
В этот момент наши взгляды встречаются, и я на мгновенье подвисаю от того, насколько мне знаком этот взгляд. Я его ни с чем не спутаю. У меня у самого такой же. Сто процентов, она из наших. ОБХСС наверное…
Это длится лишь мгновенье. Она тут же меняет выражение лица и превращается в обычную молодую женщину.
– Молодой человек, – милым голосом с жалобной интонацией произносит она, – ой, подскажите, пожалуйста, вы где горошек брали?
6. Праздник к нам приходит
Я смотрю на неё, внимательно так смотрю. Молодая, симпатичная. Брюнетка. Лет двадцать шесть – двадцать семь. Девчонка ещё. Я так скажу, по большей части молодая – это уже значит симпатичная. Но это только с высоты зрелости понять можно. Нет, вот правда. Юность этого не замечает и не ценит.
Нос тонкий прямой, глаза горят, как угольки, щёки румяные от морозца, на левой скуле небольшая родинка, фигурка ладненькая, насколько пальто позволяет рассмотреть. Красотка да и только.
Я встретил девушку:
Полумесяцем бровь,
На щёчке родинка,
А в глазах любовь.
Ах, эта девушка
Меня с ума свела,
Разбила сердце мне,
Покой взяла!
Вот спасибо, товарищи неизвестные мне авторы*, хорошую песню написали.
– У бабули взял, – говорю я с широкой улыбкой.
– У какой бабули? – удивляется девица.
– Да у своей. Она в этом доме живёт. Ходит в магазин по десять раз в день. А там перед праздниками чего-нибудь да выбросят, вот она и подкупает.
– Что значит, подкупает? – настораживается милиционерша.
– Да не в том смысле, что на подкуп идёт, – смеюсь я, – а в смысле, как увидит, так купит. Видите, целый мешок нам с мамой набрала.
– То есть она здесь, в «Русском поле» горошек купила? – уточняет она.
Интересно, чего она от меня хочет. Пацан несёт продукты. Ну, допустим, дефицитные, ну, допустим, купленные по блату. Ну и что? Преступление невелико. Собирает инфу, каждую даже незначительную мелочь? Копает под Гусынину? Возможно. Молодой сотрудник. Лейтенант, наверное. Может быть, первое дело…
– Наверное. Поручиться не могу, она за чем-то хорошим и в центр может смотаться. Вы бабулю мою не знаете.
Она пристально смотрит на меня, но прицепиться действительно не к чему.
– А вас как зовут? – улыбаюсь я. – Я Егор. А вы?
Она хмыкает и не отвечает.
– Ну, не хотите, не говорите. Буду вас товарищем лейтенантом называть.
– Чего? – вскидывает она брови.
– Вы банку эту забирайте, товарищ лейтенант. У меня ещё есть.
– Вот ещё, – возмущённо фыркает она и пытается положить банку мне в мешок.
Но там так много всего, что банка никак не желает возвращаться к остальным продуктам.
– Видите, она с вами хочет остаться. Вы куда, в центр?
– На кудыкину гору, – сердится моя коллега. – Забери горошек свой буржуйский.
– Чего это он буржуйский? Из братской Венгрии. Вот вы удивитесь, но именно эта страна из всего соцлагеря окажется самым добрым нашим другом и противником западных санкций. Вообще нет, Югославия ещё ближе будет. Но не вся, только Сербия. Вот на югославов-то никогда бы не подумали, да? А это из-за того, что у нас вера общая. Ну… то есть в исторической ретроспективе. Была.
– Держи горох, – злится девушка, – политинформатор.
Мне смешно. Она с этой банкой не знает, что делать. Растерялась совсем.
– Знаете, как сербы раньше говорили? На небе Бог, а на земле Россия.
Не знаю, честно говоря, как раньше, но теперь-то они точно так говорят. После бомбёжек, после всего того ужаса, что им устроили в моём мире… Ну, то есть там, в будущем…
– Скажите, как зовут, тогда заберу, – куражусь я и замечаю подъезжающий автобус. – Автобус! Побежали, а то ещё полчаса куковать потом.
Мы несёмся к остановке. Я с мешком, а она с банкой горошка в руке. Грязно-жёлтый «Икарус»-гармошка выдаёт облачко чёрного, воняющего соляркой дыма, проседая под натиском пассажиров.
– И дым Отечества нам сладок и приятен, – мечтательно тяну я, вдыхая эту гарь полной грудью.
До сих пор не верю, что всё это со мной наяву происходит.
– Проездной, – громко говорит моя спутница, когда нас заносят в автобус.
Мы оказываемся тесно прижатыми друг к другу. Но между нами мешок с дефицитными деликатесами.
– Вот вам и правда жизни, – усмехаюсь я, – горячие молодые сердца оказываются разделёнными пошлыми импортными консервами и колбасой. Вам, товарищ лейтенант, куда ехать?
Она недовольно озирается:
– Называй меня Лидией Фёдоровной.
– Лидия? – переспрашиваю я. – Лида… Красивое какое имя у тебя, тысячу лет такого не слышал. Если бы не мешок этот, расцеловал бы тебя сейчас.
– Мальчик, – изумлённо отвечает она, – ты с печки не падал?
– Нет, кирпичом по голове прилетело неделю назад, – сознаюсь я.
– Тогда ясно всё с тобой.
– Лид, а ты докуда едешь?
– Какая я тебе Лида? – злится она.
Переговариваясь таким образом ты доезжаем до «Швейки». Мне до дома отсюда минут пять пешком.
– Лид, ты меня в разработку взяла или тоже живёшь здесь поблизости?
– Не лидкай. Как узнал, что я лейтенант?
Банку с горошком она всё ещё в руке держит.
– Догадался, – пожимаю я плечами.
– А Гусынина знает?
– Чего знает-то, что ты пасёшь её?
– Ёлки-палки, – качает она головой и закусывает нижнюю губу.
– Да не бойся, может и не знает. Я не в курсе.
– А как же бабушка? Наврал, паразит? Я тебе и не поверила, между прочим.
Она прищуривается, а я пожимаю плечами и спрашиваю:
– Тебе в какую сторону?
– Не твоё щенячье дело, – отвечает она. – И вот что, горох твой я реквизирую.
– Ну и молодец. Грабь награбленное, как отцы революции поучали. Ты меня на допрос когда вызовешь?
– Какой допрос? Ты ж несовершеннолетний поди?
– Дай мне телефон, – требую я, – иначе я за тобой пойду до самого дома.
– Ты откуда такой наглый, а? Сынок чей-нибудь? По одёжке не скажешь…
– Все мы чьи-то дети, Лидия Фёдоровна. Говори телефон, я ж тебя всё равно выслежу.
Она на пару секунд задумывается и вдруг называет пять заветных цифр. Хорошо иметь молодые мозги. Уверен, этот номер я точно не забуду.
– Это рабочий. Дома телефона нет. В новом году поставят. Возможно.
– Возьми колбасы палочку, – предлагаю я. – Венгерская. К новому году.
Она снова прищуривается, а потом протягивает руку и вытаскивает из моего свёртка палку колбасы. Ни слова ни говоря, поворачивается и уходит в снежную даль. Хороша Лидка. Я до тебя ещё доберусь. Но попозже. После праздников.
Я тоже поворачиваюсь и иду в свою сторону. Впереди замечаю булочную и пацана, прижавшегося к витрине. Он стоит так какое-то время, а потом, отлипнув от стекла понуро бредёт по направлению к торговым рядам. Здесь на «Швейке» располагается небольшой рыночек.