Дом голосов бесплатное чтение
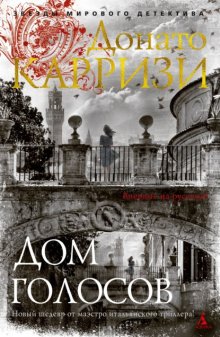
Donato Carrisi
La casa delle voci
Copyright © Donato Carrisi 2019
© А. Ю. Миролюбова, перевод, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021
Издательство АЗБУКА®
Антонио, моему сыну:
он – моя память,
он – моя идентичность
Ласковое прикосновение во сне.
На смутной границе с явью, за миг до того, как ей провалиться в бездну забытья, ледяные пальцы коснулись ее лба и кто-то шепотом, печальным и очень нежным, позвал ее.
По имени.
Услышав зов, девочка широко раскрыла глаза. Испугалась. Кто-то пришел сюда, к ней, пока она засыпала. Может, кто-то из бывших обитателей дома, с которыми она иногда говорила, а иногда слышала, как они ходят по комнатам, жмутся вдоль стен, словно мыши.
Но призраки говорили внутри ее, не снаружи.
И Адо – бедный Адо, грустный Адо – приходил к ней. Но, в отличие от других призраков, Адо никогда ничего не говорил. Так что сейчас ее смущало совершенно определенное соображение.
Кроме мамы и папы, никто из мира живых не знал ее имени.
То было «правило номер три».
Мысль о том, что она нарушила одну из родительских заповедей, ужасала ее. Родители всегда ей доверяли, не хотелось их разочаровывать. Тем более сейчас, когда папа обещал взять ее на охоту с луком и стрелами и даже маму уговорил это разрешить. Но потом девочка задумалась: как, где могла она провиниться?
Правило номер три: никогда не называть чужим своего имени.
Она не называла чужим своего нового имени, никто посторонний не мог узнать его, даже случайно. Еще и потому, что по меньшей мере пару месяцев они не видели никого, кто приближался бы к хутору. Они жили одни среди полей, два дня пути до ближайшего города.
Они в безопасности. Только втроем.
Правило номер четыре: никогда не приближаться к чужим и не позволять им приближаться к тебе.
Как же так получилось? Сам дом позвал ее, другого объяснения нет. Иногда балки потолка зловеще скрипели или мелодично стонали. Папа говорил, что дом проседает, давит на фундамент: так пожилая синьора, сев в кресло, время от времени ерзает, устраиваясь поудобнее. Засыпая, девочка услышала такой звук, и ей показалось, будто кто-то зовет ее по имени. Вот и все.
Сердце ее успокоилось, волнение улеглось. Она снова закрыла глаза. Сон беззвучно призывал следовать за ним в теплое местечко, где все расплывается и растворяется.
Девочка уже почти забылась, когда кто-то снова позвал ее.
На этот раз она подняла голову с подушки и, не спускаясь с кровати, вгляделась в темноту. Печь в коридоре давно прогорела. Холод подступал к постели, набрасывался, стоило вылезти из-под одеяла. Девочка окончательно проснулась.
Кто бы ни звал ее, он находился не в доме, а снаружи, в студеной зимней ночи.
Она поговорила со сквозняками, которые проникали под дверь и через щели в ставнях. Но в тишине, слишком глубокой, было не разобрать ни звука, только сердце отчаянно билось, как пойманная рыба в ведре.
Девочка подумывала, не спросить ли у мрака: «Кто ты?» Но боялась ответа. Или, возможно, уже знала его.
Правило номер пять: если чужой зовет тебя по имени, беги.
Девочка вскочила с постели. Но прежде, чем двинуться дальше, ощупью нашла тряпичную куклу с одним-единственным глазом, которая спала рядом, и прихватила с собой. Не зажигая ночник на тумбочке, двинулась вслепую по комнате. Под легкими шагами ее босых ног поскрипывал дощатый пол.
Нужно предупредить маму и папу.
Она вышла в коридор. С лестницы, которая вела на верхний этаж, доносился запах дров, медленно тлеющих в камине. Девочка представила себе кухонный стол из оливкового дерева, еще уставленный тем, что они не доели вечером, справляя праздник. В торте из хлеба и сахара, который мама испекла в дровяной печи, не хватало ровно трех кусков. Десять свечек она задула с первого раза, сидя у папы на коленях.
По мере того как она приближалась к родительской спальне, счастливые воспоминания уступали место мрачным предчувствиям.
Правило номер два: чужие опасны.
Девочка видела своими глазами: чужие забирали людей, увозили их прочь от родных и любимых. Никто не знал, куда их везли и что там с ними делалось. Или ей никто ничего не рассказывал, ведь она еще маленькая, не способна понять. Одно она знала точно: увезенные не возвращались.
Никогда.
– Папа, мама… Там снаружи кто-то есть, – проговорила она сбивчиво, но все-таки уверенная, что теперь ее уже нельзя считать маленькой.
Папа проснулся первым, через мгновение – мама. И оба со всем вниманием прислушались к словам девочки.
– Что ты слышала? – допытывалась мама, а папа схватил электрический фонарь, который всегда лежал возле постели.
– Меня позвали, – ответила девочка с запинкой: боялась, что ее станут ругать за то, что она нарушила одно из пяти правил.
Но никто ей ничего не сказал. Папа включил фонарь, прикрывая его ладонью, чтобы луч немного рассеял темноту в комнате, но при этом чужие не догадались, что обитатели дома проснулись.
Родители больше ничего не спрашивали. Думали, верить ей или нет. Не потому, что подозревали, будто девочка сказала неправду: знали, что она никогда не стала бы лгать о таких вещах. Просто требовалось установить, связан ее рассказ с реальностью или же нет. Девочка сама бы очень хотела, чтобы все это ей пригрезилось.
Мама и папа насторожились. Но не двинулись с места. Сидели молча, чуть приподняв голову, вслушиваясь в темноту – как радиотелескопы из ее книжки по астрономии, которые вперяются в неизвестность, скрытую в небесах, надеясь, но одновременно и боясь уловить сигнал. Ведь, как объяснял отец, то, что мы не одни во вселенной, необязательно хорошая новость: «инопланетяне могут и не подружиться с нами».
Текли нескончаемые секунды абсолютного покоя. Только ветер раскачивал ветви облетевших деревьев, жалобно скрипел на крыше ржавый железный флюгер, и потрескивали доски старого сеновала – будто фыркал спящий на дне океана кит.
Звякнул металл.
Ведро упало на землю. Ведро из старого колодца, если точнее. Папа привязал его между двумя кипарисами. Одна из звуковых ловушек, которые он устраивал каждый вечер вокруг всего дома.
Ведро было подвешено недалеко от курятника.
Папа хотел что-то сказать, но не успел: мама прикрыла ему рот рукой. Она, наверное, хотела предположить, что к дому подобрался какой-нибудь ночной хищник, куница или лиса, необязательно кто-то из чужих.
– Собаки, – прошептал отец.
Девочке только сейчас это пришло в голову. Папа был прав. Если ведро уронила лиса или куница, сторожевые псы залаяли бы, поднимая тревогу. Коль скоро они молчали, тому находилось только одно объяснение.
Кто-то заставил их замолчать.
При одной мысли о том, что с ее лохматыми друзьями могло случиться что-то плохое, у девочки к глазам подступили жгучие слезы. Изо всех сил она старалась не плакать: горе смешалось с внезапно накатившим страхом.
Родители просто переглянулись. Они уже знали, что делать.
Папа первым вылез из постели. Торопливо оделся, но обуваться не стал. Мама сделала то же самое, но, к изумлению девочки, улучив момент, когда папа смотрел в другую сторону, сунула руку под матрас, взяла оттуда какой-то маленький предмет и поспешно положила к себе в карман. Девочка не успела рассмотреть, что это было.
Поведение мамы ей показалось странным. Они с папой никогда не имели друг от друга секретов.
Прежде чем девочка смогла что-то спросить, мама дала ей второй фонарь, встала перед ней на колени и набросила ей на плечи одеяло.
– Помнишь, что нам сейчас нужно делать? – спросила она, пристально глядя девочке в глаза.
Девочка кивнула. Решимость в мамином взгляде и ей придала отваги. С тех пор как они поселились на заброшенном хуторке, все трое десятки раз отрабатывали процедуру, как это называл папа. До сегодняшней ночи ни разу не приходилось прибегать к ней.
– Крепче держи свою куклу, – велела мама, потом сжала ее маленькую ладошку в своей, горячей и сильной, и повела за собой.
Когда они спускались по лестнице, девочка на мгновение обернулась и увидела, как папа, вынув из чулана канистру, брызгает на стены верхнего этажа. Жидкость с резким запахом просачивалась сквозь щели в полу.
Внизу мама потащила ее в задние комнаты. Щепки впивались в босые ноги, девочка стискивала зубы, стараясь не вскрикивать от боли. Хотя могла и не стараться: поздно было скрывать свое присутствие. Там, снаружи, чужие уже все поняли.
Девочка слышала, как они окружают дом, готовясь войти.
Не в первый раз что-то или кто-то угрожал им в месте, которое они считали надежным. Но в конце концов им всегда удавалось избежать опасности.
Они с мамой прошли мимо стола из оливкового дерева, на котором оставался именинный торт с десятью задутыми свечками. Мимо эмалированной кружки, из которой она утром должна была бы пить молоко; мимо деревянных игрушек, которые папа для нее вырезал; мимо коробки с печеньем; мимо полок с книжками, которые они все вместе читали после ужина. Мимо всего, с чем они должны были попрощаться в очередной раз.
Мама подошла к камину, облицованному камнем. Пошарила в дымоходе. Нащупала конец железной цепи, почерневшей от копоти. Потянула на себя изо всей силы, и звенья стали наматываться на блок, закрепленный под крышей дома. Одна из известняковых плит под очагом начала сдвигаться. Но она была слишком тяжелая, без папы не справиться. Он и придумал такое приспособление. Так почему же медлит, не присоединяется к ним? От неожиданного сбоя в процедуре стало еще страшнее.
– Помоги мне, – велела мама.
Девочка схватилась за цепь, они стали тянуть вместе. В спешке мама задела локтем глиняную вазу, стоявшую на каминной полке. Они смотрели, не в силах этому помешать, как ваза падает на пол, разбивается. Отголосок глухого удара прокатился по всем комнатам дома. Через миг раздался громкий стук во входную дверь. Стук этот достиг их слуха как предупреждение.
Мы знаем, что вы там. Знаем, где вы. Мы пришли, чтобы забрать вас.
Мать и дочь еще энергичнее стали дергать цепь. Камень под очагом сдвинулся на достаточное расстояние. Мама высветила фонарем деревянную лесенку, которая вела в подпол.
Удары в дверь участились.
Они с мамой повернули голову к коридору и наконец увидели папу: тот нес в руках две бутылки, вместо крышек заткнутые мокрыми лоскутами. Раньше, в лесу, девочка видела, как отец поджег одну такую бутылку и бросил в засохшее дерево, которое моментально вспыхнуло.
Чужие бились во входную дверь; к великому изумлению всех троих, петли, на которых она держалась, начали выламываться из стены, а четыре засова, ее скреплявшие, все сильнее выгибались с каждым ударом.
В единый миг они поняли, что эта последняя преграда не сможет надолго сдержать нападавших.
Папа посмотрел на маму и дочку, потом на дверь, потом снова на них. На процедуру не оставалось времени. Тогда, недолго думая, он сделал им знак, мотнув головой, и в то же самое время одну из бутылок поставил на пол, но только затем, чтобы вытащить из кармана зажигалку.
Дверь с грохотом сорвалась с петель.
Пока орущие тени перепрыгивали через порог, папа бросил последний взгляд на них с мамой – на обеих вместе, словно заключая в объятие. Столько в эти секунды скопилось в глазах отца любви, сострадания и горечи, что боль прощания осталась сладостной навсегда.
Поджигая лоскут, папа слегка улыбнулся, только им двоим. Потом бросил бутылку и вместе с тенями исчез в пламени. Больше девочка ничего не видела, потому что мама толкнула ее в отверстие под камином и пошла следом, держась за конец цепи.
Затаив дыхание, спотыкаясь на каждом шагу, они спустились по деревянным ступенькам. Сверху донесся приглушенный грохот нового взрыва. Неразборчивые крики, топот. Сойдя вниз, в сырой подпол, мама отпустила цепь, чтобы механизм сработал, и каминная плита над ними закрылась. Но что-то где-то застопорилось, и осталась широкая щель. Мама дергала и тянула, пытаясь разблокировать шкив. Безрезультатно.
Согласно процедуре, семья должна была укрыться здесь, внизу, пока дом горел над их головами. Чужие могли испугаться и убежать или поверить, что все семейство погибло в огне. По плану, когда шум наверху утихнет, они с мамой и папой снова сдвинут каменную плиту и выберутся на поверхность.
Но что-то пошло не так. Все пошло не так. Прежде всего, папы не было с ними, и потом, проклятая плита закрылась не полностью. А наверху все уже полыхало. Дым заползал в щель, выкуривая их. Но из тесного подпола было не выбраться.
Мама потащила ее в самый дальний конец. В нескольких метрах от них в холодной земле под кипарисом был похоронен Адо. Они должны были вырыть его и унести с собой. Но им и самим теперь не убежать.
Мать сняла одеяло с ее плеч и спросила:
– Ты в порядке?
Девочка вся дрожала, прижимая к груди тряпичную куклу с одним-единственным глазом, но все же кивнула.
– Теперь послушай меня, – продолжала мать. – Сейчас ты должна быть очень храброй.
– Мама, мне страшно, я не могу дышать, – сказала девочка и закашлялась. – Давай выйдем отсюда, прошу тебя.
– Ты ведь знаешь, что, если мы выйдем, чужие заберут нас. Ты этого хочешь? – спросила она с упреком. – Мы принесли столько жертв, чтобы этого не случилось, а теперь должны сдаться?
Девочка подняла глаза к потолку. Чужих уже было слышно, чужие находились в нескольких метрах: пытались потушить огонь, чтобы добраться до них и увезти с собой.
– Я соблюдала все правила, – рыдая, оправдывалась девочка.
– Знаю, милая, – утешала ее мама, гладила по щеке.
Над ними дом голосов, охваченный пламенем, стонал, словно раненый исполин. От этого разрывалось сердце. Через неплотно прилегающую известняковую плиту теперь проникал густой черный дым.
– У нас осталось немного времени, – объявила мама. – Но есть еще способ уйти…
Она сунула руку в карман и что-то оттуда вынула. Тайный предмет, который она прятала даже от папы, оказался стеклянным пузырьком.
– По глотку каждой.
Мама вытащила из горлышка пробку и протянула девочке пузырек.
Та заколебалась.
– Что это?
– Не спрашивай, пей.
– И что будет после? – спросила она в испуге.
– Это водичка для забывания… Мы заснем, а когда проснемся, все будет кончено.
Но девочка не верила ей. Почему эта вода не упоминалась в процедуре? Почему папа о ней ничего не знал?
Мама схватила ее за плечи, встряхнула.
– Какое правило номер пять?
Девочка не понимала, зачем сейчас вспоминать правила.
– Правило номер пять, быстро, – настаивала мать.
– Если чужой зовет тебя по имени, беги.
– Номер четыре?
– Никогда не приближаться к чужим и не позволять им приближаться к тебе, – отвечала девочка голосом, уже прерывающимся от плача. – Третье правило: никогда не называть чужим своего имени, но я не называла, честное слово, – вдруг стала она оправдываться, вспомнив, с чего все началось этой ночью.
Голос мамы смягчился:
– Давай второе правило.
Девочка, через секунду:
– Чужие опасны.
– Чужие опасны, – очень серьезно повторила мать. Потом поднесла пузырек к губам и отпила глоток. Снова протянула девочке. – Люблю тебя, моя милая.
– И я люблю тебя, мама.
Девочка посмотрела матери в глаза. Потом перевела взгляд на пузырек в ее руке. Взяла его и уже без колебаний проглотила все, что там оставалось.
Правило номер один: доверять только маме и папе.
1
Для ребенка семья – самое надежное место в мире. Или самое опасное.
Пьетро Джербер старался никогда об этом не забывать.
– Ну что, Эмильян, не расскажешь мне о кладовке?
Шестилетний мальчик с кожей тонкой до прозрачности, похожий от этого на привидение, по-прежнему молчал. Даже не поднял взгляда от крепости из разноцветных кубиков, которую они строили вместе. Джербер его не торопил, терпеливо продолжая прибавлять кирпичики к стенам. Опыт ему подсказывал, что Эмильян сам найдет подходящий момент, чтобы заговорить.
Каждый ребенок живет в своем времени, любил повторять Джербер.
Вот уже минут сорок он сидел по-турецки перед Эмильяном на паласе всех цветов радуги в комнате без окон, которая находилась на третьем этаже дворца четырнадцатого века, расположенного на улице делла Скала, в историческом центре Флоренции.
С самого начала здание предназначалось для благотворительных целей, служило «приютом для беспризорных мальчиков», то есть для детей, брошенных семьями, слишком бедными, чтобы их содержать, а также незаконнорожденных, сирот и подростков, уличенных в какой-то противоправной деятельности.
Со второй половины девятнадцатого века во дворце обосновался суд по делам несовершеннолетних.
Строение представало почти безликим, терялось на фоне блистательных зданий, окружающих его, самым абсурдным образом сосредоточенных на немногих квадратных километрах, что и превращает Флоренцию в один из красивейших городов мира. Но и его, это строение, нельзя было счесть заурядным. Во-первых, в связи с его назначением: изначально здесь находилась церковь. Во-вторых, благодаря сохранившей фреске Боттичелли, изображающей Благовещение[1].
В-третьих, благодаря игровой комнате.
Кроме кубиков, которыми занялся Эмильян, там были кукольный домик, железная дорога, разные машинки, гоночные и грузовые, лошадка-качалка, игрушечная кухня, чтобы понарошку готовить всякую вкуснятину, и вдобавок великое изобилие плюшевых зверушек. Имелся там и низенький столик с четырьмя стульчиками, и все необходимое для рисования.
Но то была чистой воды фикция, ибо все на этих двадцати квадратных метрах служило тому, чтобы скрыть истинное назначение места.
Игровая комната со всех точек зрения представляла собой зал суда.
Одну из стен занимало огромное зеркало, за которым скрывались судья и представитель обвинения, а также обвиняемые и их защитники.
Такая планировка была задумана, чтобы не повредить психике маленьких потерпевших, которые должны были дать показания с минимальным ущербом для себя. Чтобы малышу было легче облечь свой опыт в слова, каждый предмет в этой комнате, избранный и продуманный детскими психологами, играл определенную роль в пересказе или в интерпретации фактов.
Дети часто выбирали плюшевого мишку или куклу и во время рассказа брали на себя роль своих мучителей и обращались с игрушками так же, как взрослые обращались с ними. Иные предпочитали не говорить, а рисовать, иные сочиняли сказки, куда вплеталось повествование о том, что им довелось перенести.
Но иногда дети откровенничали невольно, на подсознательном уровне.
Именно поэтому с постеров, развешенных по стенам, за играми маленьких гостей следили не только веселые сказочные персонажи, но и скрытые камеры. Каждое слово, жест, особенность поведения фиксировались, чтобы служить доказательством при вынесении приговора. Но глаза электроники были не в состоянии уловить некоторые оттенки. Детали, которые Пьетро Джербер научился безошибочно различать только к тридцати трем годам.
Продолжая вместе с Эмильяном строить крепость из цветных кубиков, он пристально изучал мальчика, в надежде уловить малейший знак того, что ребенок вот-вот раскроется.
В помещении поддерживалась температура в двадцать три градуса, лампы на потолке излучали голубоватый свет, а метроном в глубине отбивал ритм сорок ударов в минуту.
Наиболее благоприятная атмосфера для полной релаксации.
Если у Джербера спрашивали, кто он по профессии, он никогда не отвечал: «детский психолог, специалист по гипнозу». Употреблял выражение, заимствованное у того, кто научил его всему, и наилучшим образом обозначавшее смысл его усилий.
Улеститель детей.
Джербер отдавал себе отчет в том, что многие считают гипноз чем-то вроде алхимии, с помощью которой можно манипулировать чужим разумом; полагают, что человек под гипнозом не контролирует себя и свое сознание, находясь во власти гипнотизера, который может заставить его сказать или сделать что угодно.
На самом деле, это всего лишь техника, призванная помочь людям, пребывающим в растерянности, вновь обрести связь с самими собой.
Никакой потери контроля, никакого отключения сознания – маленький Эмильян играет, как всегда: вот и доказательство. Благодаря гипнозу уровень бодрствования понижается, пока не исчезнут помехи внешнего мира: исключая всякое стороннее вмешательство, гипноз помогает углубиться в себя.
Но Джербер в своей работе преследовал и более конкретную цель: научить детей наводить порядок в их еще такой хрупкой памяти, колеблющейся между игрой и реальностью, и отличать правду от того, что таковой не является.
Между тем время, выделенное для сеанса с Эмильяном, истекало, и эксперт мог представить себе, как хмурится Бальди, судья по делам несовершеннолетних, стоящая за зеркалом вместе с остальными. Она назначила психолога консультантом по этому делу, она же давала инструкции по поводу вопросов, какие следует задать ребенку. Перед Джербером стояла задача определить лучшую стратегию, направленную на то, чтобы побудить Эмильяна снабдить их именно данной конкретной информацией. Если ничего не получится в ближайшие десять минут, придется перенести слушание дела на другое число. Психолог, однако, не хотел сдаваться: они встречались уже в четвертый раз, наметилось некое продвижение вперед, крохотными шажками, но не настоящий прогресс.
Эмильян – мальчик-привидение – должен был повторить в зале суда то, что однажды неожиданно выложил школьной учительнице. Но с тех пор он ни разу не упомянул «историю с кладовкой», и в этом состояла проблема.
Нет истории – нет доказательств.
Прежде чем признать неудачной и эту попытку, гипнотизер решил применить крайнюю меру.
– Не хочешь говорить о кладовке – я с тобой не играю, – сказал он и, не дожидаясь реакции малыша, прекратил строить крепость. Мало того, взял несколько кубиков и стал возводить другое здание, рядом.
Эмильян это заметил и, оторопев, уставился на взрослого.
– Я рисовал у себя в комнате, когда услышал считалочку… – наконец проговорил он еле слышно, опустив глаза.
Джербер не выказал никакой реакции, ждал, что он скажет дальше.
– О любопытном мальчишке. Знаешь ее? – Эмильян повторил нараспев. – Вот любопытный мальчишка – в двери отодвинул задвижку – в темноте кромешной – голос слышится нежный – лукавое привидение – заманивает вареньем – любопытному мальчишке хочет разорвать штанишки.
– Знаю, – признал психолог, продолжая играть как ни в чем не бывало, разговор, дескать, как разговор, ничего особенного.
– Я пошел посмотреть, откуда это слышится…
– И что обнаружил?
– Это слышалось из кладовки.
Джерберу впервые удалось вывести Эмильяна за пределы игровой комнаты: теперь они находились в доме, где жил ребенок. Нужно было продержать его там как можно дольше.
– Ты пошел посмотреть, кто там, в кладовке? – спросил гипнотизер.
– Да, я пошел вниз.
Такое признание Эмильяна было важно. В награду психолог протянул ему кубик, позволяя участвовать в строительстве новой крепости.
– Там, наверное, темно. Тебе не страшно было идти вниз одному? – Психолог не спрашивал, утверждал, в первый раз проверяя надежность показаний маленького свидетеля.
– Нет, – ответил мальчик без малейшего колебания. – Там горел свет.
– И что ты там увидел?
Снова колебание. Джербер перестал передавать кубики.
– Дверь не была закрыта на ключ, как всегда бывает, – продолжал мальчик. – Мама говорит, что я не должен ее открывать, что это опасно. Но в тот раз дверь была приоткрыта. Можно было увидеть, что там внутри…
– Ты подглядывал?
Малыш кивнул.
– Разве ты не знаешь, что подглядывать некрасиво?
Такой вопрос мог привести к непредсказуемым последствиям. Услышав упрек, Эмильян мог замкнуться в себе и перестать рассказывать. Но чтобы получить неопровержимые доказательства, Джербер должен был рискнуть. Ребенок, который не в состоянии понять предосудительность собственных действий, не может считаться надежным свидетелем, когда дело касается действий других людей.
– Знаю, но тогда я забыл, что подглядывать некрасиво, – стал оправдываться малыш.
– И что ты увидел в кладовке?
– Там были люди… – только и сказал мальчик.
– Дети?
Эмильян покачал головой.
– Значит, взрослые.
Мальчик кивнул.
– И что они делали? – подстегнул его психолог.
– Они были без одежды.
– Как в бассейне или на море или как под душем?
– Как под душем.
Эта информация представляла собой значительный прогресс в показаниях: для детей нагота взрослых – табу. Но Эмильян преодолел препятствие, перестал стесняться.
– На них были маски, – добавил он, хотя Джербер больше ничего не спрашивал.
– Маски? – притворился изумленным психолог, которому была известна история, пересказанная учительницей Эмильяна. – Какие маски?
– Из пластика, с резинкой сзади, которые закрывают лицо, – пояснил малыш. – Животные.
– Животные? – переспросил психолог.
Мальчик начал перечислять.
– Кот, овца, свинья, филин… и волк, да, волк там тоже был, – выпалил он единым духом.
– Почему они были в масках, как ты думаешь?
– Они играли.
– Во что они играли? Ты знаешь такую игру?
Ребенок на мгновение задумался.
– Делали штуки из интернета.
– Штуки из интернета?… – Джербер хотел, чтобы Эмильян выразился точнее.
– У Лео, моего школьного друга, есть старший брат, ему двенадцать лет. Однажды брат Лео показал нам видео в интернете, там все были голые и как-то странно обнимались и странно целовались.
– Тебе понравилось то видео?
Эмильян поморщился:
– А потом брат Лео велел хранить секрет, потому что это игра для взрослых.
– Понятно, – нейтральным тоном проговорил психолог, избегая оценивать сказанное. – Ты очень храбрый, Эмильян, я бы на твоем месте до смерти перепугался.
– Мне не было страшно, потому что я их знал.
Психолог сделал паузу: наступил самый деликатный момент.
– Ты знал, кто были эти люди в масках?
На миг забыв о крепости, мальчик-привидение поднял взгляд на зеркальную стену. За этим стеклом пять человек молча ждали его ответа.
Кот, овца, свинья, филин. И волк.
Джербер знал, что в данный момент он не должен помогать Эмильяну. Надеялся только, что малыш, опираясь на опыт, накопленный за шесть лет жизни, найдет в себе мужество назвать по именам участников кошмара.
– Папа, мама, дедушка, бабушка. И отец Лука.
Для ребенка семья – самое надежное место в мире. Или самое опасное, повторил про себя Пьетро Джербер.
– Хорошо, Эмильян. теперь мы с тобой вместе посчитаем в обратном порядке. Десять…
2
Закончив сеанс, Джербер проверил сотовый телефон, у которого был отключен звук, и обнаружил только один звонок, с неизвестного номера. Пока он раздумывал, следует ли перезвонить, Бальди напустилась на него с вопросом:
– Что ты об этом думаешь?
Судья даже не дождалась, пока Джербер закроет за ними дверь. Скорее всего, сомнения мучили ее с того самого момента, когда Эмильян высказался до конца.
Психолог прекрасно знал, насколько судье не терпится поделиться с ним впечатлением от этих свидетельских показаний. Но корень вопроса был в другом.
Сказал ли Эмильян правду?
– У детей пластичный ум, – заговорил эксперт. – Иногда они создают ложные воспоминания, но это необязательно выдумки: дети искренне убеждены, что пережили то или иное событие, даже совершенно абсурдное. У них настолько живая фантазия, что самые странные вещи им кажутся настоящими, но настолько еще незрелая, что не позволяет отличить реальное от воображаемого.
Очевидно, для Бальди такого объяснения было недостаточно.
Перед тем как сесть за стол, она направилась к окну и распахнула его настежь, будто в разгаре лета, хотя стояло зимнее утро, холодное и хмурое.
– По одну сторону у меня молодая пара приемных родителей, которые долго стремились к тому, чтобы им доверили ребенка; заботливые дедушка с бабушкой, способные порадовать любого внучка, и священник, который уже много лет бьется за то, чтобы вырывать несовершеннолетних, таких как Эмильян, из невыносимых условий и обеспечивать им будущее, полное любви… По другую – этот очаровашка, этот живчик, который нам рассказывает о какой-то святотатственной языческой оргии.
Под сарказмом судья скрывала разочарование, и Джербер понимал, что ее выбило из колеи.
Эмильян родился в Белоруссии, гипнотизер читал и перечитывал его личное дело. Согласно документам, в два с половиной года его забрали из семьи, где ребенок подвергался дурному обращению во всех его видах. Мама с папой забавлялись, испытывая волю ребенка к тому, чтобы пребывать в этом мире, этакая игра на выживание. Целыми днями его оставляли голодным, плачущим, барахтающимся в собственных экскрементах. К счастью, напомнил себе Джербер, у детей до трех лет нет памяти. Но естественно, где-то в мозгу Эмильяна запечатлелось что-то от былого заточения.
Отец Лука нашел его в каком-то приюте и сразу выделил среди остальных детей: Эмильян отставал в развитии и с трудом говорил. Священник, возглавлявший ассоциацию по заочному усыновлению, активно действовавшую на территории бывшего Советского Союза, нашел для мальчика семью, молодую супружескую пару из своих прихожан; после бесконечных и дорогостоящих бюрократических процедур тем наконец удалось забрать ребенка в Италию.
Прожив год в счастливой семье, Эмильян догнал своих сверстников и уже довольно бегло говорил по-итальянски. Но когда, казалось бы, все устроилось как нельзя лучше, у него проявились симптомы ранней анорексии.
Отказываясь от еды, он превратился в мальчика-привидение.
Приемные родители водили его от одного врача к другому, не скупясь на расходы, но никто не был в силах ему помочь. Врачи, однако, сходились на том, что источник столь серьезных нарушений питания следует искать в прошлом ребенка, когда он был заброшен и подвергался дурному обращению.
Несмотря на бессилие врачей, родители не сдались. Приемная мать даже оставила работу, чтобы полностью посвятить себя сыну. При таком положении вещей не было ничего удивительного в том, что судью Бальди крайне огорчало очередное несчастье, обрушившееся на женщину и ее мужа.
– Не думаю, что у нас есть альтернатива, – заметил Джербер. – Мы должны продолжать работу и выслушать все, что имеет нам сказать Эмильян.
– Не знаю, захочется ли мне опять торчать за зеркалом и слушать его, – с оттенком горечи проговорила судья. – Когда ты маленький, у тебя нет выбора: ты любишь тех, кто произвел тебя на свет, даже если они причиняют тебе зло. Прошлое Эмильяна в Белоруссии – черная дыра, зато теперь его положение кардинальным образом изменилось, и он обнаружил, что располагает мощным оружием: любовью своей новой семьи. И безнаказанно обращает эту любовь против них самих, точно как его настоящие родители поступали с ним. И только затем, чтобы испытать, каково это – быть тем, кто мучает.
– Жертва становится палачом, – согласился Джербер, который по-прежнему стоял перед столом судьи, совершенно окоченевший.
– Вот именно. – Судья потрясла пальцем перед лицом психолога, подчеркивая, что тот добрался-таки до сути дела. Ей явно требовалось выплеснуть свои чувства.
Анита Бальди была первой из представителей правосудия, с кем Джербер познакомился, когда только прокладывал себе путь в профессии, собственно, поэтому она так запросто и обращалась с ним. Эксперт, однако, никогда бы не посмел держать себя с ней так же. За годы знакомства он научился терпеть нотации и излияния чувств: Бальди, наверное, была самой справедливой, самой сострадательной из всех, с кем он имел дело в этой среде. Ей оставалось несколько месяцев до пенсии; замужем она никогда не была и всю свою жизнь посвятила самоотверженной заботе о детях, которых у нее самой не было. На стене за ее спиной висели рисунки, подаренные ребятишками, проходившими через эти мрачные комнаты. На столе громоздились папки с судебными делами, а между ними сверкали россыпи разноцветных карамелек.
Среди множества папок лежала и папка с делом Эмильяна. При взгляде на нее Джербер подумал, что для мальчика-привидения было, увы, недостаточно сменить страну, имя и город, чтобы обрести также и новую жизнь. Вот почему на этот раз Анита Бальди ошибалась.
– Все не так просто, – заявил детский психолог. – Боюсь, за этим кроется что-то еще.
Услышав это, судья подалась вперед.
– Что заставляет тебя так думать?
– Вы заметили, в какой момент мальчик взглянул на зеркало? – спросил Джербер; интуиция подсказывала ему, что у Бальди не найдется этому объяснения.
– Да, и что?
– Несмотря на состояние легкого транса, Эмильян знал, что кто-то смотрит на него с той стороны.
– Полагаешь, он нас раскусил? – изумилась судья. – Тогда еще более вероятно, что он все выдумал, – с удовлетворением заключила она.
Но у Джербера на этот счет сложилось твердое убеждение.
– Эмильян хотел, чтобы мы были там, и хотел также, чтобы там была его новая семья.
– Зачем?
– Пока не знаю, но выясню.
Судья обдумала точку зрения Джербера.
– Если Эмильян солгал, он это сделал с какой-то определенной целью. То же самое – если сказал правду, – подытожила она, уловив наконец смысл, заключенный в словах психолога.
– Доверимся ему, посмотрим, куда он хочет нас привести своим рассказом, – предложил Джербер. – Возможно, за этим ничего не последует и он начнет сам себе противоречить, или же это направлено к чему-то, чего мы пока не постигаем.
Ждать оставалось недолго: делам, касавшимся несовершеннолетних, быстро давали ход, и следующий сеанс должен был состояться уже через неделю.
За окном раздался раскат грома. Над городом собиралась гроза, и даже с четвертого этажа можно было слышать возгласы туристов, которые бежали по улице делла Скала, ища, где укрыться.
Надо бы уйти поскорее, чтобы не попасть под дождь, заволновался Пьетро Джербер, хотя его центр находился в нескольких кварталах от здания суда.
– Если это все… – сказал он и сделал шаг к двери, в надежде, что судья распрощается с ним. Но Бальди сменила тему:
– Как там твоя жена, сын?
– Хорошо, – с явным нетерпением отозвался Пьетро.
– Держись за свою супругу, береги ее. Сколько исполнилось Марко?
– Два года. – Джербер глаз не сводил с того, что творилось за окном.
– Знаешь, я ведь вижу, что дети доверяют тебе, – продолжала судья, вновь возвращаясь к делу Эмильяна. – Ты не только побуждаешь их раскрыться, они с тобой чувствуют себя в безопасности. – Потом наступила пауза, полная сдержанной скорби.
«Почему в каждый наш разговор вклинивается пауза, полная сдержанной скорби?» – спросил себя Джербер. Этот краткий миг молчания служил прелюдией к хорошо ему известной фразе.
В самом деле, судья добавила:
– Он бы гордился тобой.
При упоминании, пусть косвенном, синьора Б. Джербер напрягся.
К счастью, в этот момент в кармане у него зазвонил сотовый. Джербер вытащил его, посмотрел на дисплей. Тот же номер, с которого звонили во время сеанса. Наверное, кто-то из родителей или опекунов кого-нибудь из его юных пациентов, подумал он. Но заметил, что у номера международный код. Скорее всего, какое-нибудь занудство – колл-центр с очередным «предложением, от которого нельзя отказаться». Так или иначе, это великолепный предлог, чтобы распрощаться.
– Если не возражаете. – Пьетро показал сотовый, намекая, что звонок деловой.
– Конечно-конечно, иди. – Бальди наконец отпустила его движением руки. – Передавай привет жене и поцелуй за меня Марко.
Джербер мчался по лестнице стремглав, надеясь добежать до своего центра, прежде чем разразится гроза.
– Как вы сказали, простите? – кричал он в трубку.
Помехи, разряды – связь была очень плохая. Определенно тому виной толщина стен старинного дворца.
– Погодите, я не слышу вас, – твердил он, прижимая к уху мобильник.
Джербер переступил порог и оказался на улице в тот самый миг, когда обрушился ливень. Его тут же затянуло в водоворот прохожих, спасающихся от апокалипсиса. Подняв воротник поношенного плаща фирмы «Burberry» и закрывая рукой свободное ухо, он силился понять, чего хочет от него женский голос.
– Я говорю, меня зовут Тереза Уолкер, мы с вами коллеги, – повторила женщина по-английски, но с акцентом, какого психолог еще не слышал. – Я звоню из Аделаиды, это в Австралии.
Джербер изумился, осознав, что ему звонят буквально с другого конца планеты.
– Чем могу быть полезен вам, доктор Уолкер? – спросил он, ускоряя шаг под яростными потоками воды.
– Я нашла ваш телефон на сайте Всемирной ассоциации психического здоровья, – объяснила женщина свой звонок. – Хочу предложить вашему вниманию один случай.
– Если вы согласны немного подождать, я через пятнадцать минут буду у себя в центре, и вы мне все как следует объясните. – Перепрыгнув через лужу, Джербер свернул в переулок.
– Я не могу ждать, – встревожилась Уолкер. – Она уже едет.
– Кто едет? – осведомился психолог. Но не успел он задать вопрос, как его охватило предчувствие.
И ливень припустил со всей силы.
3
Змеящаяся дрожь.
Джербер не мог по-другому определить это скользкое, маслянистое, понемногу охватывающее его ощущение. Может быть, поэтому укрылся в одной из многих подворотен проулка.
Нужно было вникнуть в ситуацию.
– Что вы знаете о СА? – продолжала Уолкер.
СА, или селективная амнезия.
Джербер по-прежнему недоумевал. Эту тему усиленно обсуждали, вопрос был спорным. Для одних психологов речь шла о расстройстве, которое трудно диагностировать, другие наотрез отказывались признавать, что такая вообще существует.
– Немного, – признался он, и это была правда.
– Но вы сами как относитесь к такому феномену?
– Скептически, – заявил он. – Мой профессиональный опыт показывает, что невозможно исключить из памяти отдельные воспоминания.
Приверженцы противоположной теории, наоборот, считали, что речь идет о механизме самозащиты, который психика запускает на подсознательном уровне. Чаще всего такое происходит в детстве. Сироты, попавшие в новые семьи, внезапно забывают, что они приемные; дети, получившие серьезные травмы или подвергавшиеся дурному обращению, полностью стирают из памяти пережитое. Однажды и сам Джербер столкнулся с подобным случаем: ребенок присутствовал при том, как отец убил мать, а потом покончил с собой. Через несколько лет психолог снова встретил этого мальчика: он учился в средней школе и был убежден, что его родители умерли естественной смертью. И все же одного эпизода недостаточно, чтобы Джербер поменял точку зрения.
– Я тоже думала, что такое невозможно, – неожиданно согласилась с ним доктор Уолкер. – Если предположить, что селективная амнезия существует, она не связана с физиологическими причинами вроде повреждения мозга. Шоком ее тоже нельзя объяснить, ведь она проявляется, когда травмирующее событие уже давно произошло.
– Я бы сказал, здесь скорее подавление, результат свободного выбора, – развил ее мысль Джербер. – Вот почему было бы неправильно говорить об амнезии.
– Но вопрос в том, можно ли забывать выборочно, – продолжала Уолкер, – так, будто психика решает сама для себя, что пережить травму можно, только изо всех сил ее отрицая: она прячет от нас этот тяжелый груз с единственной целью – позволить нам двигаться вперед.
Многие сочли бы благословением способность забывать неприятности, подумал Джербер. Такова и химерическая цель любой фармакологической индустрии: найти таблетку, которая помогла бы нам забыть самые мрачные эпизоды нашей жизни. Но гипнотизер считал, что события, которые с нами происходят, даже самые неприятные, делают нас такими, какие мы есть. Составляют часть нашей личности, хотя мы и делаем все, чтобы их забыть.
– У детей, которым вроде бы поставили диагноз СА, детские воспоминания вернулись и спонтанно вышли на поверхность, когда они стали взрослыми, – напомнил психолог. – А последствия внезапного возвращения памяти всегда непредсказуемы и зачастую причиняют вред.
Последний довод Уолкер выслушала со всем вниманием и ничего не возразила.
– Но к чему все эти вопросы? – под шум дождя осведомился Пьетро Джербер, укрывшийся в подворотне. – Что за странный случай вы хотели предложить моему вниманию?
– Несколько дней назад женщина по имени Ханна Холл явилась во мне в кабинет, чтобы подвергнуться лечению гипнозом: первоначальной целью было упорядочить мучительные воспоминания. Однако во время первого сеанса кое-что произошло…
Уолкер надолго замолчала. Джербер понял: она ищет подходящие слова, дабы объяснить, что именно ее взволновало.
– За долгие годы практики мне никогда не доводилось присутствовать при подобной сцене, – заговорила доктор Уолкер, опытный профессионал, будто в чем-то оправдываясь. – Сеанс начался как нельзя лучше: пациентка поддавалась гипнозу, шла на контакт. И вдруг принялась кричать. – Она запнулась, ей было трудно рассказывать дальше. – У нее внезапно всплыло воспоминание об убийстве, которое произошло, когда она была еще ребенком.
– Не понимаю, почему вы не убедили ее обратиться в полицию, – вмешался Джербер.
– Ханна Холл не рассказала, как произошло преступление, – уточнила коллега. – Но я убеждена, что оно совершилось на самом деле.
– Пусть так, но почему вы препоручаете это дело мне?
– Потому что жертва похоронена в Италии, где-то среди тосканских полей, и никто так и не узнал о случившемся, – заявила Уолкер. – Ханна Холл полагает, что вытеснила из памяти произошедшее, поэтому едет туда: хочет вспомнить, что на самом деле случилось.
Ханна Холл едет во Флоренцию. Еще не зная ее, Джербер насторожился.
– Простите, мы говорим о взрослой женщине, верно? – перебил он собеседницу. – Вы ошиблись, доктор: вам следует позвонить кому-то другому, ведь я детский психолог.
У Джербера не было намерения обидеть коллегу, но он по непонятной причине чувствовал себя неловко.
– Эта женщина нуждается в помощи, а я отсюда ничего не могу сделать, – продолжала Тереза Уолкер как ни в чем не бывало, даже не замечая его попыток отвертеться. – Мы не можем игнорировать ее рассказ.
– Мы? – Джербер остолбенел: он-то каким образом к этому причастен?
– Вы не хуже меня знаете, что не рекомендуется прерывать лечение гипнозом, – настаивала собеседница. – Что это может серьезно повредить психику.
Он это знал и понимал, что ситуация чревата нарушением медицинской этики.
– Моим пациентам самое большее двенадцать-тринадцать лет, – защищался Джербер.
– Ханна Холл утверждает, что убийство произошло до того, как ей исполнилось десять. – Уолкер стояла на своем, вовсе не собираясь сдаваться.
– А вдруг она мифоманка, вы не рассматривали такую возможность? – предположил Джербер, упорно не желавший иметь ничего общего с этой историей. – Настоятельно советую обратиться к психиатру.
– Она уверяет, что жертва – мальчик по имени Адо.
Фраза повисла в воздухе посреди плеска дождя. У Пьетро Джербера больше не было сил бороться.
– Может быть, невинное дитя, погребенное неизвестно где, заслуживает того, чтобы мы узнали правду, – спокойно продолжала коллега.
– Что я должен сделать? – сдался психолог.
– У Ханны нет никого в целом мире: представляете, она даже не пользуется сотовой связью. Но она обещала, что, приехав во Флоренцию, меня об этом оповестит; когда это произойдет, я направлю ее к вам.
– Да, но что я должен сделать? – повторил Джербер свой вопрос.
– Выслушать ее, – просто ответила Уолкер. – Внутри этой взрослой женщины живет девочка, которая хочет выговориться: кто-то должен войти с ней в контакт и выслушать ее.
Знаешь, я ведь вижу, что дети доверяют тебе.
Так недавно сказала судья Бальди.
Ты не только побуждаешь их раскрыться, они с тобой чувствуют себя в безопасности… Он бы гордился тобой.
Синьор Б. ни за что бы не отступил.
– Доктор Уолкер, вы уверены, что через столько лет есть смысл возвращаться к этому? Даже если под гипнозом получится извлечь из памяти вашей пациентки воспоминание о том, что случилось с Адо, оно уже будет замутнено временем и пережитым опытом, искажено событиями последующей жизни.
– Ханна Холл говорит, что знает, кто убил ребенка, – перебила его Уолкер.
Джербер запнулся. Снова возникло неприятное ощущение, такое же как в начале разговора.
– И кто же? – выдавил он через силу.
– Она сама.
4
Как выглядит девочка, убившая ребенка? Согласившись заняться этим странным случаем, Пьетро Джербер долго задавал себе этот вопрос.
Он впервые увидел эту девочку, принявшую вид взрослой женщины, в восемь часов серого зимнего утра: Ханна Холл сидела на ступеньке, посередине последнего пролета лестницы, ведущей к площадке, на которую выходила дверь его центра.
Улеститель детей – насквозь промокший плащ «burberry», руки в карманах – застыл как вкопанный, глядя на хрупкую женщину, которую никогда не видел, но которую тотчас же узнал.
Ханну озарял слабый свет из окна, Джербер же оставался в тени. Женщина не заметила его появления. Она смотрела наружу, на густой, мелкий дождик, падающий на улицу Черки, на еле видную издалека площадь Синьории.
Джербер, удивляясь сам себе, не мог оторвать от нее взгляда. Незнакомка вызвала у него необычайное любопытство. Их разделяло несколько ступенек, он, протянув руку, мог дотронуться до длинных белокурых волос, стянутых в хвост простой эластичной резинкой.
У него возникло странное желание приласкать ее – из-за внезапно вспыхнувшего чувства острой жалости.
Черный свитер с высоким воротом был ей явно велик и доходил до бедер. Черные джинсы, черные сапожки на невысоком каблуке. Черную сумку на длинном ремешке Ханна Холл держала у себя на коленях.
Джербер удивился, что при ней нет пальто или другой теплой одежды. Определенно, как многие иностранцы, она не представляла, как холодно бывает здесь в это время года. Кто знает, почему все думают, что в Италии вечное лето.
Ханна сидела сгорбившись, сплетя руки на животе, зажав сигарету в пальцах правой, которые едва виднелись из-под слишком длинного рукава. Окутанная легким облачком дыма, она была погружена в свои мысли.
Психологу было достаточно одного взгляда, чтобы все о ней понять.
Тридцать лет, одежда заурядная, вид неухоженный. Черный цвет выбран, чтобы оставаться незаметной. Легкая дрожь в руках – побочный эффект лекарств, которые она принимала, психотропных или антидепрессантов. Обкусанные ногти и поредевшие брови говорили о непроходящем тревожном состоянии. Бессонница, головокружения, время от времени панические атаки.
Для такой патологии не имелось названия. Но психолог видел десятки людей, подобных Ханне Холл: у всех был такой вид, будто через мгновение они провалятся в бездну.
Тем не менее Пьетро Джербер был не вправе лечить взрослую женщину, это не входило в его компетенцию. Как и сказала Тереза Уолкер, он должен поговорить с девочкой.
– Ханна? – окликнул он тихо, чтобы не напугать ее.
Женщина резко обернулась.
– Да, это я, – подтвердила она по-итальянски без малейшего акцента.
У нее были изящные черты. Никакой косметики. Мелкие морщинки в уголках голубых глаз, невероятно грустных.
– Я ждал вас к девяти, – сказал Джербер.
Женщина подняла руку, взглянула на маленькие пластмассовые часики.
– И я ожидала, что вы придете к девяти.
– Тогда извините за преждевременный приход, – улыбнулся Джербер.
Но Ханна оставалась серьезной. Психолог понял, что она не уловила иронии, но решил, что, хотя женщина и говорит по-итальянски правильно, все-таки существует некий языковой барьер.
Джербер прошел вперед, порывшись в карманах, отыскал ключи и открыл центр.
Войдя, скинул мокрый плащ, включил свет в коридоре, прошелся по комнатам, проверяя, все ли в порядке, заодно показывая путь необычной пациентке.
– Как правило, по утрам в субботу здесь никого не бывает.
Он и сам должен был находиться в Лукке, в гостях у друзей, вместе с женой и сыном, но пообещал Сильвии, что они туда поедут на следующий день. Краем глаза заметил, как Ханна сплюнула в мятый бумажный платок, потушила там окурок и все вместе положила в сумку. Женщина покорно следовала за ним, не говоря ни слова, стараясь сориентироваться на обширном мансардном этаже старинного дворца.
– Я решил принять вас сегодня, чтобы избежать лишних вопросов относительно вашего присутствия здесь. – или чтобы она не чувствовала себя неловко, подумал Джербер, но не стал этого говорить. Обычно во всех комнатах резвились дети.
– Чем именно вы занимаетесь, доктор Джербер?
Тот завернул манжеты рубашки на рукава оранжевого пуловера, обдумывая наименее сложный вариант ответа.
– Наблюдаю несовершеннолетних с различными психологическими проблемами. Некоторых мне поручают судебные органы, но иногда родители сами приводят сюда своих детей.
Женщина промолчала. Так и стояла, вцепившись в свою сумку; Джербер подумал, что Ханна его боится, и решил создать непринужденную обстановку.
– Выпьете кофе? Или вы предпочитаете чай? – предложил он.
– Чай, пожалуйста. Два кусочка сахара, если вас не затруднит.
– Сейчас принесу, а вы пока располагайтесь в моем личном кабинете.
Он указал на одну из двух дверей в конце коридора, единственную открытую. Но Ханна направилась к той, что располагалась напротив.
– Нет, не туда, – вскричал Джербер торопливо, даже немного резко.
Ханна застыла на месте.
– Извините.
Эту комнату не открывали три года.
Кабинет улестителя детей, расположенный под самой крышей, был уютным и приветливым.
Скошенный вправо потолок, стропила на виду, дубовый пол, камин, облицованный камнем. Большой красный ковер, усеянный деревянными и мягкими игрушками, жестяные коробки, полные карандашей и цветных мелков. На раздвижных полках научные труды соседствовали со сказками и раскрасками.
Кресло-качалка сразу привлекало внимание маленьких пациентов, именно туда они охотно садились на время сеансов.
Дети не замечали, что в кабинете не хватает письменного стола. Психолог сидел в офисном кресле из «Икеа», обитом черной кожей, с классической отделкой под палисандр, а рядом притулился столик вишневого дерева, на нем – метроном, запускавшийся на время гипноза, блокнот, авторучка и фотография в рамке, которую Пьетро Джербер всегда клал изображением вниз.
Больше в комнате не было никакой мебели.
Когда Джербер вернулся к Ханне Холл с двумя дымящимися чашками, куда уже был насыпан сахар, та стояла посреди кабинета, оглядываясь вокруг и прижимая к себе сумку: явно не знала, куда ей сесть.
– Простите, – спохватился психолог, вдруг поняв, что она стесняется садиться в кресло-качалку. – Подождите секунду.
Он поставил чай на столик и вскоре вернулся с обитым велюром креслицем, которое позаимствовал из зала ожидания.
Ханна Холл уселась. Спина прямая, ноги сдвинуты, руки, сжимающие сумку, по-прежнему сплетены на животе.
– Вы замерзли? – спросил Джербер, протягивая ей чай. – Конечно замерзли, – сам ответил на свой вопрос. – По субботам отопление не включают. Но мы это быстро исправим…
Он подошел к камину, стал укладывать дрова, собираясь разжечь хороший огонь.
– Если хотите, можете курить, – разрешил он, ведь, по его представлениям, Ханна не могла обойтись без курения. – Другим моим пациентам я не разрешаю курить, пока им не исполнится по крайней мере семь лет.
И снова шутка Джербера повисла в воздухе. Ханна, которая только и ждала позволения, тотчас же закурила сигарету.
– Значит, вы австралийка, – подкладывая бумагу под поленья, заметил психолог, просто чтобы завязать разговор и понемногу создать доверительную атмосферу.
Женщина кивнула.
– Я никогда не был в Австралии, – добавил Джербер.
Он взял спичку из коробка, стоявшего на полке, зажег ее и поместил в середину маленького штабелька. Потом нагнулся и подул на огонек, тот через несколько секунд разгорелся на славу. Наконец, выпрямившись, он с удовлетворением взглянул на дело своих рук. Обтер ладони о вигоневые штаны и уселся в свое кресло.
Ханна Холл все время следила за ним взглядом, словно бы изучала его.
– Сейчас, наверное, вы будете меня гипнотизировать? – спросила она натянуто.
– Не сегодня, – успокоил он ее, улыбаясь. – Сегодня проведем предварительную беседу, чтобы лучше узнать друг друга.
На самом деле он должен был окончательно решить, брать ли на себя эту пациентку. Он пообещал Уолкер, что проведет курс лечения, только если сможет рассчитывать на результат. А это зачастую зависит от предрасположенности субъекта: на многих гипноз вообще не оказывает никакого действия.
– Чем вы занимаетесь? – сразу же спросил Джербер.
Казалось бы, ерунда, но для пациента такой вопрос часто оказывался самым трудным. Как на него ответить, если твоя жизнь пуста.
– Что вы имеете в виду? – подозрительно переспросила Ханна.
– У вас есть работа? Или была? Как вы вообще проводите дни? – постарался он упростить задачу.
– У меня есть сбережения. Когда деньги кончаются, я перевожу что-нибудь с итальянского.
– Вы очень хорошо говорите, – с улыбкой похвалил он.
Знание языков предполагает способность открываться навстречу другим и предрасположенность к постоянному приобретению нового опыта. Но Тереза Уолкер сказала, что вокруг Ханны никого нет, она даже мобильником не пользуется. Такие пациенты, как Холл, заключены в своем маленьком мирке и все время повторяют одни и те же привычные действия. Интересно было бы узнать, каким образом эта женщина, кроме английского, так хорошо изучила итальянский.
– Вы какую-то часть жизни провели в Италии?
– Только детство, меня увезли отсюда, когда мне было десять лет.
– Вы переехали в Австралию с родителями?
Ханна помедлила, прежде чем ответить.
– По правде говоря, я их не видела до того момента… Я выросла в другой семье.
Джербер записал, что Ханну удочерили. Это была очень важная информация.
– Теперь вы постоянно живете в Аделаиде?
– Да.
– Это красивый город? Вам нравится там жить?
Женщина задумалась.
– Я как-то никогда об этом не думала, – только и ответила она.
Джербер счел, что общих мест достаточно, и перешел к сути дела.
– Почему вы решили подвергнуться гипнозу?
– Повторяющийся сон.
– Не хотите мне о нем рассказать?
– Пожар, – ответила она лаконично.
Странно, почему Тереза Уолкер об этом не упомянула. Джербер сделал запись в блокноте. Он решил пока не давить на Ханну, еще будет время вернуться к этой теме.
– Чего вы ожидаете от терапии? – вместо того спросил он.
– Сама не знаю, – призналась Ханна.
Детскую психику легче исследовать с помощью гипноза. Дети меньше, чем взрослые, противятся проникновению чужого разума.
– Вам провели только один сеанс, верно?
– По правде говоря, это доктор Уолкер предложила мне такой курс, – сообщила Ханна, выпуская через ноздри колечки серого дыма.
– А сама-то вы что думаете о такой технике? Только откровенно…
– Должна признаться, вначале я в нее не верила. Сидела неподвижно, с закрытыми глазами и чувствовала себя полной дурой. Выполняла все, что мне говорили – насчет того, чтобы расслабиться, – и в то же время у меня чесался нос, и я думала, что, если сейчас я его почешу, доктор себя почувствует неловко. Ведь это доказывает, что я еще бодрствую, так?
Джербер кивнул: рассказ его позабавил.
– Сеанс начался среди бела дня, при ярком солнце. Поэтому, когда доктор Уолкер велела мне открыть глаза, я думала, что прошло не больше часа. Но за окном уже было темно. – Ханна помолчала, потом проговорила изумленно: – А я ничего не заметила.
Никакого упоминания о крике, который она издала, будучи под гипнозом, и о котором говорила Уолкер. Это тоже показалось Джерберу странным.
– Вы знаете, почему ваш лечащий врач вас направил ко мне?
– А вы знаете, зачем я приехала? – спросила в свою очередь Ханна: было очевидно, что причина ей представляется весьма серьезной. – Может быть, и вы подозреваете, что я сошла с ума?
– Доктор Уолкер вовсе так не думает, – успокоил ее психолог. – Но дело, которое вас привело во Флоренцию, довольно необычное, вы не находите? Вы утверждаете, что более двадцати лет назад был убит ребенок и вы помните только его имя.
– Адо, – сказала она с полным убеждением в своей правоте.
– Адо, – повторил психолог, будто соглашаясь с ней. – Но вы не можете сказать, где и почему произошло это убийство, более того, признаете себя виновной, хотя вовсе не уверены в этом.
– Я тогда была еще девочкой, – защищалась она, будто считая, что ненадежная память – более тяжкая вина, чем способность совершить убийство в столь нежном возрасте. – В ночь, когда случился пожар, мама дала мне выпить водички для забывания, поэтому я ничего и не помню…
Прежде чем продолжить, Джербер записал в блокноте и это необычное выражение.
– Но ведь вы понимаете, что почти наверняка не сохранились материальные свидетельства преступления? Если и было какое-то орудие, оно подевалось непонятно куда. Даже если бы его удалось найти, нельзя утверждать, что оно связано именно с этим преступлением. И потом, нельзя говорить об убийстве, если нет тела…
– Я знаю, где Адо, – откликнулась женщина. – Он до сих пор похоронен у дома, сгоревшего при пожаре.
Джербер постучал авторучкой по блокноту.
– И где находится этот дом?
– В Тоскане… точно не знаю где. – Ханна потупила взгляд.
– Это, конечно, вас обескураживает, но вы не должны думать, будто я вам не верю: наоборот, я здесь для того, чтобы помочь вам вспомнить и установить вместе с вами, насколько реально это воспоминание.
– Оно реально, – мягко, но решительно произнесла Ханна Холл.
– Хочу вам кое-что объяснить, – терпеливо приступил Джербер. – Доказано, что дети до трех лет не имеют памяти. – Тут он вернулся мыслями к случаю Эмильяна. – Начиная с трех лет они не запоминают автоматически, а учатся это делать. В ходе обучения реальность и фантазия помогают друг другу и тем самым неизбежно смешиваются… По этой причине мы в данном случае не можем исключить сомнение, ведь так?
Женщина вроде бы успокоилась. Перевела взгляд на большое слуховое окно, откуда за плотной темной пеленой дождя виднелась башня Палаццо Веккьо.
– Знаю, это вид для немногих счастливчиков, – поспешил сказать психолог, думая, что Ханна восхищается архитектурой. Но она жалобно проговорила:
– В Аделаиде почти никогда не бывает дождя.
– Дождь наводит на вас меланхолию?
– Нет, он внушает страх, – с неожиданным пылом возразила Ханна.
Джербер представил себе, через какой ад прошла эта женщина, прежде чем явиться к нему. И какой ад еще ждет ее впереди.
– Вы часто испытываете страх? – спросил он со всей деликатностью.
Ответом ему был пристальный взгляд голубых глаз.
– Каждую минуту. – Она, казалось, говорила искренне. – А вы боитесь чего-нибудь, доктор Джербер?
Задавая вопрос, женщина смотрела на фотографию в рамке, которая лежала на столике из вишневого дерева изображением вниз. На снимке психолог позировал вместе с женой и сыном на фоне альпийской панорамы. Но Ханна Холл не могла этого знать. Как не могла знать, что ему важно было иметь эту фотографию рядом с собой, но он скрывал изображение, потому что не подобает выставлять напоказ портрет своей счастливой семьи перед детьми, у которых серьезные проблемы в аффективной сфере. Джерберу, однако, показалось, что этот взгляд был нарочитым. Какую бы цель ни преследовала пациентка, психологу стало не по себе.
– Моя мать всегда говорила: тот, у кого нет семьи, не знает, что такое настоящий страх, – продолжала женщина, давая понять, что догадалась о том, кто изображен на фотографии.
– И все же многие утверждают, что жизнь – постоянный риск для всех и каждого, – возразил психолог, меняя тему. – Если не принять такого простого положения вещей, можно остаться в одиночестве на всю жизнь.
Женщина слабо улыбнулась в первый раз за их встречу. Потом подалась вперед и заговорила вполголоса:
– Если я вам скажу, что есть вещи, от которых вы не сможете защитить любимых, вы поверите мне? Если я вам скажу, что опасности, которые мы даже не можем себе вообразить, подстерегают нас, вы поверите мне? Если я вам скажу, что в мире существуют злые силы, от которых никуда не скрыться, вы поверите мне?
В других обстоятельствах Джербер пропустил бы мимо ушей слова пациентки, сочтя их безумным бредом. Но то, что спор разгорелся вокруг его семейной фотографии, чрезвычайно его смутило.
– Что вы имеете в виду? – невольно спросил он.
Ханна Холл вертела в руках чашку. Опустив взгляд на дымящийся чай, она произнесла:
– Верите ли вы в привидения, в живых мертвецов, в злых колдуний?
– Я уже давно перестал в это верить, – отмахнулся он.
– Тут-то и кроется разгадка… Почему ребенком вы верили в это?
– Потому что был наивен и не обладал знаниями, какие приобрел позже: жизненный опыт и культура помогают нам преодолеть суеверия.
– Только поэтому? Неужели вы не припомните хотя бы один эпизод из детства, когда на ваших глазах произошло что-то необъяснимое? Что-то таинственное, чему вы стали свидетелем?
– По правде говоря, ничего такого не приходит в голову, – снова улыбнулся психолог. – Наверное, у меня было заурядное детство.
– Ну же, подумайте хорошенько, невозможно, чтобы не было совсем ничего.
– Ладно, – уступил Джербер. – Один мой восьмилетний пациент как-то рассказал мне историю. Дело было летом, они с двоюродным братом играли в доме у моря, в Порто-Эрколе. Мальчики были одни, когда вдруг разразилась гроза. Они услышали, как хлопнула входная дверь, и пошли посмотреть, не проник ли кто-нибудь в дом. – Джербер помолчал. – На лестнице, что вела на верхний этаж, отпечатались следы мокрых босых ног.
– Дети пошли посмотреть?
Психолог покачал головой.
– Следы обрывались на середине пролета.
Такая история действительно имела место, но Джербер опустил одну деталь: он сам в ней участвовал. До сих пор помнил ощущение, испытанное много лет назад при виде тех влажных следов: горький привкус во рту, непонятная щекотка в животе.
– Готова спорить, что эти дети ничего не рассказали родителям, – заметила Ханна Холл.
Да, так оно и было. Психолог прекрасно помнил, что они с кузеном не осмелились об этом заговорить, боялись, что им не поверят или, того хуже, поднимут на смех.
Ханна вдруг осеклась, будто вспомнила что-то.
– Не могли бы вы дать мне листок из вашего блокнота и одолжить на секунду авторучку? – спросила она, указывая на то, что он держал в руках.
Просьба ему показалась необычной, даже несколько неуместной: этой авторучкой пользовались только два человека. Женщина, похоже, заметила, что он колеблется, но не успела спросить почему: Джербер решил все-таки удовлетворить ее просьбу – вырвал листок из блокнота и снял с авторучки колпачок.
Протягивая ей то и другое, слегка коснулся ее руки.
Ханна вроде бы не заметила. Что-то написала на листочке, но тут же зачеркнула, вывела сверху какие-то каракули, будто бы вдруг передумала. Сложила листок, сунула его в сумку.
Наконец вернула авторучку.
– Спасибо, – только и сказала она без каких-либо объяснений. – Если вернуться к вашей истории, спросите кого хотите: любой взрослый сможет припомнить какое-то необъяснимое событие, произошедшее в детстве, – с уверенностью заявила она. – Вырастая, мы, однако, стремимся избавиться от этих эпизодов, считая их плодом воображения, только потому, что, когда они имели место, мы были слишком малы, чтобы их осмыслить.
Именно так он, собственно говоря, и поступил.
– А если, наоборот, мы в детстве обладали особым талантом – видеть невозможное? Если в самые первые годы нашей жизни были способны заглянуть за пределы реальности, взаимодействовать с невидимыми мирами, а потом, повзрослев, утратили это умение?
У психолога вырвался нервный смешок, но то была всего лишь маска, ибо эти слова вызвали в нем какое-то смутное беспокойство.
Ханна Холл уловила эту слабину. Протянула холодную руку, вцепилась ему в плечо. Потом заговорила голосом, леденящим душу:
– Когда Адо приходил ко мне по ночам, в доме голосов, он всегда прятался под кроватью… Но не он в тот раз позвал меня по имени… То были чужие… – И потом заключила: – Правило номер два: чужие опасны.
5
– Ты никогда не рассказывал мне, что приключилось с тобой и твоим кузеном в домике на море! – крикнула Сильвия с дивана в гостиной, где она сидела, прихлебывая шардоне.
– Потому что я подавил это воспоминание, а не потому, что я его стыдился, – откликнулся Пьетро: в одной рубашке, с кухонным полотенцем через плечо, он споласкивал последнее блюдо, прежде чем поставить его к остальным в посудомоечную машину.
Жена приготовила ужин, значит Пьетро Джербер должен убраться на кухне.
– Но ты все равно испугался, когда вспомнил о мокрых следах на лестнице, правда? – поддела его Сильвия.
– Конечно испугался, – охотно признал гипнотизер.
– Но сейчас, если подумать хорошенько, ты веришь, что это в самом деле был призрак? – продолжала она дразнить мужа.
– Если бы я тогда был один, то сейчас бы подумал, что все это выдумал… Но ведь со мной был Ишио.
Ишио, то есть Маурицио – так его звали с самого детства. Подобная участь рано или поздно всегда выпадает кому-то в любой семье: например, младшая сестренка плохо выговаривала имя, а поскольку все умилялись, такое невнятное прозвище закрепляется за человеком на всю жизнь.
– Может, тебе стоит позвонить Ишио, – забавлялась Сильвия.
– Ничего смешного…
– Нет, погоди, я серьезно: может, у этой Ханны Холл паранормальные способности и она пытается что-то открыть тебе, какую-то тайну… Может, она как тот ребенок, который в фильме с Брюсом Уиллисом говорил: «Вижу мертвых людей…»[2]
– Не шути так: этот фильм – кошмар для детского психолога, – отвечал Джербер в том же шутливом тоне.
Потом он закрыл дверцу посудомоечной машины и включил самую экологичную программу. Вытер руки, бросил полотенце на стол, взял бокал вина и пошел к Сильвии.
Притушив свет, он сел с другой стороны дивана, а Сильвия положила ноги ему на бедра, чтобы согреться. Марко спал в своей кроватке, и теперь Джерберу хотелось, чтобы жена поухаживала за ним. Неделя выдалась тяжелая. Сначала Эмильян, мальчик-призрак, с его рассказом о том, как родители под масками животных вместе со священником устроили оргию, потом бредовые речи Ханны Холл.
– Нет, серьезно, – сказал он Сильвии. – Эта женщина утверждает, что все мы в детстве пережили какой-то эпизод, который не можем объяснить с точки зрения разума. С тобой, например, такое случалось?
– Мне было шесть лет, – ответила та, не задумываясь. – Ночью, когда умерла моя бабушка, в тот самый час прозвонил будильник, и было такое впечатление, будто кто-то присел на мою постель.
– Черт возьми, Сильвия! – воскликнул Джербер, не ожидавший услышать подобный рассказ. – Кажется, я больше никогда не смогу уснуть!
Оба прыснули, а потом весело смеялись по меньшей мере минуту. Пьетро был счастлив, что женился на ней, еще и потому, что Сильвия тоже была психологом, и он мог свободно обсуждать с ней случаи из своей практики. Но Сильвии хватило здравого смысла стать частным консультантом по вопросам брака. Такая работа гораздо реже доводила до стресса, чем возня с проблемными детьми, не говоря уже о том, что была гораздо более прибыльной.
Ничто так не повышает настроение, как дружный смех, который делишь с любимым человеком. В отличие от многих женщин, особенно от Ханны Холл, Сильвия находила забавными его хохмы. Поэтому Пьетро Джербер почувствовал облегчение. Но ненадолго.
– Вот что рассказала мне психолог Тереза Уолкер: Холл обвиняет себя в убийстве ребенка по имени Адо, которое она якобы совершила, когда сама была еще маленькой девочкой, – вспомнил он, тотчас же помрачнев. – Ханна жила в Тоскане в родной семье до десяти лет, потом переехала в Аделаиду и выросла в другой семье, приемной. Она утверждает, что в свое время подавила воспоминание об убийстве и ныне вернулась в Италию только затем, чтобы выяснить, случилось ли это на самом деле или же нет.
Когда Адо приходил ко мне по ночам, в доме голосов, он всегда прятался под кроватью… Но не он в тот раз позвал меня по имени… То были чужие.
– «Правило номер два: чужие опасны», – точь-в-точь повторил Джербер слова предполагаемой убийцы.
– Что это за «дом голосов»? – спросила Сильвия.
– Понятия не имею, – покачал головой Пьетро.
– Она хорошенькая? – лукаво осведомилась жена.
Джербер сделал вид, будто шокирован.
– Кто?
– Пациентка… – улыбнулась Сильвия.
– Она на три года моложе меня… на год старше тебя, – пустился он в описание, чтобы потешить жену. – Блондинка, с голубыми глазами…
– Красотка, стало быть, – отметила Сильвия. – Но ты хотя бы нашел информацию об этой Терезе Уолкер?
Джербер проверил рекомендации и личные данные коллеги на сайте Всемирной ассоциации психического здоровья, том самом, на котором психолог из Австралии нашла его контакты. Фотографию милой шестидесятилетней женщины с лицом, окруженным дымкой рыжих волос, сопровождал весьма почтенный послужной список.
– Да, с лечащим врачом все в порядке, – подтвердил он.
Сильвия поставила на пол бокал шардоне, приподнялась и обхватила лицо мужа ладонями, чтобы они могли смотреть друг другу в глаза.
– У этой Ханны Холл нет чувства юмора: ты сам сказал, что она не понимает твоих шуток.
– Ну и что?
– Неспособность воспринимать иронию – первый признак шизофрении. А у нас тут к тому же паранойя, бред и видения.
– То есть ты хочешь сказать, что я этого не заметил.
Синьор Б. не преминул бы заметить, сказал себе Пьетро. Он бы сразу все понял.
– Но это нормально. Ты лечишь только детей, максимум предподросткового возраста. Ты не привык распознавать некоторые симптомы, поскольку они возникают позже, – утешала жена, приводя доводы в его оправдание.
Джербер задумался.
– Да, ты права, – признал он наконец, хотя какая-то часть его рассудка твердила, что Сильвия ошибается.
Шизофреники ограничиваются тем, что рассказывают свои страхи, бред, видения. Заставив его вспомнить эпизод в домике на море, Ханна Холл хотела, чтобы психолог испытал то же, что испытывала она. И почти в этом преуспела.
Если я вам скажу, что есть вещи, от которых вы не сможете защитить любимых, вы мне поверите? Если я вам скажу, что опасности, которые мы даже не можем себе представить, подстерегают нас, вы мне поверите? Если я вам скажу, что в мире существуют злые силы, от которых никуда не скрыться, вы мне поверите?
Как было запланировано, в воскресенье они обедали у друзей в Лукке. Народу было много, человек двадцать, так что Пьетро Джербер имел возможность включаться в общую беседу, смеяться вместе со всеми, и никто не заметил, что в тот день он был особенно молчалив.
Его осаждала неотвязная мысль.
У детей пластичный ум, твердил он себе, вспоминая то, что сказала судья Бальди по поводу Эмильяна. Порой они создают ложные воспоминания и убеждают себя в том, что в самом деле пережили то или иное событие. У них настолько живая фантазия, что самые странные вещи им кажутся настоящими, но настолько еще незрелая, что не позволяет отличить реальное от воображаемого.
Все это касалось и самого Пьетро Джербера, когда он был ребенком.
Перед тем как сесть за стол, психолог ненадолго отлучился на веранду, чтобы позвонить. Если бы Сильвия спросила кому, он бы сказал, что родителям одного из своих юных пациентов.
– Привет, Ишио, это я, Пьетро.
– Эй, ну ты как? Как Сильвия и Марко? – спросил кузен, явно удивленный.
– Спасибо, хорошо, а вы как?
Ишио был старше примерно на год, жил в Милане, занимался биржевыми операциями, сделал карьеру в кредитном банке. Они не виделись три года, с похорон синьора Б., только перезванивались, поздравляя друг друга с Рождеством.
– Вчера мы с Сильвией говорили о тебе.
– Неужели? – наигранно изумился кузен, определенно ломающий голову над истинной причиной звонка. – В связи с чем?
– Знаешь, я подумываю подготовить домик в Порто-Эрколе к следующему лету, хочу пригласить тебя, Глорию и девочек.
Ничего подобного. Пьетро ненавидел тот дом. Он был полон бесполезных воспоминаний. Но тогда почему до сих пор не выставил его на продажу?
– Несколько преждевременно спрашивать меня сейчас, – заметил Ишио, поскольку стояла зима.
– Хотелось бы собраться всей семьей, – пустился в объяснения Джербер, чтобы предлог для звонка не показался слишком странным. – Нам так редко выпадает случай побыть вместе.
– Пьетро, с тобой все в порядке? – снова спросил кузен, слегка озабоченный.
– Конечно, – ответил тот, но тон, каким он это произнес, даже ему самому не показался убедительным. – Помнишь, как нас застукали, когда мы курили дедушкину трубку в лодочном сарае?
– Помню тоже, как нам влетело в тот день, – развеселился Ишио.
– Точно: мы на целую неделю были наказаны… А помнишь, мы думали, что во время грозы в дом вошло привидение? – бросил он как бы невзначай.
– Разве такое забудешь! – воскликнул кузен и звонко расхохотался. – До сих пор прихожу в ужас при одном воспоминании.
Джерберу стало не по себе. Он, по правде говоря, надеялся, что Ишио ничего такого не припомнит. Его бы очень утешило, если бы выяснилось, что это созданное в детстве ложное воспоминание.
– А теперь, через двадцать пять лет, как ты это можешь объяснить?
– Не знаю: ты у нас психолог, ты мне и объясни.
– Может, мы просто внушили это друг другу, – подытожил Джербер: вдруг все-таки так оно и было.
После нескольких расхожих фраз он прервал звонок и почувствовал себя полным дураком.
Зачем он вообще звонил? Что с ним происходит?
Ближе к вечеру, на обратном пути, когда Марко спал в своем креслице, а Сильвия читала последние новости на планшете, Джербер задавался вопросом, нужно ли ему вообще браться за лечение Ханны Холл.
Он опасался, что ничем не сможет ей помочь.
Накануне, в конце их первой короткой встречи, он назначил следующий сеанс на понедельник. На самом деле психолог под каким-то предлогом завершил предварительную встречу, как только женщина схватила его за плечо. Ханна не ожидала, что все закончится так быстро, и была растеряна.
Джербер до сих пор чувствовал ее холодные пальцы на коже. Рассказывая Сильвии о своей пациентке, эту подробность он опустил, поскольку знал, что в данном случае скажет жена. Она дала бы мудрый совет связаться с доктором Уолкер и сообщить ей, что он прекращает всякие отношения с Ханной.
Между лечащим врачом и пациентом всегда должна существовать непреодолимая дистанция вроде силового поля или невидимого барьера. Если кто-то из двоих переходит границу, пусть даже ненамного, происходит некая контаминация, и лечение от этого непоправимо страдает.
Психолог наблюдает, всегда говорил синьор Б.: как кинооператор, снимающий документальный фильм, не вмешивается, чтобы спасти детеныша газели из пасти льва, так и врач не взаимодействует с психикой пациента.
Но непонятно почему Пьетро Джербер продолжал задаваться вопросом, не сам ли он поощрил Холл, спровоцировал ее на этот жест. И каким образом.
Если это так, дело серьезное.
Когда семья приехала домой и Сильвия стала готовить ужин для Марко, он придумал какой-то предлог, чтобы заехать на работу, пообещав вернуться скоро.
Добравшись до улицы Черки и поднявшись на мансардный этаж, он сразу прошел в свой кабинет.
Включил свет, и перед ним предстала сцена, от которой он безуспешно пытался отделаться весь этот день. Креслице, в котором сидела Ханна Холл, стояло на том же месте. И на столике вишневого дерева, рядом с метрономом, красовались две чашки, из которых они пили чай. В воздухе остался затхлый запах табака от сигареты, которую выкурила Ханна.
Джербер направился к книжному шкафу. Открыл ящик, вытащил оттуда ноутбук, уселся в свое кресло, положив его на колени.
Когда компьютер загрузился, стал искать программу видеонаблюдения.
Кабинет был оснащен десятью микрокамерами, скрытыми в самых несусветных предметах – тут и робот, стоявший на полке, и корешок книги, и лампа в форме единорога, и картины, и всякие безделушки.
Джербер обыкновенно записывал сеансы. Все записи хранились в архиве. Он это делал из предосторожности, поскольку работал с несовершеннолетними и вовсе не желал превратиться в главного героя их опасных фантазий. Но также и затем, чтобы пристальнее изучать маленьких пациентов и в случае чего вносить коррективы в стратегию лечения.
Накануне, принимая Ханну Холл, он, пока готовил чай в соседней комнате, включил систему так, что пациентка ничего не заметила.
Джербер открыл файл с датой минувшей субботы и начал просматривать запись их первой встречи. Был один момент, который больше всего интересовал психолога.
Не могли бы вы дать мне листок из вашего блокнота и одолжить на секунду авторучку?
Джербер вспомнил, что просьба показалась ему необычной, даже неуместной, особенно в том, что касалось авторучки.
Эта авторучка когда-то принадлежала синьору Б.
И, кроме Пьетро Джербера, никто не имел права пользоваться ею. Не то чтобы на ней была надпись «руками не трогать». Просто Джербер избегал таких ситуаций, когда требовалось кому-либо ее одалживать.
Тогда как ему пришло в голову передать авторучку совершенно посторонней женщине? Он должен был ей отказать под каким-то предлогом. Почему же все-таки уступил?
Ответ нашелся, когда на мониторе показалась сцена, как он передает листок и ручку пациентке. Все было в точности так, как он помнил.
Протягивая то и другое, Джербер коснулся ее руки.
Было ли это сделано намеренно или вышло случайно? Заметила ли это Ханна? Не из-за этого ли доверительного жеста она решила, что вправе схватить его за плечо?
Пока вопросы роились у него в голове, Джербер снова увидел сцену, когда женщина что-то записала, а потом быстро зачеркнула. Увидел, как Ханна сложила листок, сунула его в сумку и наконец вернула ему авторучку.
Джербер поставил запись на паузу и стал искать лучший ракурс. Может быть, одна из скрытых камер расположена наиболее удачно.
В самом деле, одна из них была помещена в раму картины, которая висела за спиной пациентки.
Психолог включил запись, и в тот самый момент, когда Ханна стала выводить буквы, попытался прочесть, что у нее получилось.
Она написала только одно слово.
Но потом слишком быстро зачеркнула его какими-то каракулями. Тогда Джербер замедлил воспроизведение, но все равно ничего нельзя было разобрать.
Он не признал себя побежденным. Вернулся назад, остановил фотограмму за мгновение до того, как Ханна уничтожила слово, и попытался увеличить изображение.
Он не умел менять фокус, ему до сих пор не приходилось этого делать. Но после пары попыток удалось навести объектив прямо на листок.
Но никак невозможно было выделить эти несколько неразборчивых букв. Разве что сунуть нос в самый монитор. Что он и сделал, чувствуя, как смешно это выглядит со стороны. Но эксперимент увенчался успехом: ему, хоть и с трудом, удалось прочесть написанное.
Пьетро Джербер вскочил с кресла. Ноутбук упал на пол, к его ногам. Но он все смотрел на монитор, не веря своим глазам.
На листке было написано: «ИШИО».
Но он не называл Ханне Холл прозвище двоюродного брата.
6
Джербер не спал всю ночь.
Ворочаясь с боку на бок, искал объяснений. Но те, которые ему приходили на ум, облегчения не приносили.
Ханна Холл знала историю о призраке, который вошел в домик у моря в Порто-Эрколе, но сделала вид, что поверила версии доктора, будто это произошло с его восьмилетним пациентом. Как она узнала? Наводила о нем справки? Но разве она могла это сделать за столь короткое время, до их встречи, притом что они никогда раньше не виделись? Даже если бы Ханна выяснила, кто его двоюродный брат, имя Ишио употреблялось исключительно в семейном кругу: откуда она могла узнать такую интимную подробность? А когда во время предварительной беседы заговорила о странных эпизодах, относящихся к детству, как могла угадать, что Джербер расскажет именно анекдот о призраке из Порто-Эрколе, если он ни разу не упомянул о нем даже Сильвии?
В течение бессонной ночи психолог принял решение: утром он позвонит доктору Уолкер и скажет, что ему очень жаль, но он вынужден отказаться от поручения. Да, так будет разумнее всего. Но когда занялся рассвет, в его мыслях все еще царила сумятица. Он определенно не сможет успокоиться, пока не разгадает тайну, а главное, не сможет отделаться от этой истории, пока не выяснит, в чем была его ошибка.
Он вышел из дома очень рано, торопливо поцеловав Сильвию на прощание. Чувствовал, как жена провожает его взглядом до самых дверей, но, к счастью, она не стала задавать вопросов.
Джербер вернулся в свой центр.
Там был только служитель, занятый уборкой. Джербер затворился у себя, чтобы на свежую голову пересмотреть видеозапись предварительной встречи с Ханной Холл. Утро вечера мудренее, твердил синьор Б., побуждая его встать пораньше и повторить школьные уроки. Он был прав, и у Пьетро действительно вошло в привычку откладывать самые важные в жизни решения до первых утренних часов.
Он был уверен, что, пересмотрев запись, поймет, в чем ошибся накануне вечером.
Но когда он добрался до спорного места, ничего не прояснилось, наоборот, еще больше запуталось. Вечером ему удалось увеличить фотограмму и поставить ее в фокус, пусть даже и уткнувшись носом в монитор. На сей раз не удалось повторить счастливую комбинацию движений и действий.
В результате он уже не был так уверен, что женщина написала печатными буквами имя ИШИО.
Отказавшись от дальнейших попыток, он горестно вздохнул. Через час Ханна Холл позвонит в домофон, а он так и не выработал никакой стратегии, не знает, как подступиться к этому случаю. Более того, он вовлечен личностно и эмоционально. Хотя ситуация не сравнима с той, когда психолог и пациент сводят на нет дистанцию, необходимую для лечения, Пьетро Джербер уже не был уверен, что он в достаточной мере объективен.
Ему оставалось очень мало времени, чтобы принять решение.
На вывеске старинного кафе «Ривуар» на площади Синьории было выведено золотыми буквами: FABBRICA DI CIOCCOLATA A VAPORE[3]. Заведение с давней историей, расположенное на первом этаже палаццо Лависон, было основано в 1872 году.
Оно спасало не только от холода этой унылой зимы, но и давало благословенный приют обонянию.
Пьетро Джербер стоял у стойки, упиваясь запахами свежей выпечки, лелея в руках чашечку кофе.
Сквозь витрину увидел, как она свернула на площадь с улицы Ваккеречча. Черное пятно позади группы туристов, бодро шагавших к Уффици. Ханна Холл была одета так же, как накануне: свитер, джинсы, сапожки; сумка на длинном ремешке. Волосы так же собраны в хвост, и опять же, одежда никак не соответствовала сезону.
Джербер через стекло мог незаметно наблюдать за ней. Вообразил, как стучат ее каблуки по мостовой, омытой дождем, некогда покрытой флорентийской керамической плиткой, чтобы походка дам казалась более легкой.
Видел, как она вошла в табачную лавку и деловито встала в очередь. Когда подошел ее черед, указала на одну из пачек, выставленных за прилавком, потом порылась в сумке, вытащила несколько смятых банкнот и горстку монет и все это вывалила перед продавцом, чтобы тот помог ей разобраться с незнакомой валютой.
Эти неловкие движения, в которых выражалась неуверенность, а также и неспособность принять участие в сложной игре жизни, убедили Пьетро Джербера в том, что ей следует предоставить еще один шанс.
Она не такая, как прочие игроки, сказал себе психолог. Она вступила в игру с заведомо невыгодной позиции.
Может, и нет в ней ничего дьявольского, как он подумал, просмотрев видеозапись. Может, ей в самом деле нужно, чтобы кто-то ее выслушал. Иначе она бы не отправилась в путь с другого конца света, чтобы выяснить, была ли реальной такая трагедия, как убийство ребенка по имени Адо, а главное, несет ли она за это какую-либо ответственность.
– Какие сигареты вы курите? – спросил он через некоторое время, когда Ханна прикурила первую, усевшись в то же креслице, что и в первый раз.
Женщина подняла взгляд от огонька зажигалки.
– «Винни», – ответила она, вытащила из сумки пачку «Винфилда» и показала доктору. – Сигареты австралийские, мы их у себя так называем.
Воспользовавшись тем, что она открыла сумку, Джербер разглядел там листок из блокнота, на котором Ханна написала имя Ишио.
– Вам нравится курить? – спросил он, чтобы отвлечь внимание Ханны от своего неуместного любопытства.
– Да, но приходится себя ограничивать. И не потому, что это вредит здоровью, – уточнила она. – В моей стране это дорогое удовольствие: пачка стоит почти двадцать евро, а в ближайшее время правительство собирается вдвое повысить цены, чтобы заставить всех бросить курить.
– Стало быть, здесь, в Италии, вы можете безудержно предаваться страсти, – заметил Джербер. Но женщина взглянула на него недоуменно. Психолог забыл, что Ханна лишена чувства юмора, и это позволяет диагностировать шизофрению.
Чуть раньше Джербер вручил ей нечто вроде блюдечка, которое шестилетняя пациентка слепила для него из пластилина. Изделие неправильной формы, богато украшенное разноцветной глазурью, по замыслу юной мастерицы должно было служить пепельницей.
Ханна была не так напряжена, как в прошлый раз, и оба чувствовали себя более вольготно. Психолог решил воссоздать все атрибуты их первой встречи: горящий камин, чай и полное отсутствие помех.
– Я думала, вы больше не захотите меня видеть, – выпалила Ханна, глядя на него в упор.
– Что навело вас на такую мысль?
– Сама не знаю… Может быть, ваша реакция в конце нашего разговора в субботу.
– Сожалею, что вы пришли к таким выводам, – приуныл Джербер: его в самом деле огорчило, что Ханна все поняла.
Ханна чуть прищурила влажные голубые глаза:
– Значит, вы мне поможете, да?
– Сделаю все, что в моих силах, – заверил ее Джербер.
Он долго размышлял над тем, какой подход избрать. Согласно его австралийской коллеге, следует забыть о взрослой и говорить с ребенком. И был один прием, который всегда срабатывал с его маленькими пациентами и помогал им с большей легкостью воссоздавать то, что с ними случалось.
Детям нравилось, когда их слушают.
И если взрослый показывал, что помнит в точности все, что они говорили прежде, дети это воспринимали как поощрение и находили достаточно уверенности в себе и доверия к доктору, чтобы продолжать рассказ.
– В прошлый раз, в конце нашей встречи, вы сказали… – Порывшись в памяти, чтобы ненароком не ошибиться, Джербер повторил: «Когда Адо приходил ко мне по ночам, в доме голосов, он всегда прятался под кроватью… Но не он в тот раз позвал меня по имени… То были чужие».
Гипнотизер записал в блокноте три детали, поразившие его.
– Удовлетворите мое любопытство… Как мог Адо звать вас по имени, если он уже умер?
– Адо не очень-то говорил, – уточнила Ханна. – Просто я знала, когда он со мной, а когда – нет.
– Как же вы могли это узнать: вы его видели?
– Знала, – повторила пациентка, больше ничего не объясняя.
Джербер не настаивал.
– Вы вспоминаете многое из вашего детства, но среди этих реминисценций, этих образов прошлого нет воспоминания о том, как был убит Адо. Это так? – решил он вновь досконально прояснить этот пункт.
– Именно так.
Никто из двоих даже не намекнул на то, что Ханна себя считает убийцей ребенка.
– На самом деле вы, возможно, подавили целый ряд воспоминаний, не только это.
– Как вы можете это утверждать?
– Какие-то события пролагают путь, ведущий к воспоминанию о данном конкретном эпизоде.
Как хлебные крошки в сказке о Мальчике-с-пальчике. Ему нравилось это сравнение, так он и объяснял своим маленьким пациентам. Лесные птицы склевали хлеб, помешав бедному ребенку найти дорогу домой.
– Мы должны восстановить этот путь, и тут нам поможет гипноз.
– Итак, вы готовы?
Доктор попросил ее сесть в кресло-качалку, закрыть глаза и раскачиваться в ритме, заданном метрономом, который стоял на столике вишневого дерева.
Сорок ударов в минуту.
– Что будет, если я не смогу проснуться?
Он тысячу раз слышал этот вопрос от своих маленьких пациентов. У взрослых тоже возникали такие опасения.
– Никто не остается в гипнотическом сне, если сам этого не хочет, – ответил он, как отвечал всегда. Ведь гипнотизер, что бы там ни показывали в кино, не может подчинить субъекта собственной воле, у него нет такой власти, чтобы пленить его разум. – Ну что, начнем?
– Я готова.
Микрокамеры, спрятанные в комнате, уже записывали первый сеанс гипноза. Пьетро Джербер перечел пометки в блокноте, решая, с чего начать.
– Я объясню вам, как это действует, – добавил он. – Гипноз вроде машины времени, но вовсе не нужно выкладывать факты в хронологическом порядке. Мы будем бродить по первым десяти годам вашей жизни, то забегая вперед, то возвращаясь назад. Начнем с первого образа, который приходит вам на ум, или с первого ощущения. Обычно это относится к самым любимым людям…
Ханна Холл все еще цеплялась за сумку, прижимая ее к животу, но Джербер заметил, что руки у нее уже не так дрожат. Признак того, что она расслабляется.
– До десяти лет я не знала настоящих имен моих родителей. Да и своего имени тоже, – сказала Ханна, извлекая эту странную деталь из неизвестно какой черной дыры в своей памяти.
– Как такое возможно?
– Я хорошо знала моих родителей, – уточнила женщина. – Но не знала, как их по-настоящему зовут.
– Вы отсюда хотите начать рассказывать вашу историю? – спросил гипнотизер.
– Да, – ответила Ханна Холл.
7
Я ничего не вижу. Первое ощущение – звон колокольчика. Такие вешают на шею котам – маленькие колокольчики. Но этот – не на шее у кота. Этот – на красной атласной ленточке, привязан к моей детской щиколотке.
Не знаю, что случилось с Адо, но каким-то образом этот звук имеет отношение к тому, что произошло с ним.
Я пока не знаю почему, но этот звук возвращает меня в былые времена. К маме и папе.
В моей семье ко мне относятся хорошо. В моей семье меня любят.
Стало быть, это нормально, что родители привязали мне колокольчик к щиколотке, чтобы забрать меня из земли мертвых.
Я еще ребенок, поэтому для меня такая странность и все другие в порядке вещей: это правила.
Мама всегда говорит, что каждая вещь таит в себе немного волшебства, и когда я не слушаюсь или балуюсь, она не наказывает меня, а чистит ауру. Папа каждый вечер забирается ко мне в постель и рассказывает сказки на сон грядущий: ему почему-то нравится сочинять истории про великанов. Папа всегда меня защитит.
У меня счастливая семья.
Мои родители не такие, как другие родители. Но это откроется мне только после пожара, когда изменится все. Но сейчас мы в самом начале, а в самом начале я не могу ничего этого знать.
Я не помню, как выглядят мои родители. Лишь отдельные детали. Многим такие мелочи покажутся незначительными. Но не мне. Ведь они – только мои, никто другой не может обладать ими.
Я не знаю, высокий мой отец или низенький, худой или толстый. Не смогу описать, какие у него глаза, какой нос. Есть ли смысл в том, чтобы знать, какого цвета у него волосы? Для меня важно, что они курчавые и густые и их никак не привести в порядок. Однажды, когда папа пытался их как-то укротить, расческа запуталась у него в волосах, и мама долго работала ножницами, чтобы высвободить ее.
Руки у моего отца мозолистые, а когда он берет в ладони мое лицо, пахнут сеном. Больше никто не может знать такой подробности. Именно это делает его моим отцом. Благодаря такой незначительной детали он никогда не будет отцом кого-то еще. А я навсегда останусь его дочерью.
У мамы розовая родинка на левой лодыжке. Ее не видно, она совсем крохотная: маленькая драгоценность. Нужно смотреть очень внимательно, а главное, быть к маме очень близко, чтобы заметить. Поэтому, если ты не дочь и не мужчина, который ее любит, то так ничего и не заметишь.
Не знаю, откуда происходят мои родители, какое у них было прошлое. Они никогда не говорят со мной о бабушках и дедушках и ни разу не упомянули о том, что где-то в других местах у них есть братья или сестры. Кажется, что мы вместе с самого рождения. Я имею в виду, что так было и в наши предыдущие жизни.
Только мы втроем.
Мама убеждена, что можно перевоплотиться и что переместиться из одного существования в другое так же легко, как перейти из комнаты в комнату. Ты не меняешься, меняется только мебель. Стало быть, очевидно, что не может быть никакого до или после.
Мы – это мы, и так будет всегда.
Порой, однако, кто-нибудь застревает на пороге. И это земля мертвых, где время останавливается.
Моя семья – это и есть место. Да, именно место. Может, для большинства людей почти естественно знать свои корни, землю, из которой они происходят. Для меня – нет.
Родная земля для меня – мать и отец.
Дело в том, что мы никогда не живем на одном и том же месте достаточно долго, чтобы считать его своим. Мы все время перемещаемся. Никогда нигде не задерживаемся дольше чем на год.
Мы с мамой и папой находим точку на карте – случайно, по наитию – и двигаемся туда. Обычно это место на карте закрашено зеленым, иногда коричневым или бежевым, рядом с каким-нибудь синим пятном. Но всегда на большом расстоянии от черных линий и красных кружков – от черных линий и красных кружков нужно держаться подальше!
Чаще всего мы идем пешком по лугам и холмам или по проселочным дорогам. Или выходим на станцию и забираемся в товарный поезд, ночью, когда вагоны пустые.
Странствие – это самое прекрасное в нашей жизни, это больше всего занимает меня. Днем перед нами открывается мир. Ночи проходят под звездами: мы разводим костер, папа берет старую гитару, и мама поет нежные, грустные песни, под которые я привыкла засыпать с самого моего рождения.
Наш путь всегда заканчивается обещанием нового пути. Но когда мы приходим на место назначения, начинается другая жизнь. Первым делом мы прочесываем окрестности в поисках заброшенного дома. Поскольку такое жилище больше никому не нужно, оно становится нашим. Пусть и на короткое время.
Каждый раз, приходя на другое место, мы меняем имена.
Каждый выбирает для себя новое. Каждый сам решает, какое предпочесть, и другие не возражают. Так с того момента мы и зовем друг друга. Часто заимствуем имена из книг.
Я – не Ханна, еще нет. Я – Белоснежка, Аврора, Золушка, Златовласка, Шахерезада… Какая девочка в целом свете может похвастаться, что всегда была принцессой? Кроме настоящих принцесс, разумеется.
Зато мама с папой выбирают себе имена попроще. Но мне без разницы, я никогда не зову их этими новыми именами: для меня они всегда и только «мама и папа».
Есть, правда, одно условие. Эти имена не должны покидать пределы семьи. И главное, мы никогда-никогда-никогда не должны никому их открывать.
Правило номер три: никогда не называть чужим своего имени.
Когда все уже решили, как окрестить себя, мама заставляет нас провести обряд очищения нашего нового жилища. Исполняя обряд, мы бегаем по комнатам и выкрикиваем наши новенькие, с иголочки, имена. Голосим в полную силу, сколько хватает дыхания. Пока мы зовем друг друга, переходя с места на место, мы привыкаем к этим звукам. Учимся доверять этим именам. Быть другими, оставаясь теми же самыми.
Вот почему каждый новый дом становится для меня домом голосов.
Жизнь у нас нелегкая. Но для меня мама с папой ее представляют какой-то большой игрой. Любую превратность они способны обернуть забавой. Если у нас не хватает еды, папа, чтобы заглушить голод, берет гитару, мы все трое забираемся в большую постель и целый день проводим в тепле, рассказывая истории. Или когда протекает крыша, мы ходим по дому под зонтиками и расставляем кастрюли и тазы, чтобы послушать, как звенят капли, и сочинить песенку.
Нас трое, и этого довольно. Нет больше никаких мам, никаких пап, даже никаких дочек и сыновей. Более того, мне и в голову не приходит, что где-то есть другие дети.
Насколько мне известно, я – единственная на всей земле.
У нас нет ни ценных вещей, ни денег. Поскольку мы не поддерживаем ни с кем никаких контактов, нам они и не нужны.
Мама разбивает огород и выращивает в любое время года великолепные овощи. Папа иногда ходит на охоту с луком и стрелами.
Часто мы заводим домашнюю птицу: кур, индюшек, гусей, а однажды держали козу, которая давала молоко. Как-то у нас развелось целых сорок кроликов, но только потому, что мы не смогли совладать с ситуацией. Вся эта живность происходила с какой-нибудь фермы: они терялись, и никто их не искал.
У нас всегда есть несколько сторожевых собак.
Они не сопровождают нас, когда мы переходим на другое место, поэтому я не должна к ним слишком привязываться. Разумеется, в путь мы берем только самое необходимое. Обосновавшись, подбираем все, что нам надо: одежду, кастрюли, одеяла. Обычно это вещи, которые люди выбросили или где-то забыли.
Места, которые мы выбираем, всегда расположены в глуши, в сельской местности: крестьяне покинули их в поисках лучшей доли. В разрушенных домах можно найти уйму вещей, еще годных к употреблению. Однажды нам попался целый тюк тканей и старая швейная машинка «Зингер» с ножным приводом: мама все лето провела, отшивая нам на зиму великолепный гардероб.
Нам не нужен никакой прогресс. Я, разумеется, знаю, что существует телефон, телевидение, кино, электрический свет и холодильники, но мы никогда ничем таким не владели, разве только электрическими фонариками на самый крайний случай.
Но, несмотря ни на что, я знаю мир, я хорошо образованна. В школу я не хожу, но мама учит меня читать и писать, а папа дает уроки арифметики и геометрии.
Остальное я черпаю из книг.
Их мы тоже подбираем повсюду, и всякий раз, когда попадается новая, у нас праздник.
Мир, встающий со страниц этих книг, – завораживающий и в то же время угрожающий, словно тигр в клетке. Ты восхищаешься его красотой, грацией, мощью… но знаешь, что, если вздумаешь его приласкать и протянешь руку через решетку, тигр откусит ее тебе без малейшего колебания. Так, по крайней мере, мне объясняли.
Мы держимся подальше от мира, надеясь, что и мир будет держаться от нас подальше.
Благодаря родителям, мое детство – бесконечное приключение. Я никогда не задаюсь вопросом, есть ли какая-то причина тому, что мы так живем. В моем понимании, когда нам надоедает какое-то место, мы собираем вещички и пускаемся в путь. Но хоть я и была маленькая, одну вещь все-таки поняла. Наши постоянные перемещения как-то связаны с предметом, который мы всегда носим с собой.
Маленький деревянный сундучок коричневого цвета, длиной примерно в три пяди.
Сверху – надпись, которую папа сделал раскаленным концом зубила. Когда мы приходим на новое место, он копает глубокую яму, кладет туда сундучок и зарывает его. Мы его извлекаем, только когда снова пускаемся в путь.
Я никогда не видела, что в этом сундучке, поскольку он обмазан смолой. Но знаю, что там заключен единственный член семьи, который никогда не меняет имени: оно выжжено раскаленным железом на крышке.
Для мамы и папы Адо – это всегда Адо.
8
Ханна умолкла, будто сама решила поставить точку в рассказе. На данный момент можно было этим ограничиться.
Пьетро Джербер продолжал недоумевать. Не знал, что и думать. Но была и положительная сторона: порой, слушая пациентку, он различал голос девочки, обитавшей в ней. Вокруг этой девочки, слой за слоем, образовалась тридцатилетняя женщина, сидевшая перед ним.
– Хорошо, теперь я хочу, чтобы вы вместе со мной начали считать в обратном порядке; потом вы откроете глаза, – сказал улеститель детей и начал обратный отсчет, как всегда, с десяти.
Ханна повторяла за ним. Потом распахнула в полутьме кабинета свои невероятно голубые глаза.
Джербер протянул руку, останавливая качающееся кресло.
– Погодите вставать, – посоветовал он.
– Нужно глубоко дышать, верно? – спросила Ханна, явно припоминая наставления своего первого гипнотизера, Терезы Уолкер.
– Именно, – подтвердил Пьетро.
Ханна стала вдыхать и выдыхать.
– Вы не помните настоящих имен ваших родных отца и матери, верно? – спросил Джербер, желая убедиться, что все правильно понял.
Ханна покачала головой.
Это нормально, когда приемные дети не сохраняют память о своей первоначальной семье. Но Ханна переехала в Австралию, когда ей уже исполнилось десять лет, она должна была помнить имена своих настоящих родителей.
– Ведь и я стала Ханной Холл, только когда переехала в Аделаиду, – уточнила женщина.
– А живя в Тоскане, вы постоянно перебирались с места на место.
Женщина кивнула, соглашаясь и с этим утверждением.
Пока психолог делал пометки, она вежливо осведомилась:
– Могу я воспользоваться туалетом?
– Да, конечно: вторая дверь налево.
Женщина встала, но перед тем, как выйти, сняла сумку с плеча и повесила ее на спинку кресла-качалки.
Это движение не укрылось от Пьетро Джербера.
Когда Ханна вышла из комнаты, он уставился на черную сумку из кожзаменителя, которая раскачивалась перед ним, словно маятник. Там, внутри, хранился листок, который он вырвал из блокнота и передал Ханне Холл во время их предварительной встречи и на котором она, по всей вероятности, записала имя Ишио. Откуда ей знать прозвище моего кузена? – твердил он себе. Эта мысль становилась навязчивой. Но чтобы прояснить ситуацию, он должен вторгнуться в личное пространство пациентки, рыться в ее вещах, обмануть ее доверие.
Синьор Б. никогда бы такого не сделал. Даже осудил бы любую попытку так поступить.
Время шло, а Пьетро Джербер так и не мог решиться. Истина – здесь, до нее рукой подать. Но вытащить листок и прочитать записку означало еще больше запутаться в этих странных отношениях. И без того достаточно необычно, что Ханна Холл находится в числе его пациентов.
Вернувшись из туалета, женщина отметила его пристальный взгляд, устремленный на кресло-качалку.
– Простите, но кажется, там кончилось мыло, – только и сказала она.
Джербер попытался скрыть смущение.
– Мне очень жаль, велю служителю, чтобы положил новое, спасибо.
Ханна взяла сумку, повесила на плечо. Вытащила пачку «Винни», закурила, но садиться не стала.
– Вы говорили, будто родители привязали вам на щиколотку колокольчик, чтобы забрать вас из земли мертвых, – почти дословно процитировал Джербер. – Я правильно понял?