Мама рядом! Главный секрет первого года жизни бесплатное чтение
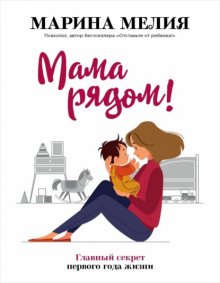
Из книги «Мама рядом!» вы узнаете:
• Как сформировать надежную привязанность
• Как правильно реагировать на крик ребенка
• Как укрепить его здоровье
• Как стимулировать интеллектуальное развитие малыша
• Почему с чтением, счетом и иностранными языками нельзя торопиться
• Как сказываются на ребенке ранние перелеты и путешествия
• Какова роль отца в первый год жизни малыша
• Как на собеседовании с няней определить, можно ли ей доверять
Автор иллюстраций Владимир Ненашев
Автор иллюстрации на обложке Евгения Радостева
© Мелия М., текст, 2020
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020
Выражение признательности
Я признательна всем моим коллегам по «ММ-Классу» и, прежде всего, Ольге Махровой, Татьяне Топольской, Марии Сидоровой, Анастасии Бобцовой, Анне Цатурян за интеллектуальную и эмоциональную поддержку.
Особая благодарность Яне Бовбас за ее замечания, вопросы, предложения и тщательную работу над материалом книги.
Я благодарна всем своим клиентам, которые открыто делятся со мной своим опытом, проблемами, идеями, достижениями, – они, безусловно, соавторы этой книги.
Введение
Не важно, кто мы по профессии, с какими проблемами справляемся на работе, в общественной и личной жизни, дети все равно умудряются поставить перед нами множество неразрешимых задач. И они подчас тревожат нас больше, чем все остальное. Родители чувствуют себя беспомощными и спрашивают: «Что мы упустили? Почему ребенок такой неблагодарный, грубый, непослушный, вялый, безынициативный?» И каждый мечтает найти волшебное средство, которое может сделать воспитание детей простым и радостным. Но существует ли оно?
Да, существует. И искать его надо в младенчестве. Все дальнейшее будет зависеть от того, насколько мы вложимся в эти двенадцать месяцев, сможем ли действовать с полной самоотдачей. Это не просто догадки: по аналогии с доказательной медициной, можно говорить о «доказательной психологии». Все больше новых научных исследований подтверждают, что возможности первого года поистине фантастические: мы можем не только задать направление развития, но и восполнить то, что ребенку недодала природа. Многие родители, относясь к этому периоду жизни ребенка как к чему-то проходному и подготовительному, даже не представляют, сколько всего важного происходит с малышом именно в это время.
В книге даны подробные ответы на основные вопросы. Почему мама незаменима и нужно ли «сюсюкаться» с ребенком? В чем сила надежной привязанности? Как благодаря рукам мамы, ее теплу можно избежать болезней и укрепить малыша физически? Что запускает и поддерживает познавательную активность ребенка? Как создать питательную языковую среду? Чего ни в коем случае нельзя упустить и с чем не стоит торопиться? Что в наших силах, а над чем мы не властны?
В этой книге я обобщила не только свой личный и консультационный опыт, но и последние научные достижения, чтобы сформулировать конкретные советы по воспитанию младенца. Я не случайно говорю именно о воспитании – личность человека начинает строиться уже в тот момент, когда ребенок появляется на свет. Вырастет ли он эмоционально устойчивым, сможет ли управлять собой в сложных ситуациях, как будет принимать решения, будет ли открытым, способным радоваться жизни – все это во многом зависит от того, как пройдет его первый год жизни. Поэтому важно вести себя осознанно, понимать, как каждое наше слово и действие отражаются на малыше, на его будущем.
Все дети разные, мамы тоже не похожи друг на друга – каждый случай уникален, но есть и нечто общее. Поэтому я стремилась подобрать универсальные ключи для разных ситуаций. По сути получился настоящий путеводитель для мам в первый год жизни ребенка.
Часть I
Неужели мама так незаменима?
В чем главный секрет первого года?
Как‑то ко мне на консультацию пришел успешный бизнесмен. Мы начали обсуждать вопросы, касающиеся его компании, но разговор очень быстро перешел в иное русло: клиент стал жаловаться на проблемы с пятилетним сыном и сказал, что именно они беспокоят его сейчас больше всего. Мальчик растет капризным и неуправляемым, по любому поводу закатывает истерики. Он постоянно требует внимания матери, может начать кусаться, но, добившись своего, сразу теряет интерес, отталкивает ее и даже грубит. Родители никуда не могут взять его с собой – на людях он ведет себя еще хуже. «Чего мы только не делали – и строгостью пытались, и лаской, а результата – никакого. Нервы у всех на пределе!» За последний год родители не раз обращались к специалистам. Но вместо четкого диагноза и конкретных рекомендаций по лечению им сообщили, что у ребенка «нарушение привязанности». Папа был не на шутку раздосадован и расстроен: они с женой старались как могли, денег не жалели, а что получилось?
Мы «отмотали пленку» на пять лет назад и посмотрели, как все начиналось.
Когда малыш появился на свет, родители решили, что мама по‑прежнему большую часть времени будет проводить в другой стране, где учатся старшие дочери, – в этом возрасте им необходимо родительское внимание, – а сын останется в Москве под присмотром профессиональных нянь. Отбирали их тщательно, каждую строго инструктировали. Если няня была замечена в каком‑то проступке, ее тут же увольняли. Первую няню уволили за то, что подняла с пола соску и вытерла о фартук – неряха! Вторая имела наглость взять из холодильника просроченные йогурты: она видела, что их все равно выбрасывают. Но это заметили, и в результате няня была изгнана с позором: «воровка не может воспитывать нашего ребенка». Третья болтала по телефону, когда пришло время кормления; потом она объяснила, что просто не хотела будить малыша, ждала, пока он проснется, но была уволена за пренебрежение своими обязанностями. Так за год у мальчика сменилось не меньше десяти нянь. Родители из благих побуждений, стремясь обеспечить младенцу комфорт и идеальный уход, оставляли его на попечение чужих людей, которые к тому же беспрерывно менялись. В этом он ничем не отличался от воспитанника детского дома.
«Стоп! – сказал возмущенный папа. – Какая связь между детдомовскими сиротами и моим сыном, который со всех сторон окружен вниманием?»
Связь есть: в обоих случаях дети лишены главного. А что для ребенка главное? Ответ на этот вопрос стал настоящим прорывом, едва ли не самым значимым открытием XX века в области детской психологии.
Важное открытие
Открытие, о котором пойдет речь, было сделано более полувека назад. После Второй мировой войны в Европе осталось очень много сирот. Для них стали организовывать дома ребенка с хорошим уходом и полноценным питанием. Казалось бы, что еще нужно, чтобы дети росли крепкими и здоровыми? Однако многие из них не доживали до года, часто болели и заметно отставали в физическом и психическом развитии. Состояние малышей ухудшалось стремительно: здоровый младенец вдруг терял аппетит, переставал улыбаться, становился вялым, заторможенным, отрешенным. Поначалу решили, что детям просто не хватает питания, потом подумали, что все дело в инфекции, и тогда, чтобы изолировать детей друг от друга, поставили перегородки, комнаты разделили на «клеточки»: «клеточка» – ребенок. Но ситуация только ухудшилась.
Специалисты, занимавшиеся этой проблемой, обратили внимание на опыт одного из детских приютов Германии, где работала удивительная няня – мы не знаем, как звали эту женщину, но она заслуживает того, чтобы войти в историю. Эта чудо-няня ухитрялась возвращать к жизни самых чахлых, безнадежных детей, о ком говорили: «Ну точно не жилец…» Делала она это очень просто: привязывала к себе ребенка и ни на минуту с ним не расставалась. Работала няня, обедала или спала – малыш всегда был рядом. Она согревала его своим телом, разговаривала с ним, пошлепывала, поглаживала, и постепенно ребенок оживал, зловещие симптомы исчезали, и малыш шел на поправку.
Ученые пришли к выводу, что ребенку мало быть сытым и ухоженным, просто есть, пить, спать. Ему нужна не стерильность, не покой и изоляция, а любовь, забота и тепло близкого человека.
В числе первых, кто это понял, был английский психиатр и психоаналитик Джон Боулби. Он создал теорию, суть которой в следующем: у ребенка есть жизненно важная потребность в привязанности к одному, заботящемуся о нем взрослому. Для малыша эта привязанность – эволюционно заложенное условие выживания, его биологическая и психологическая защита. Смотреть на близкого человека, видеть его улыбку, слышать его голос, ощущать его заботливые руки, чувствовать его тепло – это и есть тот самый «витамин», то лекарство, которое излечивало госпитализм (так назвали болезнь, вызванную разлукой ребенка с матерью и пребыванием его в детском доме).
После того как госпитализм и проблемы формирования привязанности были изучены, многое изменилось в домах ребенка по всему миру. Например, в Государственном методологическом институте домов ребенка в Будапеште для предотвращения госпитализма разработана специальная система ухода: все время, пока малыш находится в учреждении (а это от двух недель до трех лет), о нем постоянно заботится один и тот же человек. Одна воспитательница целиком и полностью отвечает за группу из трех-четырех детей. Если раньше не придавали значения тому, кто, как и сколько работает с каждым конкретным малышом, то сегодня это принципиальный вопрос.
За последние 50 лет психологи получили массу новых данных об особенностях развития ребенка, однако теория привязанности Джона Боулби остается одной из ключевых. Но вот парадокс: для многих родителей она по‑прежнему тайна за семью печатями, такой же «надежно спрятанный психологический секрет», как и раньше. Ведь открытие Боулби прошло мимо нас – посмотрим на ситуацию в обеспеченных семьях: мама постоянно отсутствует, а няни меняются одна за другой.
Одни родители увольняют нянь за любую провинность. Другие упорно ищут идеальную няню. Эта постоянная ротация сегодня уже никого не смущает. А между тем частая смена нянь так же вредна для малыша, как и беспрерывная смена персонала в детских домах. Так в благополучной семье ребенок сталкивается с проблемами детдомовских сирот. Он растет, не имея прочной привязанности – стабильных, теплых отношений со своим главным взрослым.
Когда близкого человека нет рядом
Что же происходит с ребенком, если разлучить его с близким взрослым и никак эту потерю не возместить?
В 1969 году британские психоаналитики Джеймс и Джойс Робертсоны сняли документальный фильм о полуторагодовалом малыше Джоне, которого на несколько дней пришлось отдать в дом малютки. Его мама, с которой он до этого не расставался, должна была лечь в больницу, чтобы родить второго ребенка. Он пробыл в казенном учреждении девять дней, и все это время камера фиксировала изменения его поведения и настроения: из живого, подвижного, веселого малыша Джон превратился в замкнутого и плаксивого. И это несмотря на визиты отца, хороший уход и доброжелательность воспитательниц, которые всячески старались его успокаивать, но не могли уделять ему все свое время – в группе было еще несколько детей. Когда мама наконец вернулась, Джон не хотел идти к ней на руки, плакал и отворачивался.
Благодаря своим исследованиям и наблюдениям Джон Боулби и его коллеги обнаружили, что такое поведение закономерно. Они выделили три стадии ответной реакции ребенка на разлуку с близким человеком, причем таким человеком может быть, разумеется, не только мама.
Протест. Малыш старается всеми силами вернуть маму (няню): плачет, трясется, сбивает постель. Он живет в постоянном напряжении, не может заснуть, плохо ест, жадно ловит хоть какой-нибудь звук или движение, которое говорит о возвращении его потерянной мамы. Он всех отвергает, не принимает ничьей помощи или участия: ему нужен только тот единственный человек, к которому он привязался.
Отчаяние. Ребенок начинает привыкать к отсутствию мамы (няни), уходит в себя, не вступает в контакт. Он выглядит печальным, тихим, отрешенным.
Отчуждение. Малыш как будто смиряется с уходом мамы (няни). Он принимает помощь других, а когда его близкий взрослый возвращается, не проявляет никакой радости – ведет себя с ним как с чужим.
Младенец не способен выжить самостоятельно, поэтому в разлуке с близким взрослым он ощущает свою беспомощность и бессилие. Даже кратковременное расставание с мамой или няней для малыша – колоссальный стресс.
Если негативные переживания затягиваются – разлука длится слишком долго и не появляется взрослый, способный полноценно заменить маму или любимую няню, если ситуация ухода-возвращения мамы или смены нянь повторяется снова и снова, малыш закрывается от близких отношений – его душевные ресурсы не безграничны. У ребенка возникают тяжелые состояния депрессии и госпитализма. Их симптомы напоминают сильную тоску, какая одолевает взрослого, потерявшего родного человека.
Младенец еще не может контролировать и регулировать свои эмоции, и они находят выражение на физическом уровне – через тело. Когда малыш радуется, его тельце раскрывается, он улыбается, оживленно двигает ручками и ножками. Когда печалится, нервничает или боится, тельце сжимается, плечики дрожат, из глаз текут слезы. Если рядом с малышом нет любящего человека, способного успокоить, утешить, вернуть состояние комфорта, если ему не хватает ласковых, теплых прикосновений, он привыкает находиться в зажатом и напряженном состоянии. Постепенно возникают зоны хронического напряжения, которые сковывают движения, блокируют эмоции, и, в конце концов, приводят к психосоматическим заболеваниям – желудочно-кишечным расстройствам, бронхиальной астме, нейродермитам и т. д.
Но симптомы госпитализма могут сохраняться и после младенческого возраста – и не только на физиологическом уровне. Ученые пришли к выводу, что все пережитое в раннем детстве, наши отношения со взрослыми, наши привязанности оказывают куда большее влияние на всю дальнейшую жизнь, чем мы можем себе представить. Раннее разлучение ребенка с матерью, недостаток искренних, теплых отношений наиболее очевидно проявляются в поведении подрастающих детей и в их отношениях с окружающими. Диагноз «нарушение привязанности» уже давно включен в Международную классификацию болезней и в последнее время стал, к сожалению, слишком распространенным.
В один из центров психологической коррекции родители привели своего четырехлетнего сына. Бо́льшую часть жизни мальчик провел в больницах. Родители, люди обеспеченные, так беспокоились о его здоровье, что при малейшем недомогании отправляли сына в стационар: то у него «слабые гланды», то «воспаление», то «вдруг температура подскочила». Ребенка все время перемещали – из дома в больницу, потом опять домой, снова в больницу, уже другого профиля, причем всегда выбирались лучшие. В жизни малыша не было ничего постоянного: привычной обстановки, своего дома и, что самое важное, близкого взрослого, к которому он был бы привязан.
Ребенок, у которого есть любящие мама и папа, не получил позитивного опыта близких отношений. И вот результат: сейчас он сильно отстает в развитии: почти не говорит, не умеет сам есть и одеваться, не способен сконцентрироваться. Все его движения беспорядочны, он постоянно подпрыгивает, размахивает руками. Пострадала и эмоциональная сфера: к окружающим он относится как к неодушевленным предметам – холодно и безразлично. Он может ударить маму, отпихнуть детей в песочнице, с ним никто не хочет дружить.
«Ненадежная» привязанность
Нарушения привязанности могут проявляться по‑разному, и заметны они уже в годовалом возрасте. Ученые выявили два основных типа таких нарушений: избегающий и неустойчивый. И дали им общее название – «ненадежная привязанность», в отличие от «надежной», «уверенной».
Малыши с таким типом привязанности не стремятся к общению со взрослыми, их гораздо больше интересуют игрушки, и даже в пугающей, незнакомой ситуации они не ищут поддержки у взрослых.
С возрастом дети с избегающей привязанностью становятся скрытными, отстраненными, привыкают прятать свои чувства, но, если им надо получить что‑то от другого, могут имитировать яркие, сильные положительные эмоции. Они могут проявлять и «вынужденно уступающее» поведение: быть удивительно покорными и кроткими, выполнять все требования родителей. Когда надо, они умеют молчать, делать вид, что слушают, говорить правильные слова в ответ. Внешне все выглядит вполне благополучно. Но это именно вынужденное поведение – они научились так себя вести, чтобы родители «отвязались». Близкие отношения для них некомфортны, ведь в раннем детстве взрослые их отвергали и игнорировали.
Такой ребенок как будто говорит нам: «Я не нужен и нелюбим. Оставьте меня в покое!»
Ребенок с «неустойчивой» привязанностью проявляет сильную тревогу в незнакомой ситуации, даже если рядом кто-то из близких. Он капризный, возбудимый, беспокойный. Когда мама уходит даже на короткое время, он сильно расстраивается и долго не может успокоиться, плачет. Но когда мама возвращается – вначале тянется к ней, а потом сразу ее отвергает.
У таких детей развивается обостренная и никогда не насыщаемая потребность в любви, ласке и одобрении. Кажется, они активно стремятся к контакту, требуют его, «цепляются», «липнут», но как только на них обращают внимание, сторонятся любого общения. Вероятно, именно этот тип привязанности имели в виду специалисты в случае с капризным и неуправляемым мальчиком, о котором я рассказала в начале главы.
Такие дети быстро учатся манипулировать – добиваться внимания взрослых любым способом. В их репертуаре два вида поведения: активно-агрессивный или пассивно-беспомощный. Иногда они сочетаются. Например, ребенок ведет себя демонстративно, вызывающе, может швырять игрушки, кричать, если мама разговаривает с кем-то другим. Но как только он добился цели – вызвал негативную реакцию со стороны взрослого, он тут же переключается на обезоруживающее поведение и становится застенчивым, напуганным, покорным, чтобы избежать наказания. Такие манипуляции – эффективный способ добиться внимания родителей, и неважно, какой будет их реакция – позитивной или негативной.
Подростки с неустойчивой привязанностью не умеют дружить, но легко заводят новые знакомства (как правило, короткие и поверхностные), часто основанные на желании извлечь какую‑либо выгоду.
Эту позицию можно сформулировать так: «Я нелюбим, но очень хочу приблизиться к вам!»
Любые нарушения привязанности приводят к тому, что, повзрослев, ребенок не может устанавливать по‑настоящему глубокие, длительные отношения. Он не доверяет окружающим, не испытывает к ним теплых чувств, не обращает внимания на их желания и стремления. У него вряд ли разовьется сочувствие и терпение, свои настоящие чувства он научится скрывать, зато будет умело манипулировать другими. Он будет относиться к людям потребительски, ведь они интересуют его только с точки зрения того, что с них можно получить. Именно такую картину описывают психологи, наблюдая развитие воспитанников детских домов. Сегодня эти же проблемы возникают и у детей из благополучных семей, которым не хватило родительского тепла и внимания в самом раннем возрасте.
Как формируется надежная привязанность?
Внутреннюю уверенность и спокойствие, силы жить и развиваться ребенку дает прочная, надежная привязанность. Сформированная в первый год жизни, она позволяет преодолевать страх и беспокойство, справляться со стрессом и фрустрацией. Повзрослев, ребенок сможет строить нормальные, здоровые, гармоничные отношения с другими людьми, воспринимая свое окружение в целом как безопасное. Это базовое доверие к людям, к миру он пронесет через всю жизнь.
Как формируется надежная привязанность? Все происходит довольно буднично. Младенец начинает плакать, и взрослый, откликаясь на его плач, подходит к нему, берет на руки, что‑то ласково говорит, укачивает, гладит или сразу кормит, если малыш голоден. Ребенок успокаивается, ему хорошо и комфортно – он засыпает или играет до тех пор, пока у него не возникнет новая потребность (ему опять станет скучно, холодно или жарко, он мокрый или снова проголодался и т. д.). Взрослый подходит к нему, и все повторяется: он переодевает малыша (играет, кормит) и помогает успокоиться. И так круг за кругом по многу раз в день одни и те же действия. Постепенно малыш начинает понимать, что в мире есть человек, способный утешить, взять на руки, когда это необходимо, и, если этот человек рядом, значит, он под защитой, все будет хорошо. Эти повторяющиеся взаимодействия психологи называют циклом формирования привязанности. Причем, когда мама носит ребенка на руках, прижимая к себе и воркуя с ним, она тоже к нему привязывается, и это помогает ей преодолевать усталость, терпеть бессонные ночи, легко отказываться от удовольствий.
Такая надежная привязанность – ребенка к взрослому и взрослого к ребенку – вырабатывается при соблюдении нескольких условий.
Самое важное – это постоянство. Вспомним няню, которая излечивала детдомовских малышей, в буквальном смысле привязывая их к себе. Таким простым способом она обеспечивала постоянный – и физический, и эмоциональный – контакт с ребенком, давала ему возможность привыкнуть к ней, научиться ей доверять.
Следующее непременное условие – чуткость. Взаимная привязанность вырастает из повседневного интенсивного общения. Чем внимательнее взрослый вглядывается в своего малыша, чем точнее откликается на его потребности и желания, тем сильнее тот привязывается.
И, конечно, формирование надежной привязанности невозможно без проявлений любви. А выражается любовь в прикосновениях, взглядах, улыбках, в разговоре, в том, как мама носит ребенка, обнимает, переодевает, кормит, нянчится с ним, тискает, любуется. Ни о каком формальном отношении и речи быть не может – любовь невозможно включить ни в какую инструкцию, здесь задействован весь спектр самых искренних чувств. Поэтому одного только присутствия недостаточно: надо не «пребывать» с ребенком, а «быть». Он получает эмоциональную подпитку, учится отвечать, и постепенно формируется эта глубокая эмоциональная связь между малышом и его главным взрослым, растет и крепнет привязанность, которая становится все надежнее. Взрослый защищает и заботится, а ребенок доверяет и ищет помощи.
Уоллес Диксон, описывая теорию Боулби в своей книге «Двадцать великих открытий в детской психологии», сравнил надежную привязанность с «невидимым эластичным тросом». Поведение ребенка с надежной привязанностью напоминает занятие банджи-джампингом (прыжками на тросе): смельчаки привязывают к лодыжкам длинный прочный эластичный трос, а затем прыгают с высокого здания, моста или платформы. И когда до земли остаются считаные сантиметры, трос вытягивает их наверх. Когда малыш отходит или убегает от мамы, для него это тоже своего рода риск, экстрим. Чтобы действовать спокойно и уверенно, маленькому экстремалу необходимо знать, что есть «надежная база», «неподвижная платформа», которая никуда не денется, не исчезнет, на которую всегда можно вернуться. В качестве такой «базы» как раз и выступает мама.
Например, она стоит на детской площадке или сидит на скамейке в парке. Ребенок отбегает от нее все дальше и дальше, но как только поймет, что мамы нет рядом, ему станет страшно, и невидимый эластичный трос притянет его обратно. Если же мама первой почувствует, что малыш ушел слишком далеко от «базы», эластичный трос притянет ее к ребенку. Ведь настоящая привязанность – это двусторонние отношения.
Свой главный взрослый
В теории Боулби есть важное понятие – объект привязанности. Это взрослый, в котором ребенок находит утешение и успокоение, к кому обращается в трудную минуту, когда ему страшно, когда он огорчен, устал или болен. Это тот, к кому можно прижаться, кто всегда откликнется, пожалеет, защитит. В любой ситуации, «и в горе, и в радости», этот взрослый для малыша – самая значимая фигура.
Боулби первым пришел к важному выводу: опыт, получаемый ребенком в процессе ежедневного общения со взрослым, который о нем заботится, – это база для формирования его представления о себе: «Я такой, как обо мне заботятся». Стартовые условия, в которых малыш находился в первые месяцы своей жизни, то, насколько он ощущал себя любимым и ценимым, будут играть важную роль в развитии его как личности. Отношение близкого взрослого становится «внутренним достоянием» ребенка, «вживляется» в его самосознание. Если взрослый действует последовательно и предсказуемо, малыш знает: ему всегда есть на кого опереться.
Если у ребенка есть источник поддержки – свой главный взрослый, – он уверен, что защищен и находится в безопасности, у него формируется доверие к людям, и круг его общения постепенно расширяется, в зону его внимания попадают другие люди. Когда малыш спокоен, в хорошем настроении и чувствует, что его «опора и защита» где‑то рядом, он с удовольствием пообщается и поиграет с теми, кто его окружает. Так со временем у ребенка появляется возможность сформировать несколько объектов привязанности. Понятно, что их не может и не должно быть слишком много.
Принципиальное условие нормального развития ребенка – стабильность. Сегодня принято путешествовать даже с совсем крошечными детьми, всюду брать их с собой – в другие города, страны, в машину, самолет, ресторан, на шумную вечеринку и шопинг. Но мы не задумываемся о том, как сказывается на ребенке такое «мобильное детство»: бесконечная череда новых лиц и постоянное пребывание на людях – все это противоречит потребности малыша в стабильности и безопасности. Поэтому нежелательно в значимые для малыша первые месяцы его жизни без особой необходимости планировать перелеты и переезды. Важно и дома не устраивать «проходной двор». Возможно, стоит провести что‑то вроде инвентаризации своих отношений с друзьями, знакомыми и перенести встречи с ними в другое место, хотя бы на время оставив дом «за ребенком», сделав его территорией стабильности, где малыш будет окружен по‑настоящему близкими, хорошо знакомыми ему людьми.
Друг мой мишка
Интересно, что вспомогательным объектом привязанности может стать и неодушевленный предмет – например, игрушка. Однажды я была свидетелем такого эпизода. Мама отправила в мусорное ведро затертого мишку, а потом торжественно вручила малышу нового – модного Тедди, привезенного из Лондона. У ребенка началась истерика. Мама, конечно, хотела как лучше: «На этой замусоленной игрушке миллион микробов!», но в результате одним движением разрушила привязанность, а с ней и целый мир, где рядом с малышом всегда был верный, родной, облизанный, обкусанный и политый слезами надежный друг.
Французские психологи даже рекомендуют мамам специально создавать такой вспомогательный, дополнительный объект привязанности. Лучше, если это будет плюшевая игрушка с вышитыми глазками – мишка, зайчик. Ее приятно тискать, обнимать, с ней удобно спать. Если мама поносит игрушку у себя на груди несколько часов, она впитает запах мамы, а потом и запах малыша, когда он будет с ней возиться. Когда мамы рядом нет, игрушка сможет в какой‑то мере компенсировать ее отсутствие, и малыш уже не будет чувствовать себя одиноким и испуганным. Ребенок согласится отпустить маму, если рядом его любимый плюшевый мишка. Но если тот вдруг потерялся, кроха будет безутешен, пока его друга не найдут.
Такая игрушка заслуживает внимательного и серьезного отношения взрослых, ведь для малыша она выполняет важные защитные функции. Именно поэтому ее нельзя ни выбрасывать, ни менять на что‑то другое, ни тем более запрещать малышу всюду носить ее с собой. Когда-нибудь ребенок сам найдет ей почетное место – в своей памяти или на какой-нибудь полке, где она будет напоминать ему о детстве.
Закон есть закон
Формирование стабильной, надежной привязанности – одна из самых важных задач в первый год жизни ребенка. Но как это сделать в современном динамичном мире, при нашей постоянной занятости?
Универсальной формулы, наверное, нет. Зато есть определенные психологические законы, которые существуют помимо нашей воли и желания и незнание которых, как принято говорить, «не освобождает от ответственности». Хотим мы учитывать теорию привязанности или нет, но «закон Боулби» действует так же, как и все прочие законы: когда мы ему следуем, есть шанс, что все будет хорошо, когда нарушаем – уж точно «получим по полной». И тогда мы должны четко представлять, какими трагическими могут быть последствия, чтобы потом не разводить руками и не перекладывать вину на других.
Что интересно, изучение привязанности не остановилось в середине XX века, а, напротив, набирает обороты. Исследуется, как типы привязанности влияют на самооценку, способность к близости, дружбе и романтическим отношениям во взрослом возрасте, на формирование эмоциональной саморегуляции. Ученые показывают, как ранний социальный опыт даже «программирует» здоровье. Последние открытия выявляют связь типов привязанности с такими показателями иммунной системы, как воспалительные процессы и клеточный иммунитет.
Если мы хотим вырастить детей сильными, жизнестойкими, способными на глубокие отношения, уверенными в себе, важно, чтобы в первый год жизни ребенка рядом с ним постоянно был близкий, надежный взрослый. Конечно, лучше, если это мама.
Но если мы по каким-то причинам не готовы сами заниматься малышом, надо найти того, кто сможет относиться к нему по-матерински и постоянно быть с ним. Пусть с ребенком будет не самая профессиональная, не самая аккуратная, не самая умная и воспитанная, зато постоянная няня, к которой он привыкнет, к которой привяжется. Это лучше, чем десять самых изумительных нянь, через руки которых мы «прогоняем» ребенка, как сквозь строй (вспомним мальчика, о котором я рассказывала в начале главы). Если няня уже сумела стать для него близким человеком, попробуем закрыть глаза на ее недостатки и принять то, что глубокая эмоциональная связь у нашего малыша образуется именно с ней. В конце концов, душевный покой, здоровье и будущее ребенка дороже.
Третий – лишний?
Надо ли маме в первый год жизни малыша самой сидеть с ним, неотлучно быть рядом или можно доверить это «специально обученным людям»? На этот вопрос есть два прямо противоположных ответа, две точки зрения.
Традиционная: да, о ребенке с рождения должна заботиться именно мать. И любые ее замены, будь то няня, бабушка, ясли или, не дай бог, детский дом, – это замены вынужденные, оправданные только тогда, когда на то есть очень серьезные причины. Не случайно существует отпуск по уходу за ребенком – время, которое дается женщине, чтобы выкормить, выходить малыша и просто быть с ним рядом до той поры, пока он в прямом смысле слова не встанет на ноги.
Но с каждым годом набирает популярность и противоположная точка зрения: не так уж важно, кто будет ухаживать за новорожденным, – покормить, покачать да песенку спеть может и няня. А если у нее к тому же специальное медицинское образование, то она обеспечит малышу гораздо лучший уход, заодно избавив маму от хлопот и бессонных ночей. И многие женщины уже через несколько месяцев после родов возвращаются к работе или светской жизни, оставляя ребенка на весь день с няней.
Обе точки зрения, безусловно, имеют право на существование. И «консерваторы», и «либералы» абсолютно убеждены в своей правоте и приводят целый набор аргументов, подкрепленных научными данными. При этом они формулируют вопрос одинаково: «Надо ли маме сидеть с ребенком?», делая главным действующим лицом маму. Это она решает, «сидеть или не сидеть», «быть или не быть»… А ребенок оказывается в пассивной, страдательной позиции – его «мнение», его интересы как будто не учитываются. Так «дадим ему слово»: попробуем рассмотреть эту проблему с позиции малыша, сделаем его главным героем и попытаемся понять, в чем действительно нуждается новорожденный, чего он «ждет» от родителей.
Запрограммированная беспомощность
Начнем с того, что мы рождаемся абсолютно беспомощными и совсем не готовыми к самостоятельности, причем по сравнению с животным миром это состояние длится достаточно долго. Утенок, едва вылупившись из яйца, уже способен плыть вслед за мамой-уткой, слепой котенок через пару недель открывает глаза, а через месяц уже пытается самостоятельно охотиться.
По мнению известного биолога Адольфа Портмана, для того, чтобы новорожденный малыш взрослел так же быстро, как представители других видов, человеческая беременность должна длиться не девять месяцев, а 21. За это время «подготовительный период» младенчества подходит к концу, и малыш выходит на тот уровень развития, которого другие животные достигают еще в утробе матери. Иначе говоря, в биологическом смысле младенец – существо недоношенное, незрелое. Тогда почему он «выходит в мир» значительно раньше срока? Дело в том, что женский таз слишком узок для прохождения большой головы младенца, да и обмен веществ в период беременности ускоряется в несколько раз, до предела перегружая женский организм.
Портман считает, что младенец еще целый год после рождения пребывает в своего рода «социальной матке» и добирает все недостающее, буквально «дозревает». Поэтому он нуждается в том, чтобы рядом с ним находился взрослый, который готов преданно о нем заботиться и защищать.
Кто же может обеспечить ребенку «социальную матку»? Кто станет для него источником жизни? Няня природой не предусмотрена. Эта важнейшая роль отведена маме: с появлением малыша на свет миссия мамы не заканчивается, ее единство с малышом не прерывается. Ребенок «дозревает» на руках у матери, она его донашивает, он полностью от нее зависим. Поэтому материнская забота и преданность – это биологически заданная необходимость.
На одной волне
За девять месяцев беременности у мамы и младенца формируются определенные биологические настройки, которые сохраняются и после появления малыша на свет. Мать и ребенок продолжают жить в одном биологическом ритме, синхронно, «на одной волне» – они настроены друг на друга, как приемник и передатчик. Недаром из всех взрослых, которые находятся рядом, малыш инстинктивно выбирает именно маму: он узнает ее голос, ее запах – это подтверждают многочисленные исследования и эксперименты.
У новорожденного собственные биоритмы еще не сбалансированы, поэтому регулируются они с помощью ритмов мамы. Биение ее сердца, ее дыхание, ходьба, ритмические движения вызывают у малыша «воспоминания» о пребывании в утробе и успокаивают. Ученые наблюдали новорожденных в грудничковых отделениях яслей, детских и родильных домов. Младенцам проигрывали записанное на магнитофонную пленку биение человеческого сердца. И выяснилось, что дети развивались лучше, если слышали биение сердца своей матери. Они больше ели, лучше спали, спокойнее дышали, меньше кричали и реже болели.
Американский антрополог Джеймс МакКенна изучал поведение спящих матери и ребенка, присоединив к ним датчики и снимая на видеокамеру. МакКенна заметил, что совместный сон отдаленно напоминает парный танец: когда просыпается мама – пробуждается малыш, и наоборот. Спящие вместе переходят с одного уровня сна на другой, от глубокого к поверхностному и обратно, ориентируясь на ритм дыхания матери. Именно во время совместного сна ребенок учится дышать правильно.
Американские педиатры Уильям и Марта Сирс пришли к аналогичным выводам. Приборы, контролировавшие сердцебиение и дыхание младенца во время сна, фиксировали значительное снижение остановок дыхания, когда малыш спал рядом с мамой или у нее на руках. Многим младенцам, спящим отдельно, свойственны периоды краткой остановки дыхания – ребенок иногда просто «забывает» дышать. Такая «забывчивость» может закончиться трагически. В этой ситуации достаточно разбудить или просто прикоснуться к малышу, чтобы его дыхание возобновилось.
А если с ребенком будет не мама, а другой взрослый? Станет ли он так же заботливо прижимать малыша к себе, спать с ним рядом? И так ли уж непоправимы последствия «одинокого сна»? Вероятно, организм младенца достаточно гибок и адаптивен, иначе слишком незавидной была бы участь детей, которых родители решили не приучать к рукам, не баловать и с самого рождения укладывали спать в отдельную комнату. Они все-таки научились дышать во время сна правильно, их биоритмы постепенно пришли в норму. Правда, нередко это сопровождалось беспокойством, тревогой и занимало гораздо больше времени, чем если бы мама была рядом. Так стоит ли подвергать риску жизнь малыша и обрекать его на такие переживания, если мама может помочь ему войти в ритм самым элементарным способом: почаще и подольше держать его на руках, «под сердцем» и спать в одной комнате в первые месяцы его жизни.