Какого года любовь бесплатное чтение
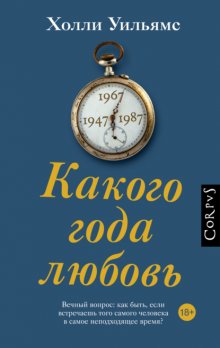
© Holly Williams Ltd. 2022
© Э. Меленевская, перевод на русский язык, 2023
© А. Хораш, художественное оформление, макет, 2023
© ООО “Издательство АСТ”, 2023
Издательство CORPUS ®
21 января 1927 года
Часы показывают 6.42, когда в Абергавенни, что в Южном Уэльсе, в спаленке на верхнем этаже стандартного коттеджа, втиснутого между другими такими же, Ангарад Льюис плотно сжимает зубы и тужится еще раз. Она рожает девочку, которой вскорости даст имя Вайолет, кроху с темно-синими глазками, что молча смотрит на мать, когда акушерка уносит ее стеснить и запеленать. В тот же самый момент, в 6.42, на другом конце страны, в устеленной полотенцами комнате в восточном крыле Фарли-холла неподалеку от Нарсборо, это Северный Йоркшир, Амелия Бринкхерст издает последний залп брани, меж тем как ее сыночек прорывается себе в мир. Весь красный, Элберт Перегрин Бринкхерст торопится распрямить свои длинненькие конечности, ряззявливает рот и заходится криком.
Глава 1
Апрель 1947 года
Все началось с письма. Письма на розовой бумаге, которой всегда пользовалась подруга Роуз, и которое Летти перечитывала снова и снова с тех пор, как два месяца назад нашла его у себя на пороге.
В апреле мы с Берти отправимся в пеший поход по Брекон-Биконс – и разве это не в ваших краях? Как ты смотришь на то, чтобы нам повидаться? Я так просто умираю, как хочется!
Когда Летти прочла это в первый раз, при мысли о том, что она обнимет подругу и ей выпадет случай познакомиться с младшим братом Роуз, Берти, ее окатило легкой волной возбуждения. Теперь день настал, и Летти нервно потягивала лимонад, пощипывающий пузырьками нёбо. В “Овечку” она явилась загодя, на полчаса раньше, не особо доверяя автобусам, курсирующим между Абергавенни и Бреконом. Заняв потертое кресло в том закутке паба, куда женщины допускались[1], расправила складки любимой юбки, чуть взбила свои темные кудельки. Ну не глупо ли, укорила она себя, так трепетать! Но с Роуз они не виделись с конца войны, когда работали телеграфистками в Лондоне, а с Берти и вовсе встретятся в первый раз.
Однако ж ее всегда занимала мысль о нем, с тех самых пор, как обнаружилось, что родились они в один день. Роуз, которая в войну командовала целым батальоном телеграфисток на центральном почтамте, при поступлении на службу всякой новой девушки имела обыкновение помечать, когда у той день рождения, чтобы поздравить, когда подойдет час.
– Двадцать первого января? Представь, и мой братик Берти родился тогда же! – воскликнула Роуз. – А тебе тоже восемнадцать?
Летти кивнула.
– Чудеса!
Роуз, явно под впечатлением, повнимательней на нее посмотрела, и Летти стало приятно, что у них с Роуз есть точка соприкосновения. Было в ней что‐то, в этой высокой яркой девушке, что нравилось Летти вопреки тому, что они, это же видать сразу, совсем из разных миров. Такую внятную и мелодичную речь Летти доводилось слыхивать прежде разве что из радиоприемника.
Она расспрашивала Роуз о Берти столько, сколько могла, чтобы не показаться назойливой. В голове у нее сложился его портрет: элегантный, учтивый молодой человек в смокинге, рассуждающий о Гомере. Высоколобей занятия, чем в Оксфорде изучать классические языки и литературу, считала она, на свете нет, так что Берти наверняка ужасно учен и собой подавляет.
Заметив, что почти уже прикончила свой лимонад, она поигралась с мыслью, есть ли у нее время до их прихода выпить еще стакан. Но в целом как‐то в голове не укладывалось, что они, Роуз и этот Берти мифический, и впрямь могут сюда, в их местный паб, явиться.
Не будь войны, они с Роуз, конечно, ни за что бы в жизни не встретились. Летти считала, что в ином случае она сама вряд ли уехала бы из Южного Уэльса, а светские дамы вроде Роуз такие места, как почтовое отделение Абергавенни, посещать обыкновения не имеют. Правда, проработали они вместе совсем недолго: стоял 1945 год, и уже маячил конец войны, когда Летти поступила на Лондонский почтамт.
Огромное здание на углу улицы Сен-Мартин-Ле-Гран кишело девицами, которые до того и думать не думали, что им доведется работать в Лондоне или даже что вообще доведется работать. Щебеча и порхая там, подобно воробышкам в ветвях дерева, от духозахватывающих, нагнетающих страх сирен и от вида развалин отвлекались они тем, что приток солдат и офицеров не иссякал, в Хаммерсмит-пале шли танцульки, а Вест-Энд блистал шиком.
Летти прибыла туда, сбитая с толку не меньше других; никогда раньше в столице она не бывала. Но прошло несколько недель, и Лондон она полюбила. Покачивалась на заднем сиденье автобуса под звоночки, оповещающие, что сейчас остановка, под тарахтенье мотора. Высокие здания перекрывали собой небо, в обширных парках народу было полно. Она подолгу блуждала, что не рекомендовалось, по разрушенным, безымянным улицам. Впервые в жизни она была сама по себе и вдали от дома. Независимость волновала. И все больше нравилось ей знакомиться с самыми разными людьми: в дешевой гостинице, где она поселилась, обитали еще четырнадцать девушек. По вечерам, за общими чаепитиями, они сблизились стремительно и сердечно. Похоже было на то, что и невидимые стены между людьми тоже оказались разрушены.
Роуз была их, телеграфисток на центральном почтамте, лидером, столпом и опорой – жизнерадостная, убежденная в том, как важен их труд для победы, она помогала не унывать одиноким, подавленным и нервозным. В первые недели пребывания Летти в Лондоне Роуз приняла ее, не устающую всему изумляться, под свое крыло и даже пригласила как‐то в отель на чай с тортом (“Мне эти дурацкие деньги девать некуда – так позволь же тебя угостить!”). И Летти поразилась тому, как легко оказалось с ней разговаривать – по‐настоящему разговаривать, по душам, – несмотря на все их несходство.
– Странное дело, но эта война, – как‐то сказала Роуз за чашкой чая в гостиничке Летти, где по стенам ползла плесень, – тем, что нам сделалось необходимо работать, она привнесла в нашу жизнь цель и смысл.
Летти подняла глаза, чтобы посмотреть ей прямо в лицо.
– Кому “нам”? Ты имеешь в виду женщин вообще или только таких, как ты?
Роуз покрутила в пальцах свою светло-каштановую прядку, и Летти стало неловко из‐за того, что она намекнула на разницу в их происхождении. Так‐то она старалась не слишком задумываться над тем, что отец Роуз был настоящий лорд, а у подруги есть и титул, и земли.
– Женщинам. Девушкам, – ответила Роуз. – Если бы не война, единственным нашим делом было бы подыскать себе мужа и все такое.
– Ну, я и так работала в Абергавенни, на почте. Таким, как мы, многим приходится… – мягко проговорила Летти.
Летти устроилась на почту в пятнадцать, когда оставила школу; и без того она проучилась на год дольше, чем считал нужным ее отец. Миссис Кеттерик строго указала ему на то, что Вайолет “очень толковая”, и стала настаивать на том, чтобы городской совет выделил ей одну из немногих стипендий, пусть девочка продолжит обучение в средней школе. Но потом они узнали, что Кэрри Джонс, которая служила в маленьком почтовом отделении на главной улице в Абергавенни, ждет четвертого ребенка, и предложение занять этот пост вместо Кэрри было слишком соблазнительно, чтобы Летти от него отказалась, стипендия там или нет.
– Но разве эта работа не была чем‐то вроде временной остановки? – настаивала Роуз. – Способом занять время, пока ты еще не замужем?
– Пожалуй. Хотя сама‐то я смотрела на это дело иначе. Но, наверное, именно так относился к нему мой отец.
– Я просто о том, что у многих девушек – ну, таких, как мы, – и в мыслях не было, что придется делать что‐то серьезное, от нас этого никогда, в общем‐то, и не требовалось, – продолжила Роуз. – О, я знала, что воспитание детей и ведение домашнего хозяйства станет нашей работой – и это работа важная. Но как‐то по‐другому, не так ли?
Летти склонила голову набок, показывая, что внимательно слушает.
– Наша служба в военное время – это вынужденно и нежданно-негаданно. И дает повод пораскинуть мозгами. И отлично, как раз самое время – я думаю, женщинам это нужно.
Летти и Роуз грелись дружбой, укрепившейся в силу обстоятельств, но прошло несколько месяцев, и наступил конец. Все размахивали флагами, все порывисто целовались; наблюдая, как светятся радостью лица вокруг, сама Летти ежилась от холодной струйки разочарования. Она знала, что настроение это неправильное, что признаться в нем нельзя даже себе самой. Но видение зимних полей, раскинувшихся вокруг ее дома – голая, фиолетово-бурая земля, затвердевшая в борозды, протянутые в бесконечную даль, – преследовало ее.
Дома, в Абергавенни, Летти стало казаться, что время, проведенное в Лондоне, запечатано и уплывает, почти что воспоминание о том, чего не могло быть. Но однажды по почте пришел лиловый конверт. Все девушки, расставаясь, клялись, что будут поддерживать связь, но только Роуз подтвердила это на деле, доказав, что писать письма любит и отлично умеет. А потом она начала присылать книги.
– Зачем тебе это шлют, Летти? – спросил отец, встопорщив свои густые усы, как это бывало, когда он ощущал угрозу.
Не ответив, Летти вынула пакет из его рук и, развернув, нашла там тяжелый том “Грозового перевала” в кожаном переплете, присланный из “ну просто огромной” библиотеки Фарли-холла, как, величественно на слух, именовалось поместье Роуз.
Отец Летти не особо жаловал чтение, хотя о том, какой он мастак разгадывать кроссворды, по окрестным долинам ходили легенды. Эван пел в церковном хоре, служил на железной дороге и состоял в лейбористах. Но даже одобряя то, что его сыновья – оба младше Летти, оба в ярости из‐за того, что не досталось повоевать, – разделяют взгляды Джорджа Оруэлла, он резко выказал недовольство, увидев, как Летти проводит воскресенье за книгой, у камина, усевшись с ногами в кресло с ветхой до дыр обивкой.
Она пропускала это мимо ушей. Письма и книги давали ей выход в другой мир, и если уж не в безумный, напористый Лондон, то точно не в сонный Южный Уэльс. Они возмещали то, как скукожилась ее жизнь.
Спала Летти на узкой кровати, отделенная от братьев тяжелой старой гардиной, трудилась пять дней в неделю и по утрам в субботу, а в субботние вечера позволяла себе полпинты пива в “Фонтане”. Но порой то, как визгливо веселились в пабе ее приятели, угнетало. Видно, так выплескивает себя почти истерическое облегчение от того, что ты не погиб, думала она, наблюдая за тем, как глаза их горят, а рты силятся что‐то сказать, дельного не говоря, как будто быть живым имеет смысл, если только ты плывешь по течению.
Снова взявшись за лимонад, Летти допивала его до дна, когда к ней устремился, путаясь в соломе, которой устелен был пол, какой‐то молодой человек.
– Летти?
Ага, вот и он.
Хоть она его и ждала, Летти слегка озадачилась. Уж очень он оказался высок и худ, светло-каштановые волосы взмокли от пота, несколько прядок свесилось на кроткие карие, широко поставленные глаза.
– Берти?
“Но где же Роуз?” – подумала Летти, в нарастающей панике сжимая пустой стакан.
“Что мне стоило подождать Роуз!” – подумал Берти, сожалея о своем решении обогнать сестру и явиться в паб первым.
Прежде его не слишком заботила встреча с подругой Роуз. Теперь же он обнаружил, что смотрит в такие глубокие, такие темные, такие синие глаза, каких он, показалось ему, никогда в жизни не видел.
Берти обогнал Роуз на последнем отрезке их двенадцатимильной прогулки по влажной и густой, чем дальше, тем гуще, зелени Брекон-Биконс – с детства укорененная привычка соревноваться, от которой ни брат, ни сестра еще не готовы были отказываться. Роуз было двадцать два, она на два года старше Берти, и ноги у нее так вымахали в отрочестве, что хоть куда, соперничали они на равных. Но теперь он регулярно ее опережал, вот и оказался в гостинице с низкими потолками, где они сняли на выходные довольно убогие комнаты, один, запыхавшийся и на одеревенелых ногах.
– Привет-привет! Очень рад познакомиться с вами, Летти. Я слышал… то есть Роуз… она…
Берти производил впечатление человека, у которого куда больше конечностей, чем это обычно бывает, и он плоховато с ними освоился. Простер было в приветствии длинную руку, на полпути передумал, провел взамен дланью по встрепанным волосам, нимало их не пригладив, и уж потом ткнул решительно, указав на пустой Леттин стакан.
– Не хотите ли выпить? Еще что‐нибудь… то есть… не могу ли я…
– Полпинты мягкого, пожалуйста, – быстро произнесла Летти.
Берти с большим энтузиазмом кивнул, глядя куда угодно, только не ей в глаза, затем, мотнув несколько раз всем своим длинным телом в сторону бара, переместил наконец к стойке свои конечности и бумажник, чтобы заказать пинту горького и полпинты мягкого. Рассматривая его и изо всех сил стараясь не пялиться, Летти поняла, как ошиблась в своих представлениях: основываясь на картинках из книжек, она выстраивала в воображении образ какого‐то аристократа, которые давно уж, наверно, вымерли, тогда как он обычный двадцатилетний парень, взлохмаченный, в заляпанных грязью брюках.
Вернувшись с пивом, Берти плюхнулся в коричневое кресло с ней рядом, слегка расплескав при этом свою пинту. Оба они уставились на костерок, потрескивающий за корявой каминной решеткой. Длилось это, пожалуй, всего несколько секунд, не больше, но у Летти от молчания все тело заныло, и стиснулись скрещенные в лодыжках ноги.
– Вы не будете возражать, если я скину ботинки? – сказал Берти.
Ступни у него горели. Но, кроме того, возня с влажными шнурками дала бы удобный повод обратить свой взор в пол. Уж лучше так, чем смотреть в лицо, в глаза этой Летти.
Та, помотав головой, дескать, не буду, постаралась ничем не выразить своих чувств.
Мужчины, которых она знала, ботинок в пабе никогда не снимали – впрочем, являлись они сюда после работы и тут, стоя, осушали свои пинты с таким видом, будто это последнее их трудовое свершение за день, а не награда. Берти, напротив, принялся расшнуровывать походные ботинки так, словно намеревался потом задрать ноги как человек праздный.
Потягивая пиво, Летти глядела на то, как он мается со шнурками. Она и без того ожидала, что Берти покажется ей столь же чуждым, как Роуз при первой их встрече, но теперь это ощущение усиливалось еще какой‐то его… мужской сутью. Да и вообще поражал этот странный, неведомый ей подвид мужчины с его твидовым пиджаком, непохожим на местный выговором и рвением угодить – ласковым, но нескладным.
– Как прошла ваша прогулка?
– А! – Берти, которому удалось стащить первый ботинок, перевел было дух, но тут же омрачился сознанием того, что от носка несет мокрой псиной. – Да, очень хорошо. Здесь есть на что посмотреть. – ответил он, пытаясь упрятать ступню под кресло.
– Пен-и-Ван[2], верно?
– О да! Впечатляюще, да… впечатляюще. И до чего ж славно выйти наружу и бродить после той зимы, что мы пережили!
Поставив оба ботинка у камина, Берти наполовину осушил свою пинту, обозрел сначала стены, затем потолок, будто развешанные там полированные конские бляхи страсть как ему любопытны, затем снова глянул на бар и только потом сдался и украдкой покосился на Летти. Она также, похоже, избегала смотреть на него, отводя глаза, точно в другой стороне паба происходило что‐то поинтересней. У нее были ямочки на бледных щеках; брови, тонкие и аккуратные, слегка приподняты. Необычайно узкий нос с пимпочкой на конце тоже выглядел вздернутым, способствуя впечатлению, что происходящее ее потешает.
Или это из‐за запаха? Боже, подумал Берти, от меня несет, как от дохлой овцы.
– Летти! Милая!
“Благодарение богу”, – подумали разом оба, когда жизнерадостный возглас Роуз разнесся по пабу.
Не такая высокая, как ее брат, все равно она передвигалась шагами длиннее Леттиных раза в два, не меньше, как обнаружила та, когда пыталась не отставать от нее в Лондоне. Там уличная толпа, которая после неспешного родного городка Летти подхватывала и швыряла, перед Роуз всегда расступалась, как вода перед носом корабля. Роуз пересекла паб примерно в два таких шага и крепкими руками обхватила узкие плечи Летти, почти подняв ее с места.
– Как ты, как ты? Здорово, что он тебя отыскал… Берти! Ты что, снял ботинки? Ну, вообще. И где моя выпивка, а?
– Как же я рада тебя видеть, – сказала Летти. – Сколько времени утекло?
– Ну, года два, не меньше. Да, и я соскучилась по тебе, моя дорогая девочка.
Роуз снова приобняла подругу, присев рядом на краешек кресла. Постучала пальцем по пимпочке, а Летти, сморщив нос, высунула язык и на секунду почувствовала себя школьницей – хотя, конечно же, в школе у нее не водилось таких умных и уверенных в себе подруг, как Роуз. Наверно, это что‐то врожденное, думала Летти, привычно изумляясь тому, с какой легкостью Роуз взаимодействует с миром.
Берти, по‐прежнему не в своей тарелке, протянул руку к бару и одними губами, беззвучно, сообщил бармену, что будет пить Роуз – джин с тоником, догадалась Летти, Роуз всегда только это заказывала, – а потом последовал за своим жестом, и не подумав вспомнить о том, что не обут.
“Слухи пойдут”, – подумала вдруг Летти, наблюдая, как Берти скачет в одних носках, кивает, улыбается, вынимает слишком большую купюру. Том за стойкой, литые плечи и лоб, стоял, не шевелясь, пока Берти суетился-возился; братья Дэвисы в упор тяжело на него глядели.
Ну и пусть! Летти почувствовала, как лицо ее вспыхивает от удовольствия при мысли о том, что она с Берти заодно – но еще больше с Роуз. Пусть себе слухи! У нее в животе щекотало от простой и беспримесной радости свиданья с подругой – подругой, которую она любит, которую, как ей думалось, она больше никогда не увидит.
Принеся джин с тоником и угнездившись в кресле со своим недопитым еще пивом, меж тем как огонь в камине, потрескивая, грозился подпалить ему ботинки, Берти понял, что и слова вставить в девичью болтовню не может. Перебивая саму себя, его сестра засыпала Летти вопросами о том, где тут в округе непременно нужно побывать, где та любит гулять, о работе, о книгах, которые они обе читали.
Летти обнаружила, что единственный способ взвешенно и толково высказаться о миссис Дэллоуэй[3] – это ни в коем случае не смотреть в сторону длинных ног Берти (со ступнями в носках).
Но в конце концов вежливость все‐таки заставила ее к нему обратиться.
– А вы, Берти? Вы, должно быть, много интересного читаете по оксфордской программе, правильно я говорю?
– Я бы лучше читал то, о чем вы обе так живо беседуете. Похоже, это куда занимательней моих лекций, – сказал он с милой кривоватой улыбкой. – Великих – я имею в виду древних греков и римлян – читать трудно и скучно до дурноты. Право, и не подумаешь, что только что кончилась война, до того это неуместно и ни к чему, словно…
– Словно ты застрял в прошлом? – вскинув бровь, подхватила Летти. Его глаза метнулись к ее глазам, и они наконец столкнулись взглядом как должно.
Последовала вспышка в долю секунды, словно удар статическим электричеством. У Летти закололо в кончиках пальцев; у Берти по периферии зрения взрывом рассыпались звездочки.
Девушка поспешно отвела взгляд, не понимая, что вдруг стряслось, а затем с удивлением осознала, что случившееся прибавило ей смелости.
– Но как же, классика ведь вся про войну, разве нет? В сущности, там сплошная война, ничего, кроме войны – троянцы и все такое. Вся эта ан-тич-ность, – Берти поежился внутренне от того, как прорвался в это слово ее валлийский акцент, – она и есть настоящее, верно? Мужчины, много мужчин, они воины, и они убивают друг друга.
– Сдается мне, Летти, вам следовало бы учиться вместо меня, а мне – вместо вас работать на почте.
Кажется, она чуть нахмурилась. “О, боже, – подумал Берти, – еще решит, что это я свысока. О, нет”.
– Хотя не уверен, что справлюсь, полное отсутствие организационных навыков, и с арифметикой просто беда. Но штамповать письма мне наверняка бы понравилось… – Он взмахнул рукой, как бы франкируя почтовое отправление.
– Пойдите лучше в библиотекари. С вашим‐то навыком работы со старыми книгами!
Тут Летти заметила, как подрагивают, будто кто их за ниточки дергает, уголки широкого рта Роуз. Она покраснела, и Берти не смог не задаться вопросом: неужели она тоже это почувствовала? Конечно же, ему не показалось…
При этой мысли он покраснел тоже, и уж тут губы его сестры растянулись в широкой, неудержимой ухмылке. Позже, когда Летти спешно, боясь припоздать на последний автобус, распрощалась – Берти не отрывал глаз от ее аккуратной фигурки, когда она шла к двери, – он мрачно приник к своей третьей пинте. Странно уже и то, что пути их пересеклись! И вряд ли пересекутся снова…
Но тут Роуз сделала ему подарок.
– Замечательно, что мы повидались. Знаешь, мне правда не хватает такой подруги, как Летти. Я вот подумала, не пригласить ли ее на наш садовый прием…
– Да, безусловно, какая отличная мысль! Да, пригласи!
– Ты правда так думаешь? – невинно переспросила Роуз. – Я не уверена, действительно ли она…
– Ну, ты знаешь ее лучше, чем я, – перебил Берти, пытаясь скрыть свой энтузиазм. Сделал глоток горького и попытался принять вдумчивый вид. – Но почему бы и нет. Полагаю, она любит пирожные? А сады? Мы видели, где она живет, будет справедливо, если она тоже увидит, где живешь ты…
Он замолк, приметив тень беспокойства, мелькнувшую по лицу Роуз, и поправил себя: конечно же, дома, в котором живет Летти, они не видели. И дом этот, каков бы он ни был, вряд ли так уж похож на Фарли-холл.
Но Берти отринул эти сомнения; все это не имеет значения. А что имеет, так это то, что ему хочется снова ее увидеть.
– В любом случае, Рози, разве у нее не скопилась куча твоих книг, которые нужно вернуть?
Глава 2
Июль 1947 года
– Берти! – донесся голос Роуз из соседней комнаты. – Она уже здесь!
Берти, который весь день расхаживал по Фарли-холлу, мучительно дожидаясь, когда же Летти приедет, обнаружил, что несется наверх, в свою спальню.
– Берти! – сердито вскричала Роуз ему вслед. – Ты можешь открыть дверь? У меня полно дел, и я не хочу посылать горничную!
Он не ответил. Нет, открыть дверь он никак, никак не мог. Его сердце билось, как бешеное.
– Берти!
В спальне он затаился за плотной шторой и, вытянув шею, глянул вниз на подъездную дорожку. Вон она, выбирается из машины, которую они послали на станцию Нарсборо к поезду, который приходит за несколько часов до сбора гостей.
Летти подняла глаза, и Берти отпрянул от окна.
Она же глядела вверх, и фасад Фарли-холла из красивого серо-желтого камня высился над ней на фоне дождя. Так много окон! И за каждым из окон – комната. И за одним из окон, может статься, Берти…
Летти поспешила опустить взгляд.
Водитель побежал вверх по ступенькам, поднося к внушительной входной двери ее потертый коричневый чемодан. Глупо приезжать всего на одну ночь с таким большим чемоданом, но в доме Льюис других чемоданов не имелось.
На мгновение Летти словно окаменела. Несколько капель скатилось с полей шляпки за воротник. Она поежилась, вскинула остренький подбородок и поднялась к двери. В тот самый момент, как она собралась нажать на звонок, дверь распахнулась.
– Летти! – Роуз, в одной руке охапка срезанных цветов, торопливо чмокнула ее в щеку и почти что втащила внутрь. – Добро пожаловать, дорогая, здравствуй. Как прошло путешествие? Надеюсь, ты не слишком устала? Здесь, некоторым образом, беспорядок, из‐за погоды, – она неопределенно махнула округ себя, – но я совершенно уверена, что скоро развиднеется, верно? В любом случае, давай я покажу тебе твою комнату, а по дому мы пройдем позже, уж какой есть!
Фарли-холл определенно показался Летти величественным, когда Роуз вела ее по глянцевому полу прихожей, вверх по изогнутой лестнице и по обшитому панелями коридору с шестью дверьми, одну из которых она распахнула. Летти выделили отдельную спальню. Как только служанка (служанка!) принесла поднос с чаем и принялась наливать Летти ванну, Роуз извинилась и поспешила уйти, скоро гости, а у нее столько еще не сделано и в доме, и в саду.
Летти попыталась посидеть спокойно в маленьком кресле, увещевая себя: когда еще выпадет, чтобы тебе прислуживали. Однако она не знала, сколько времени может потратить на приготовления к приему, да и слишком нервничала, чтобы с охотой перекусить. Хорошо еще, бутерброды были нарезаны на удивление тонко, а слабый на вид чай имел странный цветочный привкус.
Когда же они увидятся?
Она неотступно думала об этом, погружаясь в глубокую, вместительную чугунную ванну. Какое блаженство нежиться в ней столько, сколько душа пожелает, а не отмываться лихорадочно в жестяной лохани под крики братьев, чтобы она поторапливалась, не то вода остынет. Но руки-ноги ее сами собой отказывались лежать тихонько в покое. Что, если вечеринка уже начиналась? Что, если Роуз – или, хуже того, Берти – спрашивают себя, куда она подевалась? Наверное, они сразу поймут, догадаются, как она робеет, подумают, что она прячется здесь, наверху, решат, что она жалкая, маленькая…
Поспешая изо всех сил, Летти нарядилась в свое любимое платье: васильково-синее, с рисунком из крошечных желтых цветочков на стебельках. За день до того она пришила кружевной воротник, чтобы прикрыть потершийся на плече шов. Платье было немодное, но сидело оно идеально. Она тщательно распушила кудряшки, в дороге примятые шляпкой, нанесла на щеки самую чуточку румян.
Когда она спускалась по гулкой лестнице, поступь ее, показалось ей, звучала почти зловеще, Замешкавшись на мгновение в коридоре, она услышала из соседней комнаты голос Роуз.
– О, ты уже готова!
У Летти упало сердце. Роуз, по‐прежнему в старой юбке из коричневой шерсти, выписывала сложные па, исполняя танец планировки приема. Одинаково одетые женщины в фартучках кружили вокруг нее, поднося ящики с бутылками, стопки льняных салфеток, подносы со столовым серебром. Роуз подняла палец, показывая, что будет с Летти через минуту, и вернулась к ошеломительно вдумчивому обсуждению вилок для торта.
Чувствуя себя неловкой и бесполезной, Летти ускользнула, думая вернуться в свою комнату. Но затем в распахнутой двери увидела сад, внезапно залившийся ярким персиковым светом.
Ее потянуло наружу. Дождь рассыпал по нефритовой лужайке крошечные драгоценные камешки, подсвеченные солнцем, которое выглянуло услужливо, чтобы просушить травку перед приходом гостей. Косой послеполуденный свет подчеркнул изломы лилейника, бархатистость изнанки розовых лепестков. Аромат цветов окатил Летти, доносясь к ней в струях влажного и теплого воздуха.
Дождевая вода просочилась в носки ее выходных, темно-синих, на низком каблуке туфель. Всей грудью она вдохнула в себя то, что сулил предстоящий вечер.
– Добрый день.
Летти вздрогнула, обернулась – и ощутила в точности то, как бывает в лифте: подскок и сразу падение, и земля ускользает из‐под ног, даже если ты стоишь себе как стоял.
Потому что перед ней был Берти, в синем блейзере, кремовых брюках и рубашке с распахнутым воротником. Виднелся треугольничек тела, глянув на который, Летти вдруг позабыла, как полагается поступать со своими руками. Она смешно ими дернула, сама от того смутилась и спрятала их за спину.
– Здравствуйте! Спасибо, что пригласили меня… ну, то есть Роуз пригласила… у вас здесь очень красиво.
– Как добрались? – спросил Берти.
Вертлявый пушистый зверек, похоже, обосновался в основании его пищевода. Рози пришлось взбежать наверх, заколотить ему в дверь и прошипеть, чтобы он “вышел и занялся гостьей, а то она там совсем одна!” – только тогда Берти решился покинуть свою комнату.
– О, прекрасно.
На самом деле, ехать пришлось долго, в вагоне третьего класса было тесно и многолюдно. Она взяла в дорогу “Ночь нежна” Фицджеральда, но не читала, а по большей части почему‐то смотрела в окно, раздумывая над тем, что такого умного скажет, обсуждая с Берти эту книгу.
– Да? Это хорошо. Но вообще‐то ехать далековато.
– Да, довольно‐таки. – “Ох, что‐то я не то говорю”, – подумала Летти.
– И… и как вам комната? Все удобно?
– О да, и там такая обалденная ванна!
Берти покраснел, и Летти, глядя на него, тоже.
Опыт общения с женщинами был у него совсем скудный, но после того, как они с Летти так легко, непринужденно и дразняще в пабе поговорили, он думал о ней весь летний семестр. Думал, катаясь вдоль канала на велосипеде, обедая в длинной студенческой столовой и, конечно, укладываясь ночью на жесткое односпальное ложе. С тех пор как Рози подтвердила ему, что Летти приедет на садовый прием, он почти что только и делал, что представлял себе, куда заведет в дальнейшем их занятная болтовня.
Тогда, выстраивая мысленно диалог, он был значительно остроумней, но сейчас не придумал ничего интересней, чем пробормотать:
– Что ж, погода, похоже, налаживается.
– Да. Это… удачно. Для вечеринки. Хотя, поди, и для цветов тоже.
– Конечно.
– Их, должно быть, побило этим дождем.
– Да, – кивнув, Берти погрузился в молчание.
“Пришиблен моим идиотизмом, небось”, – подумала Летти.
– Ну, и гостям без дождя в любом случае лучше, – наконец выдавил из себя он.
– Еще бы, ненавижу мокрые сборища.
– Наверное, э-э, скоро съезжаться начнут, – продолжил Берти, пялясь под ноги так, словно страшно озабочен тем, в каком состоянии там трава.
– Видно, много будет народу?
– Должно быть много, Рози мало не позовет. Что ж, не стану вас задерживать… знаю я, каковы девушки… вам же надо еще, наверно, одеться…
Он всем телом мотнул в сторону Фарли-холла, каменный фасад которого кремово-желто сиял на фоне расчистившейся небесной голубизны. Приоткрыв рот, она не знала, что и сказать. Значит, он думает, что она не приоделась еще для вечеринки, не понимает, что это ее лучшее платье.
Летти кивнула, не в силах вымолвить ни слова, и, опустив голову, быстро пошла по лужайке назад к дому.
“Ох, да она переоделась уже”, – понял Берти. Он‐то просто предположил, что это было бы слишком рано для любой женщины… но теперь она решит… она подумает…
Берти тихо простонал про себя.
В своей комнате Летти притворилась, что читает, и делала это, пока вечеринка в самом деле не началась, пронзительные приветственные вскрики сомнений в этом не оставляли. К счастью, когда она осторожно вышла наружу, Роуз – теперь в вишневом приталенном платье – сразу заметила ее, подбежала, чуть неуклюже, по травке и взяла под руку.
Она подвела Летти к столу с неописуемо роскошной едой (омары! семга! нормирование продуктов не в счет, когда у вас такие запросы!), быстро, один за другим, влила в нее несколько бокалов настоящего шампанского и только потом горячо и порывисто представила своим шикарным взрослым друзьям. Последние лучи солнца припекали затылок Летти, щеки ее ныли от всех этих кивков и улыбок. Жгучее ощущение, которого она не испытывала уже года два.
При этом она все время держала в уме, где находится Берти, чтобы, оборони господь, в ту сторону ненароком не глянуть.
Ее платье, пожалуй, и впрямь было простовато в сравнении с другими нарядами, которые словно витали вокруг, но вскоре она обнаружила, что это ей все равно. Потому что начались танцы. И там были мужчины. Не так много, чтобы хватило всем, но все же: мужчины, наконец‐то. Легкая на ногу, проворная, Летти без проблем приманивала их к себе. Когда она кружилась по лужайке, складки ее крепдешинового платья порхали и разлетались, нежно лаская ей ноги; она пожалела, что в чулках и не может почувствовать это голой кожей.
Все это разительно отличалось от незатейливых танцулек в Абергавенни, где мелькали все те же лица, томила общая нищета послевоенной жизни. Сейчас Летти казалось, что она – героиня какого‐нибудь из тех романов, что присылала ей Роуз.
– Ты довольна, моя дорогая? Тебе весело? – спросила та в перерыве между танцами, приобняв и нежно дернув за мочку левого уха.
– Еще как! Все просто замечательно. Вот только что интересно поговорила с этим… как его?.. Фредди?.. о Фицджеральде. Он тоже читает “Ночь нежна”! – Ей хотелось заверить Роуз, что она, Летти, вполне способна влиться, вписаться в ее мир. Что не стоит о ней волноваться (или же стесняться ее, вторил тихонький голосок).
– Отлично, я рада, – ответила Роуз, а потом отошла и очень громко принялась обсуждать индийские дела с утомленного вида молодым джентльменом, который только что прибыл с переговоров.
Мельком, чуть недобро, Летти подумала, что, пожалуй, не стоило бы Роуз так налегать на мужчин, она прямо‐таки подавляет их своей мощью.
Тут она заметила Берти, который понуро стоял, опираясь на цветочный вазон из резного камня, и подумала, интересно, наблюдает ли он за ней. Немедленно согласилась, когда кто‐то из незнакомцев позвал ее потанцевать, позволила ему крепко обнять себя за талию и воспарила в ночном воздухе, обвевающем ей плечи и пылающее лицо. Танец за танцем. Вечер переливался радугой, платья оттенков фруктового мороженого кружились меж полуосвещенных клумб, китайские фонарики сияли, как цветистые луны.
А потом она снова заметила это, все ту же ветреную, хмельную, сквозь стиснутые зубы решимость заполучить все от жизни – ту самую, что наблюдала и дома. Все как‐то слишком громко, слишком старательно. Та особая пустота в глазах у кое‐кого из мужчин, чувственное шипение саксофона… У нее разгорелись щеки. “Мне нужно на воздух”, – подумала она и только потом поняла, что и так не под крышей.
Определенно, необходимо было где‐то присесть.
На шатких ногах добредя почти в самый конец сада, Летти увидела там дуб, опоясанный низкой кованой скамьей.
Она села, прижала ладони сначала к металлическим прутьям, потом к щекам, чтобы их охладить, и вздохнула, не разбирая, взбудоражена она или опустошена. Но то, как основательно, прочно стоял рядом с ней дуб, подбадривало, внушало уверенность, и Летти вдохнула в себя поглубже сельский воздух с его запахами, и знакомыми, и непривычными: запахами земли, молоденьких зеленых листков, еще чего‐то. Йоркшир. Так далеко на севере она еще не была.
Берти с другой стороны дерева – это было его любимое укрытие – скорее почувствовал вибрацию металлических прутьев, чем услышал, как она села.
Да не может быть, подумал он. Разве так бывает? Он взвесил риски: нарушить свое одиночество или потерять шанс…
Он поднес зажигалку к сигарете.
Летти, услышав щелчок-шипение-треск, лишь потом додумалась испугаться. Кто‐то там есть за деревом. Она глянула вбок; да, скамья огибает кругом толстый ствол дуба.
Сигарета. Вот то, что ей сейчас нужно. Дым, который курильщики напускали дома, в пабе “Фонтан”, она выносила с трудом, но здесь мужчины подносили тебе огонек так любезно, так до странности нежно… Да, сигарета.
Опершись на прутья, Летти передвинула себя дальше, чтобы увидеть, кто там.
И увидела.
– Ох!
– Летти. Я… Я тут просто тихо себе курю… я не слышал… вы как, в порядке?
– Да, да, все прекрасно. Просто хотела минутку передохнуть…
Он полупривстал, по очереди изобразив лицом не меньше шести выражений.
– Мне следует… я должен… я могу уйти… то есть…
– Да не глупите же вы. – Летти схватила его за руку и потянула обратно на скамейку.
Он шлепнулся неловко, чуть ее не задев, и хмыкнул, не удержался. И Летти, она тоже хихикнула, и неловкость, которую он всю ночь таскал на себе, как черепаха свой панцирь, исчезла.
– Ох, Берти, что‐то я перебрала, пожалуй, с шампанским…
– Я знаю, – сказал он, с прискорбием глядя на свою руку с пустым бокалом. – Я тоже. Как это все… прямо беда.
– Дайте же мне сигарету и поговорите со мной о книгах.
Так что он дал ей закурить, в открытую глядя на белый изгиб ее шеи, и поделился самыми выношенными своими мыслями про Вордсворта. Хотя, что уж тут, надо признать, произнесенные вслух, звучали они как путаные и сентиментальные сентенции про простоту пастушеской жизни и все такое.
– “Все, что природа сотворила, жило в ладу с моей душой. Но что, подумал я уныло, что сделал человек с собой?”[4] – процитировал он в отчаянии, обращаясь к звездам, которые подмигивали, явно его одобряя.
Летти чуть за сердце не схватилась. Ей на самом деле читают стихи! На приеме в саду! Под звездами!
Но, ничего этого не показав, затянулась дымом и закатила глаза, что, по мнению Берти, придало ей вид светский и искушенный.
– Но ведь жизнь в сельской местности, она вовсе даже не рай, верно? По-настоящему там совсем не только полные ликованья примулы и поющие птицы. Нет, там темно, грязно и пропасть физического труда.
– Да, но разве и в этом – в честности человека и природы, зверей и почвы – нет чего‐то трансцендентного? Машины, и самолеты, и скорость, и оружие… все это уводит нас все дальше и дальше от важного диалога между человеческой природой и почвой.
– Да не было у нас никогда оружия, Берти, правда, были просто куски металла или… или мечи, или что там еще, ну, вы знаете… палки.
Она подобрала упавшую дубовую ветку и встала в стойку для фехтования. Его истовая серьезность, наверно, очаровательна, и, пожалуй, она не прочь улечься под деревом, и пусть он прочтет ей вслух все сплошь творения Вордсворта, но все‐таки сейчас ей нужно сбить его с этого тона, нельзя допустить, почему‐то, чтобы все эти пышные фразы про человечество и природу так легко взяли ее за живое.
С Берти раньше женщины так себя не вели – ну, порой посмеивалось над ним надменное существо, нашедшее его жалким: это да, это сколько угодно. Но никто еще не замахивался на него веткой!
Он склонился, не торопясь, ощупью отыскал палку и для себя, и вдруг мигом вскочил на ноги, всполошив этим Летти.
– En garde! Защищайтесь!
Летти взвизгнула, и они принялись вовсю фехтовать.
– За природу!
– За прогресс!
Она хорошо отбивалась и даже вынудила его отступить, что произвело на Берти не менее сильное впечатление, чем то, как она полна азарта сражаться интеллектуально.
– За… за высокое!
– За будущее! Я хочу нового, прекрасного будущего! Волнующего, целеустремленного и… и деятельного!
– О, держу пари, что ты хочешь…
Она тихо ахнула от хриплой двусмысленности, непонятно на чем основанной, и тут оказалось, что палка Берти валяется на земле, а его рука ее обнимает, и прижимает он ее к себе куда крепче, чем любой из тех, с кем она танцевала, и в уме ее прозвучало внезапно четко: “Запомни это”.
Мгновение перед тем, как их губы соприкоснулись, растянулось предвкушением на целую вечность. Очень похоже на тот момент, когда гаснет свет и поднимается занавес.
А потом они поцеловались. Берти, воспринявший это как сущее чудо, понял, что поцелуя под дубом ему никогда не забыть.
А ее рука так и свисала вдоль тела, не выпустив ветку, на которой подрагивал один молодой листок.
Глава 3
Октябрь 1947 года
– Это же смеху подобно, – шипела Летти на краю лужайки Вустерского колледжа, упершись, как особо упрямая овца.
– Я знаю, но правила есть правила, и их яро блюдут. – Берти пожал плечами и скорчил гримаску.
– Не. Ходить. По. Траве. Женщинам. Вход. Запрещен. – Она выговорила слово за словом так, словно каждое из них лично ее оскорбляло. – Но ты живешь здесь. Учишься здесь.
– Ну, да, в том‐то и дело. Как раз, думаю, чтобы не отвлекать… – вяло пробормотал Берти.
После той садовой вечеринки в Фарли-холле они поддерживали связь, обменивались письмами, которые тщательно составляли, касаясь в основном поэзии и политики, и, как бы походя, вкрадчиво выясняли обстоятельства личной жизни друг друга, пряча свой почти болезненный на этот счет интерес. Берти чуть не спекся от радости, когда Летти согласилась на его предложение навестить ее в Абергавенни; теперь настал его черед ввести ее в свой мир. При мысли, что он сможет показать Летти Оксфорд – крытые аркады и витражи, старую библиотеку с ее особой, ученой, академической тишиной, – его наполняла гордость. Пусть Берти и не увлечен безумно учебой, эстетическое ее обрамление всегда было ему по душе: обветшалое великолепие внутреннего двора, путаная лестница, что, спотыкаясь о собственную крутизну, ведет в уютную спальню и в кабинет, где стоит старое кресло, обитое красной, вытертой до сияющей гладкости кожей.
Ему в голову не пришло, что Летти вздумается взглянуть и на это тоже, но вот она здесь, разъяренная тем, что желание ее невыполнимо. Не то чтобы Летти строила планы на его спальню – нет, это всего четвертая их встреча, и переночевать она остановилась в съемной комнатке над чайной, но ей взаправду хотелось знать о Берти все, решительно все, каждую мелочь. Чтобы потом представлять себе зримо, как он сидит у того самого камина, который в письмах упоминал. Вдохнуть в себя запах его книг. Проникнуть внутрь этих величественных стен!
А не торчать на улице в осеннюю серость, когда холод исходит от неприступных камней.
С тех пор как он навестил Летти в Уэльсе, все шесть недель Берти неотступно о ней мечтал. Но вот она приехала в Оксфорд, и оказалось, что ее присутствие, ее реальность мечты эти пошатнули; не вполне она совпадает с его изношенными, думанными-передуманными воспоминаниями. Совсем не так уж бледна. Шаг у нее мельче, быстрей, почти что рысь. А взгляд глубокий, серьезный, вдумчивый, отчего странность ее пребывания в Оксфорде – фактического ее пребывания в его повседневной жизни – ощущалась одновременно и как совершенно правильная, и как заряженная непредсказуемым электричеством.
– Ну, пойдем, я хотя бы университетскую столовую тебе покажу, – сказал он, целуя ей руку в надежде смягчить ее.
– Так и быть. – И Летти недовольно тряхнула кудряшками, уложенными специально для этой поездки.
В огромной столовой – величие в каждой панели, в каждом вздохе ощущение избранности – она почувствовала себя совсем маленькой, но не захотела этого показать. Чувствовала, что Берти смотрит на нее, предполагая увидеть, как сильно она впечатлена, но не сдалась.
Отчего это что‐то внутри сопротивляется тому, чтобы выказать ему свое восхищение, сама себе удивлялась она. Берти, тот, когда был в Абергавенни, нимало своих чувств не скрывал. Он, если что‐то в маленьком их городке забавляло его или же поражало, все это время не переставал улыбаться.
Тогда ей так не терпелось его увидеть, что на вокзал она явилась за целых двадцать минут до прихода поезда и расхаживала взад-вперед по платформе в туфлях только что от сапожника, с обновленными каблуками. Он вышел из вагона в своем ладном костюме и шляпе, под порывами валлийского ветра норовившей слететь, и ее охватила робость. Она шла очень быстро и быстро же говорила, когда они направлялись к пабу “Фонтан”, где Берти снял себе комнату, с некоторой театральностью обращая его внимание на знаменательные, по ее мнению, места (“это домик, где вырос мой папа”, “вон там была моя первая работа, за прилавком, по субботам”).
Потом, оставив свой чемоданчик в темноватой, пропахшей вареными овощами комнате, он снова вышел на улицу и с некоторой застенчивостью протянул ей бумажный сверток. Летти, как дитя, поторопилась поскорей его развернуть.
– “Сыновья и любовники”? Я еще совсем ничего Лоуренса[5] не читала – о, Берти, спасибо тебе, это прекрасно!
А потом встала на цыпочки и поцеловала его прямо в губы, изумив Берти, который вообще‐то полагал крайне маловероятным, что ему позволят когда‐нибудь еще раз к ней прикоснуться.
– Молодчага, парень! Вперед! – крикнул кто‐то с другой стороны улицы, но Летти только хмыкнула на оборванного старикана в грязных штанах.
– Вот старый нахал, не обращай на него внимания, – прошептала она Берти с улыбкой, завихрившейся в самое его ухо.
Летти постаралась не подпустить его близко к своей семье – родители знали, что он к ней приехал, а братья нещадно дразнились, дескать, “хахаля завела”, когда кто‐то еще был рядом, но дома между собой они все на эту тему молчали. Может, потому, что прежде она не говорила им, кто за ней ухаживает, а теперь сказала, или же, может, потому, что он был приезжий. Но вот наступил субботний вечер, удержать Берти при себе ей оказалось не по силам, и в пабе, где была давка, ее удивило, как тепло его там приняли.
Определенно военный опыт помог, решил про себя Берти. Он записался добровольцем на следующий день после своего восемнадцатилетия. Финал близился, это было понятно, но совсем пропустить войну казалось позором. Тем не менее, когда он, пройдя офицерскую подготовку, отправился в Италию, Болонью уже почти взяли[6]. В общем, участие он, конечно, принял, но едва-едва, мимоходом.
Чему война действительно его научила, так это разговаривать с людьми, которые ничуть на тебя не похожи. Он проникся духом товарищества, когда делишься последней сигаретой, треплешься о крикете, получаешь коллективный заряд тестостерона – порой от страха, но в их случае еще и от победы. А кроме того, он постиг, как гасить мужское фанфаронство во всех его проявлениях и не становиться его мишенью.
Обучение Берти было построено так, чтобы из мальчиков вроде него вырастить лидеров. В семь лет его отправили в закрытую школу, помещавшуюся в монументальном здании с такими толстыми стенами, что там зябко было даже в летний семестр. Поскольку поездом от Фарли-холла добираться туда приходилось часами, родители навещали его редко. Берти следовало научиться твердо стоять на ногах и олицетворять собой силу и авторитет Британской империи, не меньше. Не сработало это нимало, но все‐таки в нем вышколили внутреннюю уверенность, позволявшую во всех решительно обстоятельствах оставаться самим собой. Неповоротливый, безобидный, книжный, он сочетал эти качества с такой естественностью и миролюбивым, великодушным настроем, что даже самые тертые, самые грубые из солдат поняли, что нет смысла ставить его на место или пинать за то, что он “белая кость”. В этом не было никакой нужды.
В “Фонтане” эта его кипящая открытость снова сослужила ему хорошую службу. Берти оказался никудышним игроком в дартс и не с ходу вникал в шуточки, которые сыпались градом и были слишком хлесткими, слишком валлийскими для него. Но когда до него доходило, хохотал долго и громко и, что куда важней, охотно посмеивался над собой тоже, да к тому ж несколько раз угостил пивом всех, кто был в пабе. Братья Летти, их друзья и разного рода приятели хоть и говорили потом, что он “чудной” и “чуток не в себе”, но дружно сошлись в том, что “парень вообще‐то годящий”. Летти чувствовала себя так, словно ее легонько позолотили.
Но в Оксфорде из‐под позолоты будто показался какой‐то дешевый металл. Летти предвидела, что там все будет грандиозно; грандиозность радостно ее волновала. Но она не ожидала, что будет чувствовать себя такой не на своем месте, такой оставленной за бортом. Даже у себя в колледже Берти ни с кем ее не познакомил. Оксфорд оказался каким‐то образом отгорожен, сплошные стены.
– А как тебе книга? – мягко спросил Берти, и у Летти на ходу в груди что‐то кольнуло.
– “Сыновья и любовники”?
За то время, что они не виделись, роман про молодого человека из углекопов она прочла дважды. Глянцевитая обложка из красной, как бычья кровь, кожи только что не светилась сама по себе на тумбочке у ее кровати, и она яростно выхватила книгу у брата Герейнта, когда тому вздумалось полистать драгоценные страницы своими толстыми, плохо отмытыми пальцами.
– Д-да, мне очень понравилось, – чуть запнувшись, произнесла Летти, сама слыша, как это натянуто и деревянно звучит, хотя давно продумала то, чем ей с Берти хотелось на этот счет поделиться, особо отметив поразительную интенсивность, с какой Лоуренс описывает отношения и то, что творится в глубине души человека. Но что, если по сравнению с другими девушками, с которыми Берти общается в Оксфорде, она выглядит наивной? Неинтересной? Тусклой?
У Берти сердце упало. Ему казалось, что Лоуренс скажет ей больше, чем Вудхаус или Ивлин Во, которых недавно послала ей Роуз; казалось, что Летти интересно будет ознакомиться с тем, как жизненную среду, подобную той, в которой обитает она, описывают в высокой литературе. Но как знать, возможно, она видит в этом снисходительное с его стороны, менторское к ней отношение?..
– Вот как. Ну, хорошо. – Им столько еще всего следует обсудить! Но прежде, чем Берти сумел подобрать слова, они подошли к реке.
– Я, э-э-э, я подумал, может, мы ялик возьмем? – сказал Берти так, словно эта идея только что пришла ему в голову.
– Ялик? – отозвалась Летти холодно-безразлично и сама отметила этот свой тон, хотя втайне надеялась, что с яликом у них выйдет. В самом деле, это было то немногое, что ей помнилось про университетские городки, что там – шпили и ялики. – Так вот чем ты занимаешься со студентками, да? На яликах их катаешь?
Она почувствовала, что задела его. Он открыл было рот, собираясь отшутиться, но закрыл, передумал.
Потом не слишком уверенно направился к служителю в кепке, видавшей лучшие дни, и что‐то ему пробормотал; кивнув, тот зашел в приземистый сарай-эллинг и выволок откуда плоскодонку, в которой стояла огромная плетеная корзина, увенчанная красными бархатными подушками и толстыми пледами в клетку. Летти нахмурилась.
– Экипаж подан… – проговорил Берти с небрежной иронией, как будто вся затея была не всерьез, но опустил глаза, когда протянул руку, чтобы помочь ей забраться в деревянное судно с низенькими бортами, а затем занят был тем, что платил лодочнику и отталкивал ялик от пристани. И поэтому он не видел, как росло удивление в глазах Летти.
Вода плавно обтекала плоскодонку, и лишь когда Берти умело вывел ее на середину реки, течение усилилось, и лодку стало покачивать. Летти половчей устроилась меж подушек. Хорошо бы весь Оксфорд это увидел: она в ялике, с молодым человеком, который позаботился все устроить. Причем именно для нее!
Когда, поднабрав скорости, они оказались в стороне от гребцов в просторных жилетах и коротеньких шортах, которые проплывали мимо, крякая от натуги, Берти уселся напротив нее и занялся корзиной.
– Тебе не холодно? Там есть пледы… Я подумал, вдруг ты замерзнешь, сидя. И еще тут есть кое‐что нам перекусить, пикник устроим. Ты как, есть хочешь?
– Всегда.
– Вот и отлично. Ну, ничего такого особенного, просто сэндвичи… – Появился бумажный, перевязанный бечевкой пакет, но все‐таки на фарфоровой тарелке. – И сыр с яблоками… – Все уже нарезанное, на небольшом блюде. – И кексик… с изюмом! И булочки… с глазурью! И немного вина. Хочешь?
Хрустальные бокалы ловили в себя осенний свет, который услужливо пробивался сквозь плотные облака и узенькие, тронутые желтизной листья плакучей ивы, к которой они подплывали. Ошеломленная Летти глаз не могла оторвать от этого пира. Из сладкого ей неделями доставался разве что джем.
Берти порылся еще. Сделал паузу, бросил взгляд на небо, а затем достал крошечную стеклянную вазочку с одной розочкой в ней, нежно-пренежно-розовой. Дернув плечом, он протянул ее Летти.
Вибрация в воздухе. Неужели она… рассмеется? Ему останется тогда только перевернуть плоскодонку и немедленно потонуть.
Летти, меж тем, пошевелиться опасалась из страха, что за всем этим стоит какая‐то придумка, розыгрыш, шутка за ее счет. Но затем приняла цветок и подчеркнуто бережно поставила вазочку к себе поближе, на край клетчатой скатерти, которую Берти расстелил между ними.
– Это… волшебно, – только и смогла она выдавить. У нее глаза защипало.
Так что Берти с облегчением перевел дух и принялся аккуратно направлять ялик под покров ивовых ветвей, образующий прохладную, словно бы решетчатую беседку. Оранжевый свет и лиловая тень ложились пятнами на его пылкое лицо, с надеждой к ней обращенное, и теперь она в точности знала, что никогда, ни для кого он такого раньше не делал.
Летти вглядывалась в него так пристально, так сосредоточенно, что почти что мука отразилась у нее на лице.
И потом это она чуть не опрокинула лодку, кинувшись к нему и обхватив его узкий торс так крепко, что еще чуть‐чуть, и сломает.
– Эй, потише! – засмеялся он, проглатывая вино, которое отчего‐то отдавало на вкус листвой, свежей влагой, деревом и рекой.
А она обнимала и не отпускала его, пока он не принялся кормить ее кусочками яблок и сыра. Осторожно приняв дольку в рот, она не выпустила из своих губ кончики его пальцев и принялась их покусывать. Сначала легонько, потом сильней, вжимая зубы в подушечки. Провела по ним языком.
Он издал низкий стон, и она разжала объятие. Повернулась так, чтобы уткнуться носом в его шею. В его тепло и пробившуюся с утра щетину; в его сливочный запах.
– Спасибо, – пробормотала Летти прямо в него.
– Что-что? – переспросил Берти, пытаясь чуть отстранить ее, чтобы расслышать, но она только зарылась поглубже.
Но когда дала себя отодвинуть, то едва могла поднять на него глаза.
– Не могу поверить, что ты сделал все это для меня.
Слов не хватало, и она силилась излучением передать ему, что за чувства ее охватили.
Берти обхватил ладонями личико Летти, сердечко, легко поместившееся в его длинные прохладные пальцы, и поцеловал ее.
Трепетание, которое, когда бы он ни коснулся ее, чувствовалось в груди, спустилось в живот, и тот наполнился огненной лавой. Чем‐то кипящим, вихрящимся, настойчивым. Его губы скользнули на ее шею, и у нее, сам по себе, вырвался вздох. Он улыбнулся, сердце его ударило в грудину, как молот, и всем телом он понял.
Глава 4
Январь 1948 года
– Ну, праааво же, Берти! – пропела на полувыдохе Амелия, его мать, выражая недовольство и разочарование, и воздела бокал с вином. Плавный взмах ее другого запястья уведомил Марту, что бокал следует наполнить.
В сложившихся обстоятельствах даже Гарольд на это не возразил. Отец Берти хранил молчание. Его взгляд уткнулся – или скорее впился – в вазу с оранжерейными георгинами, поставленную в центре обеденного стола и отражающую его полированным боком. Букет, на взгляд Берти, выглядел как приостановленный на полпути взрыв.
Сдержанная реакция отца на его заявление встревожила Берти. Гарольд покуда ни единого слова не произнес.
– Она миленькая, тут я с тобой не спорю. Но ведь это на всю жизнь, дорогой. – На словах Амелии уже была та глазурь, которую придает речам хмельное польское пойло.
– Я люблю ее, – сказал Берти так просто, как только мог, и глянул на Роуз, а та, сострадая ему, очень прямо, вся вытянувшись, сидела на обеденном стуле с высокой спинкой.
– Мама, Вайолет – одна из самых моих дорогих подруг, она человек умный, порядочный и трудолюбивый, – включилась Роуз в атаку, но Берти, переварив сказанное, слишком хорошо сознавал, что мать совсем не тех качеств ждет от своей невестки.
Когда Летти приезжала на выходные, и Берти, и Роуз набрасывались на нее, как голодные; дружба девушек столь же прочная опора их триединства, как и влюбленность. Но Амелия, не нарушая норм вежливости, ухитрялась почти игнорировать теперь нередкое уже пребывание Летти в Фарли-холле. Не так давно, когда она приехала на ужин в честь их общего с Берти дня рождения, Амелия едва заставила себя признать то, что поводов для празднования имелось два.
Впрочем, о чем говорить, если она и деток своих особым вниманием не баловала. Статная, с густыми каштановыми волосами, в которых не было ни единого седого волоска, она обладала способностью скользнуть в комнату и мановением тонкой руки собрать всех вокруг себя всех, заворожить звучанием голоса – ну, если бы ей этого захотелось. Но когда дело касалось Берти и Роуз, обременяла она себя редко.
Даже во времена школьных каникул Амелия почти не тратила времени на детей, зачастую пребывая в тягостном, мрачном настрое, что приводило Берти и Роуз в недоумение. Относилась она к ним так, как будто они помеха, мешают ей чем‐то заняться. Чем именно, Берти догадаться не мог: его мать вообще ничего не делала. Никогда и ничего. “Только подумать, до чего же бессмысленная жизнь”, – вырвалось однажды у Роуз, раненной равнодушием и даже враждебностью матери.
Когда они подросли, прохладительные напитки стали подавать раньше, во второй половине дня, с обедом. Треск льда. Затем примерно с час длилась демонстрация навязчивой, тяжкой привязанности – сладкое дыхание матери, когда она настаивала вдруг на том, чтобы перепричесать Роуз, и перепричесывала, плохо, или принималась через плечо Берти читать то, что читал он. Внезапный и приторный ее переизбыток. Берти пытался слиться с фоном, сидеть себе тихо и ни во что не вникать, только бы не привлечь к себе ее интереса. Потому что следом приходил черед препарирования их личностей, разрушительный анализ внешности и заслуг. Черед игл, воткнутых в плоть, размягченную, несмотря на все попытки сопротивляться, только что перед тем выказанной любовью.
Никакой жених, никакая невеста не заслужат одобрения их навеки разочарованной матери. Но Берти понимал также и то, что нет за ней никакой силы, кроме способности причинять боль. Так что он напрямую обратил свой взор к отцу.
– В кабинет, Берти.
– Отец, но, в самом деле, если тебе есть что сказать… – жарко вмешалась Роуз.
– Если ты обольщаешься, Роуз, что дело это семейное, замечу, что к тебе оно ни малейшего отношения не имеет.
Роуз, вспыхнув, испепелила отца взглядом. Амелия подчеркнуто закатила глаза.
Гарольд поднялся на ноги. Ростом с жену, на тринадцать лет ее старше, с грудиной, которую с возрастом выпятило вперед, выглядел он основательным, плотно сбитым. То немногое, что осталось у него от темной когда‐то шевелюры, сочеталось с еще густой, очень ухоженной бородкой.
Его кабинет. Святилище, где Гарольд проводил большую часть дня, читая бумаги, присланные из Палаты лордов, и отчеты по поместью. Панели темного дерева, казалось, вдавились внутрь в мучительной тишине, когда они уселись в два жестких кресла перед камином.
В кабинет Берти вызывали только для того, чтобы устроить выволочку. В шестнадцать лет он провел бесконечно долгую неделю в углу комнаты, переписывая страницы из Библии, пока Гарольд работал (или же от корки до корки читал “Таймс”). Берти и двое его школьных, столь же развитых и дерзких приятелей, перевозбудившись войной, пришли к выводу, что Ницше был прав и Бог, надо полагать, мертв. Они организовали акцию протеста против принудительного посещения церкви в школе, сопроводив свой протест эссе насчет “тирании навязанной религии”, помещенным в школьной газете. Отцу написали с просьбой явиться за сыном.
Гарольд, в обязательном порядке ходивший в церковь каждое воскресенье, известил Берти, что считает свою душу слишком высокой ценой за подростковый бунт. Амелия, которая не была в церкви с тех пор, как ее брата подстрелили в Первую мировую, издала короткий, как лай, смешок.
Густая смесь запахов пчелиного воска, трубочного табака и кожи, и нехватка то света, то воздуха – все это было неизменно, знакомо до дурноты. Берти с детства думал, что вот таков и есть мир мужчин. Власть гнездится в комнате на задах, в руке тяжесть стакана с виски. Хотелось, чтобы по комнате пронесся вихрь, сдул это все к чертовой матери.
– Полагаю, тебе кажется, что мир изменился.
Берти даже вздрогнул, так нежданно совпал с его мыслями отец.
– После войны ничто не осталось прежним. Но мы все равно движемся вперед, Берти. И ты не можешь не знать, чего от тебя ждут. Перед тобой долг.
Гарольд поправил стопку книг на приставном столике, выровнял корешки и откинулся на спинку стула. Кожа тоненько скрипнула, словно выражая поддержку. На каминной полке с томительной неспешностью пробили каретные часы. Берти почудилось, что в тишине, которая установилась за боем, слышно, как оседают потревоженные было пылинки.
Вскочив с места, он подошел к камину, вгляделся в циферблат, в его бесстрастное золотое лицо. Обернулся.
– Отец, все и впрямь по‐другому. Но не из‐за войны. Только из‐за нее – я просто не хочу быть ни с кем другим.
Глаза у Гарольда вспыхнули, и Берти понял, что отец рассчитывал на то, что разговор пройдет глаже. Надеялся, что новой битвы не будет, не учел, что Берти нарастил свежую корку решимости, которая сможет противостоять родительскому давлению и авторитету.
– Прости, па, но, боюсь, это бесповоротно. Я намерен просить ее выйти за меня замуж, – проговорил Берти, глядя на то, как, четко и напористо тикая, идет по кругу секундная стрелка.
– И где же вы будете жить? – низким рокочущим басом осведомился наконец Гарольд. – В тесном домике, со всей ее семьей?
– Это не исключено, – ответил Берти с вызывающей легкостью. По правде сказать, он пока еще не вникал в практические обстоятельства дела.
– Значит, ты готов отринуть и свое прошлое, и будущее? За что же тогда, черт возьми, мы воевали? Разве не за наше наследие? – Гарольд сделал широкий жест, как бы охватывающий сразу все родовые поместья Англии.
– За холмы. За сельскую глушь. За свободу! – Берти сам удивился тому, как вырвались у него эти слова, как всерьез они прозвучали. – И за людей… жителей всей этой зеленой и прекрасной земли, отец, которые просто… просто не такие люди, как мы.
– Что, провел несколько месяцев в армии и вернулся “человеком из народа”?
“Да”, – хотел подтвердить Берти. Именно это и дала ему армия: оконце, возможность всмотреться в жизнь самых разных людей. Всмотреться и осознать, что общего между ними больше, чем различий, и что разделяет их, по сути, как раз укоренившееся неравенство, которое на пользу только таким, как Гарольд. И как он сам.
– Наша страна состоит из прекрасных людей, отец, – ответил Берти, сохраняя свою способность – проявляя ее – устоять, не поддаться панике. Не сдрейфить. – И самая прекрасная из них – Лет… Вайолет. Я рядом с ней счастлив.
– Счастлив? – В паузе сквозило презрение. – Значит, будешь так же счастлив на грязных холмах Уэльса, не имея ничего за душой. Счастлив, что никогда больше не увидишь нас с матерью.
И тут комната накренилась на своей оси, тиканье часов в тишине сделалось громче, и Берти понял, что стоит за этой угрозой: ужас его отца при мысли о том, что он, отец, навеки останется один, что на него одного падет ответственность за жену, что комнаты совсем опустеют и станут при том душней, чем были, что некому будет передать дом.
Держись, держись, подумал про себя Берти. На самом деле, это еще не все.
Он подошел к отцу, так и сидевшему в кресле, присел перед ним на корточки, взял за руку. Гарольд ощетинился, но не отстранился.
– Отец! Конечно же, я этого не хочу. Я испытываю глубокое чувство долга перед тобой, перед матерью, перед Фарли-холлом. Позволь мне быть полезным. Но Вайолет должна быть рядом со мной.
Стараясь говорить сердечно, но убедительно, он пытался выразить свои чувства на языке отца, искал встретиться с ним взглядом, и встретился наконец.
– Я все равно это сделаю, отец. Прошу тебя, давай вместе пойдем в этот новый мир.
Берти встал, восстановив привычное расстояние между ними. Кровь гулко бежала по телу, хотя держался он непринужденно. В этом и был фокус: не подавать виду. Не терять жизнелюбия. Стоять, как скала.
– Вижу, война тебя так ничему и не научила.
Его как громом поразило, что отец не видит в нем перемен. По-прежнему считает незрелым школьником, не мужчиной.
– Я, когда вступил в армию, само собой разумеется, любил родную страну, – продолжал Гарольд. – Но уволился я из армии, готовый сделать все, все что угодно, только бы эту страну сохранить. Мы должны были победить, и мы победили, благодаря огромным жертвам и стра…
Страданиям. Берти понял, что “страдание” – это слово, которое Гарольд не в силах произнести.
Под Амьеном[7] его ранило в поясницу. Девять месяцев в госпитале под Харрогейтом. Вскоре после этого – похоже, что слишком вскоре, – Амелия вышла за него замуж.
Гарольд прочистил горло.
– Тогда было много толков – гнилых – о необходимости перемен. О том, что миру нужен новый порядок… Это пагубные убеждения, Берти, их нужно искоренять. – Он сжал кулаки. – Мы сражались за Британию – за то, чтобы она осталась такой, как есть. Я не могу допустить, чтобы своими действиями ты повредил нашей семье: опорочил наше имя, наш образ жизни. У тебя есть обязанности. Я надеялся, что война научит тебя этому. Очевидно, этого не произошло.
Тут Берти впервые почувствовал, как холодным камнем ложится на душу уверенность в том, что его, Берти, счастье в самом деле ранит отца.
Он перевел взгляд на массивный письменный стол, который доминировал в комнате. Там, рядом с авторучкой и пресс-папье, лежал осколок шрапнели. Берти, зачарованный им в детстве, не осмеливался коснуться его с тех самых пор, как однажды отец, застав его за разглядыванием этого кусочка металла, чуть не ударил его – застыл, дернулся, отвернулся. У Берти так и стояло перед глазами, как мучительно содрогалась от сдерживаемого гнева спина отца. Единственный раз он видел, как тот теряет самообладание. Единственный раз отец был близок к тому, чтобы ударить его.
В Фарли-холле телесные наказания не применялись. И однажды после того, как Берти вернулся домой на Рождество с тонким шрамом на ладони, как‐то само собой оказалось, что на следующий семестр его перевели в другой класс, к другому учителю.
Берти всегда считал, что это странно сочетается с воинственным настроем отца. И вот теперь он, кажется, понял. Боль. Гарольд не хотел, чтобы кто‐то – и уж точно его сын – испытывал боль.
И все же, если ты так страдал, это не может пройти бесследно.
Сила, которую чувствовал в себе Берти, предстала ему сейчас по‐другому: она стала разрушительной. Молотоподобной. Чрезмерной.
– Любовь проходит, сынок. Слепая страсть… ты молод. Твоя мать, на сей раз, права: брак – это ведь на всю жизнь.
Однако Берти, которому хотелось услышать совсем иные слова, вскипел снова. Летти ему нужна, и он Летти получит – как бы это кого угодно ни ранило.