Оборванные нити. Том 1 бесплатное чтение
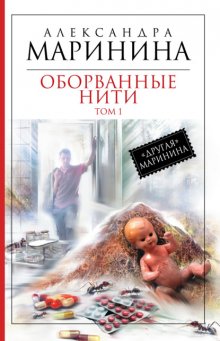
Часть первая
Глава 1
– У нас будет ребенок.
Сергей мысленно попробовал эти слова на вкус и попытался произнести их про себя с какой-то другой интонацией, которая соответствовала бы его внутреннему состоянию. Повествовательное предложение здесь явно не годилось.
– У нас будет ребенок!
Нет. Не то. Положа руку на сердце, Сергей Саблин вынужден был признаться себе, что эмоций, обозначаемых восклицательным знаком, он не испытывал.
– У нас будет ребенок?
Ну, это уж точно не подходит. Сомнения здесь могут относиться только к двум пунктам: наличию реальной беременности и готовности рожать. В том, что Лена действительно беременна, Сергей не сомневался: студент шестого курса мединститута знал, что нужно спросить и какую информацию собрать, чтобы сделать выводы. Срок пока еще позволяет принять решение о прерывании беременности, но Сергей, отец которого – известный московский ангиохирург, а мама – завкафедрой педиатрии, даже помыслить не мог об аборте. По его мнению, мало что на этом свете может сравниться с абортом по своей бесчеловечности. Нет, конечно же, Ленка беременна и будет рожать. А он, Серега Саблин, на ней обязательно женится, и чем быстрее – тем лучше. Никаких других вариантов и быть не может.
Но радует ли это его? Он не понимал. Хотел ли он стать отцом? Хотел ли стать мужем и принять на себя ответственность за женщину, которая носит его ребенка, а потом и за самого ребенка?
Ответа он сам себе дать не успел, потому что в дверях служебного входа столкнулся с однокурсником, который так же, как и сам Саблин, подрабатывал в этой больнице медбратом. Вообще-то в штатном расписании слова «медбрат» не существовало, была только «медсестра», но не называть же «сестрой» мужчину! А в их реанимационно-анестезиологическом отделении мужчин, выполнявших функции среднего медперсонала, было намного больше, чем женщин-«сестричек». А как иначе? Работа физически тяжелая, привезенных из операционной или доставленных по «Скорой» больных, большей частью в бессознательном состоянии, нужно переложить с каталки на кровать, потом таскать по всему отделению многочисленную громоздкую аппаратуру, переворачивать неподвижных пациентов и производить с ними различные манипуляции, которые под силу порой только мужчинам. Да и вообще, в этом отделении работа тяжелая, мужская.
Лицо у однокурсника, только что закончившего суточное дежурство, было измученным, но почему-то довольным и каким-то плутоватым.
– О, Серега! Смени выражение озабоченности на прекрасном лике на гримасу ужаса. Старшая сегодня злая, аки мегера бешеная. Чуешь, чем это для тебя пахнет? – он весело рассмеялся и достал из бело-красной мягкой пачки «Явы» сигарету.
– Ты чего такой радостный? – удивился Сергей. – Зарплату дают, что ли?
Вопрос был более чем актуальным. В 1992 году выплату зарплат начали задерживать повсеместно, и у них в больнице сотрудники не получали денег уже два месяца.
– Ага, – рассмеялся однокурсник. – Дают. И еще добавляют всем желающим. Но я сегодня получил пусть не материальное, но хотя бы моральное удовлетворение. Мегера сегодня особенно не в духе, рвет и мечет, явилась на работу в шесть утра, представляешь? И всех разносит.
– В первый раз, что ли, – обреченно вздохнул Серега.
– Не в первый, – согласился Игорь. – Но сегодня вместо Любаши должна выйти Танька, они поменялись сменами. Чуешь, чем пахнет? Мегера Таньку терпеть не может, ненавидит всеми фибрами души, ты же знаешь эту историю. Так что Танюхе нашей сегодня не позавидуешь, Мегера из нее все кишки вынет.
– А тебе-то что за радость? – укоризненно произнес Серега. – Что тебе Танька плохого сделала?
– А то ты забыл! – фыркнул однокурсник. – Сколько раз она меня закладывала! Да меня в прошлом году чуть из института не поперли, когда она настучала, что я на дежурстве себе позволил ради праздника. В общем, сегодня свершится справедливая месть!
И радостно засмеялся.
А Серега погрустнел, поскольку не пропустил мимо ушей предупреждение сокурсника о настроении старшей медсестры, которую средний медперсонал называл за глаза Мегерой. Именно она принимала решение о том, кто на каком посту будет нести вахту, и именно от этой раздражительной, нервной и злобной тети зависело, на «чистой» или на «грязной» половине отделения придется работать в смену. На «чистой» половине лежали послеоперационные больные без гнойных осложнений и без большого количества дренажей, пациенты после инфаркта или инсульта, а также находившиеся в сознании больные с бронхиальной астмой. В этих палатах работать было куда легче, поскольку назначений у больных было относительно немного, и поэтому туда назначались люди, которые нравились старшей медсестре. Зато те, кто старшей сестре, как говорится, не пришелся по сердцу, работали на «грязной» половине, где находились больные после полостных операций с гнойными осложнениями, а также пациенты после трепанации черепа, те, кого подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких, либо те, у кого стояли трахеостомы. Здесь же обитали тяжелые больные после нарушения мозгового кровообращения, нередко с пролежнями, для обработки которых больного нужно перевернуть, а это далеко не всегда просто. Да и в целях профилактики застойных пневмоний больных следовало каждые два часа переворачивать на бок и производить вибромассаж.
Но этим трудности не ограничивались. Больные с черепно-мозговыми травмами требовали постоянного и неусыпного контроля, и если такие больные в палате были, то о том, чтобы расслабиться хоть на минуту, нечего было и мечтать. Напряжение возникало колоссальное, с них глаз спускать нельзя было, потому что эти больные частенько впадали в состояние двигательного возбуждения, порывались встать с кровати, куда-то идти, размахивали руками, попутно вырывая подключичный или мочевой катетеры, срывая повязки, одним словом, так и норовили причинить себе дополнительный вред.
Запах в палатах «грязной» половины стоял тяжелый, смешанный с запахом хлорки. Серега после смены, перед тем как бежать на занятия, принимал душ и менял одежду, но запах все равно сохранялся на коже и волосах, и избавиться от него не было никакой возможности.
Одним словом, суточное дежурство в «грязных» палатах мёдом никому не казалось, ибо было невероятно тяжелым как физически, так и по затратам душевных сил.
Однако сегодня Сереге повезло: старшая поставила его на «чистую» половину. Видимо, тех, кому она благоволила, оказалось в нынешней смене меньше, чем постов в «чистых» палатах.
Все койки на Серегином посту в то утро оказались заполненными. Это хорошо, хотя бы первые несколько часов пройдут спокойно, без поступления новых тяжелых больных с еще неизвестно каким диагнозом. В реанимации один сестринский пост полагался на трех больных. Казалось бы, даже при наличии очень тяжелых пациентов три человека – не такая уж большая нагрузка. Может быть, и так. Если выполнять только функции среднего медперсонала. А если работать заодно и санитаром? Многочисленные назначения, капельницы и инъекции нужно было совмещать с перестиланием и подмыванием больных, когда они сходят «под себя». К 1992 году санитаров в реанимационно-анестезиологическом отделении практически не осталось: в стране открывались широкие возможности для зарабатывания денег более легкими и приятными способами, и все меньшее и меньшее число студентов-медиков соглашались таскать дерьмо в реанимации, не высыпаясь перед занятиями, при смехотворной зарплате, на которую можно было купить, как подсчитал Сергей, восемь «сникерсов» или «марсов». По штатному расписанию в отделении полагалось иметь одного санитара на каждых шестерых больных, то есть на два сестринских поста. Обычно это были либо студенты младших курсов мединститутов, либо, как в свое время и сам Сергей Саблин, пацаны, провалившиеся на вступительных экзаменах и работающие до следующего года в надежде попытать счастье еще раз. Девчонки в реанимацию санитарить не шли вообще. Руководство больницы заставило весь средний медперсонал написать заявления о совместительстве на полставки работы санитаром, и Сергей, студент шестого курса, без пяти минут дипломированный врач, подмывал и перестилал больных, мыл полы и стены в палате, отскребал под струей воды из крана трахеостомические канюли, забитые засохшей гнойной мокротой, при этом успевая выполнить все врачебные назначения. Слава богу, такая ситуация встречала понимание у преподавателей мединститута, которые к работающим студентам относились снисходительно, прощали им нечеткость ответов на зачетах и экзаменах, смотрели сквозь пальцы на сон за спинами однокурсников во время лекций, ибо полагали, что реанимация – это хорошая практическая школа, которая вполне может заменить недостаточную полноту теоретических знаний.
Свою будущую профессию Сергей Саблин выбирал осознанно, стать врачом он хотел с детства, а потому к работе относился не только с любовью и интересом, но и с огромной ответственностью. Принимая пост, он целиком сосредоточивался на информации о больных и выбрасывал из головы любые посторонние мысли, дабы ничего не упустить и не забыть. Вот и сейчас он полностью отключился от мыслей о Лене, женитьбе и будущем ребенке. Одна койка была занята стариком после инсульта, на второй лежала прооперированная ночью тучная немолодая женщина после экстренной холецистэктомии, а в самом углу на кровати Сергей увидел молодую женщину, глаза которой были открыты и смотрели прямо на него. Из левого носового хода торчал желудочный зонд с присоединенным к нему длинным куском одноразовой системы, по которому в дренажную емкость стекала бурая жидкость. В подключичный катетер из капельницы капал какой-то раствор. Лицо бледное, губы насыщенного темного цвета, с запекшимися корками. Медсестра-сменщица давала Сергею пояснения о старике и тучной женщине, доставленной из оперблока после операции, не понижая голоса и нимало не смущаясь, подробно рассказывала, что и как, перечисляла, что было сделано. Но когда дошли до молодой женщины, сестричка, не говоря ни слова, потянула Сергея за рукав и вывела из палаты.
– Это «суицидница», – негромко сказала она. – Уксусную кислоту выпила. Сейчас у нее стоит гемодез, потом надо будет поставить физраствор, капать придется без конца.
– Желудок промывали? – спросил Саблин.
– Угу, – кивнула сестра.
– А клизму? Сделали?
Девушка отвела глаза и вздохнула.
– Не смогла. Ни одного санитара ночью не было, а куда мне одной? Даже ты, бугаина здоровенный, и то один не справился бы.
Сергей тяжко вздохнул. Стало быть, приятная процедура сифонной клизмы ляжет на него. Обычно такую процедуру проводили втроем, реже – вдвоем. Если некому было помочь, частенько процедуру не проводили вообще, однако в листе назначений ставили отметку о том, что все выполнено. Хорошо, что хоть эта сестричка врать не стала, честно призналась. Вообще-то сифонная клизма – процедура действительно крайне малоприятная, но почему-то до сих пор никто не придумал более удобного и менее варварского метода выведения токсичных веществ из кишечника. При помощи эластичных трубок, вводимых через задний проход в кишечник на глубину около 30–40 сантиметров, заливалось 10–12 литров кипяченой воды, которая затем вытекала обратно как через трубку, так и естественным путем. Жидкость, выделяющаяся из кишечника, имела кровянисто-бурый цвет и зловонный запах. Понятно, что сохранить чистоту и сухость кровати и белья при этой процедуре было никак невозможно. Как правило, уделывались и медсестра, и санитар, и вся кровать больного, которую приходилось перестилать, после чего мыть палату. Манипуляция была далеко не самой приятной для медперсонала, а что уж говорить о самих больных, которые, как правило, были при этом в сознании!
В отличие от среднего медперсонала, сменявшегося в восемь утра, врачи менялись в девять, поэтому у медсестер и медбратьев, заступающих на дежурство, всегда была возможность задать необходимые вопросы врачу, наблюдавшему больных в течение последних суток. И Сергей, понимая, что на легкомысленную сестричку надежды маловато, решил поговорить с врачом, сменявшимся с ночного дежурства. Тот сидел в ординаторской, писал дневники за ночь и жевал бутерброд, запивая его чаем из красной в белый горошек «офисной» кружки. По его словам, со стариком и бабушкой все более или менее в порядке, и завтра обоих переведут в отделения, а вот с выпившей уксусную кислоту женщиной все непросто.
– А почему она вообще у нас? – спросил Сергей. – Что, у токсикологов опять ПИТ переполнен?
В его недоумении был свой резон. В отделении токсикологии для тяжелых больных существовала собственная палата интенсивной терапии. И если она бывала переполнена, а больных токсикологического профиля продолжали доставлять в больницу, то сначала места освобождали путем перевода больных в отделение, а уж если переводить было совсем некого или в отделении не было мест, то поступившие по «Скорой» в «дежурные» дни токсикологические больные могли попасть и в реанимационное отделение.
– И ПИТ переполнен, – кивнул дежурный врач, – и вообще в стране бардак.
Этот врач любил пофилософствовать.
– А что с ней случилось? – поинтересовался Саблин.
– Бытовуха, – равнодушно откликнулся врач, не прекращая одновременно жевать и делать записи. – С мужем поссорилась, выпила уксус. «Скорая», госпитализация, далее везде, сам понимаешь.
– А из-за чего они с мужем поссорились, не знаете?
– Тебе-то какая разница? Все со всеми ссорятся, все со всеми мирятся, но некоторые пьют уксус, – дежурный врач даже не пытался прикрыть откровенный цинизм. Сергея это не шокировало, работа в реанимации и его самого сделала слегка циничным.
Однако ему отчего-то очень хотелось узнать, что же произошло. Он хорошо представлял себе последствия отравления уксусной кислотой и знал, какие мучения испытывает больная, лежащая в его палате. На что же можно было обидеться, чтобы добровольно обречь себя на такой ад? Уксусной кислотой разной степени концентрации, от 6 % до 70 %, травились часто, женщины – с суицидальными намерениями, мужчины – случайно, как правило, после обильных возлияний совершая ошибки в распознавании средств для «опохмелки». Токсических средств для сведения счетов с жизнью в начале 90-х было еще совсем немного, таблетированные препараты подлежали строгому учету, и раздобыть их было отнюдь не просто, а знания о возможностях промышленной химии среди населения популярностью не пользовались. Уксусная эссенция в такой ситуации являлась самым распространенным, самым дешевым и доступным средством ухода из бытия. Однако не очень надежным. Если правильно рассчитать дозу с учетом концентрации, то есть шанс умереть в течение нескольких часов, а вот если не угадать, то смерти придется ждать в немыслимых мучениях неделю, а то и две. Более того, если врачи успевали вовремя оказать эффективную медицинскую помощь и человек оставался жив, то тяжкие последствия отравления уксусной кислотой ему приходилось нести долгие годы, до самой смерти. Дело в том, что уксусная кислота, попадая в организм и всасываясь в кишечнике, вызывает, помимо всего прочего, разрушение эритроцитов, или гемолиз, и впоследствии это приводит к необратимым нарушениям функции почек. Это самое грозное, самое страшное и самое мучительное осложнение в раннем периоде отравления уксусной кислотой, если человек не умирает в течение первых часов.
Помимо этого, уксусная кислота вызывает химические ожоги слизистой пищевода и желудка, нарушая ее целостность, а это чревато гнойными воспалениями, требующими оперативного вмешательства и чаще всего приводящими к гибели больного. Но если человек все-таки выживал, то через несколько месяцев формировались грубые рубцовые изменения и сужения в первую очередь пищевода. Больной не мог принимать обычную пищу, ограничиваясь только жидкостями или пюре. И вот тут начинался следующий, наверное, самый изматывающий и невыносимый этап лечения: механическое расширение суженных участков пищевода при помощи специальных бужей разного диаметра. Бужи буквально раздирали спайки и рубцовые сужения. Кроме сильнейшей боли, такая процедура влекла за собой и кровотечения, а иногда и полные разрывы стенки пищевода в местах ожогов. Пища изливалась в органы средостения, и это вызывало воспаления, опять-таки с гнойными осложнениями, что могло закончиться смертью больного. Сергей знал, что некоторые больные не выдерживали этого этапа мучений и снова сводили счеты с жизнью, но уже другим способом. Когда-то Саблин, впервые столкнувшись с последствиями отравления уксусной кислотой, долго недоумевал: как же так получилось, что осведомленность населения в этом вопросе равна нулю? Почему люди не знают, что бывает при попытках уйти из жизни таким способом? Почему эти знания доступны только медикам?
– Поступила позавчера в ночь, – продолжал между тем доктор, по-прежнему не отрываясь от писанины, – вчера на аппарате была, давление падало, капали все сутки, желудок промыли, клизму сделали…
Про то, что клизму все-таки не сделали, Серега благоразумно промолчал. Подставлять своих он не приучен.
– Сейчас вроде состояние стабилизировалось. Кровь утром взяли, но результата пока нет. Когда будет – посмотрим, какой процент гемолиза. Сам же знаешь, что будет дальше: токсемия, гемолиз, почки на хрен полетят. Возьми там «болтушку» масляную, надо ей в зонд ввести.
Про «болтушку» Сергей и сам догадался, все-таки работа в реанимации учит намного эффективнее, чем академические занятия в институте. И все-таки, что же случилось с женщиной, из-за чего она поссорилась с мужем и решила уйти из жизни? Или не решила? А только попугать хотела, да не тот способ выбрала? Мысль его тут же перескочила на Ленку. Никогда и ни из-за чего они не поссорятся так крепко! С Ленкой вообще невозможно поссориться, она мягкая, как плюшевая игрушка, добрая и беззащитная. Ее даже с кошечкой сравнить нельзя – когтей нет. Милая, слабая, пугливая девочка, приехавшая из Ярославля поступать в пединститут и растерявшаяся в огромной, хаотичной и такой непростой Москве. Они вместе уже два года, и Сереге кажется, что Лена – именно та женщина, которая ему нужна. Ленку нужно оберегать, защищать и охранять. И это как раз то, что делает Серегу Саблина совершенно счастливым. Нет, невозможно даже представить себе, что какие-то его действия или произнесенные в пылу ссоры слова заставят ее совершить такой чудовищный поступок! Да он просто не позволит себе ничего подобного!
Сергей вернулся в палату, перебросился парой слов со стариком-«инсультником», проверил состояние пожилой женщины, все еще спавшей после операционного наркоза, и подошел к больной, выпившей уксусную кислоту. Красикова. Сергей всегда запоминал имена, отчества и фамилии своих больных на каждом дежурстве. Во-первых, он не терпел безликости в таком тонком и важном деле, как оказание медицинской помощи. А во-вторых, всегда отслеживал по журналу, какие случаи закончились летальным исходом. Ему с самого детства было интересно: отчего можно умереть? Что происходит с человеком, прежде чем наступит конец?
Сняв с молодой женщины простыню, он увидел кровоподтеки – два на шее слева, небольших, очевидно, от пальцев, несколько на груди, еще один – на бедре и множество – на плечах и предплечьях. Ничего себе «с мужем поссорилась»! Такие ссоры называются совсем иначе. Муж явно был в ярости, хватал ее за руки, она вырывалась, а он пытался ее душить. Чем же она так провинилась перед супругом? Изменила, что ли? Или слишком большую сумму на тряпки истратила? Или (Сергей достоверно знал, что и такое бывает) разогнала пьяную компанию и демонстративно вылила водку в унитаз? В любом случае, конфликт был жестоким, и жить после этого Красиковой не хотелось. Но тут же закралась циничная мысль: может, попугать хотела, а заодно и отомстить? Все бабы – истерички.
– Как вы себя чувствуете? – спросил он.
Красикова, продолжая глядеть на него распахнутыми серыми глазами, полными слез, попыталась пошевелить губами, но смогла издать только невнятный шепот.
– Я буду спрашивать, а вы закрывайте глаза или кивайте, если захотите ответить «да».
Через минуту веки Красиковой опустились в ответ на предложение попить. Однако самостоятельно пить из поильника она не могла. Саблин приподнял одной рукой ее голову над кроватью, чтобы женщина не поперхнулась, и другой рукой поднес носик поильника к ее губам, осторожно тонкой струйкой смачивая засохшие корки и стараясь, чтобы смешанная со специальным стерильным маслом вода попала в запекшийся рот. Было видно, что каждый глоток доставлял ей боль. Затем, выполняя указание дежурного врача, Сергей влил чистое масло через желудочный зонд. Слизистая рта имела темную окраску, язык был сильно увеличен. «Приличный ожог, – подумал он, – наверное, не столовый уксус выпила, а «ледяную» кислоту или эссенцию, раз полость рта так сильно обожжена».
Посмотрев, сколько мочи выделилось через мочевой катетер, и заглянув в лист назначений Красиковой, он понял, что почки начали отказывать. Накануне нужно было сдать мочу на анализ, но мочи не было вообще. На всякий случай Сергей сказал об этом пришедшему с обходом врачу, хотя прекрасно понимал, что тот и сам все видит.
Старик после инсульта и уже проснувшаяся после наркозного сна бабуля с экстренной холецистэктомией особого внимания пока не требовали, и Серега весь сосредоточился на неподвижно лежащей Красиковой, которая по-прежнему не издавала ни звука и не закрывала наполненных слезами глаз. Ему было жалко ее, невыносимо жалко, он даже не мог бы толком объяснить, чем вызвано такое отношение именно к этой молодой женщине. Он старался проводить рядом с ней как можно больше времени, выполняя назначения и просто спрашивая, не нужно ли ей что-нибудь.
То и дело в отделении раздавался звонок из тамбура, оповещавший, что за запертой дверью реанимационно-анестезиологического отделения стоит посетитель, который хочет узнать у лечащего врача о состоянии кого-то из больных или принесший продукты и лекарства. С питанием в больнице «Скорой помощи» дело обстояло крайне плохо, впрочем, как и с лекарствами, и с оборудованием, и вообще со всем, чем угодно. Специальное зондовое питание готовили из того, что имелось в пищеблоке, и зачастую продукты оказывались недоброкачественными, поэтому врачи просили родных и близких готовить и приносить бульоны, соки, воду и все остальное, что необходимо, включая медикаменты и перевязочные средства. В 1992 году в стране ощущалась тотальная нехватка всего, вплоть до бинтов и ваты. После одного из таких звонков в палату Сергея зашел другой медбрат:
– Серега, можешь выйти? Там по твоей больной мужик рвется.
– По какой? – уточнил Саблин, поскольку женщин в его палате находилось две.
– По Красиковой. Врача требует, жену посмотреть хочет. Врача нет в ординаторской, так хоть ты выйди, поговори с ним, а то он совершенно бешеный, того и гляди всю больницу разнесет.
«Ну да, – с горечью подумал Сергей, – по кровоподтекам на теле его жены можно примерно представить себе, какой он бешеный».
За дверью, в коридоре к нему бросился здоровенный небритый мужчина с искаженным тревогой и злостью лицом.
– Вы врач? Почему меня не пускают к моей жене?! Немедленно пропустите меня к ней, я должен увидеть ее.
Набрав в грудь побольше воздуха, чтобы не дать волю раздражению, Саблин, стараясь говорить спокойно, объяснил, наверное, в тысячный раз за время своей работы в отделении, что реанимация – стерильная зона, и посещения больных родственниками категорически запрещены, и что всю информацию о состоянии больных имеет право давать только врач, а никак не медбрат, каковым он и является.
– Я вам не верю! – орал во весь голос муж Красиковой. – Вы что-то от меня скрываете! Мне сказали, что она в тяжелом состоянии! Она что, умерла?
Он попытался схватить Сергея за лацканы халата, но Саблин, занимавшийся в юности боксом, достаточно ловко увернулся и перехватил кисть разъяренного мужчины.
– Успокойтесь, пожалуйста, с вашей женой все в порядке, она сейчас находится под «системой», врачи постоянно наблюдают за ее состоянием. Она жива.
– Я хочу увидеть ее своими глазами! – продолжал настаивать Красиков, будто не слышал ни слова из Серегиных предыдущих объяснений. – Вы не имеете права не пускать меня к жене!
– Я вам повторяю: у нас стерильная зона.
Взгляд мужчины с подозрением остановился на халате Саблина. Да, вид халата как-то не очень соответствовал заявленным лозунгам о стерильности: на белоснежной еще утром ткани и на штанах остались бурые и желтые пятна после опорожнения дренажных флаконов, да еще несколько мелких кровяных пятен, попавших на халат, когда Серега ставил старику утреннюю капельницу.
Внезапно лицо Красикова резко изменилось, из агрессивного и яростного превратившись в жалобное и умоляющее.
– Я вас прошу, я вас очень прошу… Я должен увидеть ее… Я должен поговорить с ней, попросить у нее прощения… Я так виноват перед ней, так виноват… Ну пожалуйста, пропустите меня!
Саблин отрицательно покачал головой.
– Я вас пустить не могу, – твердо произнес он. – Все только на усмотрение доктора, эти решения принимает он, а не я. Как он скажет – так и будет.
– Где доктор?! – Красиков снова начал возмущенно вопить, от жалобного и просительного выражения не осталось и следа. – Позовите его сюда немедленно!
– Доктора пока нет. Подождите.
– Почему доктора нет?! Где он шляется?! А если моей жене станет плохо?! А если она умрет без медицинской помощи, пока ваш гребаный доктор где-то прохлаждается?!
«Ты бы лучше подумал о том, что твоей жене плохо и больно, когда бил ее, хватал и душил, – с неожиданной злобой подумал Саблин, хотя в принципе к родственникам больных всегда относился с сочувствием и пониманием и никогда не выходил из себя, с какими бы странными и неуместными просьбами и вопросами к нему ни обращались. – Тоже мне, защитник прав пациентов!»
Он развернулся и скрылся за дверью отделения. Зайдя в палату, сразу подошел к Красиковой.
– Там ваш муж пришел, – негромко произнес он. – Хочет вас видеть. Вы как? Хотите, чтобы его пропустили? Это, конечно, запрещено, но иногда врачи разрешают.
Губы женщины слабо шевельнулись, она что-то произнесла, но Сергей ничего не разобрал и наклонился поближе к ее лицу.
– Я не могу его видеть, – донесся до него еле слышный звук. – Я очень виновата перед ним. Нет мне прощения.
Из уголка левого глаза ее скатилась крупная слеза.
– Я умру? – с трудом разобрал Сергей.
Он не знал, что ответить. Правду? Судя по тому, что почки перестали работать, Красикова вряд ли выживет. Пока он собирался с мыслями, женщина повторила вопрос:
– Я умру? Пусть так и будет. Мне незачем жить. Мне нет прощения. На мне страшный грех.
– Ну зачем вы так, – укоризненно произнес Саблин. – Может быть, ваша вина и не так уж велика, чтобы хотеть умереть. Вот ваш муж, например, считает, что это как раз он перед вами виноват, а не вы перед ним. Он хочет поговорить с вами и попросить у вас прощения. Подумайте, может, вы все-таки хотите его видеть? Я могу поговорить с врачом, попросить его, чтобы вашего мужа пустили к вам на несколько минут.
Сергей был уверен, что сможет договориться: сегодня дежурил Олег Алексеевич, молодой доктор, который и сам, в точности, как Серега Саблин, долгое время работал медбратом и не считал нужным подчеркивать дистанцию между собой и нынешними студентами. Несмотря на его кажущуюся строгость, с ним всегда можно было договориться.
Но Красикова только отрицательно покачала головой, и из обоих глаз потекли обильные слезы.
Через некоторое время вернулся Олег Алексеевич, которого приглашали в токсикологию на консилиум. Мужа Красиковой он в палату не пустил, однако после разговора с ним вошел в ординаторскую несколько озадаченный. Серега не смог справиться с любопытством. Чем-то эта несчастная умирающая женщина глубоко задела его.
– Да ну… – махнул рукой доктор в ответ на вопрос Саблина. – Сына она «приспала». Шестимесячного. Это муж так думает.
– Что значит – муж думает? – не понял Сергей. – Он что, медик? Педиатр? Патологоанатом?
– Да непросто там все, – вздохнул Олег Алексеевич. – Судебно-медицинский эксперт поставил причиной смерти СВДС, ничего толком родителям малыша не объяснил, дескать, синдром внезапной детской смерти и есть синдром внезапной детской смерти. На то она и внезапная, что никто не знает, отчего приключается. Вот есть же козлы на свете! Папаша, само собой, не поверил, дескать, как это так: ребеночек все время был здоровеньким, веселым, хорошо кушал, даже не плакал. И как это он мог ни с того ни с сего умереть? Не бывает такого! Жена ему говорит, что малыш спал, а она на кухне ужин готовила, вернулась в комнату – и уже всё, поздно. А Красиков уверен, что она не ужин ему, придурку, готовила, а спать легла и ребенка с собой положила, вот и «приспала». И главное – мужик вроде нормальный, инженер какой-то по строительной части, и откуда у него в голове эти «присыпания»? Я даже спросил у него, откуда он про это знает. Так он знаешь что мне ответил?
– Что? – с нетерпением спросил Саблин.
– А ему соседка по подъезду сказала, что, мол, ежели ребеночек ни с того ни с сего внезапно умирает, так только потому, что нерадивая мамаша его сиськой придушивает. Как тебе это нравится? Красиков соседке-то верит больше, чем собственной жене, вот и накатил на супружницу с обвинениями. Муж рассказывал, что она пыталась как-то объясниться, оправдаться, а когда поняла, что он ей не верит, сначала впала в депрессию, а потом и сама уже начала сомневаться: а так ли уж она не виновата? Может, просмотрела что-то, не заметила, вовремя не сделала. А может, и вправду спать легла да «приспала» младенца пышным бюстом. Короче, когда мужик в очередной раз разъярился и накинулся на жену с обвинениями и побоями, а потом хлопнул дверью и ушел горе заливать в гараж, она и выпила эссенцию. Муж вернулся – она на кухне без сознания лежит, рядом пустая бутылка валяется. Теперь рыдает в коридоре, клянет себя, что погорячился, хочет прийти к жене, встать на колени, попросить прощения.
– А вот Красикова, наоборот, считает, что она сама во всем виновата, – заметил Сергей. – И уверена, что должна умереть, чтобы искупить свою вину. Может быть, она и в самом деле точно знает, что «приспала» сына, просто правды не говорит. Может такое быть, Олег Алексеевич?
– А судмедэксперт? – возразил доктор. – Он же поставил диагноз СВДС, а вовсе не «присыпание».
– Мог и просмотреть, – пожал плечами Саблин. – Все бывает.
На пятом курсе, во время цикла по судебной медицине, пожилой преподаватель рассказывал студентам, что диагностика смерти грудных детей очень сложна и требует специальной подготовки, которой зачастую рядовые судмедэксперты не обладают, и это нередко приводит к диагностическим ошибкам и к сведению всего разнообразия причин смерти младенцев к трем стандартным диагнозам: «присыпание», синдром внезапной детской смерти, аспирация пищевых масс. Тот же преподаватель цитировал им на занятиях монографию немецкого ученого Хельмута Альтхоффа, который утверждал, что в основном причиной смерти детей являются скрыто протекающие острые инфекционные заболевания. Кроме того, вскрытие трупа грудного ребенка принципиально отличается от вскрытия трупа взрослого, и при неправильном проведении вскрытия можно пропустить и явные признаки криминальной смерти, например, асфиксию, но не пресловутым «мягким предметом», как принято именовать молочную железу женщины, а ладонью. Студентам неоднократно объясняли, что к вскрытиям грудных детей необходимо относиться максимально ответственно и добросовестно, чтобы потом не было подобных ошибок, в результате которых виновной в смерти малыша считается мать, а истинный виновник остается на свободе и радуется жизни. Возможно, и при вскрытии трупа малыша Красикова эксперт проявил недостаточную квалификацию или добросовестность, просмотрел признаки скрыто протекавшей инфекции, результатом которой и стала внезапная смерть ребенка, выставил удобный и простой диагноз СВДС, вызывающий вполне закономерное недоверие, ибо в беспричинную смерть всегда трудно поверить. А в результате – семейная трагедия. Жила себе счастливо семья из трех человек, потом не стало ребенка, не сегодня-завтра скончается его мама, а там и до третьего трупа недалеко – убитый горем и чувством вины муж тоже наложит на себя руки.
– Ну вот, – произнес доктор-циник, словно подслушав мысли Сергея, – один суицид у нас уже наличествует, того и гляди – муженек тоже руки на себя наложит. И до чего ж люди любят чувствовать себя виноватыми! Напридумывают себе смертных грехов и сводят счеты с жизнью.
Да, мысленно согласился Саблин, напридумывают. Но что послужило толчком? Невнятный и необъяснимый для обывателя диагноз, дающий широкий простор воображению и порождающий необоснованные подозрения и обвинения. Вот почему эта несчастная Красикова так волновала его, вот почему Сереге Саблину было важно узнать, что толкнуло ее на такой страшный способ ухода из жизни! Снова сработала пресловутая интуиция, о которой ему рассказывала его любимая тетка, мамина старшая сестра. Именно сейчас, когда он должен принять на себя ответственность за будущего ребенка и решить, позволять ли Ленке делать аборт, если вдруг она не захочет рожать, ему и пришло понимание того, что самым страшным грехом женщина всегда будет считать убийство, пусть и непреднамеренное, собственного ребенка. Теперь для него очевидно: если Ленка испугается будущего материнства и всех сопутствующих этому трудностей и проблем и захочет прервать беременность, пока еще сроки позволяют, он должен костьми лечь, но не допустить этого. Положа руку на сердце, Серега Саблин не был уверен, что готов уже сейчас становиться мужем и отцом, но он не мог допустить, чтобы нежная, ласковая, беззащитная и слабенькая Ленка потом обвиняла себя в страшном грехе, осознание которого может довести до самоубийства.
После обеда Олег Алексеевич позвал Сергея в ординаторскую.
– Биохимия Красиковой пришла, – сказал он равнодушно, глядя в лежащий перед ним листок с результатами анализа крови. – Свободный гемоглобин в плазме – четырнадцать, гематокрит вырос до пятидесяти восьми, пи-аш крови – семь целых ноль две сотых. Ну, студент, отвечай, о чем говорит такой результат?
– Тяжелый гемолиз, нефропатия и ацидоз, – без колебаний ответил Саблин. – А вы что, меня экзаменуете?
– Да так, – усмехнулся доктор, – проверяю, можно ли на тебя больных оставить, чтобы в туалет спокойно сходить. Про тебя по отделению прямо легенды ходят, дескать, ты не хуже дипломированных врачей знаешь, что и как нужно делать, чтобы людей с того света вытаскивать. Вот я и решил лично убедиться, такой ли ты грамотный или так, фуфло.
Саблин недоуменно пожал плечами и вернулся к своим больным. Через час у Красиковой резко упало давление, и он немедленно поставил в известность Олега Алексеевича. Тот невозмутимо положил перед собой лист назначений.
– Ну, умник, подтверждай свою репутацию, говори, что ты стал бы делать.
Сергей подумал несколько секунд. В принципе, ответ был ему известен, он успел все обдумать, пока шел из палаты в ординаторскую, и сейчас просто на всякий случай проверил сам себя.
– Я бы увеличил объем инфузии, – помолчав, сказал он. – Добавил бы растворы электролитов и реополиглюкин.
– Ишь ты, щедрый какой! – фыркнул Олег Алексеевич. – Будто ты сам не знаешь, что реополиглюкин – страшный дефицит, его в отделении – считаные флаконы, и расходуется он только в самых экстренных случаях.
– Разве Красикова – не экстренный случай? Когда же еще применять этот препарат, если не сейчас?
– Вот именно, что не сейчас, – в голосе доктора зазвучало усталое раздражение. – Хотела баба помереть – и пусть себе помирает. У нас нечем лечить тех, кто жить хочет, а Красикова жить не хочет. Она ведь если и выкарабкается, останется инвалидом до конца жизни, будет манной кашкой через трубочку питаться. Ох, не люблю я этих суицидентов! Силы на них тратишь, препараты, знания и умения прилагаешь, а для чего? Для того, чтобы они пришли в себя, оклемались, нагло спросили врачей: «Зачем вы это сделали? Почему вы не дали мне умереть?», а потом повторили попытку. Лучше уж весь наш ресурс направить на спасение жизней тех, кто хочет жить и знает, как своей жизнью правильно распорядиться, а не тех, кто не справляется с собственной жизнью и не знает, куда ее девать и что с ней делать. Ладно, студент, все ты правильно говоришь, реополиглюкин будем вводить. Хотя и жалко каждый флакон до соплей.
И это тоже не было для Сереги в новинку, подобные рассуждения он слышал от врачей реанимационного отделения не один раз. Все-таки нет на свете ничего интересней, загадочней и притягательнее смерти! Во всяком случае, для него, Сергея Саблина. Он вот уже который год пытается разобраться и в механизме умирания, и в отношении людей к этому непознанному до конца явлению. И с удивлением обнаруживает самые разные виды, формы и проявления и самой смерти, и отношения к ней.
Он выполнил назначение Олега Алексеевича, однако через короткое время давление у Красиковой упало до показателей 60 на 20. Сергей кинул взгляд на дренажную банку от желудочного зонда и обратил внимание, что по дренажу идет не грязно-бурая мутная жидкость, а темно-вишневая кровь. Кровотечение!
Саблин бросился за доктором, который тут же помчался в палату, на ходу бросив:
– Возьми на первом посту аминокапронку, срочно капать!
Когда Сергей вернулся в палату, там кроме Олега Алексеевича находился и ответственный дежурный по отделению.
– Давай быстро аминокапронку, – обратился к нему доктор, – давай дицинон, готовь систему с преднизолоном, будем интубировать и на аппарат переводить.
На шум и суету в палате прибежал медбрат с соседнего поста и кинулся помогать Сергею. Они работали уже вчетвером. Из коридора донесся грохот колес – это катили аппарат искусственной вентиляции легких. Одна сестричка вкатила в палату аппарат ИВЛ, следом за ней тут же появилась вторая, державшая в руках реанимационный ящик, из которого извлекла и начала готовить инструменты к интубации трахеи. Саблин поймал себя на том, что не уверен до конца: правильно ли действуют врачи и что вообще происходит. Видно, рано его похвалили, и легенды, которые якобы ходят о нем по отделению, не имеют под собой никакого основания. Мало он еще знает, ох, как мало! Вот сейчас, если бы не было рядом врачей, он точно растерялся бы и не смог принять правильного решения. А в результате мог бы погибнуть больной. Учиться ему еще и учиться!
Красикову заинтубировали, перевели на аппарат, и работы Сергею прибавилось.
– Олег Алексеевич, а почему вы ее не везете в операционную? – спросил он. – Ведь очевидно же, что желудочное или пищеводное кровотечение.
– Щас! – сквозь зубы откликнулся доктор. – Как хирурги ее на операцию возьмут с таким давлением? И что они там будут оперировать? Стенку желудка или пищевода со сплошным некрозом? Да она у них в руках расползаться начнет. Там же по сути одна сплошная язва. Будем ее тянуть на аппарате, аминокапронку капать, может, кровотечение само и остановится. Да, не забудь положить ей на живот пузырь со льдом.
Холод способствует спазму сосудов и уменьшает кровотечение, об этом Серега Саблин знал еще с детства.
Когда в 8 часов утра следующего дня Сергей уходил с суточного дежурства, Красикова так и лежала на аппарате ИВЛ, капала «система», в банке от желудочного зонда медленно повышался уровень буро-красной жидкости. Сдав палату сменщику, Сергей, перед тем как уйти, бросил взгляд на женщину-суицидентку. Он отчего-то был уверен, что больше не увидит ее.
Муж Красиковой все еще сидел в коридоре перед входом в отделение реанимации. Он поднял на Саблина глаза, в которых читалось непереносимое страдание.
– Она жива? – шепотом спросил Красиков. – Только правду скажите, я должен знать.
После бессонной ночи, проведенной на стуле в коридоре, лицо мужчины выглядело изможденным и страшным, а щеки, покрытые отросшей щетиной, казались грязно-серыми.
– Жива, – коротко кивнул Саблин и торопливо прошел мимо.
«Нет, – думал он, невольно ускоряя шаг, чтобы как можно быстрее отдалиться от убитого горем мужчины, – я не смогу. Я никогда не смогу. Хорошо, что она еще жива. А если бы нет? Если бы сейчас мне пришлось ему сказать? И увидеть смертный ужас и удушающую тоску в его глазах? Нет!!! Я никогда не буду клиницистом. Я не стану лечить людей. Я не хочу!!! Говорят, что у каждого клинициста есть свое кладбище, но зато и есть толпа тех, кто ему благодарен и готов отдать ему и всю свою любовь, и последний кусок. Мне не нужна ничья любовь. Мне не нужно, чтобы мне отдавали последний кусок. Пусть у меня ничего этого не будет, но у меня не будет и кладбища. Нет!!! Не хочу!!! Ни за что».
Когда через три дня Сергей Саблин заступил на следующее дежурство, он, как обычно, заглянул в журнал умерших, чтобы узнать, какие из реанимационных случаев закончились летальным исходом, и увидел в списке фамилию Красиковой. В краткой записи о причине смерти было указано: «Тяжелая степень отравления уксусной эссенцией. Ожог рта, глотки, пищевода, желудка и тонкого кишечника. Ожог верхних дыхательных путей. Экзотоксический шок. Токсическая нефропатия тяжелой степени». Вот и все. Остались позади свадьба, беременность, ожидание ребенка, радость материнства и отцовства, проблемы, трудности, минуты счастья, страшное горе, невыносимое чувство вины, несправедливые обвинения, скандалы, побои, принятие самого, наверное, трудного и самого неправильного, с точки зрения врача, решения, физические страдания отравившейся Красиковой и нравственные страдания ее нелепого и недалекого мужа. Теперь вся жизнь этой женщины уложилась в несколько слов, записанных в журнале умерших неразборчивым, типично «докторским» почерком. Один ее поступок привел к смерти, смерть повлекла за собой крушение целого мира, который никогда уже не будет таким, как прежде. Вот в чем необратимость смерти. Вот почему она так притягивает Серегино внимание.
Сергей отработал суточную смену, потом помчался в институт на занятия, которые честно высидел, несмотря на бессонную ночь. Домой идти не хотелось, и в то же время он понимал, что идти надо. Сегодня он должен объявить родителям о своем намерении жениться на Лене и о том, что через шесть с половиной месяцев у них родится внук. Или внучка. Он обещал Ленке сказать им сегодня о том, что позавчера они подали заявление в ЗАГС и через два месяца станут мужем и женой. Можно, конечно, протусоваться где-нибудь до позднего вечера, ведь для того, чтобы произнести три фразы, много времени не нужно. Сказать – и нырнуть в свою комнату, лечь под одеяло и крепко уснуть. Но Саблин понимал, что так не получится. Во-первых, он ужасно хотел спать и чувствовал, что до позднего вечера просто не дотянет, если не подремлет хотя бы часа полтора. А во-вторых, и в общем-то, в-главных, разговор о будущей женитьбе тремя фразами никак не ограничится, потому что Ленка не нравится его родителям. Точнее, она активно не нравится маме. Отец вообще обращает мало внимания на подобные обстоятельства, если они не имеют прямого отношения к его профессиональной деятельности. Отца, Михаила Евгеньевича Саблина, доктора наук, профессора и носителя множества регалий и наград, в том числе и международных, интересовала только ангиохирургия и возможности совершенствования операций на сосудах. Таким он был всегда, сколько Серега себя помнил: вечно погруженный в свои мысли, в свою работу, в специальную литературу, в своих больных. Ему было все равно, что подавали на ужин или какую сорочку мама приносила ему по утрам, он никогда не помнил дни рождения родственников и друзей и вообще ни одной памятной даты, не любил праздников и выходных дней и совершенно не умел отдыхать. Зато мама, Юлия Анисимовна, тоже доктор наук и тоже профессор, правда, без международного признания, старалась держать руку на пульсе, постоянно общалась с огромным количеством людей, всё про всех знала и помнила, всем помогала, без конца что-то устраивала и организовывала, за кого-то просила и о чем-то договаривалась, никогда не забывала поздравить и часто собирала гостей в их просторной квартире. При этом еще и кафедрой педиатрии руководила. Она не уставала от этой бурлящей жизни, более того, на взгляд сына, чувствовала себя в ней как рыба в воде и получала истинное удовольствие от того, что могла решить чью-то проблему и помочь. В ней всегда горел какой-то азарт: не может быть, чтобы она не смогла устроить, добиться, сделать, достать, организовать. И, уж конечно, она, в отличие от отца, была знакома с девушкой своего единственного сына и имела о ней вполне определенное мнение. Естественно, нелестное.
Мысли о Лене, женитьбе и будущем ребенке причудливо переплетались с мыслями о несчастной Красиковой, ее погибшем малыше и оставшемся в одиночестве на краю пропасти муже. В какой-то момент Сергей, уже подходя к подъезду своего дома, даже удивился тому, что совсем не нервничает перед предстоящим неприятным разговором с мамой – до такой степени глубоко засели в нем размышления о диагнозе «синдром внезапной детской смерти» и о возможных последствиях ошибок врачей-клиницистов и патологоанатомов.
– Мам, что ты думаешь по поводу диагноза СВДС? – спросил Сергей, с жадностью поедая поданный матерью суп – наваристую густую куриную лапшу.
Юлия Анисимовна, полноватая, рослая, очень ухоженная и по-прежнему красивая, мягко коснулась пальцами его щеки.
– Поешь, сынок, – улыбнулась она. – Не надо сейчас говорить о смерти. Вот покормлю тебя, и пока будем пить чай – поговорим.
– Ну ма-ам, – настойчиво протянул он. – Я после смены, я спать хочу. Какие там еще разговоры за чаем? Я же десяти минут не высижу, тем более после обильной еды. Давай поговорим, пока я питаюсь.
– Почему тебя заинтересовал этот вопрос? Ты же никогда, по-моему, не увлекался педиатрией.
Сергей как можно более кратко поведал матери историю самоубийцы Красиковой и ее глупого доверчивого мужа, доведшего своими тупыми подозрениями жену до гибели. Юлия Анисимовна слушала внимательно, понимающе кивала, однако выражение ее лица было отнюдь не сочувствующим.
– Сынок, – сказала она, глядя, как Сергей собирает ложкой последние капли супа из глубокой тарелки, – СВДС – это диагностическая помойка. Но я говорю тебе это только как будущему врачу, а не как сыну. Ты меня понял?
– Нет. Я твой сын и я будущий врач. В чем разница?
Мать убрала пустую тарелку и поставила перед ним другую, доверху наполненную макаронами «по-флотски».
– Разница в корпоративной медицинской этике, мой дорогой, – со странной интонацией произнесла Юлия Анисимовна, – согласно которой я не должна критиковать своих коллег и подвергать сомнению выставленные ими диагнозы, не обладая достаточно полной информацией. Тебе как медику я могу сказать, что на диагноз «синдром внезапной детской смерти» можно списать всё, что угодно, от ОРВИ до убийства. Но в нашей стране дети от вирусной инфекции умирать не должны – такова политика руководства, таково требование. За смерть детей от инфекций педиатрам головы отрывают. Поэтому смерть от ОРВИ если и диагностируют, то все равно ставят «СВДС». Это всем удобно и всех устраивает. Но тебе как моему сыну я должна ответить, что если диагноз СВДС предусмотрен Международной классификацией болезней в десятом пересмотре, то врачи имеют полное право его ставить. И никто не должен сомневаться в правильности их выводов.
– Но ведь никто до сих пор точно не знает, что такое СВДС, – возразил Сергей. – Я читал литературу, которую нам рекомендовали по курсу педиатрии, и там написано…
– Где написано? – Голос Юлии Анисимовны стал холодеть.
– В монографии Альтхоффа, например. Он считает…
– Хельмут Альтхофф – не педиатр, – перебила его мать. – Он паталогоанатом. Что он может понимать в проблеме внезапной детской смерти? Я читала его монографию и отлично помню, что он написал про желудочную форму гриппа. Желудочную! Где он ее видел? Или он перепутал ее с кишечной формой? Тогда грош ему цена как клиницисту. Он даже не видит разницы между желудочной и кишечной формами. Желудочной формы вообще в этих случаях не бывает. Или это ошибка переводчика, но тогда тем более нельзя полагаться на эту монографию. Кто знает, что они там напереводили? Ты опираешься не на тех авторитетов.
– Хорошо, – согласился Сергей. – Скажи, на кого нужно опираться. Назови имена.
Юлия Анисимовна перечислила несколько фамилий, из которых Сергею была знакома только одна – этот педиатр был автором учебника, по которому занимались студенты.
– А Цинзерлинг? – ехидно спросил он. – И старший, и средний, и младший. Что ж ты их не назвала? Три поколения прекрасных специалистов, а ты будто и не знаешь о них. Александр Всеволодович Цинзерлинг всю жизнь посвятил изучению патоморфологии детских инфекций, а в последние годы активно занимается в том числе проблемой диагностики СВДС. И не делай вид, что ты впервые об этом слышишь. Знаешь, меня всегда поражало, как медики используют больных в качестве разменной монеты. Вот говорят, что в реанимации становятся циниками. Но мы – просто нежные младенцы по сравнению с теми, кто тратит силы на вражду между научными школами во вред лечению больных. Скажешь, я не прав? Ты ведь не упомянула Цинзерлингов только потому, что московская педиатрическая научная школа издавна воюет с питерской. Так или нет?
Лицо Юлии Анисимовны приобрело выражение снисходительной усталости, уголки губ приподнялись, обозначая готовность улыбнуться такой, на ее взгляд, детской простоте, даже примитивности рассуждений сына.
– Ты напрасно меня упрекаешь, Сережа. Ты нахватался поверхностных сведений и пытаешься на их основании делать далеко идущие выводы. Если бы ты глубже разбирался в проблеме и побольше прочел о ней, ты бы знал, что я только что напрямую процитировала одного из Цинзерлингов. Я-то как раз с их трудами хорошо знакома, а вот ты, по-моему, не очень. Просто что-то слышал краем уха. А теперь пытаешься огульно обвинять всех педиатров и меня в их числе. Не стыдно?
Она шутливо взъерошила волосы на голове сына. Сергей замолчал. Мама, конечно, права, он никогда всерьез не увлекался педиатрией, дисциплину изучал не особо вдумчиво, просто, обладая превосходной памятью, вспомнил сегодня все, что удосужился услышать на лекциях и практических занятиях, сумел усвоить и успел когда-то прочитать. Но в словах матери ему послышалось тщательно скрываемое лукавство. Она пользуется тем, что знает больше сына, и пытается уклониться от серьезного разговора. Дожевывая вкусные макароны, Сергей прикидывал, как бы построить дальнейший разговор, чтобы сказать про Ленку, беременность и свадьбу и побыстрее «уместись» в свою комнату и завалиться на диван.
Он только-только успел сделать первый глоток ароматно пахнущего чая, который мама доставала непонятно где в условиях тотального дефицита продуктов, как зазвенел телефон. Юлия Анисимовна сделала ему знак: дескать, сиди, пей чай, я сама отвечу. Через минуту она вернулась на кухню.
– Иди, – недовольно проговорила она. – Это тебя.
Сергей сразу понял, что звонит Лена. Только на ее звонки у мамы бывала такая реакция.
Лену интересовал всего один вопрос: сказал ли он родителям и что они ответили. Разговор затягивался, Ленка плакала в трубку и говорила, что жить не сможет без Сергея и если они не поженятся, она не знает, что будет дальше, и ребенка ей одной не вырастить, и вообще, почему он так боится своих предков и тянет с решительным объяснением? Сергей успокаивал ее, уверял, что все не так, что он никого не боится и ничего не тянет, просто он совсем недавно пришел из института, еще даже поесть не успел, да и подходящего момента для такого ответственного разговора пока не представилось. В конце концов Ленка выколотила из него клятвенное обещание поговорить с матерью немедленно, как только он положит трубку.
Обещание он выполнил. То, что Сергей услышал от матери, было вполне ожидаемым, хотя от этого и не менее неприятным.
– Сынок, ты сошел с ума, – безапелляционным тоном заявила Юлия Анисимовна. – Я все понимаю, ты взрослый молодой мужчина, тебе нужно жить регулярной половой жизнью, ну и живи на здоровье, хоть с этой девочкой, хоть с кем. Но жениться-то зачем? Что ты будешь делать со своей Леной? Вам же даже поговорить не о чем. Тебе с ней будет скучно. Она тебе не ровня. Неужели ты сам не видишь? Это сейчас, когда у вас обоих в крови играют гормоны, тебе кажется, что вы никогда не захотите расставаться и вам всегда будет чем заняться. Но уверяю тебя, пройдет совсем немного времени, и тебе захочется хоть о чем-то поговорить с женщиной, с которой ты спишь. Пока ты молод – такой потребности не возникает, но как только ты повзрослеешь, ты сразу это ощутишь. Общение и духовная близость – это обязательные элементы близости физической, без них секс превращается в животную случку. Ты этого хочешь?
– Насколько я понимаю, – сухо ответил Сергей, – семьи создают не для того, чтобы разговаривать, а для того, чтобы растить детей. Я тебе уже сказал: Лена беременна, и ребенка мы решили сохранить. Ты верно заметила, я – мужчина. Пусть и молодой, но все равно мужчина, и за свои поступки буду в полной мере отвечать сам. И за свою жизнь тоже. Надеюсь, ты не собираешься настаивать на том, чтобы я уговаривал Лену сделать аборт? Имей в виду, для меня это неприемлемо.
Юлия Анисимовна тяжело вздохнула.
– Сынок, я – педиатр, поэтому ты прекрасно понимаешь, что об аборте речь идти не может. Пусть твоя Лена рожает, ради бога. Миллионы женщин рожают без мужей и прекрасно живут, даже наша Нюта – и та при всей своей безалаберности вырастила отличного парня. Разумеется, этот ребенок будет твоим, ты дашь ему отчество по своему имени, и даже можешь дать нашу фамилию, ты будешь помогать деньгами, платить алименты. Мы с папой обеспечим его самой лучшей медицинской помощью, какая только возможна. Мы не бросим его, можешь не сомневаться. Но жениться-то зачем? Не надо, Сережа, послушай меня. Лена не та девушка, рядом с которой ты сможешь прожить жизнь. У тебя сложный характер, ты вообще сложный человек, ты – тяжелый для тех, кто рядом с тобой. У тебя взрывной темперамент, ты настоящий внук своего деда, ты увлечен своей будущей профессией, и Лена никогда не сможет тебя понять и тебе соответствовать. И будет ревновать тебя к профессии. Тебе с твоим характером нужна не жена, а боевая подруга.
– То есть чтобы мне соответствовать, нужно быть дочерью академика? – зло спросил Сергей, который не терпел снобизма ни в ком и не собирался прощать его даже собственной любимой матери. – И носить норковые шубки и лайковые перчатки?
Юлия Анисимовна удрученно покачала головой:
– Ты не понимаешь. Соответствовать – это значит точно чувствовать, что тебе в каждый в каждый конкретный момент нужно: разговоры или молчание, общение или одиночество, бурная деятельность или полный покой. В принципе, в том, чтобы соответствовать, нет ничего сложного, если у тебя развито чутье на данного человека или сам человек не противоречив и достаточно предсказуем. Ты же соткан из сплошных противоречий, ты абсолютно непредсказуем и неуправляем, ты не поддаешься убеждению, и нужно быть совсем особенной женщиной, чтобы существовать рядом с тобой и сделать тебя счастливым. Лена этого не сможет, поверь мне. Надо было мне давно уже познакомить тебя с Оленькой Бондарь, я сколько раз собиралась, но ты же все время уклонялся, ты не хотел. Вот это достойная девушка, которая могла бы тебе соответствовать. Она с тобой в одной профессии, она будет тебя понимать, и потом, она умная девочка, школу закончила с золотой медалью, идет на красный диплом у нас во Втором меде, она начитанная и глубокая, она сможет дать тебе психологический комфорт и душевный покой, то есть именно то, что так необходимо любому врачу. Начнешь работать – поймешь.
Про Ольгу Бондарь Сергей слышал уже, наверное, раз сто. Девушка была дочерью какой-то маминой коллеги, и мама все уши ему прожужжала про то, что ему надо обязательно с ней познакомиться, потому что это в высшей степени удачная партия. Удачность «партии» заключалась в том, что у родителей Ольги был какой-то довольно близкий родственник, занимающий ответственный пост в Минздраве. Именно он в свое время перетащил их из глухой провинции в столицу, устроил на хорошую работу. Было это давно, Ольга практически выросла в Москве и свою жизнь в провинциальном маленьком городке не помнила. А добрый родственник продолжал опекать и поддерживать семью Бондарей, благодаря чему мамина коллега имела на работе весьма заметные преференции. Сергей сильно подозревал, что его маме нравится не столько сама девушка, сколько возможности и связи ее семьи.
– Начитанная и глубокая, говоришь? – Сергей презрительно прищурился и сжал губы точь-в-точь как дед Анисим. – Отличница? Да тебя это меньше всего волнует! Не надо мне сказки рассказывать. Тебе нужен этот Лукинов из Минздрава, я же все понимаю. Ты хочешь продать меня в рабство и получить в обмен связи и возможности Бондарей. Я не собираюсь знакомиться ни с какой Ольгой, мне нет до нее дела. Позавчера мы с Леной подали заявление в ЗАГС, через два месяца мы поженимся. Я, собственно, только хотел поставить тебя в известность.
– Через два месяца? – усмехнулась Юлия Анисимовна. – А чего ж так тянуть? Если твоя девочка действительно беременна, пусть принесет справку из женской консультации, и вас распишут на следующий день. Или она все-таки не совсем беременна, просто хочет за тебя замуж? Поэтому и справки никакой нет. А потом она что-нибудь придумает, например, выкидыш или еще что, женщины на такие дела большие мастерицы. Сереженька, сынок, возьми себя в руки, посмотри на вещи трезво: тебя пытается окрутить деревенская девица с видами на московскую жизнь, мужа и жилплощадь. Неужели тебя это устраивает? Ты никогда и никому не позволял манипулировать собой, почему же ты допускаешь это сейчас? Опомнись! Тебе, наверное, кажется, что ты очень любишь эту свою Лену?
– Да, я ее люблю, – твердо ответил Сергей. – И мне это не кажется, я это точно знаю.
– Ну понятно, – мать покачала головой. – Ты просто не понимаешь разницы между сексом и совместной жизнью, и, как и все молодые, путаешь любовь с банальным вожделением. А ведь пора бы уже научиться видеть разницу, тебе двадцать шесть, ты давно не ребенок.
– Мама, я люблю Лену и женюсь на ней, и мы будем вместе растить и воспитывать нашего ребенка. Это все, что я хотел тебе сказать. И твое и папино мнение по этому вопросу меня интересует меньше всего. Жить мы с вами не собираемся, будем снимать комнату в коммуналке, это по деньгам вполне доступно. Только одна просьба: не надо говорить гадости про мою любимую женщину и будущую жену, не надо настраивать меня против нее и рассказывать, какая она плохая. У меня есть собственное мнение о Лене.
– Ну что ты сынок, – очень серьезно ответила Юлия Анисимовна. – Слова дурного не скажу. Но хорошо относиться к ней не обещаю. Тебе она нравится, а мне – нет, и я не собираюсь это скрывать и притворяться, чтобы сделать тебе приятное. Идиллической жизни в большой семье с бабушками и дедушками не жди. Тебя такие трудности не пугают?
– Не пугают. Я умею брать на себя ответственность. И плакаться к тебе не прибегу, можешь быть уверена.
– Но ты хотя бы понимаешь, как тебе будет трудно? Ты отдаешь себе отчет, на какую жизнь обрекаешь себя?
– Я все отлично понимаю. И ко всему готов.
Однако Юлия Анисимовна не собиралась сдаваться без боя, она снова попыталась апеллировать к здравому смыслу своего сына, выросшего в семье врачей.
– Сереженька, – мягко заговорила она, – вот посмотри, что получается. Ты двадцать четыре часа отдежурил, и не где-нибудь, а в реанимации, на тяжелейшей работе, где не то что поспать – присесть за сутки некогда. После этого ты бежишь в институт, где от тебя снова требуется внимание, концентрация, значительные интеллектуальные усилия. И вот ты пришел домой. Что сделала бы девушка, которая понимает, как ты живешь? Она покормила бы тебя, отправила в душ и уложила бы спать, при этом отключила телефон, чтобы никакой, даже очень важный, звонок случайно не разбудил тебя. А когда ты отдохнешь, она спросила бы, как прошло дежурство и какие сложные случаи были у тебя, внимательно выслушала бы, обсудила с тобой, при этом точно зная, как правильно реагировать на твои слова о том, что ты ошибся, чего-то не учел, чего-то недоглядел. И радовалась бы твоим удачам. А Лена твоя что сделала? Зная, что ты после суток и после института, она звонит тебе в то время, когда ты, по идее, уже должен крепко спать. И не просто звонит, а морочит тебе голову пустопорожними разговорами по полчаса, вместо того чтобы дать тебе отдохнуть.
В этот момент Сергей вдруг почувствовал, что действительно смертельно устал. Однако ему очень не хотелось, чтобы мама это поняла. Это подтверждало бы ее правоту насчет Ленкиного поведения.
– Да я не устал, я нормальный.
– Ага, – усмехнулась Юлия Анисимовна. – Это сейчас, когда тебе двадцать шесть. А когда ты будешь оперирующим хирургом, и тебе будет сорок, а она не будет давать тебе покоя перед операцией? Ты же видишь, как мы с папой…
– А с чего ты взяла, что я буду хирургом? – перебил ее Сергей.
– Ну как же, мы с папой…
– Вы с папой – это одно, а я – самостоятельная единица. Я не собираюсь становиться хирургом, я буду патологоанатомом. Я говорил вам с папой об этом тысячу раз, начиная чуть ли не с первого курса.
Это было правдой. Насколько Сергей Саблин любил медицину и интересовался ею с самого детства, настолько же он не интересовался людьми и не испытывал ни малейшего желания их лечить. Ему было неловко признаваться в этом и родителям, и однокурсникам, не перестававшим удивляться его настойчивому желанию заниматься патологической анатомией или судебно-медицинской экспертизой. А примерно курсе на четвертом Сергей вдруг отчетливо осознал, что он не только не хочет лечить больных, но еще и не готов их терять. И история с Красиковой и ее мужем еще раз это доказала. Не хочет он иметь свое кладбище. Не хочет он ответственности за чужую жизнь. Отец вообще ни во что не вникал, а вот мама была категорически против профессионального выбора сына и каждый раз объясняла ему, какую глупость он собирается сделать, в надежде на то, что непокорное чадо в конце концов одумается.
– Сыночек, – ласково заговорила Юлия Анисимовна, – ты просто не понимаешь, на что обрекаешь себя. Ты говорил, что не хочешь быть клиницистом. Я не могу этого понять, но готова принять. Но зачем же патанатомия? Зачем судмедэкспертиза? Не хочешь иметь дело с больными – мы с папой устроим тебя на чиновничью работу, будешь организовывать здравоохранение, разрабатывать программы, курировать научные исследования. В конце концов, можно немного сменить профориентацию и заниматься фармакологией или организацией санаторно-курортного лечения. Ты напишешь диссертацию, защитишься, сделаешь нормальную карьеру. Человеку с высшим медицинским образованием есть где применить свои знания и добиться успеха даже в том случае, если он не желает быть клиницистом.
– Вот я их и применю в патанатомии, – упрямо буркнул Сергей. – Или в экспертизе. И успеха добьюсь, можешь не сомневаться.
– Сереженька, – продолжала уговаривать мать, – ты хотя бы представляешь себе, кем хочешь стать? Ты понимаешь, какой работой собираешься заниматься? Ты готов к тому, что будешь иметь дело только со смертью или, в крайнем случае, с чужими несчастьями? У тебя не будет ни одного больного, которому ты вернешь здоровье или спасешь жизнь и который потом скажет тебе «спасибо» и посмотрит на тебя глазами, в которых стоят слезы благодарности. Это самое сильное чувство у врача – чувство удовлетворения от того, что ты смог помочь, что ты отвоевал человека у болезни или смерти, избавил его от мучений и страданий. И, кстати, его близких тоже. А ты собираешься добровольно лишить себя этого чувства, которое тебе не доведется испытать ни разу в жизни. Ни разу в жизни! Медицина – штука тяжелая, требующая огромных знаний и невероятных моральных затрат, тебе ли этого не знать. И благодарность спасенного больного и твое удовлетворение своей работой, которую ты сделал хорошо, это единственная награда за все те трудности, с которыми приходится сталкиваться врачу. Как же ты, выросший рядом с папой и со мной, можешь этого не понимать?!
– А ты, конечно, хочешь, чтобы за все, что ты делаешь, следовала награда, – Сергей ненавидел эти разговоры, в ходе которых мать пыталась повлиять на его профессиональный выбор. Юлия Анисимовна была права, когда говорила о взрывном темпераменте сына и его тяжелом и противоречивом характере. Если Сергею что-то не нравилось, он терял самообладание и переставал следить за выбором выражений и интонациями, забывая, что разговаривает все-таки с матерью, а не с приятелем. – Ты хочешь, чтобы все было красивенько и чистенько, чтобы благодарные больные носили коробочки с конфетками и букетики цветочков, а потом до конца жизни обеспечивали тебя разными благами, дефицитными товарами и были тебе обязаны, да?
– Сынок…
В глазах матери мелькнула нескрываемая обида, но Сергей этого не заметил. Его уже понесло.
– Неужели ты еще шесть лет назад, когда я выбирал, в каком из трех медицинских институтов учиться, не поняла, что я хочу жить только своим умом и принимать решения самостоятельно, а не под твою и папину диктовку? Я специально поступил не в тот институт, где ты руководишь кафедрой, а в другой, где сильная школа патанатомии, чтобы ты меня не доставала. Я не стану знакомиться и тем более жениться на девице, которую ты для меня присмотрела. И я не стану менять своего решения и выбирать другую специализацию, чтобы угодить вам с отцом. Я сам знаю, как, с кем и в какой профессии мне прожить свою жизнь. Это моя жизнь, а не твоя и не папина, и я проживу ее сам. Так, как сумею и как посчитаю нужным. Я буду патологоанатомом или судебно-медицинским экспертом, и обсуждать здесь больше нечего.
– Только через мой труп, – заявила Юлия Анисимовна.
Сергей недобро усмехнулся и посмотрел на мать.
– Ну-ну… Ты хоть сама-то поняла, что сейчас сказала?
Юлия Анисимовна уже осознала всю двусмысленность своих слов и недовольно поджала губы.
– Господи, ну что у тебя за характер! – укоризненно произнесла она. – Вылитый дед Анисим.
В детстве больше всего на свете Серега Саблин любил три вещи: рассматривать старинное ружье дяди Васи, маминого старшего брата, есть молочную лапшу на кухне у тети Нюты и ходить с дедом Анисимом в пивную, где дед позволял себе маленькие радости. Обычно дед брал две кружки пива, а для Сереги – квас или лимонад. Дед разговаривал при этом только с внуком, общаться с другими посетителями пивной не стремился и желающих навязаться в собутыльники не поощрял. Выглядел Анисим Трофимович всегда хмурым, и взгляд его, обращенный на незнакомых людей, был неприветливым, так что желающих вступить с ним в разговор было, честно говоря, немного. Сереге же дед велел стоять рядом, внимательно слушать шум и разговоры за соседними «стоячими» круглыми столами и наблюдать за окружающими. Такими были дедовы уроки.
Анисим Трофимович Бирюков начинал свою службу еще в Гражданскую в Частях Особого назначения, потом был чекистом, служил в НКВД, затем в МГБ, организовывал во время войны партизанское движение на оккупированной немцами территории в Белоруссии, потом был назначен начальником горотдела НКВД во Львовской области и боролся с лесными бандитами. Даже теперь, давно уже выйдя в отставку, он не забыл своих привычек и старался привить маленькому внуку умение быть осторожным, внимательным, собранным, постоянно готовым к тому, чтобы дать отпор, но при этом не пугливым и не враждебным. Каждый заход в пивную сопровождался подробными и часто повторяющимися объяснениями: место надо выбирать так, чтобы видеть дверь и окна и чтобы за спиной была глухая стена. Кроме того, посещение пивной тренировало пацана и приучало не бояться большого скопления взрослых и не всегда трезвых мужиков, громких голосов и резких, выглядящих порой агрессивными жестов. «Нервы надо укреплять», – с усмешкой говорил он своей младшей дочери, Серегиной матери, когда та в очередной раз ловила отца на том, что тот водил мальчика в пивную.
– Дед, а почему мама не разрешает нам с тобой ходить в пивную? – спросил Серега, когда мама впервые показала свое неудовольствие их воскресными походами.
– Да не обращай ты внимания, – махнул рукой дед Анисим, – мало ли чего мать говорит, у тебя уши не резиновые, чтобы всех слушать.
– Но мама… – попытался возразить Серега, однако Анисим Трофимович перебил его, не дав договорить.
– Кто такая есть твоя мать, чтобы ее слушать? – грозно вопросил он. – Чего она в жизни понимает? Да она с малых лет только за книжками и просидела, жизни-то не видела, людей не знает и не понимает. И ладно бы еще правильные книжки читала, исторические или военные, так нет же, все ботанику какую-то зубрила, анатомию, биологию, химию, а с них какой прок? Умным, может, и станешь, а вот мудрым – нет. Ты, парень, с родителей пример не бери, они у тебя люди ученые, образованные, а душевного ума в них ни на грош. Ты на Нютку нашу равняйся, вот она у меня выросла правильной девкой, ни одного дня в своей жизни не прожила так, как ей самой не захотелось. Всегда на своем стояла, ни на шаг ни разу не отступила, делала только то, что считала нужным. Да, она высот не достигла, не то что твои родители, даже высшего образования не получила, но Нютка у меня выросла мудрой. Ты у нее учись, а не у матери своей.
– А тетя Нюта ведь тоже женщина, – неуверенно заметил паренек.
– Наша Нютка – не баба, ты не путай, она казак в юбке. Истинная казачка, любого мужика за пояс заткнет, раскусит и не подавится. Нютка у меня настоящая Бирюкова, и ты должен Бирюковым вырасти. А то ишь выдумали – Саблина из тебя сделать!
Анисим Трофимович носил фамилию Бирюков и часто повторял, что бирюк – волк-одиночка, живущий вне стаи – сильный и смелый, ни от кого не зависящий и ни на кого не оглядывающийся. Дед считал, что и сам полностью соответствует своей фамилии, и его дочь Анна Анисимовна, или Нюта, как ее называли в семье, выросла такой же. Теперь он хотел воспитать из своего внука Сережи достойного носителя «говорящей» фамилии.
Дед, бывший военный, не любил смотреть фильмы о войне, а Серега, наоборот, очень любил, его привлекала романтика войны и смерти, подвигов и геройства, истории о предательствах и неизбежном наказании за них. Серегу удивляло, что дед никогда не смотрит фильмов о войне.
– Ерунду там показывают, – дед брезгливо морщился, а глаза его светлели и как-то тяжелели, – на войне все не так. На войне страшно. Кино – это игра пионерская, «Зарница». Лепет дитячий. В кино тебе правду про войну никогда не покажут.
Когда дед Анисим вспоминал о войне, взгляд его делался каким-то потусторонним: зрачки сужались до размеров булавочной головки, серые глаза как будто белели, радужка становилась почти прозрачной, а лицо – холодным и безжалостным. «Наверное, на войне действительно было очень страшно», – думал в такие минуты Серега, поеживаясь под ледяным светом, исходящим из дедовых глаз.
Дедовы уроки Серега запомнил накрепко. Анисим Трофимович, потомственный казак, нрав имел крутой и жесткий и на попытки детей хоть на чем-нибудь настоять плевал с высокой колокольни. Все трое детей – старший Василий, служивший в разведке, средняя Анна, та самая обожаемая Серегой тетя Нюта, и младшая, Юлия, Серегина мама, никогда не пытались спорить с отцом или возражать ему. И не потому, что боялись, а просто оттого, что знали твердо: это бесполезно. Отец не станет кричать, браниться, размахивать руками и скандалить, он тихо усмехнется в густые длинные усы и отвернется, а сделает все равно по-своему. Да и дети пошли характером в отца, такие же твердые и несгибаемые. Хотя и проявлялся этот характер у них по-разному. Серегина мама, Юлия Анисимовна, брала упорством и настойчивостью, отлично училась и в школе, и в мединституте, рано защитила диссертацию, несмотря на то что приходилось возиться с маленьким сыном, и сделала блестящую карьеру, в весьма молодом возрасте заняв должность заведующей кафедрой педиатрии в одном из московских медицинских вузов. Ну, с дядей Васей и без того все понятно, имей он другой характер – вряд ли его взяли бы на работу в Первое Главное управление, которое занималось разведкой. А вот с тетей Нютой все было совсем иначе, хотя характер свой казацкий она проявила в полной мере. Родив в семнадцать лет внебрачного ребенка и при этом ни одной секунды не смущаясь и не опасаясь общественного осуждения, она только в двадцать три года встретила своего суженого, поляка по имени Януш. Но тут отец и брат Василий встали насмерть: при их службе и должностях невозможно иметь родственника-иностранца. Они, в общем-то, ничего Анне не запрещали, просто очень популярно объяснили, что ее замужество лишит их работы и карьеры. Анна все поняла. С поляком рассталась, а вот с Василием с тех пор не разговаривала. Вообще. То есть ни одного слова не произносила, не звонила, не писала, не общалась. Вычеркнула брата из своей жизни. Отца простила, а вот брата – нет. Почему же она не простила дядю Васю, если простила деда?
О том, что тетя Нюта «поссорилась» с дядей Васей, Серега знал с детства, не мог не знать, потому что был пареньком внимательным и наблюдательным, но на вопросы «почему» и «из-за чего» получал неизменно один и тот же ответ:
– Ты еще маленький. Вырастешь – расскажу, – говорила тетя Нюта, при этом усмехалась точь-в-точь как дед Анисим и негромко прибавляла: – Может быть. А может, и не расскажу.
При этом лицо ее на мгновение едва заметно менялось, губы искривлялись в каком-то зверином оскале, но тут же на лицо Анны Анисимовны возвращалась ее обычная насмешливая улыбка.
Серега и у мамы с папой, и у деда, и у дяди Васи пытался узнать, но с тем же результатом. Много позже, когда Анна Анисимовна умерла, задать свой вопрос Сереже стало некому. Сорок лет не разговаривать с родным братом! Это что же за характер такой, упертый и беспощадный, надо было иметь! И он страшно сожалел о том, что не проявил настойчивости и не попытался выяснить правду, пока Нюта была еще жива.
Но это все было потом. А в детстве Серега свою тетку боготворил. Она вовсе не казалась ему упертой и беспощадной, наоборот, Нюта была веселой, общительной, какой-то «неправильной», никогда не готовила на обед супы, не заставляла племянника есть то, чего он не хочет, разрешала все то, чего обычно не разрешала мама, в том числе бегать, шуметь, орать, визжать и играть в войну. Ее сын Вовка был старше Сергея на семнадцать лет, и когда Сережу мама стала отпускать к сестре в гости одного, Вовка уже стал совсем взрослым, самостоятельным, работал где-то на БАМе, и тетя Нюта жила одна. Когда-то она закончила медучилище и работала операционной сестрой, а потом ушла в кожно-венерологический диспансер и применяла свои знания в кабинете физиотерапии. Она была абсолютно, классически непедагогична и рассказывала Сереге анекдоты про сифилитиков и всякие байки, для ребенка явно не предназначенные. Когда ее младшая сестра об этом узнала, Анна Анисимовна без малейшего смущения заявила:
– Это касается здоровья человека, а все, что касается здоровья человека – это природа. Это естественно и не может быть ни стыдным, ни противным. Ты же сама врач, и муж у тебя врач, чего ж вы растите пацана не пойми кем? Он должен знать, как устроено человеческое тело и что бывает, если с ним неправильно обращаться.
Почему-то всегда такая разумная и умеющая все объяснить мама не нашла, что ответить. Сережа проводил у тетки много времени, впитывая от нее уважительное и заинтересованное отношение ко всему, что связано с телесной сферой, а также получая «дополнительное внешкольное» образование в сфере эротической и вольнодумной литературы. Дело в том, что у Анны Анисимовны был источник побочного дохода: она перепечатывала на машинке «самиздат». Разумеется, не Солженицына. При теткином характере и бурном темпераменте, склонности к похабным анекдотам, ее больше интересовали тексты, интеллигентно называемые «армянским радио», а также «Камасутра» и эротические рассказы, авторство которых приписывалось Александру Куприну и Алексею Толстому, что было весьма сомнительно. Она печатала, а Серега читал, предпочитая в подростковом возрасте особенно то, о чем в то время знал далеко не каждый взрослый. Читал с упоением. С удовольствием. Если что было непонятно – спрашивал, и тетя Нюта никогда не жалела времени на подробные объяснения, касались они строения гениталий или политической ситуации в пятидесятые годы до смерти Сталина.
И к дяде Васе, старшему сыну деда Анисима, Серега любил наведываться, правда, получалось это редко, потому что дядя Вася много времени проводил в длительных командировках. Но зато когда уж он возвращался в Москву, Сережа приезжал к нему при любой возможности. Конечно, Василий Анисимович был разведчиком, и это заставляло мальчишку смотреть на дядьку с восхищением, но главным все-таки было ружье. Дядя Вася никогда не скрывал, каким образом оно к нему попало.
Когда Анисим Трофимович в конце 30-х годов нес службу в Белоруссии, его жена с первенцем Васей и маленькой дочкой Нюточкой жила в Кировской области. Десятилетний Вася в 1939 году сбежал из дома и каким-то немыслимым образом самостоятельно добрался до места службы отца и разыскал его, за что был, разумеется, нещадно выпорот, после чего последовало глубокомысленное рассуждение Бирюкова-старшего:
– Казак вырос! Настоящий казак! Настоящий Бирюков! Ежели чего захотел – непременно добьется, хоть и пацан сопливый. И смелый, не побоялся. И находчивый, не растерялся. И мужественный, не пикнул ни разу, пока я его порол, а ведь рука у меня тяжелая. И упертый, ни за что назад возвращаться не хочет. Так я говорю, Васька?
Мальчик молча кивнул, затравленно глядя на отца и ожидая его вердикта.
– Ну так, стало быть, остаешься со мной, – вынес решение Анисим Трофимович.
Однако заниматься мальчиком было некому, а оставлять без присмотра – как-то боязно, и Анисим Бирюков отдал сына в имение старого графа-поляка, жившего после прихода большевиков на положении заложника. Граф был одиноким, мальчика принял с радостью, много занимался с ним, заставлял читать, кормил, водил не только на длительные прогулки, но и брал с собой на охоту уток стрелять. Свое ружье – великолепную двустволку-«горизонталку» с открытыми курками, настоящий «Зауэр» 16-го калибра – граф подарил Васе на прощание, когда его депортировали в Польшу, обменяв не то на какого-то деятеля, не то на ценности, не то на информацию. С тех пор Василий с ружьем не расставался, гордился им, всем охотно показывал. Серега с детства относился к оружию благоговейно, и каждый приход в гости к дяде Васе становился для него настоящим праздником, ведь можно было не только посмотреть замечательное старинное ружье, но и погладить стволы и гладкий деревянный приклад, и «вскинуться», и посмотреть в прорезь на точку в воображаемой мишени, и вообще почувствовать себя настоящим мужчиной. Воином.
Однажды Серега, знавший о конфликте Анны Анисимовны с братом, но не ведавший причин столь затяжной ссоры, спросил тетю Нюту:
– А ничего, что я к дяде Васе в гости хожу? Ты не обижаешься?
Анна Анисимовна удивилась, как показалось мальчику, совершенно искренне.
– Обижаюсь? Да на что же, миленький?
– Ну, ты ведь с дядей Васей не разговариваешь, я думал, вы поссорились… У меня в классе друзья есть, Пашка и Витя, Пашка на Витю обиделся и теперь с ним не водится, а со мной водится. А Витька со мной недавно подрался за то, что я с Пашкой в кино ходил, ему неприятно было, – объяснил свой вопрос Серега, надо признать, довольно сумбурно. Но тетя Нюта все поняла и рассмеялась.
– Сереженька, миленький, никогда не думай о том, что кому приятно или неприятно. Делай только то и только так, как сам считаешь нужным и правильным. На всех все равно не угодишь. У тебя есть характер, вот этим и дорожи.
– Характер? – теперь удивился уже Серега. – А мама всегда говорит, что у меня плохой характер, тяжелый, и мне надо меняться.
– Даже не вздумай! – замахала руками Анна Анисимовна. – У тебя замечательный характер, настоящий мужской нрав, наш, казацкий. Твоя мама хочет, чтобы ей было удобно с тобой жить, и я ее понимаю. Каждый человек хочет, чтобы ему было удобно. Но это не означает, что другие люди обязаны с этим считаться. Ты меня понимаешь?
В тот момент Сережа не все понял, так, кое-что уловил, в чем честно сразу же признался. Ему никогда не было стыдно признаваться тете Нюте в том, что он чего-то не понимает. Маме и отцу он бы даже под пытками такого не сказал, для них он старался выглядеть пай-мальчиком, прилежным учеником, для которого учеба и всяческие науки не представляют никакой сложности. А с тетей Нютой можно было не притворяться и быть самим собой, потому что она ничего от племянника не ждала и ничего не требовала, просто любила его и принимала таким, каким он был на самом деле.
Анна Анисимовна объяснила свою мысль снова, подробнее и проще, и он все понял.
– У тебя очень хороший характер, – еще раз повторила она, – правильный, настоящий, не поддельный. Конечно, всем удобнее иметь дело с людьми, которые умеют договариваться. Ты не умеешь. И не надо, не учись этому. У тебя есть на все собственное мнение, вот на него и опирайся. А на остальных наплюй. Ты не золотой червонец, чтобы всем нравиться. Ты – Сергей Саблин, самостоятельная единица, уникальная и неповторимая, и не нужно стараться никому угождать и делать приятное. Понял?
– Понял, – кивнул мальчик.
Собака еще раз дернула облезлым хвостом, и из уголка пасти потянулась струйка тягучей мутноватой слюны. Я смотрю на нее, и из середины груди по всему телу разливается огромный, ни с чем не сравнимый восторг: я – повелитель мира, я могу уничтожить то, что с таким трудом и изобретательностью создавалось природой. Эта собака еще недавно была живой, пусть бездомной, никому не нужной, со свалявшейся грязной шерстью и гноящимися глазами, но живой! Она чуяла запахи, слышала звуки, хотела есть и пить, кого-то боялась, к кому-то была привязана. А я взял ее жизнь в свои руки и распорядился ею по собственному усмотрению. Я предполагал, что это будет классно, но даже не думал, что настолько классно!
Когда я наступил на муравейник и вдруг понял, что случайно разрушил целое государство, целый мир, в котором обитали тысячи маленьких смешных жизней, я впервые испытал это странное ощущение могущества и всевластности. Я – властелин этого муравьиного царства, как я захочу – так и будет. Я могу пройти мимо, и разрушения, причиненные моим ботинком, останутся минимальными. Но я могу и не пройти. И разрушить этот мир до основания. Окончательно и бесповоротно. Просто стереть с лица земли.
И я сделал это. А теперь я сделал то же самое с бездомной собакой. Она умирает, а я наблюдаю за ее агонией. И снова радуюсь своей власти над ее никчемной жизнью. Да, я взял дома из маминой аптечки таблетки, растолок их в порошок и напихал в два пирожка с мясом, купленные в киоске у кинотеатра «Северное сияние». Да, я выбрал эту собаку, высмотрел ее на улице, рядом со стройкой. Да, я поманил ее, дав издалека понюхать пирожки, и она доверчиво и радостно потащилась следом за мной на пустую, давно заброшенную стройплощадку. И я скормил ей отравленные пирожки, равнодушно глядя на то, как она судорожно, с голодным лязгом зубов, глотала большими кусками собственную смерть. Но и теперь, когда она умирает, я еще могу все исправить, я могу выбежать на улицу, обратиться к кому-нибудь из взрослых, объяснить, что собака умирает и ей нужна помощь. Наверняка найдется кто-нибудь, кто сжалится над одиннадцатилетним мальчишкой и умирающей бездомной собакой, поможет отвезти животное в ветеринарку, а там, глядишь, и откачают псину. Я еще могу это сделать. А могу и не делать. Мое решение. Моя власть. Как захочу – так и будет. Я – царь и бог. Я всемогущ!
Жалко только, что никому рассказать нельзя. Маме – это уж точно. И Учителю нельзя. Это моя тайна, которой я ни с кем никогда не поделюсь. Хотя Учитель, наверное, меня не осудил бы. Он очень умный. И очень меня любит. Я это точно знаю.
Потому что Учитель – это мой папа. Я уверен в этом. Мама всегда говорила мне, что мой папа нас бросил и живет теперь далеко. И я, наивный и глупый, до поры до времени верил ей. А потом познакомился с Учителем и внезапно понял: это мой папа! Потому что только родной отец будет с таким удовольствием разговаривать и проводить время с мальчиком, угощать его мороженым и пепси-колой, ходить с ним в кино и в цирк, когда бывали гастроли, ездить далеко за город, рассказывать про природу, попутно показывая разные растения, насекомых, птиц, а если сильно повезет – то и кое-каких животных.
Мама рано научила меня читать и всегда говорила, что я намного умнее, чем полагается быть мальчику моего возраста. Правильно говорила! Я действительно очень умный. Поэтому быстро догадался, что и как. Мама специально сказала мне, что папа плохой, бросил нас и уехал далеко-далеко, в другой город. Чтобы я не искал его и не думал о нем. А на самом деле мой папа остался здесь. И никакой он не плохой. Он замечательный, добрый и умный. И очень меня любит. Он нашел меня, и теперь мы с ним постоянно встречаемся. Но я же умный мальчик, поэтому я понимаю, что мама об этих встречах знать не должна. Пусть думает, что сумела меня обмануть. Пусть считает меня доверчивым и наивным. Так мне будет проще ею управлять и добиваться того, что мне нужно.
Конечно, я не утерпел и как-то спросил Учителя:
– А вы случайно не мой папа?
Он ответил:
– Ну что ты, конечно, нет.
Но мне показалось, что он при этом как-то смутился и отвечал не очень уверенно. Я не стал ни на чем настаивать. Понятно, что если он признается, то я могу проговориться маме, а она сделает все, чтобы запретить нам встречаться. Мама у меня такая. Но я все равно обо всем догадался, ведь не зря же я столько взрослых книжек прочитал.
Я умный.
Я – царь и бог.
Я – повелитель мира.
Глава 2
Лена выпорхнула из примерочной и встала перед Сергеем, нетерпеливо притоптывая ножкой, обутой в кремовую изящную туфельку.
– Ну как?
Она повернулась вокруг своей оси и вопросительно взглянула на Сергея.
– Хорошо? Тебе нравится?
Он кинул на невесту хмурый взгляд и кивнул.
– Нормально.
– Нормально?! И это все? Но тебе самому нравится?
Ему было все равно. Настроение испортилось окончательно и бесповоротно несколько часов назад, во время дежурства на кафедре госпитальной терапии. Они договорились с Леной сегодня идти покупать платье для бракосочетания, и хотя ему было вовсе не до свадебных приготовлений, отменять поход в салоны он не стал, понимая, как важна для девушки подготовка к самому главному в этот период жизни мероприятию. Но справиться с настроением Сергей все-таки не сумел, и одолевавшие его мрачные мысли, казалось, окутывали темным тяжелым облаком все пространство вокруг него. Он не мог заставить себя проявлять интерес к платью или хотя бы делать вид, что для него все это не менее важно и значимо, чем для Ленки. Она не понимала, почему жених сидит злой и молчаливый, сердилась сама, теребила его вопросами, требовала ответов и обиженно дулась. Сергей пока не рассказал ей, в чем дело, хотя никакого секрета делать из этого не собирался. Просто Ленка прибежала к условленному месту встречи такой сияющей и окрыленной, что у него язык не повернулся ей рассказывать о своих проблемах. И разве можно в этом случае винить ее в том, что она искренне не понимает его состояния?
Лена примеряла уже седьмое или восьмое платье, и её все время что-нибудь не устраивало. Она показывалась Сергею, вертелась перед ним, пыталась объяснить и ему, и продавщицам, чего именно ей хочется, спрашивала совета у всех подряд вплоть до других покупателей, а Сергей сидел на жесткой, неудобной, обитой дерматином низкой банкетке и терпеливо ждал, когда же закончится весь этот цирк, казавшийся ему таким глупым и ненужным.
– Ну Сереж! – В голосе Лены зазвучало раздражение, смешанное с готовностью расплакаться. Что поделать – беременная женщина редко когда может справиться с эмоциями, Сергей относился к этому с пониманием и даже порой с умилением. – Ну что ты сидишь, как сыч, надулся и молчишь! Это что, только моя свадьба, что ли? Тебя она вообще не касается?
– Касается, – равнодушно ответил он. – Я все равно ничего не понимаю в ваших нарядах. Покупай то, что тебе нравится.
– А тебе? Я же хочу, чтобы тебе тоже нравилось. Это наша свадьба, и я должна быть на ней самой красивой в мире, чтобы ты меня такой запомнил на всю оставшуюся жизнь и никогда не разлюбил.
– Я тебя и так не разлюблю.
Ему удалось даже слегка улыбнуться, но надолго удержать улыбку на губах не получилось: слишком уж муторно было на душе.
– Посмотри, вот это платье мне в принципе нравится, – снова защебетала Лена, – но я боюсь, что живот… Как ты думаешь, через полтора месяца живот уже будет видно?
Срок беременности к моменту свадьбы достигнет всего четырех с половиной месяцев. Никакого особенного живота в это время обычно еще не видно. Так, слегка округляется талия, увеличивается грудь. Бывают, конечно, исключения, но Ленка в их число явно не попадает, во всяком случае, так казалось Саблину. Вопрос был совершенно невинным, однако сыграл роль детонатора: Сергей внезапно взорвался. И, как всегда в такие моменты, со дна сознания поднималась грязная зловонная муть, выносящая на поверхность самые несправедливые, граничащие с откровенным хамством, слова:
– Если тебя так волнует проблема живота, взяла бы справку в женской консультации, и нас расписали бы в течение недели, – задыхаясь от ярости, проговорил он. – Зачем ждать два месяца?
– Ну что ты, Сережа, – удивление Лены было столь велико, что она, казалось, даже не заметила его грубости, – я же хочу настоящую свадьбу, а не посиделки с друзьями в дешевом кафе. Мне нужно всех пригласить из Ярославля, и родителей, и родственников, подруг, и институтских девчонок собрать. И твои родные чтобы могли собраться, а то мало ли у кого какие планы, за неделю всех не соберешь.
– Мои-то родные тебе зачем?
– Пусть все видят, какая я у тебя красавица!
Она кокетливо улыбнулась и показала Сергею язык.
Лена действительно была настоящей красавицей, сероглазой, с точеным личиком и такой же точеной невысокой фигуркой. Особую гордость ее составляли волосы – каштановые, длинные, до талии, прямые, очень густые и очень блестящие, даже лучше, чем на фотографиях в женских журналах в рекламе шампуней. Она любила встряхивать волосами при любой возможности, давая окружающим шанс полюбоваться этой красотой, и даже позволяла себе расчесываться прилюдно, дабы привлечь дополнительное внимание к своей внешности. Конечно, это было, строго говоря, признаком дурного воспитания, но Сергея не раздражало, как, впрочем, не раздражало в девушке ничего. Ему все нравилось – и ее лицо, и ее тело, и ее неуемный сексуальный аппетит и неистощимая фантазия в постели, и ее детскость, наивность и простота. И сейчас он уже жалел о своей грубости и радовался тому, что Ленка, кажется, ничего не заметила и не обиделась. Ему стало неловко, и он решил сгладить ситуацию.
– Не сердись, Ленусик, – примирительно произнес он, – просто я не в настроении. Не обижайся на меня. Из меня сегодня плохой советчик и вообще никудышний компаньон в магазинных делах.
Глаза Лены мгновенно стали озабоченными и тревожными.
– Что-то случилось? Что-то серьезное? Почему ты мне сразу не сказал? Это касается нашей свадьбы? – посыпались вопросы.
Сергей покачал головой и вытянул вперед затекшие ноги: все-таки эта чертова банкетка была ему, рослому и крупному, явно не по росту.
– Со свадьбой все в порядке, – успокоил он невесту.
– Ну, это главное, – Лена с облегчением улыбнулась. – А что тогда?
– Да в институте…
Он не успел договорить, как Лена уже перебила его звонким смехом:
– В институте? Ой, ерунда какая! А я-то уже испугалась было, думала, что-то серьезное.
А это и было серьезным. Во всяком случае, для Сергея Саблина, проходящего субординатуру по терапии. Им, пятерым студентам-шестикурсникам, было сказано, что если в приемное отделение кого-нибудь привезут по терапии, их позовут, и им надлежит посмотреть больного, заполнить в истории болезни раздел «осмотр терапевта», а если будет что-то сложное – послать за дежурным терапевтом по больнице. И вот вечером поступил мужчина, которого осмотрели все пятеро субординаторов. Но принимать решение с молчаливого согласия остальных пришлось именно Сергею: все знали, что он уже пятый год работает в реанимации, и признавали за ним неформальное лидерство по крайней мере в вопросах медицинских знаний и опыта оказания врачебной помощи. Считать Серегу Саблина лидером было удобно для всех: лидер – это тот, кто способен взять на себя ответственность, другие же охотно уступают ему это чреватое последствиями удовольствие.
Больной немолодого возраста поступил с симптомами, на основании которых Сергей сделал вывод о транзиторной ишемической атаке. Он, разумеется, провел полный осмотр, как полагается, слушал легкие, мял живот и так далее, после чего распорядился госпитализировать мужчину в неврологическое отделение. Больного увезли из приемного отделения, а Сергей вместе с остальными вернулся в учебную комнату, прихватив с собой историю болезни, чтобы оформить «осмотр терапевта» во время приятного чаепития.
Примерно через час в учебную комнату ворвался разъяренный дежурный терапевт.
– Кто распорядился положить больного в неврологию? – спросил он вибрирующим от плохо сдерживаемого гнева голосом.
– Я, – спокойно ответил ничего не подозревающий Сергей.
– Пойдемте со мной, – коротко приказал врач и вышел из комнаты.
Студенты всем скопом двинулись следом за ним в неврологию. В палате на шесть человек лежал вновь поступивший больной и хрипел.
– Послушайте легкие, – ровным голосом предложил дежурный терапевт. – Вы первый, пожалуйста.
И выразительно посмотрел на Саблина. Сергей уже понял, что что-то не так. Но при этом не смог не оценить профессионализм доктора, который привел их, студентов-несмышленышей, чтобы продемонстрировать им их же промах, однако вел себя так, чтобы никто из больных даже на миг не заподозрил: доктор ошибся. Доктор недосмотрел. Доктор не разобрался. Показывать больным ошибки врачей – недопустимо.
Сергей начал слушать и помертвел: справа в подмышечной области – явный шум трения плевры! Это плеврит, очень тяжелое и при отсутствии своевременного лечения – смертельно опасное заболевание: воспаление в плевральной полости, при котором пленки фибрина покрывают и внутреннюю стенку грудной полости, и поверхность легкого. Именно поэтому, когда при вдохе поверхность легкого соприкасается с внутренней стенкой грудной полости, возникает очень характерный скрип, который трудно с чем-то спутать. Как он мог это пропустить?! Ведь слушал же! Почему так получилось? О чем он думал в тот момент, когда прикладывал фонендоскоп к телу больного в приемном отделении? Этот мужчина поступил с симптомами транзиторной ишемической атаки, и никто не знал, что у него плеврит, который пока еще находится в стадии «сухого», но если упустить, не начать вовремя лечить, то может появиться фиброзное осложнение, а может случиться, что сухой плеврит перейдет в экссудативную форму, и тогда возникнет угрожающее состояние. Он должен был услышать, он должен был обратить внимание и пригласить к больному терапевта или пульмонолога, но он этого не сделал, увлекшись неврологической симптоматикой.
Однако оказалось, что и это еще не всё: доктор в присутствии интернов провел осмотр больного, после чего стала очевидна еще одна ошибка интерна Саблина, куда более серьезная. Симптоматика свидетельствовала не о транзиторной ишемической атаке, а об остром нарушении мозгового кровообращения, а это – прямое показание для помещения больного в реанимацию, а не в отделение неврологии.
Как же так вышло?! Он, Серега Саблин, уже целых пять лет имеющий дело только с реанимационными случаями, направил его в неврологию, где пациенту не оказывали необходимого реанимационного пособия и где он мог просто умереть, если бы дежурный врач не перепроверил решение субординатора.
Больного срочно перевели в реанимацию, а дежурный врач пришел в учебную комнату. Столько нелицеприятных, но справедливых слов Сереге не приходилось выслушивать, наверное, за все двадцать шесть лет своей жизни. Возразить было нечего. Никогда прежде Саблину не было так чудовищно, мучительно стыдно.
– Вы даже не покраснели, – с неудовольствием заметил доктор. – Видимо, вам совершенно не стыдно, а ведь вы только что чуть не погубили больного своей халатностью и легкомыслием. Таким, как вы, не место в медицине.
Сергей действительно не покраснел. Краснеют парасимпатики. Саблин же принадлежал к симпатикам, которые в минуты эмоциональных вспышек, наоборот, бледнеют. Он и стоял бледный, неподвижный, испытывая невероятную злость на самого себя, стыд за свою оплошность, которая могла стоить человеку жизни, и ярость на собственное бессилие, потому что ничего не мог сказать в ответ на совершенно справедливые слова дежурного врача.
«Мне не место в клинической медицине. Он прав. Я, наверное, смогу стать неплохим медиком, но я никогда не стану хорошим врачом. Если я ухитрился отвлечься, пойти на поводу у первого же пришедшего мне в голову диагноза, если я позволил себе думать о чем-то постороннем, выслушивая легкие больного, и пропустить плеврит, то где гарантия, что это не повторится еще раз? Сегодня больного спасут, а потом что? Как все сложится при следующей моей ошибке? Как я смогу жить дальше с таким чувством вины, если буду знать, что из-за моего непрофессионализма умер человек, который мне доверился и на меня понадеялся? – думал Саблин. И тут же вспомнил глаза мужа несчастной Красиковой. – А потом мне придется выйти к родственникам и сказать им, что спасти их близкого не удалось, потому что я совершил грубую непростительную ошибку. Нет. Нет! Нет!!! Я не смогу с этим жить. Я не смогу».
Ничего серьезнее в этот момент для Сергея Саблина не было. А вот Ленка считала иначе… Но и это можно понять, ведь она не знает о том, что произошло, думает, наверное, что просто зачет какой-нибудь не сдал или получил замечание за прогул. Вот когда они закончат с покупкой платья для свадьбы, он поведет невесту в кафе и там спокойно все расскажет ей, тогда она, конечно же, поймет, отчего он сегодня такой мрачный и молчаливый. Поймет и разделит с ним всю тяжесть его нынешних переживаний. Для нее сейчас нет ничего важнее грядущего замужества и наступающего материнства, поэтому, конечно же, она считает, что расстраиваться Сергей может только из-за проблем со свадьбой. Милая, наивная, трогательная Ленка, его Ленусик, его нежное сладкое сокровище. Но как же муторно на душе!
– Со свадьбой все в порядке, – ответил он, стараясь, чтобы голос звучал достаточно спокойно.
В самом деле, ну чего он взъелся на Ленку? Разве она в чем-то виновата? Права была мама, не умеет он держать себя в руках, не умеет удерживать в узде свой взрывной темперамент.
На принятие решения по поводу платья ушло еще почти два часа. Наконец наряд был куплен, и Сергей повел Лену пить кофе с пирожными в ближайшее к салону кафе. Ему страшно не хотелось признаваться своей любимой в собственной ошибке и описывать тот позор, который ему довелось пережить, но и не рассказать нельзя. Во-первых, она имеет право знать причину его отвратительного настроения, а во-вторых, Лена – его жена, ну, почти жена, во всяком случае, она мать его ребенка, и как он собирается с ней жить, не делясь самым главным и ничего не обсуждая?
Однако Лена выслушала его рассказ совершенно равнодушно и, как показалось Сергею, без всякого интереса. Она вертела головой, рассматривая других посетителей и особенно посетительниц молодого возраста, то и дело заглядывала в меню, подзывала официантку и заказывала то мороженое со взбитыми сливками, то кусочек еще одного торта, то стакан свежевыжатого сока. Сергей старался подавить нарастающее раздражение, говоря себе: «Ты – медик, ты – будущий врач, ты не имеешь права не понимать, что происходит с женщиной во время беременности, и не считаться с этим. У них появляются необъяснимые гастрономические пристрастия и разные капризы, им хочется то сладенького, то кисленького, то солененького, и вообще, они полностью сосредоточены на ребенке, и нельзя, неправильно требовать от них внимания и интереса к чему-то другому, с материнством не связанному».
– И что, вот из-за этой фигни ты мне весь день настроение портил? – спросила она, наморщив красивый изящный носик. – Я платье выбираю, мы с тобой к свадьбе готовимся, у нас новая жизнь начинается, а ты о какой-то ерунде думаешь, еще и мне голову морочишь. Ну Сереженька, ну ей-богу, нельзя же так!
Саблин оторопел. Смерть больного – фигня? Врачебная ошибка, едва не приведшая к трагедии, – ерунда? Да поняла ли она то, о чем он ей целых полчаса толковал?
– Лен, но ведь человек чуть не умер, – сквозь зубы проговорил он.
– Так не умер же!
Лена беззаботно махнула рукой и отправила в рот последний кусочек шоколадного торта, украшенного консервированными вишенками.
– Но я допустил ошибку, – он все еще надеялся заставить ее понять. – Даже две ошибки, одна серьезнее другой.
Однако усилия оказались напрасными. Еще через несколько минут, в течение которых они обменивались репликами, Сергей отчетливо осознал тщетность собственных попыток объясниться и быть понятым. Все-таки беременная женщина – это не тот слушатель, на которого можно наваливать свои проблемы.
Вечером, проводив Лену до общаги пединститута, Сергей поехал домой. Он не мог понять, расстроен ли отношением Лены к себе и своим переживаниям. Чего он хотел? Сочувствия? Вот уж нет. Серега Саблин отродясь ни в чьем сочувствии не нуждался. Чтобы Лена разделила с ним лежащую на сердце камнем тяжесть? Да нет, пожалуй, это ему тоже не нужно, Сергей привык быть один и со всем справляться в одиночку. Стало быть, ничего ему от Лены было не нужно. Так чего ж он так злится оттого, что ничего и не получил от нее?
Пришлось сказать самому себе правду. Даже две правды, одна неприятнее другой. Первая: он считал, что обязан оправдаться перед девушкой за свою вспышку и грубость, он переступил через себя, рассказывая ей о собственном позорном промахе и часах жгучего, не дающего дышать стыда, он надеялся хотя бы на понимание и хотел услышать в ответ какие-то мягкие утешающие слова, дескать, она вовсе не обижается, потому что понимает, как ему плохо. Этого было бы более чем достаточно. Но ничего даже близко похожего Сергей от невесты не услышал. Вторая правда состояла в том, что, похоже, мама была права. Разумеется, не во всем, об этом и речи нет. Но Лена действительно не в состоянии понять то, что составляет суть ежедневного переживания честного врача: его размышления о цене его же ошибок.
Мысль автоматически перескочила на предстоящий юбилей отца – Михаилу Евгеньевичу Саблину через две недели исполнялось 55 лет. После того разговора с матерью, когда Сергей объявил, что женится на Лене и у них будет ребенок, Юлия Анисимовна ни разу больше не предприняла ни одной попытки отговорить строптивого сына от скоропалительной женитьбы. Создавалось впечатление, что она смирилась с решением Сергея. Однако сочла возможным сказать:
– Лена станет членом нашей семьи только после официальной регистрации брака. Такова наша с папой позиция. Она имеет принципиальный характер, и мы с папой просим тебя отнестись к ней с пониманием и уважением.
– Это ты к чему? – не понял тогда Сергей.
– Это я к тому, – невозмутимо продолжала Юлия Анисимовна, – что на папин юбилей твоя невеста не приглашена. И мы очень надеемся, что ты не станешь настаивать.
Разумеется, настаивать Серега не стал. Да и зачем? От того, будет Лена присутствовать на юбилейном банкете или нет, ничего не изменится ни в его, ни в ее жизни. Родители не торопятся представить своему окружению будущую невестку? Ну понятно, они надеются, что все еще как-нибудь рассосется и само собой образуется. Да и пусть себе надеются, плохо они знают своего единственного сына, если рассчитывают на то, что он будет менять собственные решения. В особенности ТАКИЕ решения.
Банкет по случаю пятидесятипятилетия профессора Саблина организовали в одном из лучших ресторанов Москвы, арендовав для многолюдного праздника три зала – весь второй этаж. Огромное количество коллег, учеников, бывших пациентов, перешедших со временем в статус добрых приятелей или даже друзей, а также друзья и знакомые не из медицинского мира, и, разумеется, родственники. На первом этаже ресторана два просторных зала работали в обычном режиме, обслуживая посетителей, пришедших поужинать в приятной обстановке, а на первой ступеньке широкой лестницы, ведущей на второй этаж, стоял представительный мужчина со списком на нескольких листах, сличая фамилии из этого списка с фамилиями на открытках-приглашениях, заблаговременно разосланных или развезенных лично Юлией Анисимовной, дабы никто из посторонних не мог проникнуть в общество, сплошь состоящее из медицинских светил и всяческих ответственных личностей. Приехавший вместе с родителями Сергей приостановился возле мужчины со списками и попросил разрешения просмотреть их. Наткнувшись на фамилию «Бондарь», невольно нахмурился: Бондарей на банкете ожидалось трое. Значит, мамина коллега, ее супруг, а также дочь, та самая Ольга, с которой мама так давно мечтала познакомить сына и от контакта с которой этот сын более или менее ловко уклонялся. После известия о женитьбе на Лене Юлия Анисимовна больше ни разу об этой девушке не упоминала, и Сергей расслабился, поверив, что мама оставила свою глупую затею. А теперь вот выясняется, что она все еще лелеет какие-то надежды женить сына так, как ей самой хочется. Ну-ну. Губы Сергея искривились в презрительной ухмылке, но настроение не испортилось. Предупрежден – значит, вооружен. Так его с младых ногтей учил дед Анисим Трофимович.
Многие из гостей опаздывали, так что стоять на площадке второго этажа рядом с родителями и приветствовать приглашенных Сергею пришлось битый час. Рядом выставили два низких широких стола, на один из которых складывались красиво упакованные подарки, на второй – букеты и корзины цветов. Едва завидев поднимающуюся по лестнице троицу Бондарей, Серега с трудом удержался, чтобы не расхохотаться. Младшая Бондарь, полноватая, с очень плохой фигурой, короткими ногами, некрасивой формы вислыми ягодицами, ни при каких условиях не могла бы составить конкуренцию его невесте Леночке, настоящей красавице, которой впору быть моделью и рекламировать изысканные наряды, расхаживая по подиуму. И где у мамы глаза? На что она рассчитывала, столь упорно сватая своему сыну такую каракатицу?
Тем не менее он сделал приветливое лицо и растянул губы в обаятельнейшей, как ему казалось, улыбке, приветствуя семью маминой коллеги и принимая коробку с подарком и роскошный букет. Вместе с Бондарями подошел еще один гость, высокий импозантный седовласый мужчина с начальственным выражением лица, и Сергей понял, что это и есть Лукинов – крупный чиновник из Минздрава, родственник Бондарей, который помог им перебраться из провинции в Москву, помог с устройством на работу и всячески поддерживал и опекал. Сергей невольно впился глазами в его ухоженное лицо с правильными привлекательными чертами: «Значит, вот ради кого матушка пыталась продать меня в эту семейку… Интересно, что в нем такого особенного, в этом Лукинове, если маме так нужно приблизиться к нему? Необыкновенные возможности? Или что?»
И в этот момент он перехватил направленный на себя взгляд младшей Бондарь – Ольги. Глаза ее, оказавшиеся неожиданно большими и очень яркими, обрамленными невероятной длины и густоты ресницами, смотрели на Сергея с насмешливым любопытством, словно девушка без труда читала мысли своего несостоявшегося жениха и отлично понимала, о чем и о ком тот думает в этот момент. И даже – что именно он думает. Сергею стало весело, и он, не понимая, зачем это делает, вдруг подмигнул Ольге.
И она подмигнула ему в ответ. Длинные густые ресницы на нижнем и верхнем веках совершили плавное движение навстречу друг другу и тут же, будто передумав сближаться, отпрянули в разные стороны. Словно два бархатных черных веера в руках у испанской танцовщицы. И между этими веерами сверкнул лукавый огонек, на мгновение загоревшийся в радужке цвета черного шоколада.
Сергей обомлел. Но уже через секунду перед ним снова стояла группа очередных гостей, а троица Бондарей и Лукинов следовали в банкетный зал. Он посмотрел вслед Ольге, но в этот раз почему-то не заметил некрасивую фигуру, подчеркнутую вдобавок явно неудачным нарядом, а обратил внимание на крупные кольца черных волос, рассыпавшихся по плечам, обтянутым темно-красным бархатным жакетом.
Наконец все приглашенные собрались, расселись за длинными столами в соответствии с расставленными кувертными картами, Сергей занял место рядом с отцом и мамой, директор научно-исследовательского института, в котором трудился Михаил Евгеньевич Саблин, поднял бокал и произнес первый торжественный тост. Банкет начался, и на какое-то время Сергей совершенно забыл об Ольге Бондарь, увлекшись разговором со своей обожаемой теткой Анной Анисимовной – тетей Нютой, сидящей рядом с ним. Нюта, очень полная, оплывшая, отечная и весьма нездоровая, хотя ей в прошлом году исполнилось всего шестьдесят, по-прежнему не теряла оптимизма, бодрости духа и так любимого Серегой с детства слегка циничного юмора «на грани фола». Он совсем не слушал тосты и здравицы, предпочитая внимать теткиным рассуждениям и довольно язвительным характеристикам, даваемым ею каждому выступающему, и давиться от смеха, который вызывало буквально каждое ее слово.
Через час после начала застолья был объявлен первый перерыв, официанты кинулись убирать закусочные тарелки и готовить столы для подачи основных блюд, а гости поднялись и разошлись по помещениям второго этажа. Сергей вышел на длинную террасу, окаймлявшую две смежные стены здания, дошел до самого ее конца и закурил, прислонившись к балюстраде.
– Извини, – послышался за спиной незнакомый голос, – можно тебя побеспокоить?
Ольга стояла совсем рядом в своем нелепом красном костюме, который ей совершенно не шел, и улыбалась.
«Так, – подумал Серега, – начинается. Вот уже и первая атака, нашла-таки меня, хотя я старательно прятался. Видно, очень хотела найти. Сейчас заведет разговор о чем-нибудь многозначительном. У этих дур подобное поведение именуется флиртом. Ладно, посмотрим, на что ты способна, Ольга Бондарь. Небось, про прекрасный весенний вечер, про природу-погоду, про то, какая у меня замечательная мама и какой выдающийся папа. Знаем мы, о чем девушка должна говорить, если хочет понравиться мужчине. А ты, Ольга Бондарь, знаешь?»
Ольга Бондарь, что сразу стало ясно, не знала. Или не хотела знать. Но возможно, просто делала вид. Во всяком случае, сказала она совсем не то, что ожидал Серега.
– Ты меня не прикроешь от предков? Они меня за курение гоняют. Если поймают с сигаретой – весь ливер на фарш переработают.
Сергей отступил от края балюстрады, пропуская Ольгу в уголок, образованный перилами и стеной здания, а сам встал так, чтобы крупную девушку не было видно из-за его спины, и протянул ей пачку сигарет.
– Спасибо, – Ольга покачала головой, – у меня свои. Я только попрошу тебя подержать сигарету и давать мне затягиваться. Если что – пусть думают, что это ты куришь, а я просто так рядом стою.
Сергей пожал плечами, с неудовольствием подумав, что эта несуразная девица вообще не имеет ни малейшего представления о современных канонах флирта и пользуется старыми, принятыми еще у прабабушек приемчиками, типа «мужчина, угостите даму папироской». Он подождал, пока Ольга прикурит свою сигарету и передаст ему. Первые несколько затяжек он держал сигарету ближе к зажженному концу, но потом ему пришлось перехватить ее поближе к фильтру, и когда он подносил пальцы к губам девушки, то с какой-то брезгливой неприязнью ощущал тепло ее дыхания. «Дешевка! – пронеслось у него в мозгу. – Дура! Надо же умудриться переть так тупо напролом! Сейчас еще, не приведи Господь, попытается дотронуться своими губами до моих пальцев, изображая нечаянный поцелуй. Ну, спасибо, маменька, удружила».
Он невольно дернул рукой, когда Ольга в очередной раз затягивалась, и девушка поморщилась.
– Что ж ты так меня боишься-то? – насмешливо проговорила она. – Я не кусаюсь. И если уж на то пошло, в жены к тебе не набиваюсь. Просто с предками скандалить не хочется, проще сделать, как они говорят. Они же вместе с твоей мамой спят и видят нас с тобой поженить, и даже то обстоятельство, что у тебя невеста беременна и свадьба через три недели, их не останавливает. Вот я подумала, что без толку пытаться что-то объяснить людям, которые таких элементарных вещей не хотят понимать. Только воздух зря сотрясать. Сделаю, как они просят, а потом скажу, что не понравилась тебе. Или ты мне.
Сергей удрученно молчал. Вообще-то обожаемая тетя Нюта частенько повторяла ему, что он совсем не умеет разбираться в людях, но Сережа никогда ей не верил, считая себя мастером общения и контактов. Что же получается, тетка права? Неужели можно было так глубоко заблуждаться?
Где-то на периферии сознания мелькнула обида, вызванная ее последними словами: «Скажу, что не понравилась тебе. Или ты мне». Ну, она-то ему не понравилась – это к бабке не ходи, но почему этой нахальной дуре мог не понравиться Сергей Саблин, по которому сохла половина девчонок на курсе? Что она вообще о себе возомнила, эта Бондарь с высокопоставленным родственником и отвратительной фигурой, в дурацком красном костюме с юбкой выше колен?! Ничего, сейчас он ей ответит – мало девице не покажется.
Однако, сам от себя не ожидая, он произнес вслух совсем другое:
– А что, я тебе в самом деле не понравился?
…Когда Серега, наконец, заметил стоящую рядом Юлию Анисимовну, то с огромным удивлением услышал от нее о том, что гости уже закончили есть основное блюдо, и через полчаса подадут десерт, и Сережу и Олю все потеряли.
– Дети, – с нескрываемым удовольствием продолжала мама, – я очень рада, что вы нашли общий язык и не скучаете. Но, может быть, вы пойдете потанцуете? Там играет очень симпатичная группа, все веселятся, а вы в уголок забились и глаз не кажете.
Сергей всей кожей почувствовал, какое наслаждение испытывала мать, произнося слово «дети» – как будто обращалась к давно и счастливо женатым сыну и невестке. Он собрался было по обыкновению огрызнуться в ответ, но внезапно понял, что повода-то нет. Они с Ольгой действительно нашли общий язык и вот уже битый час разговаривали о патанатомии, которой, к его огромному удивлению, очень интересовались оба. У себя на курсе он был самым большим любителем и знатоком этой дисциплины, ни один сокурсник не ориентировался лучше него в гистологии и патоморфологии, и он как-то уже попривык быть «первым среди равных», а то и «совсем неравных», но здесь он встретил собеседницу, которая не только не уступала ему в объеме знаний, но и, пожалуй, кое в чем превосходила, демонстрируя горячую увлеченность патанатомией, граничащую с влюбленностью.
И тут он отчего-то смутился, хотя застенчивостью никогда не страдал. Ему хотелось продолжать разговор с Ольгой, но в то же время страшно не хотелось признавать правоту Юлии Анисимовны, радостно взирающей на результат собственных усилий: ее сын с удовольствием общается с девушкой – «ровней» и по воспитанию, и по образованию, и по происхождению, и по интеллекту, и по кругу интересов. Все происходит именно так, как она и предрекала. Сергей попытался выкрутиться из ситуации без ущерба для собственного самолюбия.
– Неужели все горячее уже съели? А я так мечтал о хорошем куске бараньей ноги! – с деланым весельем заговорил он. – Что ж вы нас раньше не позвали?
– Ну, – Юлия Анисимовна двусмысленно улыбнулась, – мы не хотели вам мешать, вы тут стояли как два голубка, головы друг к другу склонили и что-то очень живо обсуждали.
– Мы обсуждали специализацию, – спокойно и ни на секунду не смутившись, ответила Ольга. – Но от горячего я бы тоже не отказалась. Там еще что-то осталось на столе или уже все унесли?
– Ваши тарелки стоят, – объявила мать Сергея, – вообще-то официанты убирают и накрывают «сладкий стол», но можно попросить их принести вам баранину, она и в самом деле удалась на славу.
За огромным столом в почти безлюдном зале они сидели вдвоем, с аппетитом поедая баранину с изысканным гарниром и не переставая болтать, делясь впечатлениями о своих институтах: Ольга училась как раз там, где заведовала кафедрой Юлия Анисимовна Саблина, а Сергей принципиально поступал в другой медицинский вуз, благо в Москве их было достаточно: Первый, Второй и Третий мединституты и еще медицинский факультет Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Ольга Бондарь собиралась стать патологоанатомом и с полуслова поняла Сергея, который стал объяснять ей, почему не хочет заниматься лечебной работой. Ей, в отличие от Лены, не нужно было приводить подробные обоснования такого решения: о моральной ответственности врача, о страхе совершить ошибку, о боли при потере больного она рассуждала даже, наверное, более глубоко, чем сам Сергей.
– А как получилось, что ты вообще выбрал медицину? – спросила Ольга. – Когда ты принял решение стать медиком?
И Сергей с упоением принялся рассказывать о тете Нюте, о том, как она прививала ему, совсем еще сопливому пацану, интерес к естествознанию, к человеческому телу, к биологии, химии, анатомии, физиологии. И к смерти.
– Неужели к смерти? – не поверила Ольга. – Ох, как тебе повезло, что рядом с тобой оказалась такая тетя Нюта! Она, наверное, необыкновенная женщина, да?
Сергей вскочил, ножки стула громко проскрежетали по паркету.
– Пошли, – он сам не заметил, как схватил Ольгу за руку и потянул за собой, – я тебя сейчас с ней познакомлю, она здесь. Может, ты видела – она в начале банкета рядом со мной сидела.
Ольга послушно встала, но руку почему-то выдернула и негромко произнесла, с улыбкой глядя прямо ему в глаза:
– Да нет, Сережа, не она с тобой рядом сидела. Это ты рядом с ней сидел.
– Что? – переспросил он, не поняв.
– Ничего, – она усмехнулась. – Пойдем знакомиться с Анной Анисимовной.
Тетя Нюта, страдавшая в последние годы от ожирения и болезни ног, сидела на мягком диванчике в прохладном холле перед входом в зал, где играли музыканты и танцевали гости.
– Душно там, – пожаловалась она, когда Сергей подвел к ней Ольгу Бондарь. – Дышать нечем. А мне-то с моим весом вообще всегда жарко.
Они принялись болтать втроем, и Сергей не переставал удивляться тому, что у них находится столько общих тем для разговора. Ольгу позвали родители, она отошла, а Нюта выразительно похлопала ладонью рядом с собой, приглашая племянника присесть. Тот послушно опустился на диванчик.
– Серенький, – этим ласковым словом Серегу называла только она, – я тебя никогда в жизни таким не видела. Подумай об этом.
– Каким – таким? – переспросил он. – Я такой же, как всегда. Даже почти и не выпил, только пару рюмок под хорошую закуску. Или ты намекаешь, что я изрядно нетрезв?
Он действительно выпил совсем мало, но не потому, что был трезвенником – в компании приятелей и сокурсников мог позволить себе весьма прилично набраться. Но сегодня праздник у его отца, и недопустимо, чтобы гости получили повод говорить или хотя бы подумать: «Н-да, ну и сынок у нашего уважаемого Михаила Евгеньевича!»
– Я сказала, что никогда не видела тебя таким, – с непонятной значительностью в голосе повторила Анна Анисимовна. – А я ведь знаю тебя с рождения. Всяким повидала. А вот таким – не доводилось. И я еще раз предлагаю тебе подумать об этом. Как следует подумать.
Но до конца банкета и ухода последнего гостя думать о таких глупостях Сереге Саблину было некогда. Он потанцевал с мамой, с несколькими ее подругами, два танца – с Ольгой, после чего они вновь оказались на террасе, радуясь одному из теплых вечеров, которые в последние годы нередко баловали москвичей в конце апреля. Расстались они, когда семейство Бондарей собралось уезжать, и на прощание Сергей попросил у Ольги номер телефона. Если бы она спросила «зачем?», он не смог бы ответить.
Но она не спросила. Просто продиктовала семь цифр, и он записал их на взятой со стола кувертной карте с именем человека, которого Сергей Саблин никогда не знал.
Ночью разразился ливень, но Сергей не стал закрывать окно, несмотря на то что дождем заливало подоконник и вода попадала даже на паркет, который Юлия Анисимовна очень берегла. Он точно знал, что если мать обнаружит мокрый пол, упреков и обвинений в безалаберности и в неумении бережно относиться к вещам и собственному жилищу не избежать. Но ему было все равно. Он ворочался с боку на бок на своем диване, то натягивая одеяло до самого подбородка, то покрываясь испариной и отбрасывая его, и все не мог найти положения, которое принесло бы успокоение и вернуло ясность мысли.
В голове вертелись невесть откуда выплывшие слова:
- Я смог без тебя весь вечер нести
- Тяжесть своих одиноких шагов…
- Больше я так не хочу —
- Без тебя.
Это стихотворение французского поэта Эжена Гильвика Сережа с раннего детства неоднократно слышал от тети Нюты. Даже ребенком он понимал, что речь идет об одиночестве. Стихи казались ему волшебными, какими-то неземными, а поскольку само стихотворение было довольно коротким, он быстро, со второго раза запомнил его наизусть.
Нюта читала его нечасто, только когда речь заходила о ее несостоявшемся женихе-поляке, от которого она и узнала о творчестве Гильвика. Сама-то Анечка Бирюкова натурой поэтической отнюдь не была и литературой в молодости не интересовалась, все больше личной жизнью увлекалась да сынишку, рожденного в семнадцать лет, пыталась растить без мужа, не до книжек ей было, профессию бы дельную получить да работу, дающую возможность приработка, а еще лучше – мужа бы найти, который примет ее с ребеночком и хоть как-нибудь обеспечит. А вот поляк Януш, ее самая большая любовь, литературу и особенно поэзию знал очень хорошо и вообще был человеком в высшей степени образованным и одаренным. И все, что осталось в памяти Анны Анисимовны о днях, проведенных с ним, хранилось бережно и любовно. Вот и это стихотворение, прочтенное ей Янеком много лет назад, она декламировала маленькому племяннику с выражением необыкновенной нежности и грусти. Глаза ее в эти минуты становились глубокими и темными, а в голосе появлялись незнакомые Сереже интонации, волнующие и почему-то вызывающие у мальчика слезы.
Примерно лет до семнадцати Сереге казалось, что это стихотворение – вершина поэтического творчества всей мировой литературы. Однако стоило ему закончить школу, провалиться на физике при поступлении в мединститут и пойти работать санитаром в реанимацию больницы «Скорой помощи», как ореол вокруг Гильвика померк, постоянные грязь, боль, запахи, стоны, слезы, смерти и практически непреходящая усталость быстро вытеснили из юной головы всякий романтизм, и любимые с детства строки стали казаться наивными, смешными и в общем-то пустыми.
Юлия Анисимовна была в ужасе, узнав о том, что сын не поступил в институт, и на протяжении двух следующих месяцев все разговоры с Сергеем велись на повышенных тонах и касались только трех тем:
– Ну почему ты меня не послушался и не подал документы в мой институт? У нас тебя не завалили бы на физике, ведь ты ее великолепно знаешь! Почему ты такой упрямый? Зачем тебе нужен был этот другой вуз? Что ты хотел нам с папой доказать?
– Ты хоть понимаешь, что весной тебя заберут в армию? Тебя могут отправить в Афганистан, тебя могут убить!
– Почему ты уперся с этой своей реанимацией? Почему районная больница? Неужели мы с папой не устроили бы тебя в приличное место?! Да вот хоть к Виктору Владимировичу, ты бы там как сыр в масле катался. Или даже в Склиф. Почему ты такой упрямый? Что и кому ты хочешь доказать?