Смерть в Персии бесплатное чтение
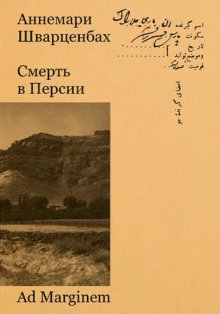
Annemarie Schwarzenbach
TOD IN PERSIEN
В книгу вошли фотографии, сделанные Аннемари Шварценбах.
Издательство благодарит Писчурникову Екатерину Петровну, преподавателя кафедры иранской филологии Восточного факультета СПбГУ, за помощь в подготовке настоящего издания.
Перевод: Виталий Серов
Редактор: Анна Баренкова
Дизайн: Олеся Воронина
© Annemarie Schwarzenbach, 1940, 1998
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2023
Swissair, 1939
Предисловие
Совершенное бегство Аннемари Шварценбах
Седьмого сентября 1942 года журналистка и фотокорреспондентка Аннемари Шварценбах, снимавшая дом в швейцарском Зильсе-Базельджиа, вызвала экипаж с лошадью, чтобы поехать на встречу с нотариусом в соседний Санкт-Мориц. Около моста через реку Инн Аннемари встретила подругу на велосипеде и в шутку предложила ей поменяться средствами передвижения. Подруга передразнила ее в ответ: «Ты же не умеешь ездить на велосипеде». «Еще как умею, – возразила Шварценбах. – Я даже умею ездить без рук». Чтобы доказать сказанное, Аннемари села на велосипед, но поездка закончилась тут же: она наехала на выступающий на дороге камень и упала с велосипеда, а при падении ударилась головой. Удар был такой силы, вспоминает ее сестра Сюзанн Оман в документальном фильме «Швейцарская бунтарка» (2000), что, скорее всего, была задета кровеносная артерия. После трех дней, проведенных в коме, Шварценбах перевезли в частную клинику Оскара Фореля в Пранжене, на берегу Женевского озера. Ей ошибочно диагностировали шизофренический эпизод, неделями лечили электрошоком и инсулиновыми уколами. Освободившись из «адского Пранжена», Шварценбах снова вернулась в горы. Через два месяца после полученной травмы, 15 ноября, она умерла в своем доме, в Зильсе. Мать Аннемари, Рене, запечатлела тело умершей дочери на фотопленке, а затем уничтожила всю ее корреспонденцию и дневники.
Таким был конец истории, начавшейся в конце мая 1908 года: в день, когда после двадцативосьмиградусной жары температура в Цюрихе резко упала, и ночью на город и окрестности выпал снег. В этот день, 23 мая, в семье владельца шелковых фабрик Альфреда Шварценбаха и его жены Рене, наездницы и фотолюбительницы, родилась девочка – Аннемари Мина Рене Шварценбах. Ее биограф и внучатый племянник Алексис Шварценбах считает, что событий подобного рода – снежных штормов посреди тридцатиградусной жары – в жизни его тетки было предостаточно.
Между двумя точками – рождения и смерти – Шварценбах за тридцать четыре года успела очень многое: в качестве фотокорреспондентки она объехала Западную и Восточную Европу, Ближний Восток и Центральную Азию, США и Африку, в архиве ее наследия в Берне хранятся триста журналистских репортажей, рукописи романов – тот, чей перевод вы держите сейчас в руках, «Смерть в Персии», был издан впервые уже после ее смерти – и около семи тысяч фотографий.
Литература и фотография, слово и изображение – эти два медиума сопровождали ее в слепящем от солнца снежном Энгадине, где она проводила каникулы с друзьями и родственниками, катаясь на лыжах, и в желтой выжженной долине на подступах к потухшему вулкану Дамаванду в далекой Персии. Вся ее жизнь после беззаботного на первый взгляд детства прошла в дороге, в движении от одной далекой и неизвестной цели к другой.
«Отправление без цели» – такое название получила выставка ее фотоархива в центре Пауля Клее в Берне в 2020–2021 годах. Клоун во фраке с мелованным лицом и женщина за переносной кассой в эстонском Петсери (сейчас Печоры в России), дымящиеся трубы громады парохода в итальянской Восточной Африке (сейчас – Эритрея), сошедший с рельсов новенький вагон в бельгийском Конго (сейчас – Демократическая Республика Конго), подруга и возлюбленная Шварценбах Марго Линд, щурящаяся на солнце на фоне заснеженных крыш шале в Зильсе, бесконечная каменистая дорога между Исфаханом и Ширазом, девушка в платке, лошади без седел и некрополи в Североосетинском Даргавсе (тогда – СССР, сейчас – Россия). Меняющийся – политически и географически – между двумя мировыми войнами мир остался запечатленным на снимках Шварценбах, а сама она застыла в объективе неизвестного фотографа – с поднятой камерой в руках, смотрящая в объектив, сосредоточенная и элегантная, с короткой стрижкой и в полосатом жакете. Гендер Аннемари неуловим, она – воплощение андрогинности, ее часто принимают за юношу.
Шварценбах часто и с самого детства оказывалась по другую сторону камеры, ее мать, Рене, документировала жизнь семьи на фото- и кинопленку. Знаменитый немецкий фотограф Марианна Бреслауэр сделала, пожалуй, самый известный портрет Шварценбах – анфас, острый воротничок рубашки касается свитера, черты ее лица – пример совершенной симметрии, как у ожившей античной статуи, Аннемари смотрит в объектив, но не на зрителя, ее взгляд – внутри, ее мысли где-то далеко… Бреслауэр и Шварценбах путешествовали вместе по Испании и пережили короткий роман, Бреслауэр назвала Шварценбах «самой прекрасной из всех встреченных в ее жизни существ, она была как архангел Гавриил перед вратами рая».
В 1931 году Шварценбах – ей было двадцать три! – изучавшая историю в Цюрихе и Сорбонне, защитила докторскую по средневековой истории Верхнего Энгадина, опубликовала дебютный роман «Друзья Бернарда», одобрительно встреченный литературными критиками, и перебралась из домашнего гнезда под Цюрихом в берлинский Шарлоттенбург – развивать писательскую карьеру. В то же время она стала неразлучна с «близнецами» Манн, детьми нобелевского лауреата и автора «Будденброков» Томаса Манна – Эрикой и Клаусом. Шварценбах безумно и безответно влюбилась в Эрику – их отношения переросли в дружбу, одну из самых важных в ее жизни. В Берлине она впервые попробует морфий и обретет зависимость (ей же был подвержен и Клаус Манн), избавиться от которой, несмотря на неоднократные курсы реабилитации, не сможет до конца своих дней.
«Золотые двадцатые» Веймарской республики, как именовали период относительной стабильности после Первой мировой, завершились. С 1933 года, когда к власти пришли национал-социалисты, Аннемари еще сильнее отдаляется от семьи, прежде всего от матери, не одобрявшей ее связи с женщинами и дружбу с Маннами. Семья Шварценбах поддерживает националистское объединение «Швейцарский фронт», а Аннемари дружит с немецкими политэмигрантами и спонсирует антифашистскую эмигрантскую газету Клауса Манна «Собрание». Вместе с Маннами Шварценбах покидает Германию в 1933 году, чтобы начать серию непрекращающихся путешествий – бегство от непринимающей матери (по иронии судьбы, Рене Шварценбах, жену фабриканта и мать пятерых детей, связывали многолетние отношения с оперной певицей Эмми Крюгер), от безответной любви к Эрике Манн, от Европы, накрывающейся тяжелым свинцовым облаком диктатуры национал-социализма и преследования инакомыслящих.
В качестве репортерки газеты Zürcher Illustrierte Шварценбах отправится в Турцию, Сирию, Ливан и Персию, затем в советскую Москву – сопровождать Клауса Манна на конгресс советских писателей. В 1935 году швейцарские националисты атаковали кабаре-шоу Эрики Манн «Перечница», с которым она гастролировала в Цюрихе, Манн сочла, что это дело рук матери Аннемари, «упертой нацистки», как она ее называла, – отношения у них были натянутые. Поставленная перед выбором между дружбой с Эрикой и ее отношениями с матерью, Шварценбах не находит иного выхода как решиться на радикальное бегство. Она пытается убить себя – с помощью передозировки снотворного. Ее спасут, и в том же году Шварценбах поедет в Персию, где познакомится и вступит в брак с французским дипломатом Клодом Клараком. Она уже предлагала сделать это Клаусу Манну, чтобы облегчить им обоим жизнь, но тот отказался. Кларак, как и Манн, гомосексуален, и благодаря браку Шварценбах получила дипломатический паспорт, открывший перед ней границы труднодоступных стран.
Именно в это время Шварценбах напишет первый из двух персидских романов – «Смерть в Персии», позже, в 1939 году, во время очередного пребывания в швейцарской клинике, она переработает свои путевые заметки и выпустит роман «Счастливая долина».
«Смерть в Персии» – это автофикшн о безысходности, где границы чужого мира, незнакомого и манящего, оказываются контуром собственной потерянности. Обрывочный, сбивчивый рассказ, сопровождающийся опиумными видениями. Невозможность сближения с молодой турчанкой, медленно угасающей от туберкулеза, делает безысходность еще более густой. Но это, на первый взгляд, тяжелое чтение о депрессии, зависимости и личном тупике содержит в себе горький эффект врачевания. Фигура Аннемари Шварценбах с ее андрогинностью, привилегированностью, зависимостью и одновременно успешной карьерой журналистки и фоторепортерки оказалась удивительно созвучной сегодняшнему времени. Семья, поддерживающая нацистов, друзья в изгнании, а она, несмотря на преодоленные расстояния в тысячи километров, остается привилегированной швейцаркой, белой, богатой, но слишком инаковой, другой, чтобы найти свой дом где-то еще. Она и не пытается это сделать.
В письме американской писательнице Карсон Маккаллерс (Карсон безответно влюбилась в нее, встретив Шварценбах во время поездки по США, – как когда-то сама Аннемари в Эрику Манн) Шварценбах пишет о своей поездке по тогда еще принадлежащему Бельгии Конго, рассказывает о встреченной ею владелице плантаций, тоже родом из Швейцарии: «…с тех пор, как я приехала, тоже швейцарка, тоже носящая брюки, выглядящая для них как юноша, но выдающая себя за женщину, местные из Гомбе и Гваки считают, что все швейцарские женщины такие странные».
После выписки из клиники в Ивердон-ле-Бен в 1939 году Шварценбах снова отправится в дорогу, в одно из самых опасных своих путешествий – вместе с другой швейцаркой, писательницей и фотографом Эллой Майяр. На Ford Roadster V8 они отправятся из Женевы через Балканы, Стамбул, Трабзон и Тегеран в Афганистан – «страну без женщин», как назовет Шварценбах ее в путевых заметках. Путешествие, которое, по задумке Аннемари, должно было принести ей избавление от зависимости, обернулось опиумными делириями и неоднократным пребыванием на больничной койке. Начало Второй мировой войны она встретила в Кабуле. Когда в 1947 году книга Майяр «Жестокий путь» об их путешествии в Афганистан увидела свет, по требованию Рене Шварценбах имя Аннемари в книге было изменено на Кристина.
Шварценбах была близка к смерти от нервного истощения на севере Афганистана, в Кундузе, в Нью-Йорке пережила приступ маниакального психоза и была госпитализирована, она намеренно искала страдания (об этом Майяр пишет в книге об их совместной поездке), а ее альтер эго из «Смерти в Персии» рассуждает о смерти как о чем-то неизбежном, что при выбранном ею образе жизни должно случиться со дня на день. Но смерть настигла ее не в тяжелых условиях горных восхождений или невыносимой влажности африканских тропиков, а дома, в любимом Энгадине, в момент, когда бодрость духа вернулась к ней, – Шварценбах работала над романом, придуманным и начатым во время поездки в Конго. Если жизнь Аннемари Шварценбах, полная противоречий, но вобравшая в себя характерные черты своего времени и класса, стала практически метафорой к раздираемой войной Европе, то ее смерть поставила в конце пути точку универсальности, обнажив хрупкость человеческих намерений.
Ирина Карпова